Станислав Сенькин Картонное небо. Исповедь церковного бунтаря
© Сенькин С.Л., 2018
© ООО «Яуза-каталог», 2018
* * *
Эта книга представит интерес как для критиков православного учения, так и для его апологетов
Новейшая история грехов
Сия книга задумывалась как развёрнутое творческое объяснение для моего читателя, что именно происходило со мной после отъезда с Афона. Как я жил, как, с каким настроением работал над своими книгами, как вошёл в отрицание вплоть до балансирования на грани разрыва с церковью и как пережил весь этот сложный жизненный период. И куда, в каком направлении собираюсь теперь идти. Но книга будет интересной не только знающему мою историю читателю, но и любому интересующемуся православием человеку. Причём интерес она представит как для критиков православного учения, так и для его апологетов. Ибо от избытка сердца глаголют уста, и эта книга написана от избытка моих чувств, служа напоминанием о той шаткой невидимой грани, что отделяет веру от безверия и праведность от нечестия – для апологетов учения. А для критиков припасено много кровоточивых воспоминаний о боли и страдании, о религиозной лжесвободе и о страхе смерти – камне, положенном в углу фундамента любой религиозности. Думаю, что книга доставит удовольствие и человеку, постороннему околоправославию, потому как повествует о психологии бунта, что применимо к любой человеческой деятельности.
Всё, что нужно знать постороннему теме человеку – я прожил восемь лет в монастырских стенах, из них три последних на святой горе Афон. Десять лет моей жизни в миру ознаменовались рождением новой православной звезды, литературными премиями и большими тиражами, когда написанные мною книги по теме религии били рекорды продаж в лавках православных храмов. Но вновь родившаяся звезда сорвалась с пьедестала и полетела «во тьму», как это казалось православному сообществу, оставляя в падении шлейф алкогольных скандалов. Это падение, за которым можно было наблюдать через интернет, длилось лет пять, и казалось, что я сам себя закопал так глубоко, что меня никто уже из-под земли не вытянет. Но я всё ещё жив, стою крепко на этой земле обеими ногами и наконец созрел для серьёзного разговора.
Я всегда чувствовал ответственность перед своим читателем, но только сейчас впервые исповедуюсь перед вами, поскольку проблемы с алкоголем, слава богу, были решены и душа моя возвратилась к благоразумию. Обычный православный миф трактует моё поведение как грехопадение и отпадение от истины в греховную тьму. Так и казалось. Некоторые мои читателя плакали обо мне – «утянул лукавый, Господи помилуй!». Но я свидетельствую – всё это «грехопадение» можно рассматривать только исключительно как последствия алкоголизма, что не щадит ни верующих, ни атеистов, ни агностиков.
Когда я писал свои книги – прежде всего строил карьеру православного писателя и построил бы, если б не проблемы с алкоголем. То есть верность определённому учению возрастала бы по клерикальному сценарию – эта «верность» стала бы фундаментом моего личного благосостояния. Поэтому и верен, потому что сыт. Где хорошо, там и родина. Возможно, я бы сейчас написал много интересных книжек и занял своё место на православном Олимпе – не бог весть что, но своё место среди миллионов неприкаянных россиян, что уже есть индивидуальное благо. Православные бы укрепляли дух моими статьями на ортодоксальных порталах и с обожанием зала́йкивали бы мои фото в соцсетях. Скучал бы, поучая других весёлыми байками, и позировал бы с постным лицом на фоне храмов и монастырей, не отказывая паломникам в селфи. Ловил бы восхищённые отзывы православных тётенек и витиевато подписывал бы свои книги «на молитвенную память». Православный рынок достаточно большой, чтобы прокормить себя и свою семью. Публицистика, литература, сценарии – душеспасительное враньё в обмен на своё скромное место православного писателя. Это было бы благоразумно, хоть и скучно. Нужно было всегда держаться в православных границах и всегда быть готовым демонстрировать свою православность перед другими. Вставить в ум невидимый одобренный отцами чип, контролирующий речь и поступки. И свидетельствовать перед «своими» – смотрите, я «свой», воцерковлённый. У меня борода, причёска под горшок, у меня витиеватая речь с вкраплениями церковнославянского. Свой я, свой, и книжки у меня свои. Покупайте и хвалите меня. Поскольку, хваля меня, вы хвалите самих себя. А я уж за вас, братья и сестры, и в огонь, и в воду! Я бы, наверное, двигался по-православному, будь я в обойме – моё сознание определялось бы бытием, хотя я бы проповедовал нечто иное.
Трудно сказать, чем бы было это иное. Быть может, титанический труд оставаться искривлённым ради великой цели и плошки супа породил бы интересный религиозный дискурс, и я стал бы очередным звеном в православной исторической цепи. Вот они – на иконах и календарях смотрят на нас, скованных одной с ними православной цепью, и свидетельствуют о Христе. И они так же сковывали себя в бараний рог – выпрямление для них не просто гордыня, но бунт против светской власти. Царь был охоч до рубки еретических голов. Дальше от царя – крепче голова. Держи себя в границах, в темноте от других. Пусть домысливают, чем ты занимаешься в своей келье. Служи царю и церкви служи. А если умеешь витийствовать, то святцы ждут тебя. В Средневековье это исключительная по своему блеску карьера. Если ты не барских кровей, куда тебе ещё податься? – грамота и благонравие гарантируют результат. Правила игры ты знаешь. Я тоже знал правила этой игры. Пусть сейчас это всё похоже на фарс – православная цепь продолжает выковываться.
То есть я клоню к тому, что мне было невыгодно покидать своё забронированное место на православном Олимпе. Оно у меня уже было, и довольно неплохое. Меня никто в церкви не обижал и не отталкивал. Напротив, относились хорошо и обласкали, душой приняв мои книги. Это был шанс от Бога, заработанный талантом, терпением в монастырях и стечением обстоятельств. Шанс найти своё место под солнцем, своих критиков и обожателей и более-менее лёгкую копейку. Писать-то – оно не мешки ворочать. Не существовало экономических причин для протеста, хотя были внутренние причины – раньше, на Афоне, я видел все церковные грехи и язвы как бы через тусклое стекло, а теперь, «в миру», узрел всё воочию. Но по правилам игры (помните?) ты страус, благочестивый страус. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Всё бы шло как шло. Но тут вмешался дьявол, будь он неладен. Змей был хитрее других тварей полевых. Алкоголь всегда потрошит зависимого человека, привыкшего лгать самому себе. Если ты зависим, ты должен посмотреть в своё сердце честным взором и выпрямить его. И только тогда сможешь честно принять свои проблемы и попытаться найти выход из алкогольной зависимости. Алкоголик, продолжающий лицемерие – обречён на дальнейшее употребление и смерть. Не было бы этих проблем с алкашкой, я б кривил душой, потому что так надо, так принято. Я бы изловчился управлять этой кривизной, найдя утешение в каких-нибудь хобби, и пытался бы соответствовать тому образу, который нарисовал себе мой читатель по прочтении «Афонских рассказов». Но всё это было разрушено, плотина чувств была прорвана, границы перейдены, и благочестивый образ был скомкан моими же руками и выброшен на помойку. Моё сердце наконец распрямилось, что бы это ни значило, и я получил шанс справиться со своей болезнью. Здесь мудрость! Не зелёный змей подбил меня на бунт (есть большое количество злоупотребляющих церковников, остающихся в обойме), а противодействие змию требовало этого бунта – как активного освобождения от лицемерия, как необходимого условия для приобретения святой трезвости.
Полегчало ли мне?
Да, полегчало. Но это произошло не сразу. В этой книге я постарался рассказать о том, что со мной происходило, так же искренне, как исповедовался Богу на Афоне. Получилось это у меня или нет – судить только вам. Ответственно заявляю, что за этой книгой не стоит желание отомстить за мнимые обиды или кому-нибудь насолить. Но и тактику «невыноса сора из избы» считаю вредной. Церковь – это общественный институт, занимающийся в том числе и миссионерской деятельностью. Как и в случае с другими общественными институтами, церковь отчаянно нуждается в общественном контроле. Однако духовенство воспитало довольно равнодушную и терпимую к церковным грехам паству. Верующему предлагают заняться собой, забывая, что сама идея церкви, как тела Христова, подразумевает общую боль и общую радость, а не сосредоточенность на личной истории и шоры по отношению к поступкам священноначалия.
Нет в церкви личного греха. Грех духовника – это грех самой церкви, как общности верующих людей. Говорят, что церковь чиста и непорочна, даже если и состоит из грешных людей. Дух-де управляет в ней, а ты, Вась, блюди себя и не обращай внимания на чужие грехи. Церковь у нас одна, святые одни, а грехи у всех свои. Каждый отвечает сам за себя, а за всю церковь отвечает сам Бог. И ничего, что Бог кажется каким-то безответственным. При возникновении вопросов тебе говорят, что Бог попускает священнику или епископу впасть в грех. Подобный ответ – кляп, ибо неисповедимы пути Господни. Но тогда почему бы не признать и меру собственной ответственности за то, что происходит внутри твоей же религии? Получается, что не только Бог попускает, но и ты попускаешь, помогая греху совершаться. Он не твой, грех этот, а у грешника своя совесть. А если у него нет совести, что тогда? Давайте будем честными: священники – это обычные мужики, где-то образованные, а где-то нет. Часто авантюристы. Священники совершают не только грехи, но и уголовные преступления и зачастую фигурируют в криминальной хронике. Почему мы – общество – должны накидывать на голое напившееся и блудящее духовенство накидку, якобы избегая участи хама? Потому что они называют себя «отцами»? А как же слова Евангелия: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах»?
Ты делишь с ним божественную трапезу и доверяешь самые сокровенные мысли, склоняешь голову, признаёшь учителем, а он такой же, как и ты – из народа. Это не значит, что священник обязательно плохой, но и совести камилавка не прибавляет. И уж точно не прибавляет она ума. У вас ролевая игра, вы распределили роли в этой игре и перераспределили ответственность. Кому-то достались вершки, а кому-то корешки. Только сам овощ непонятен, чтобы рассудить, что лучше. Профессиональный верующий – всегда лицемер. Подавленные сомнения деформируют личность, а сребролюбие почти всегда выходит в число главных мотивов. Мне-де тяжело находиться в псевдоучительской и псевдоотцовской шизофрении, но этим я зарабатываю себе на хлеб…
Мы более не являемся народом с живыми патриархальными традициями. Праведность сама по себе аутентична патриархальности и вне её смотрится как бьющаяся рыба на песке. Праведнику всегда хочется вернуться в патриархальную воду, и он пойдёт ради этого и на смуту, являясь неблагонадёжным для большой церковной политики. Вышедшие из патриархальности народы однозначно лишаются праведности. Праведности нет как факта, хотя вы и ищете её в седине бород состарившихся в монастырях стариков. Почему не ищете её в обычных больных и неопрятных стариках, побирающихся у помойки и получающих от государства копейки на жизнь? Патриархальность – в общем уважении старости с признанием в ней опыта и мудрости и даже в делегировании старости неких судейских полномочий, а не бессмысленная божба на старика в епитрахили.
Игра в патриархальность в утратившем патриархальность обществе требует развитого навыка лицемерия. Этот навык имеют, к примеру, гомоиерархи и скрытые педофилы. Это не простые грешники, а люди с удивительным навыком лицемерия. Сохранить трезвый ум и не расщепиться до шизофрении, не упасть в бутылку или «на колёса» при ежедневных-то службах, обильных славословиями и нравоучительными молитвами – это нужно сильную голову иметь. Подобные лицемеры умеют блюсти церковь, на них ответственность и за тебя в том числе, а ты отвечаешь только за свои поступки только перед Богом. Удобная позиция, не спорю, если для тебя церковь форма внутренней эмиграции. Но это работает, только если сам верующий не теряет ума. Человек имеет от Бога разум – средство управления собой и обществом, но оставивший разум за церковными воротами лишается царя в голове, думая, что приобретает Бога. Но приобретает он не порядок, а хаос.
Священнику, по сути, всё равно – хаос в твоей голове или порядок. Он не психотерапевт и не призван улучшать или облегчать тебе жизнь. Главное для него – совершенно формальные вещи и так называемые таинства. Есть даже целая когорта духовников, окучивающих носителей хаоса. В современной России «спасение» становится товаром. Вне рынка это иррациональная концепция, в арсенале которой множество методов, от изуверских до гуманистических. Человек может изводить себя постами, как послушник в афонской келье Хаджи Георгия, уморившего сотни своих последователей, объясняя монашескому сообществу, что так они спаслись. А может заниматься благотворительностью, помогая множеству людей. Сегодня в церкви огромное количество иррациональных концепций спасения, почти столько же, как и самих верующих. Но изуверские практики, слава богу, практически на деле уже изжиты. Раз спасение – товар, нужно придерживаться общего человеческого закона, на который сегодня имеет огромное влияние гражданское общество, в том числе и атеисты. Если бы атеисты и здравомыслящие люди не оказывали на церковь этого давления, изуверских практик и жертв духовников-«хаосистов» было бы куда больше.
Отличительное присутствие православного духа – это клеймение своих же верующих собратьев. Дробление и деление на внутрицерковные партии и фракции – нормальное земное явление, но контраст споров, делений и свар, вкупе с заявлениями о небесном характере церкви и её святостью – теле Христовом, зримо свидетельствует о безблагодатном её характере в соответствии со своим же учением. Сама православная традиция предусматривает многообразие подвига, причём подвиг – как источник опыта – единственная связь традиции с реальностью. У вас же есть тысячи иллюзий и тысячи иррациональных концепций спасения, которые вы шумно навязываете друг другу. Каждую из них кто-то представляет единственно верной реальностью. Объединяет вас знание того, что все эти иллюзии – карты из одной колоды. Вас связывает определённый жизненный и бытовой стиль – тот самый «воцерковлённый чип», контролирующий речь и поступки. Но каждый из вас верит в свою карту. А вместе вы – верующие в колоду. Вера в чужую карту, в сформулированную другим концепцию спасения сосредотачивает вас на этой карте.
И вы пытаетесь навязать неверующему всю православную колоду как единую церковь, а верующему – свою уникальную концепцию спасения как отдельную карту, в которую вы поверили.
Отсюда (из понимания царящего в церкви духа разделения) и ложный выход – спрячь голову в песок, как страус, это единственный способ остаться не просто человеком, а человеком церкви. Поэтому церковный человек со временем перестаёт реагировать на внутрицерковную гниль, а то и оправдывает её, он становится замкнутым холодным эгоистом, сосредоточенным на своём собственном спасении. Сложные энергозатратные практики превращают верующего в источённого и раздражённого человека, по сути своей несчастного. У этого человека есть определённый каркас личности, за который он держится всеми руками и ногами, но для постороннего этот каркас выглядит банальной клеткой, которую верующий запер изнутри, а ключ выбросил.
Устав от лицемерия, верующие люди входят в депрессию так называемого «выгорания» или же расцерковляются. Некоторые остаются вопреки, поскольку считают, что «быть верным до конца» и есть их жизненный план. Остальные свыкаются со своим положением и даже находят во внутренней эмиграции необходимый для комфортной жизни эмоциональный баланс. Есть и такие, кто, распрямляясь от лицемерия, превращает свою прямоту в средство спасения себя и окружающих. Любой «распрямившийся» опасен для искривлённых, чувствующих в себе потенциал распрямления и желание недоступной ему сейчас правды. Отсюда и отгораживание православных от слов правды, как от лжи. Мы свободны во Христе, – говорят православные. – Вы в рабстве своих страстей. Христос для таких – земной тюремщик, выпускающий отсидевшего свой срок в небесные обители. Мы верим своему тюремщику, потому что он освободит нас. «Распрямившийся» скинул ярмо, благое и лёгкое, чтобы освободиться. Ему легко, но мы в мире скорбны будем, ему многое можно, но сладость его в горечь претворится.
Моя задача как «распрямившегося» – донести этой книгой до читателя простую идею, что церковное бунтарство не является бунтом против создателя, напротив – оно есть живое и спасительное вмешательство духа, когда остальные средства уже не помогают, чтобы пробудить погрязшего в пучине равнодушия и гордыне собственной исключительности верующего человека. В этом смысле бунт против всеобщего лицемерия есть исключительно христианский по духу, это крест, порождающий боль непонимания и преследования со стороны сторонников системного спасения. И для некоторых христиан бунт есть единственное спасительное дело. Дело, за которое он страдает, как христианин, и которое иногда сводит его в могилу.
Считайте, что в этом есть миссия сей книги. Миссия пробуждения верующего от гордыни собственной исключительности и равнодушного отношения к собственной церкви, несмотря на внешние признаки рачительности и праведного гнева в отношении «нечестивцев». Эти нечестивцы (в том числе и автор книги) просто мешают тебе спать. Я постараюсь доказать это.
Означают ли мои слова, что я теперь хочу сделать хорошую мину при плохой игре? Да, именно так.
Я сыграл плохо, а теперь хочу реабилитироваться.
Я упал, но желаю встать. Поскользнулся, сломал ноги и долгое время бредил своей болезнью. А теперь я встал и снова хочу ходить. Это противоречит православному мифу об отпадении сатаны, который, отпав от истины, погрузился в хаос и ад. О моём здравомыслии свидетельствует сам этот текст. Впрочем, со стороны виднее. Если у кого-то по прочтении книги возникнет иная картина и вы сможете сформулировать своё видение – милости прошу ко мне в соцсети.
Сразу же хочу отметить, что не имею намерения оскорблять чьи-либо религиозные чувства. Я не буду говорить, как некие «свободомыслящие», что «настоящие религиозные чувства» нельзя оскорбить. Ещё как можно. Когда я был религиозным человеком – грелся у церковных костров и разделял вместе с другими верующими их пафос, который сегодня именуется этими «религиозными чувствами». Пафос этот – своего рода маячок «свой-чужой». В религии есть самый разный контингент – от неграмотного простецкого люда до грамотных и образованных людей. Но и тем и другим свойственен религиозный пафос. Это есть то самое сердце, возжигать которое учат святые отцы. Сердцу не прикажешь, но можно его постепенно склонять с помощью молитв к «правильным чувствам». После чего уже будет трудно, даже при наличии серьёзных аргументов, убедить ум в ложности религии. Поскольку сердце – сосредоточие эмоциональной жизни человека – будет определять модальность его отношения к миру и к любому спору. Религиозные чувства – они не только пугают неверующих, но и греют самих верующих. В сердце, переполненном чувствами, никогда не совьют гнездо отчаяние или безнадёжность. Это те священные костры, которые верующие должны оберегать от ветра и дождя. Чтобы светильник не угас. Именно поэтому покидающие церковь часто ищут приют у атеистов, у кого есть своё стройное учение и свой антирелигиозный пафос. Кого-то греет этот холодный свет, но не меня. Я по «распрямлении» не пристал к атеистическим берегам и остался христианином по некоторым причинам, о которых сообщу ниже…
Но предисловие уже изрядно затянулось, и пора переходить к самому́ повествованию. Начну с себя – и с самого своего детства, с младых ногтей и советского атеизма. Иначе вам будет не понять.
Писателем я стал рано – шести лет от роду. Родители отдали меня в первый класс на год раньше положенного за пристрастие к буквам – читать я научился еще в три года. Сам. Мать подарила мне букварь, азбуку и показала, как складывать гласные и согласные. До остального каким-то дедуктивным образом дошел самостоятельно и к четырём годам не только сносно складывал буквы в слова, но и бегло читал не по слогам. В детском саду меня садили с книгой читать другим детсадовским, отчего я чувствовал себя отчасти учителем по отношению к своим ровесникам. Советская образовательная система признала меня превосходящим уровень интеллектуального развития других детей своего возраста вундеркиндом. Да, я отставал от одноклассников в физическом развитии, но успешно пытался обогнать их в умственном. Но карьера вундеркинда закончилась быстро.
В первом классе я написал стих и отправил его в газету «Пионерская правда». Стих был настолько политизированным, что редакторы газеты пришли в ужас и не смогли опубликовать его. К стилю претензий не было. Похвалив меня особым поздравительным письмом на гербовой бумаге за ответственную гражданскую позицию и острый слог, они советовали мне быть помягче. Возможно, редакторы не поверили, что стих принадлежит шестилетнему дитяти. Я обиделся и перестал писать на долгие годы, хотя сам факт ответа от газеты учителя воспринимали как несомненную победу. Отсюда, наверное, берет начало моя нелюбовь к дипломатии. «Стать мягче» стало для меня как соврать. Потом я начал писать только уже в старших классах, да и то потому, что не мог не писать. Стишки, большинство из которых не представляют собой ничего особого, поскольку слово обесценивается с каждым годом, какие-то театральные сценки, литературные конкурсы, песни, – все это было в моей жизни, но не подвигало меня на написание настоящей литературы. Потом была журналистика, меня отчасти научили владеть словом, стилем и даже привили какую-никакую грамотность. Вот и всё, что могу сказать о себе до монастырей. Хотя нет – было ещё крещение в двенадцать лет, с которым в мою жизнь пришла надежда. Крестили меня на родине матери в древнем старообрядческом селе Усть-Цильма. У поморцев никогда не было могущественных жреческих кланов и не было крепостного права. Крестили меня в Цильме с погружением, и не поп, а дальняя родственница в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла…
Родившись в СССР в самый разгар «застоя», я зорко подмечал детали советского быта. Быт этот был насквозь пропитан культом смерти. Смерть была «живее всех живых». Догматический материализм отметал любую религию, любое заигрывание с вечностью и душой. Человек родился раз и умирает окончательно, но прожить жизнь нужно так, чтобы не было «мучительно больно». Я ребёнком искренне не понимал, как может смерть быть не мучительной и не больной. Родители говорили мне – «вырастешь, поймёшь». Принять подобное было невозможно. Бессознательное не принимает идею вечной смерти, и при навязывании этой идеи обществом в душе индивидуума возникает серьёзный внутренний конфликт. Этот конфликт был спрятан глубоко, но влиял на восприятие мира. Я услышал о смерти в пять лет и до двенадцати лет ходил без надежды. Атеизм – слишком шаблонное мировоззрение. Фактически это простая антиклерикальная пропаганда, базирующаяся на недоказуемом факте небытия Бога. В Советском Союзе она была догматически принятой, что для детского сознания выглядело как настоящий психологический терроризм.
Психика человека так устроена, что страх смерти заглушается ощущением непрерывности жизни. Когда ум говорит сердцу – «мы умрём», оно всегда отвечает – «не может этого быть». Человек знает, что умрёт, но не хочет верить этому. И это «не хочет» лежит в основе всех религий. Атеистические учителя и детские политизированные книги предупреждали, что на этом самом «не хочет» издавна паразитируют могущественные жреческие кланы, у которых одна задача – опутать человека обязанностями, поработить страхами. Поэтому лучше быть честным и без надежды, чем в сетях манипуляций. Однако они принуждали всех к такой честности от самого рождения, «крестя», как в православной России, ещё в детстве в вечную смерть. Атеизм обычно позиционируется его сторонниками как взрослое принятие идеи смерти, как чёткое непротиворечивое мировоззрение. Это «взрослое принятие» по сути является травматическим переживанием, которое вовсе не освобождает, а если брать всё общество – является жёсткой формой государственного террора.
Россия на самом деле – страна пустых озер, на дне одного из них таится сокровенный град Китеж. Все остальное здесь, в России, наносное, чужое, заимствованное. Кто мы такие? – племена с болот и озёр, которым огнем и мечом навязали греческую веру. Да и раньше, в дохристианскую эпоху, все эти литовские Перуны и индоиранские Хорсы и Семарглы – тоже не наше, тоже заимствованное, поэтому народ сравнительно легко воспринял реформу Владимира. Народ без души. Посмотри внимательно в мои глаза – ты увидишь, как там пусто. Недаром Аввакума сожгли в Пустозерске.
Надежда – это правильно. Это и есть призрак града Китежа, сияющего на дне самого глубокого озера. После своего беспоповского крещения мне уже не обязательно было вечно умирать и жить так, чтобы не было «мучительно больно». Можно было просто жить и радоваться жизни. В догматику и богословие я не вдавался, довольно было ощущения возможности вечной жизни. Хорошо помню, как люди буквально ломанулись куда попало из страшной чёрной комнаты атеизма, заряжая воду перед телевизором и скупая на книжных развалах брошюры о магии и спиритизме. Этот безрассудно вырвавшийся пар говорит о довольно жёстком психологическом давлении внутри самого советского атеистического общества. И это был 1989 год – банки перед телевизором заряжали ещё в атеистическом СССР. И Кашпировский тогда же лечит посредством телевизора энурез. В этом же году на волне массового увлечения мистикой Госкомитет по делам изобретений и открытий даже выдал Джуне Давиташвили авторское свидетельство на целительство «бесконтактным массажем». Народ страны нуждался в коллективной психотерапии…
Но вернусь к своей мини-биографии. Настоящий жизненный опыт я начал набирать в церкви и монастыре. Всё, что было «до», я с помощью покаяния выбросил на помойку. Учили в детстве не любить Рейгана, потом, оказывается, нужно было стать толерантней, а потом и вовсе сдаться – под звон стаканов со спиртом «Рояль». Мировоззренческая парадигма общества менялась слишком часто, мне нужно было устойчивое мировоззрение, которое я нашел в нашей традиционной религии. Тогда вера была не то что сейчас: многие уходили в религию искренне и пытались жить по евангельским заповедям.
В монастырях я провел в общей сложности восемь лет. Мой путь чернеца прошел через несколько обителей и в нескольких странах. Последние три года своего подвижнического пути я жил на знаменитой святой горе Афон – единственном месте на Земле, куда не ступает нога женщины. По иронии судьбы такая нетолерантность сохранилась в Евросоюзе – Греции.
– Почему ушёл? – Этот вопрос мне задавали довольно часто. Ответ на него у меня есть. Ушёл потому, что не захотел дальше так жить. Добровольная тюрьма нехороша сама по себе, а пребывание в ней имеет цель – освободиться от мира и стать бесстрастным. Не обретал я там ни покоя, ни радости. Не видел образцов, на кого хотел бы быть похожим. Всегда хотел на свободу, но всё ждал, когда в согласии со святыми отцами откроются «внутренняя сердца». Не дождался, ушёл. Не жалею. Правильно сделал. Некоторые называют меня расстригой, но я никогда не принимал ни монашеских обетов, ни иноческого пострига. И даже официально не был послушником на Афоне, числясь там скромным трудником, хоть и с правом ношения подрясника. Не стремился я и в священство, как некоторые мои критики, быстро напялившие епитрахиль, как будто не успеют на тот свет, а сейчас играющие в запрещённых либеральных священников, что является ещё худшим лицемерием, чем их унылое пребывание в системе.
Когда спрашивают – есть ли духовность в современном мире? – обычно отвечаю, что нет, от слова совсем. Духовность – это шахта, в которой подвижники добывают экзистенциальный смысл, делясь им с окружающими. Смысл этот – самое главное, за что идёт борьба. Люди живут в городах зимой и греются, не замечая отопительной инфраструктуры и всего, что за этим стоит, так же и обыватель греется добытым другими смыслом, не понимая, насколько сложно добыть этот, казалось бы, доступный всем смысл. Но борьба идёт, и те, кто понимает, ищут и пока находят.
Весь настоящий смысл в церкви не имеет отношения к самой современной церкви. Смысл этот из каких-то других шахт – церковного прошлого, психологии и даже иных духовных традиций, но современная церковная духовность является мертвородящей. Это что-то среднее между энергетиком «Burn» и гербалайфом. Человеку предлагается сомнительное духовное здоровье и немного мотивации для движения. Естественно, легче получить эту «духовность» за деньги, поскольку современная духовность – это товар. Больше денег – больше духовности. Но если говорить о настоящем экзистенциальном опыте, то он демократичен и распространяется посредством издательской деятельности и организации лекций. Но духовностью этот смысл-товар тоже не является.
Настоящая духовность всегда разделяет, отлепляет, преобразует и мобилизует. Духовность – не костыль, а преображающий свет. Не псевдопреображающее кривляние религиозных людей, а настоящее, что ни с чем не спутаешь.
Откуда же появился греющий страну смысл – если его, по моим словам, давно нет? Революция в России прервала тысячелетнюю традицию, и средневековая духовность сохранилась в советский период в своего рода схронах и заповедниках. Эти схроны были вскрыты, и русских захлестнуло чувство мнимого богатства экзистенциального опыта. Но этот уголь отсырел и уже не греет душу, только коптит. Хотя эффект неожиданности ещё длится и доставляет. Но это ненадолго. Смысл добирается и от распаковки восточных традиций, ранее недоступных западному и российскому обывателю. Но эти колодцы не вечны, и смысла уже начинает категорически не хватать.
Своему времени – свои подвижники, добывающие смысл. Я тоже хотел в монастыре добывать смысл, но его было мало. Мы грелись у одиноких костров прошлого, но уже не согревались. Не хватало для того, чтобы остаться и продолжать этот путь. Не было ни учителей, ни поддержки свыше. Была скорбь и растущая бессмысленность. Некоторые монахи, что прожили по два десятка лет на Афоне, прямо говорили, что жить так – мучение, что ушли бы, но УЖЕ поздно. Время переработало их, лишило имущества в миру и здоровья. Кому они там нужны? А здесь есть койка и пайка.
Казалось бы, Афон – цветущий духовный рай в глазах православного туризма, а два десятилетия монашеской жизни в конечном итоге свелись к койке и пайке. Монаха, кто мне озвучил мотив «койки и пайки», звали Вонифатий. Родом с Донбасса, алкоголик. С глаз долой его отправили на скит Ксилургу. Выгнали бы, но за него просил донецкий старец Зосима из Святогорской лавры. У Зосимы были влиятельные украинские олигархи в чадах, и его слово было важно в монастыре. Вонифатия не выгоняли. Пил на Ксилургу, по пьяни любил сжигать мусор. Он вообще любил смотреть, как огонь поглощает древесину.
Бывало, сядем с Вонифатием поговорить, а он говорит про своего старца, как тот предсказывает будущее Афона – святой полуостров-де из монашеской республики постепенно превратится в туристический центр. Всё здесь будет для туриста, а молиться и вовсе никто не будет. Вонифатий – это монах-неудачник. Таких на горе много. Но есть и удачливые монахи – это те, кто нашел в монастыре своё место. Как ни странно, на ум тут сразу пришёл тёзка Вонифатия – монах Вонифатий-иконописец. Спокойный интроверт. Доброжелательный шизоид, избегающий людей. Человек занимается «деланием», такие монахи были и есть. Но это делание, что в духовных книгах превозносилось до небес, на поверку оказывалось не столь яркими психологическими приёмами, с помощью которых монах учился успокаиваться в монастыре. Успешный монах – это тот, который угомонился, как говорят на Афоне. Кто-то раньше, кто-то позже, а кто-то никогда. С этой точки зрения духовный рост в церкви объясняется очень просто.
Если человек не карьерист – не использует Афон как трамплин, – а порядочный православный христианин, в его духовной жизни есть определённые этапы. В монастырях технологичное христианство, и всё видно лучше. Первый всем известный этап церковной жизни – это неофитство. Достаточно долгий этап (по уверению некоторых монахов, неофитский возраст – десять лет), когда человек как губка «с горящими глазами» впитывает и постигает церковные байки, законы духовной жизни и постепенно становится крепким церковным человеком. Потом колодезь знаний исчерпывается, человек понимает, что он вовсе не бездонный, и его первоначальный пыл сгорает. На этом этапе верующий начинает сомневаться. И здесь помогает весь накопленный опыт в виде баек и нравоучений, которые неофит как губка впитывал в прошлом. Отцы говорили, что этому должно произойти, что человек должен крепко стоять против дьявола и не отрицаться церкви – тогда он получит венец жизни. Помогает ему в этом деле страх выйти за флажки, причастие, исповедь и псалмопение – приобщение православному информационному потоку, да хоть псалтирь по две кафизмы читай каждый день. Верующий должен убить в себе страсти сребролюбия, то есть перестать думать о хорошей жизни; блуда, то есть совокупляться; а если ты мирянин, то только ради чадорождения, да и то без особых нежностей; гнева, то есть не противоречить тем, кто тебя гонит; славолюбия – не взыскать успеха в этой жизни. Ну и так далее: убить страсти – это святоотеческая классика.
В монашестве прямо учат, что монах – это живой мертвец, который похоронил себя заживо. Чем твёрже стоит воин Христов, тем быстрее достигнет смирения, говорят отцы, а если беспрестанно колеблется – умножает свои раны. Они имеют в виду, что верующему следует смириться с неизбежным – жизнь со своими подарками пролетит мимо него. Он инвалид ради Христа. Если верующий будет стоять твёрдо, понимая, что его выбор неизбежен, то он соответственно будет проходить через стадии принятия этого неизбежного: отрицание; гнев; торг; депрессия; принятие. Так он через многочисленные искушения приходит к смирению. Зачастую таким смиренным людям приписывают чудесные дары сомнительного свойства, чтобы они служили дополнительным аттракционом, привлекающим неофитов. Это вполне законный путь, единственное, что такие «смирившиеся» делают заложниками своего духовного пути весь остальной мир. Они ведь не думают, что могли бы спокойно жить и без этого и были бы счастливы. Они думают, что выбор их был неизбежным с точки зрения Христа и они шли единственно спасительными узкими вратами. Этому они и поучают других.
Поэтому, кстати, себя мне к обиженным причислять как-то не с руки. Монастырские тяготы для меня хорошо знакомы. Я лично в монастырях был свидетелем трех убийств, нескольких людей на моей памяти покалечили или они остались инвалидами на послушании, а уж разбитых физий не счесть. Но вот что интересно – в монастыре ты подписываешься под terms and conditions, которые изложены в поучениях аввы Дорофея и «Лествице». Там черным по белому, многократно, замечу, подчеркивается мысль, что послушнику надлежит терпеть всякую несправедливость, что сила моя в немощи совершается и т. д. Если ты остаешься в монастыре, тем паче православном, ты принимаешь тот факт, что с тобой могут сделать любую несправедливость. По мере твоего духовного взросления с тобой это становится сделать все труднее и труднее. Будучи матерым послухом на Афоне, я уже смирял, бывало, и архимандритов… Но факт остаётся фактом: меня предупреждали честно, к чему надо быть готовым, и давали рекомендации, как себя вести. Тяжкий труд, скорбь – всё было прописано черным по белому.
Покидающие церковь люди часто забираются на соседний холм и высокомерно бросают камни по маковкам и приходам. Этот странный феномен эмоционального прилипания верующими однозначно воспринимается как «бесовская брань», а сами бывшие часто просто не осознают глубину нанесённых им в церкви ран и токсичность религиозного яда. Причем это относится исключительно к тем, кто принимает Христа сердцем, то есть людей идейных. Для подавляющего большинства церковь вырисовывает какие-то странные отдалённые перспективы «что-то там есть». Для них церковь просто учит любить маму и быть хорошим против всего плохого. А вот с идейными дело обстоит сложнее. Они всегда несли церкви одни проблемы, расколы и ереси. Раньше идейных ломали через «святое послушание», мол, стерпится – слюбится. Любая ересь наказывалась не только потусторонними судами, государство предоставляло церкви для репрессий свой карательный аппарат. Теперь идейность топят в монастырской сытости.
Мне тоже нужно было чем-то заниматься после выхода из монастыря, и я просто начал писать книги. Отписался по теме, заработал денег. И волки сыты, и овцы целы. Лично претензий к монастырям не имею. После Афона я вернулся на Смоленщину. Обратно в монастырь мне уже не хотелось. Мне был еще тридцать один год. Возраст подходил к возрасту Христа, и я вскоре написал свою первую книгу, которая неожиданно для меня самого стала достаточно популярной в православном сообществе. То есть я начал как достаточно успешный православный писатель. Сразу же хороший старт с первой же книги, что продавалась почти в каждой церковной лавке. Мировоззрение моё было тогда «послеафонское», то есть пророчески художественное. У меня не было никакого надлома после Афона, напротив, я достаточно качественно впитал традицию, что и отобразил в своих книгах. Окунувшись в православную среду, я вдруг понял, что это люди неоднозначные, и ВСЕ разные и особенно в религию-то и не верящие. Но она им нужна как место единения друг с другом. И мои книги их соединяли своим пафосом.
Это достаточно требовательный читатель, и для него важно, чтобы ты соблюдал некие пропагандистские условности. Первую свою книгу я писал легко. Просмотр фильмов Тарантино и дух нового времени с интернетом и гаджетами соединился в моем сознании с православной монашеской традицией. В итоге древняя мудрость передавалась мною весело, и поучения были совсем не занудными. Я почувствовал себя писателем в полной мере в 2008 году, когда в Манеже в Москве издателям была вручена премия за эту первую книгу «Украденные мощи», о чём я сам узнал из интернета. Формулировка премии гласила: за лучшее художественное произведение 2008-го года. Это был маленький, но триумф. Почему маленький – да потому что амбиции выросли сразу же. Писатель во мне ждал слишком долго, чтобы ограничиться этим, и одну за другой я выдал на-гора четырнадцать книг. Я экспериментировал в разных жанрах. Писал сборники афонских рассказов, которые до сих пор являются самыми любимыми у моих читателей. По следам рассказов вышло четыре повести в том же «афонском» стиле.
Постепенно моё мировоззрение на́чало постепенно крениться к реализму, что сказалось на моей художественной позиции. И тут начались конфликты с издателем. «Пиши про духовность» – то есть либо откровенную пропаганду, либо различные благочестивые байки с соблюдением пропагандистских условий, что сами понимаете, является прокрустовым ложем для честной художественной позиции.
У индусов есть хорошее понятие – «дхарма». Дхарма голодного – поесть, бедного – заработать денег, богатого – заниматься благотворительностью. Так вот, дхарма писателя – отображать в своих произведениях именно ту художественную правду, что ему открылась. Это не истина в последней инстанции, но художественный взгляд, честный взгляд, без условностей. С каждой книгой мне выражаться стало всё труднее. Последнюю повесть мои первые издатели уже не хотели издавать. Все потому, что я отказывался писать «про духовность» такую, какой они ее понимали, а брался только за те темы, которые брали за душу лично меня. Чтобы я сам от написания этих текстов получал удовольствие, поскольку иначе читатель не сможет получить и своего, читательского удовольствия. Последняя повесть в этом стиле была про героинового наркомана – сына священника, который стал бандитом. Я настолько правдоподобно изобразил жизнь героинового наркомана, что недруги обвинили меня в наркомании, хотя я всегда был верен алкоголю. Книгу издало другое издательство ограниченным тиражом, но ее стали перепечатывать и отправлять по тюрьмам, потому что она помогала жить. И это для меня было высшей наградой.
Параллельно у меня был проект написания книг в совершенно новом стиле – православного мистического детектива. Проект получился неудачным, хотя книги и оформление были шикарными. Писал я их под псевдонимом. Доходило до смешного, когда на одном и том же православном сайте – книги, написанные под собственным моим именем, прославлялись как духовные и весьма полезные, но те, которые были написаны под псевдонимом, клеймились как тупые, грязные и вредные. И я вошел в конфликт. Его зерно было изначально во мне и прорастало с годами, подпитываясь растущими писательскими амбициями и алкоголизмом. Я вошел в конфликт со всеми: с обществом, церковью, своими близкими. Этот конфликт сделал меня бесконечно одиноким и злым…
…Есть такая интересная техника гештальт-терапии, как «горячий стул». Недавно проходя реабилитацию, я сидел на таком стуле среди психотерапевтической группы, и окружающие давали мне обратную связь. Тема, с которой я вышел на этот стул, была «писатель и церковь». Высказывали довольно много мнений относительно моего конфликта с православным духовенством, мол, это и банальный пиар, и стремление выделиться, самоутвердиться за счет других. Другие говорили, что это действительно поступок. Одно мнение мне особенно понравилось, точнее, это не мнение, но как бы взгляд со стороны:
– Мне, Стас, ты со своим конфликтом напомнил честного полицейского из фильмов. Вот все кругом продажные, а он честный, хотя ему и достается за это. Эдакий брутальный полисмен, идущий против системы. Небритый одиночка, обычно с бутылкой в руках.
Вот этот образ – «честный» полицейский с бутылкой – абсолютное попадание «в десяточку». И вопрос: он пьет, потому что честный, или честный, потому что пьет? Если уж быть честным до конца, то, скорее, вернее второе – он «честный», потому что пьет. «Героическая» честность такая интересная категория, что требует фон в виде лжецов. Такая честность всегда «вопреки», а не сама по себе. С одной стороны, я избавлялся от лицемерия, но с другой – увязал в борьбе против того же лицемерия, алкоголя и целого мира.
Обличительный формат такой честности предусматривает вознаграждение в виде той же бутылки и имиджа правдолюба. А правдолюбие же заключается в том, чтобы докопаться до кого-нибудь. Причем сделать это легко, потому что у всего в этом мире есть две грани. Возможно, есть кому-то польза от этого. Но в последнее время я стал сомневаться в этом. Еще ученые не изобрели точные приборы измерения пользы и вреда. А вот бутылка в руках «честного» полицейского это однозначный вред. Забота о завтрашнем дне, где «дне» от слова дно, а не день…
Но тогда, во время обострения конфликта, я об этом не думал, я был «героем», который тонул в собственной важности, чтобы оттолкнуться от своего дна.
Я много пил, перебивался случайными заработками и путешествовал. Меня заносило то в Беларусь, то в горы Кавказа. Я словно бежал от этого общества, которое хотело вылепить меня по своему образу и подобию, чтобы я отражал его в своих книгах.
Блуд
Бывало, я появлялся в подряснике «на людях», и обычно люди мне с интересом задавали самые разнообразные вопросы. Всегда интересно, чем живёт закрытое общество, будь то тюрьма, армия или монастырь. Больше всего мирских, в особенности мужчин, интересовало, как монахи и монахини усмиряют своё либидо. Большинство искренне заблуждается по поводу неосуществимости перекрытия этого природного канала, справедливо полагая, что семя накапливается в мошонке для того, чтобы изливаться, но искренне заблуждаясь насчёт того, что якобы невозможно каким-то образом повлиять на ситуацию. «Особо знающие» миряне говорили, что только педерастия или на худой конец «малакия», под чем они понимали мастурбацию, спасает изнемогающих от скопившейся спермы монашествующих. Что «между прочим все мы дрочим», как писал в своём стихотворении Бродский.
Я всегда упорно отрицал не только гомосексуализм, но и «малакию», ссылаясь на свой опыт и на опыт отцов. Как учил святой Феофан Затворник: «Найдите и прочитайте следующее место в первом послании св. Павла к Коринфянам: гл. 6, ст. 9. Что здесь названо: малакии, то есть ваше дело. Оно лишает Царствия. Следовательно, есть смертный грех. Блудная страсть здесь во всей силе – и удовлетворяется. Поразмыслите о сем. И положите конец сему делу. Оно иссушает, и преждевременную смерть причиняет. У иных способности расслабляет, здравомыслие и энергию подавляет, бывает причиною и умопомешательства. Блюдите себя!» Смысл тогда во всём этом монастырском делании, если оно в принципе невыполнимо?
И хотя малакия на самом деле обозначает не рукоблудника, а пассивного педераста (от др.-греч. µαλακός – «мягкий», «легко поддающийся давлению, сжатию», «эластичный», о человеке – «нежный, ласковый, слабый»), скажу, что даже рукоблудие считается в церкви чем-то страшным. Этот грех к смерти (то есть умирающий в этом грехе однозначно по православному учению попадает в ад), он относится к страсти блуда и нуждается в обязательном исповедовании. Причащаться, не исповедав рукоблудие, нельзя. А духовник для уврачевания страсти часто налагает епитимью – пост и поклоны. Поскольку в церкви довольно трудно находиться человеку, не верующему в эти каноны, адепты православной веры, тем более монашествующие, действительно терпят восстание плоти, подавляя похоть, и идут в вопросах секса против своего естества.
Отвечаю исходя из собственного опыта – угомонить основной инстинкт в монастыре всё-таки возможно, хотя и связано это с большим трудом. Благодаря посту, бдению, под чем подразумевается регулярный недосып, и тяжёлой физической работе организм сильно ослабевает и тратит свои скудные ресурсы на поддержание только основных функций. Человек подвизающийся ходит как собственная тень, тут уж не до секса. В некоторых монастырях дают специальный чай из успокаивающих основной инстинкт трав. Конечно, монашествующего, особенно если он тучной жизнерадостной природы, время от времени одолевает похоть. Но если монах умерен в еде или ест в основном мучное, мало спит и много молится, он способен подавить в зачатке всякую половую жизнь. Разумеется, идти на такие жертвы и искажения собственной природы может только человек идейный или же карьерист, точно знающий, ради чего, каких плюшек, он пыхтит в том или ином монастыре.
Но секс у монашествующих все же случается, как с идейными, так и с карьеристами. Это вовсе не распространено широко, как о том думают внешние, но он случается. Начну, пожалуй, как ни смешно это звучит, с секса «идейных».
Идейный монашествующий – это борец с собственными страстями. Лично у меня такой главной страстью – спарринг-партнёром в борьбе за собственную душу – являлся алкоголь. Сама «борьба» предусматривает не только победы, но и поражения. Для алкоголика это означает пытаться совладать с «пиянственной страстью», то есть заранее обречённый бой, потому что алкоголь – неотъемлемая часть христианской культуры. То есть тебя учат культурно выпивать, что для алкоголика в принципе невозможно. Главное православное таинство евхаристии – это принятие святого тела и крови Христовой, что по факту является смоченным в вине хлебом. К нему полагается ещё и запивка – так называемая «теплота», состоящая из вина с кипятком. Теплотой напиться, конечно, нельзя, но разбудить алкогольную жажду запросто. А когда напиваешься и побуянишь, значит, пал и оказался покорен страстью.
Разумеется, никто за алкогольные срывы по головке не гладил, и бывало, меня изгоняли за это даже из монастырей или понижали статус. Как любой алкоголик, я попадал в неприятные ситуации и переделки, порой на грани жизни и смерти. И вера держала меня в ежовых рукавицах, не давая раскиснуть или упасть духом. Если я каялся и не оставлял своего поприща – считался у монашествующих духовным борцом и даже почти героем! «Упал – встань», как любят говорить в монастырях. Кающихся в монастырях любят – это те самые идейные, на плечах которых громоздится всё религиозное здание. С блудом примерно то же самое. У самого меня проблем с блудными делами не было. Во-первых, по известной поговорке «рождённый пить – любить не может», а во-вторых – строгие посты, недосыпания, загруженность молитвами и работой действительно делают своё дело, и послушник может на время или даже навсегда подавить основной инстинкт.
Конечно, и у меня возникала время от времени сильная блудная брань, и один раз на Афонском подворье я даже помастурбировал (был грех), после чего испытывал тяжёлые нравственные страдания и страх перед нашим суровым и язвительным игуменом, которому нужно было исповедать этот грех. И произошло-то всё случайно – просто в полудрёме решил поправить подрясник и нечаянно прикоснулся к срамному у́ду через суконную ткань. Тронул ещё раз и ещё, начал тереть через ткань в забвении полусна, не сдержавшись или не желая останавливаться до семяизвержения. Ощущение «после» было трагическим, как будто я оскорбил Бога или в минуту расточил всё богатство, что собирал годами.
Я пал и действительно переживал по этому поводу! Как идейный, я не мог подходить к причастию без исповеди, и уговорил одного иеромонаха, чтобы он втайне от игумена отпустил мне грех рукоблудия, чтобы только не говорить это наместнику. После того случая я держался несколько лет и за всё время пребывания в монастырях не душил своего гуся. Хотя в некоторых монастырях мастурбация считается хоть и неприличным, но вполне допустимым явлением, подпадающим под простую епитимью, а не прещение. Но настоятель Афонского подворья, где я впал в искушение, рукоблудие категорически не приветствовал и во время похода-смотра по кельям он с благочинным всегда проверял простыни братии на предмет наличия пятен от спермы. Однако иеромонах, которому я исповедал свой грех в тот самый единственный раз, отвечал, что ничего страшного здесь нет, поскольку это грех «естественный».
Тем не менее, после того «падения» я держался. Эти остальные годы у меня, конечно, случались ночные блудные истицания, но ни мастурбации, ни гомосексуализма, ни даже гетеросексуальных отношений не было. И как идейному, мне это всё казалось дикостью. Зачем себя морить голодом, связывать послушаниями – фактически бесплатным рабским трудом – и ограничивать себя в удовольствиях, если не придерживаться идеи спасения души? Хотя при поллюциях (блудных истицаниях) у меня было скорее облегчение, чем ощущение греховности или желание покаяния. Во сне грешить оно как-то легче. Типа можно – «дозволенный» грех. Поллюцию можно не исповедовать священнику, а просто прочитать специальное правило «от осквернения» из Канонника. Хотя если монашествующий серьёзно подходит к подвигу и ревнует о чистоте, он исповедует своему духовнику и поллюции, считая, что в сновидениях также сокрыта часть его произволения и поэтому блудные истицания требуют более сложного врачевания, чем простое вычитывания канона об осквернении.
Если монах тщательно и долго боролся с блудной страстью, ему, как победителю, полагаются венцы, и плодом такого подвижничества ещё на земле является «ангельская чистота». Иосиф Исихаст описывал в своих письмах, как его долгие годы настолько сильно борола блудная брань, что он не мог даже заснуть и часто и сильно избивал себя палкой, только бы желание совокупления пропало. Однажды он задремал и увидел смрадного беса, который почёсывал его в том самом месте. Иосиф свирепо набросился на него, и бес этот неожиданно лопнул, после чего подвижник ощутил ужасный смрад, после чего блудная брань оставила его навсегда – с того момента он стал «чист» как ребёнок. Что с ним тогда произошло, физически непонятно, но с годами подобные Иосифу подвижники превращаются в настоящие развалины с ворохом разнообразных недугов и заболеваний. Болезни старых монахов – это что-то с чем-то.
На Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре был один врач, которого быстро постригли под именем К. Инок К. был уже в годах (в монастырях таких не любят, поскольку впереди старость, а он для монастыря ничего путного сделать не успеет), но обладал ценным врачебным навыком. К. тоже любил выпить (что нас объединяло) и часто по пьяни говорил мне, что половина иеромонахов монастыря ходит делать к нему массаж предстательной железы. Он подробно и с нездоровым огоньком в глазах рассказывал, как надевает перчатку, смазывает кремом анус и проводит эту процедуру. Болезни простаты для воздерживающихся – частые гости. Физически воздержание – это очень плохо. В подвижнической литературе, конечно, витиевато обещаются огромные преимущества целомудрия для души и тела, которое принимает «ангельскую чистоту», но лично я не могу сказать, что видел (даже на святом Афоне) ангелов во плоти. Подвижники, конечно, своеобразные люди, но какого-то кардинального изменения их естества от добровольной кастрации и лишения себя плотских утех я не наблюдал. Сдержанные, тощие, сухие (в том числе и эмоциями) и немногословные люди. Ничего больше. К тому же внешность обманчива, как вы убедитесь из истории с Ф., которую я приведу чуть ниже.
По моим наблюдениям всё-таки правильная сублимация половой энергии приводит к повышению в подвижнике душевной теплоты – «небесному эросу», по слову Григория Нисского, но несмотря на многочисленные свидетельства в подвижнической литературе, убедительных доказательств пользы для нравственного начала полового воздержания я не встретил. Конечно, похотливые люди сами по себе неприятны – бегающие масляные глазки, как будто ощупывающие телеса, и бесцельный разговор с желанием затащить собеседника в койку. Но полный запрет на проявление всякого полового желания – это подвижничество против природы. Конечно, само по себе такое подвижничество закаляет характер, поскольку нет ничего тяжелей, чем идти против самого своего естества. Человек, отказывающий себе в лёгком удовлетворении естественной половой нужды (в идеале греховна даже мысль о совокуплении), является суровым диктатором самому себе и истовым защитником православного учения – ведь не просто же так он несёт все эти труды?
Предупреждая вопросы, сразу скажу, что я лично с педерастией в монастырях не сталкивался. То есть никто ко мне не приставал, за срамной уд не дёргал и в келью не тянул. Я бухал. А нашего брата алкоголика в монастырях куда больше, чем практикующих гомосексуалистов. Но и гомосексуалисты есть, о чём хорошо знают и предпочитают молчать, чтобы не выносить сор из избы. Иногда гомосексуалист в рясе ещё и алкоголик, тогда да – о его шалостях скоро становится всем известно. Сор из избы выносить не любят, но в своей среде монашествующие часто делятся историями о своём опыте пересечения с гомосексуалистами в церкви. Обычно рассказывают, как отвергали с гневом блудные домогательства, хотя некоторые трудники мне прямо говорили, что вступали в гомосексуальные контакты с иеромонахами за деньги. Такие трудники ходят из монастыря в монастырь и сразу говорят всем о готовности к гомосексуальной проституции. То есть педерастии в монастырях немного, но сама скандальность этого явления делает его видимым и значимым, как уродство на лице в общем миловидной девушки. Поэтому о гомосексуализме всегда говорят и шепчутся – что внутри монастыря, что за его оградой.
Но помимо осуждения гомосексуалист в монастыре пользуется и неким пониманием. Объясняю почему: представьте себе ситуацию, когда в монастырь приходит идейный борец с собственным гомосексуализмом – крещёный, верующий и даже воцерковлённый человек. В миру ему оставаться нельзя, поскольку он не имеет инструментов для сдерживания своего влечения. Идти на поводу у страстей для верующего человека – значит погибнуть. А в монастыре он начинает невидимую брань со своей грязнотцой, борясь с блудным бесом, и часто преуспевает. Но иногда такой человек впадает в искушения, то есть либо вступает в однополые связи, либо начинает к кому-нибудь приставать, обычно разговевшись и в подпитии. Как и в случае с алкоголизмом при обнаружении постыдных поступков такого человека часто подвергают определённым репрессиям, но далеко не всегда выгоняют из монастыря, если тот кается и выражает намерение уйти от греха. «Упал – встань», помните?
Иногда это приводит к трагикомическим ситуациям. Например, на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре жил (а может, и живёт по сей день) иеромонах Ф. Внешний вид у него был благообразным, как у старца – это я и имел в виду, когда говорил, что внешность обманчива. Окладистая седая борода, добродушное приветливое лицо и весёлый нрав располагали к себе. Когда отец Ф. жил ещё в самом монастыре, его часто борола блудная брань. Тогда он брал бутылку узо – крепкой (восемьдесят градусов) анисовой водки и шатался по архондарику (монастырской гостинице) в поисках жертвы. В архондарике Пантелеи́мона четыре этажа и всегда кто-то есть из гостей, зачастую пребывающих в состоянии экзальтации. Как же так! Афон – легендарное и святое для православных людей место. Здесь собрались лучшие из лучших – «монашеский спецназ», как говорил наш игумен. Восторженные паломники из России, Украины или Европы с охотой принимали приглашение старца Ф. посидеть за бутылкой. Им хотелось общения и льстило внимание со стороны афонского монаха. Дальше всё зависело от ситуации. Иногда паломники в гневе доносили духовнику и игумену, что отец Ф. после совместного распития узо хватал их за член.
Бывало и хуже – некоторые перебравшие лишка с Ф. паломники просыпались с болью в заднем проходе и далеко не все из них рассказывали об искушении. Представляете себе ситуацию? – паломник в святом месте считает любого монаха чуть ли не за святого, к нему подходит настоящий старец с предложением поговорить о Боге!.. Но заканчивается всё это банальным изнасилованием, о котором ещё так просто-то и не расскажешь. Не женщина ведь, а мужик! Стыдно. Приехал на Афон за благодатью, ага, и получил на свою задницу приключений. Жалоб на Ф. хватало, но из монастыря его не выгоняли. Ведь отец Ф. боролся со своей страстью и регулярно исповедовался, то есть по монашескому учению он, как настоящий монах, вёл невидимую брань. И как в любой борьбе Ф. время от времени проигрывал, впадая в искушение, снимая штаны с напоенного вусмерть им паломника. По-монастырски здесь никто не виноват – только бес. И Ф., и естествованный им паломник должны сделать свои выводы из этого искушения. Для самого Ф. весьма удобная позиция. То есть нельзя сказать, что Ф. нравились однополые отношения. Телу и душе нравились, сердце изнемогало от похоти, но его нравственное чувство страдало. А ведь душа в православии самое главное. Выгони его из монастыря, он что – перестанет «глину месить»? Нет, просто отойдёт от веры и пустится во все тяжкие – «погибнет» по православной терминологии. В конце концов Ф. всё-таки отправили в отдалённый скит, поскольку он изнасиловал несовершеннолетнего сына монастырского садовника, который был, кстати, греком. Это был серьёзный скандал. Садовник, что раньше был русофилом, стал русофобом и после выплаты немалой компенсации ушёл ко грекам. Ф. же просто удалили на скит.
Афон вообще уникальное место, единственное на земле, куда запрещён вход женщинам. Когда Греция вступала в ЕС, сохранение особого статуса Афона было одним из условий вступления страны в Евросоюз. Отношение к педерастии у греков своеобразное. Как православные они, конечно же, осуждают это как грех блуда, но у них нет понимания педерастии, как содомии – противоестественного блуда. Что с женщиной блуд, что с мужчиной блуд. Поэтому, кстати, русские так и не поняли смысла понятия «малакия» – для сурового средневекового русича такие нюансы однополых отношений, как пассивная и активная педерастия, были маловразумительны и это непонятное слово сочли за рукоблудие.
Как южный народ, греки любвеобильны, поэтому по монашеским правилам на Афон исключён проход юношам, в бороде которых не застревает карандаш. Правда, в последнее время этот запрет утерял свою силу и на Афоне даже открыли учебное заведение для детей – шестилетнюю школу Афониаду, где рядом трутся похотливые греческие монахи. Педофилия для грека что-то вроде греховной традиции, но всё-таки традиции его народа. Один русский послушник в монастыре Филофей подвизался вместе с сыном и очень боялся, что греки этого сына поимеют. Страхи эти не лишены оснований. Сейчас на Афоне всем показывают лучший в мире монастырь – Ватопед. Но мало кто знает, что в шестидесятых годах здесь был рассадник самого безобразного блуда. Иеромонахи Ватопеда доходили до того, что красили ногти и носили женские колготки, затягивая в свои кельи проходящих мимо паломников. Как говорили, гомосексуалистами в Ватопеде были тогда все без исключения. Эти года славились общим упадком Афона, когда педерастия на горе процветала пышным цветом. Как говорил мне отец Н., который был на ту пору антипросопом – официальным представителем Свято-Пантелеимонова монастыря: педерастов было чуть ли не треть Афона.
Сам Свято-Пантелеимонов монастырь сотрясали совершенно раблезианские скандалы. Один иеромонах, будучи пьяным, однажды заявился в храм в совершенно непотребном голом виде. Он был измазан дёгтем и облеплен перьями, как об этом повествует дневник отца Давида, и он воссел на архиерейскую игуменскую стасидию и начал орать на весь храм, срывая богослужение. Дело было в Свято-Пантелеимоновом соборе. Конечно, скабрезное поведение о. Ф. это отголосок ещё той афонской анархии. Когда в 1967 году ко власти в Греции пришли так называемые «чёрные полковники», на Афон приехали суровые военные и скрутили всю братию Ватопеда и вывезли с горы. Что с ними потом стало – неизвестно. Отец Н. рассказал, что таким же образом скрутили четырех русских иеромонахов Ильинского скита. Но их выдворили не за гомосексуализм (хотя, по словам Н., и они были такими), а за зилотство. Иеромонахи принадлежали русской зарубежной церкви и в 1992 году не пустили в скит самого патриарха Алексия II, как главу «безбожной» московской патриархии. Как сказал Н., патриарх буквально побагровел от гнева и, ни слова не говоря, отошёл от дверей. После его отъезда с горы этот русский скит был передан грекам, а насельники выдворены – формально за отказ поминать на богослужениях патриарха Константинопольского Варфоломея.
Скит сразу же был ограблен греками и всё добро – старые фелони, утварь и книги – вывозилось прямо в Фанар. Как гласит афонская традиция, после этой сдачи скита самолёт с патриархом Алексием якобы не мог приземлиться в Москве – не выпускалось шасси и самолёт три раза облетел столицу, пока шасси наконец не выпустилось. После вычищения Ватопеда от нечисти «чёрные полковники» поставили Протату задачу реабилитировать монастырь, и его начали превращать в афонскую витрину. Духовником ватопедской братии стал монах Иосиф Афонский из знаменитой школы Иосифа Исихаста. Греки довели дело до ума, и сейчас это на самом деле очень хороший монастырь, где паломник может ощутить всё великолепие византийского богослужения – превосходный хор, строгий византийский устав и высокий уровень образованности монахов Ватопеда делают его чуть ли не лучшим монастырём православного мира. Разумеется, сейчас там никакой педерастии нет. Но совсем этого не избежать и, впрочем, так здесь было всегда – Порфирий Успенский даже писал в своей работе о святой горе, что старцы с послушниками образовывали что-то типа семей, где молодой послушник вкладывался своей юностью и живостью, а старец опекал послушника, постригал и впоследствии передавал ему свою келью в пользование. Сюда же владыка приписал афонский метод беспрекословного послушания, когда что бы ни делал с тобой старец и как бы ни искушал, послушник обязан всё безропотно переносить и выполнять. Конечно, педерастия никогда не афишировалась, но легко скрывалась за учением о беспрекословном послушании. Отсюда идет мнение греков, что в келью лучше идти после того, как провёл годы монастырского искуса среди братии. Кельи – это монастырская анархия, где может произойти что угодно.
Один сербский зилот Г., ходящий по горе в поисках пропитания, всегда спрашивал у знающих людей, если хотел переночевать в той или иной келье, нет ли там педерастов, поскольку пару раз он нарывался на откровенных гомосексуалистов на кельях, где куда удобнее предаваться разврату, чем в монастырях, где с этим безусловно строже. А на кельях и бухают безбожно, и мясо едят, ну и сексуальная жизнь там поактивнее, чем в монастырях.
Люди, сталкивающиеся с откровенной педерастией со стороны монахов и священнослужителей, ведут себя по-разному. К примеру, подвизался в Курской епархии архимандрит И., которого почитали за старца. И. приехал с Афона, где прожил много лет. Иногда, принимая паломников, этот старец хватал их за член или просто водил рукой в том месте. Паломники при таких действиях старца находились в странном замешательстве, ведь перед ними был почитаемый старец, а не какой-то проклятый мужеложец. Некоторые плевались и уходили из монастыря в гневе, другие говорили, что старец таким образом лечил их от мужских болезней. Отдельные духовно одарённые образно описывали, как у них были проблемы с простатой, решившиеся после поглаживаний старца. Вплоть до того, что у них после приёма старца резко закололо и пошла чёрная моча, а потом все недуги разом прошли. То есть каковы бы ни были намерения И., на самом деле верящие в старца рационализировали странные его действия как целительство и действительно получали помощь. Хотя тот же отец Н., хорошо знающий И., преспокойно делится на Афоне с любым паломником своими воспоминаниями, в которых И. предстаёт другом того самого отца Ф. (благостного старца с бутылкой узо, шарящегося по архондарику) и злостным педерастом. Мол, однажды Н. приехал по делам в Салоники, где в монастырском конаке стал свидетелем страшной картины – И. с Ф. естествовали одного грека, который при этом громко орал, то ли от страсти, то ли от боли. В дневниках отца Давида тоже сказано, что у И. была интрижка с полицейским в Карьесе. В общем, был ли И. гомосексуалистом, мне доподлинно неизвестно, оставляю это на совести Н. и почившего отца Давида, который в одно время крепко держал весь монастырь за одно место. Однако факты остаются фактами – за член И. действительно паломников трогал и неоднократно. Но никто из почитателей старца с этим не согласится, какие бы доказательства им ни приводили. Потому что почитатели убеждены в святости своего кумира, за которого готовы побить, а то и убить. Я, например, знаю случай, когда иеромонах Г. с Кавказа при простом упоминании того факта, что И. трогал паломников за член, буквально приходил в бешенство и готов был растерзать за такие слова, хотя ему говорили только то, что все и так знали, без прямых обвинений старца в педерастии.
Сказать, какое количество в процентном соотношении в монастырях подобных «борцов» с блудной страстью, трудно, потому что об этом стараются не говорить.
С сексом идейных вроде бы всё, теперь пора рассказать о сексе карьеристов. Да, кроме идейных в монастыри часто идут карьеристы, считая, что чёрное духовенство приблизит их к желанной цели – епископству или игуменству. Такие карьеристы пришли к монашеству ради земного, а не небесного, отчего они не находят внутренних сил сопротивляться похотям плоти, как это могут делать идейные. Или же просто не хотят. Каждый становящийся священником в той или иной степени карьерист. Ему нужно придерживаться корпоративной этики. Даже если известно, что твой правящий архиерей допускает для себя однополые шалости, нельзя попытаться воспрепятствовать этому и остаться в епархии. Любой вынос сора из избы – это нарушение корпоративной этики. Разумеется, принявший правила игры священник начинает меняться и в остальном. Как пишет один анонимный священник – если подследственный признал вину, то цель следователя достигнута. Если чиновник допустил какой-нибудь «косяк», то он должен немедленно спихнуть его на подчинённого, чтобы самому не отвечать. А если признаешь – ты здесь больше не работаешь. То же самое относится и к работникам епархии и приближенным к телу епископа священникам. Никто и никогда не будет каяться в своих проступках (это для «лохов» и «терпил»). Настоящий русский никогда не кается.
Я хорошо знал митрополита Онуфрия, который сейчас возглавляет украинскую церковь московского патриархата ещё в бытность его правящим архиереем в Черновцах. Про самого епископа не могу сказать что-нибудь плохое, он искренне держится православного стиля и ему действительно нравятся молитвы и монашеская жизнь. Онуфрий часто приезжал на Афон и проводил весь свой отпуск вместе с братией монастыря в молитвенных трудах и службах. Но при нём в Черновцах был секретарём епархии (важная должность, по сути вторая после самого владыки) отец М., про которого далеко шла молва как о гомосексуалисте. Мне рассказывал один из духовных чад М., как его самого и ещё одного подростка М. с его другом иеромонахом катали на машине в воскресенье после праздничной трапезы, где рекой лилось вино. Отцы прилично поддали и начали приставать к подросткам. Они остановили машину вдали от города в тихом месте, и М. языком слюнявил ему четырнадцатилетнему ушную раковину.
Дальше предварительных ласк тогда не зашло, но возле М. всегда находились молодые алтарники, многие из которых сделали потом неплохую карьеру в монашестве, причем никто не может сказать, что они являются блудниками, хотя кто знает – может быть, М. их так воспитал, что они успешно скрывают свою половую жизнь и поэтому являются чрезвычайно ценными кадрами. Некоторые из них являются келейниками знаменитых духовников с безупречной репутацией. Сам М. стал впоследствии епископом и сделал блестящую карьеру, и это при том самом Онуфрии – действительно неплохом епископе, который не является сребролюбцем и блудником. Исповедовал ли М. свои блудные деяния тому же Онуфрию? Думаю, вряд ли, хотя о его забавах знал каждый второй. Поскольку исповедь включает в себя покаяние, то есть решительное намерение уйти от греха – М. имело смысл каяться только в случае нежелания больше блудить. А если М. этот грех любит, да и грехом, в общем-то, и не считает, то и каяться незачем. Расслабься и получай удовольствие, делая карьеру в церкви.
В случае возникновения сексуальных желаний такие карьеристы часто заключают определённого рода союзы и даже однополые браки. Иногда они сожительствуют и с женщинами (в советское время это больше приветствовалось со стороны КГБ), но женщина опасна и непредсказуема – огорчившись, она способна уничтожить репутацию. Поэтому однополые отношения среди карьеристов и в чести. При наличии подозрений понять, происходит ли это на самом деле, трудно, поскольку карьеристы дорожат своей репутацией и стараются тщательно скрывать свои отношения. Но эта «тайная ложа» внутри монашества несомненно существует, и гей-радио передаёт интересующемуся, где именно, в каком городе или монастыре находится юношелюбивый владыка или игумен. В этой среде ценятся неглупые, молчаливые, молодые, преданные и неманерные геи. Опять же, это определённые гей-островки в церкви и нельзя сказать, что это явление поддерживается всеми и повсеместно распространено. Но, безусловно, это крепко спаянное сообщество с социальными лифтами и своими правилами игры существует и играет в церкви вторую, если не первую скрипку.
Геи-карьеристы в церкви весьма могущественны и мстительны, поэтому всякая борьба против педерастов в рясах опасна для любого, кто желает стать епископом. Вы не найдёте ни одного епископа, который обвинял другого в гомосексуализме. Епископ – это и есть церковь. В своей епархии ему не имеет права приказать даже патриарх. Обычно гей-карьера в церкви настигает какого-нибудь простого и неглупого парня, приглянувшегося епископу. Владыка ставит его иподьяконом и склоняет к гомосексуальным отношениям. Взамен иногда продвигает по карьерной лестнице благодаря своим связям, опекая его, как сына. Карьерист не верит, что после смерти кого-то на страшном суде будут судить за гомосексуализм, в глубине души он и Христа с учениками считает добрым гей-братством. Гомоиерарх обычно верен церкви – в ней вся его жизнь. Поэтому это крепкие функционеры и ценные кадры. Эта тайная ложа в церкви достаточно изучена, и можно с большой долей уверенности утверждать, что практикующих геев среди епископов около тридцати процентов.
Я лично епископов всегда сторонился. Как говаривал мне один духовник – дальше от царя, крепче голова. Но, путешествуя по монастырям, навидался я и наслушался всякого. В каждом монастыре свой устав, от тяжёлого, строгого и афонского до мягкого и либерального, где на сексуальные игрища закрывали глаза. Как-то я подвизался в одном из монастырей Курской епархии, и там порой дело доходило до абсурда. Иеромонахи с послушниками знакомились с местными девицами довольно лёгкого поведения, и они гостили в монастыре, живя и развлекаясь в предназначенной для архиерея келье, если он захочет посетить монастырь и послужить там. Однажды архиерей проезжал мимо и решил заехать в монастырь для того, чтобы просто сходить в туалет. Тому я сам был свидетель – владыка зашёл в свою келью, задрал голову и бесстрастно посмотрел на сушащиеся трусики и бюстгальтеры в своей келье, а потом просто повернул обратно, даже не справляя нужду, сел в машину и уехал, никому не говоря ни слова. Никаких прещений после не последовало.
А что он мог сделать? Выгнать? Этот епископ был славен тем, что рукоположил самого молодого в России иеромонаха С., которому было на момент рукоположения восемнадцать лет. Таких молодых в епархии было несколько, и все они терзались сомнениями относительно выбранного ими пути. Не знаю, чем они сами руководствовались, принимая сан и постриг, быть может, желанием безбедной и беззаботной поповской жизни, но епископ знал их только месяц до рукоположения. Нужно было собирать монастыри, а кадров не было. Потом как-то в Курске к этому молодому иеромонаху С. подошла девица и обвинила его, что он не может заниматься любовью, поэтому и живёт в монастыре. С. аж покраснел от гнева. – Пошли! Я тебе покажу, что я умею, а что нет. – Девица сразу же сделала вид, что не понимает, о чём речь, что неудачно пошутила. Но С. уже не шутил и чуть ли не поволок её в темный уголок. Понятно, что для таких молодых и голодных гетеросексуалов, что постриглись и приняли сан под воздействием порыва, монашество превратилось в добровольную тюрьму. Единственное, чем можно удержать таких «аэромонахов» в монастырях – это праздное и расслабленное существование. Некоторые из них уходят иногда к женщинам, потом возвращаются, и их принимают с распростёртыми руками обратно как блудных сыновей. Один мой земляк с Севера принял монашество в той же Курской епархии только потому, что был без определённого места жительства, работать особенно не хотел, но и на улице опускаться с маргиналами тоже. Вот он и бродил от монастыря к монастырю в поисках места, где «прорежет». Его постригли в Курско-Коренной пустыни и даже сделали иеромонахом. Но когда одна молодуха соблазнила его, он с радостью снял свою епитрахиль и подселился к ней в деревенский дом. Как говорят в монастырях, «подженился». Сейчас я его судьбу не знаю, может быть, покаялся и вернулся и даже служит где-нибудь.
То есть что я хочу всем этим сказать – сексуальность, безусловно, никуда из монастырей не девается, хотя подавляется и репрессируется, принимая порой довольно необычные и вычурные формы.
В одном из скитов довелось мне встретить пару иеромонахов, о которых ходили стойкие слухи как о любовниках или даже как об однополой семье. Они спокойно служили, правда, перед каждой литургией исповедовали друг друга, чтобы хотя бы формально отпустить себе грех однополой любви. Нельзя сказать, представляли они собой идейный тип или же карьеристов. Скорее всего, это был гибрид идейности и преданности однажды выбранной профессии. Возможно, любовники влеклись друг ко другу вопреки здравому смыслу и у них недоставало воли отказаться от постельных утех. Но они не хотели закоснеть в этом грехе и надеялись со временем от него отказаться. Исповедовать чужим или же духовникам они грех этот не хотели просто из-за страха наказания, что их разлучат или, не дай бог, отправят в запрет, а скиток, где они служили сейчас, был весьма приличный и богатый.
То есть, резюмируя, скажу, что сексуальная жизнь в монастырях заморожена правилами, но тем не менее существует. Единственное непростительное деяние для монашествующего – если он, будучи постриженным монахом, не просто падёт с женщиной в блуд (это-то пожалуйста – блуди и кайся. Как один иеросхимонах мне сказал – пасть можно), но уйдёт из монастыря и женится. Монах даёт перед Богом в алтаре обеты, в числе которых есть и обет целомудрия. Если монах нарушает его, но борется, он воин Христов. Но если просто оставляет монашество и нарушает обеты ради женщины, к нему отношение плохое. Да и женившись, по слухам, такие люди не очень счастливы, терзаемые пониманием, что они были идейными, но оступились. Хотя есть перед глазами и примеры хороших семей, но такие расстриги обычно полностью расцерковляются и живут полной жизнью, становясь убеждёнными атеистами и антиклерикалами.
Об ушедших в мир и женившихся монахах тоже имею что написать. Сам я, например, тоже женился, хотя и не принимал монашеские обеты. На Афоне я официально считался трудником с правом ношения подрясника, был в братии, но стричь пока меня никто не собирался. Но есть те, кто уходили в мир, будучи иеромонахами и даже архимандритами, как небезызвестный Феоктист из Звенигородского монастыря. В этом, кстати, и кроется странная терпимость церковников к голубым епископам. Пусть они и глиномесы, зато верны церкви (в ней вся их жизнь) и никакая баба их под венец не уведёт. Епископ – это основа церкви, и туда кого попало не допустят. Если и грешат, то главное, чтобы об этом поменьше народа знали. Если грешишь сладко, но тихо – никто тебе и слова плохого не скажет. Вот вы знаете хоть одного епископа, что взял и ушёл в мир? Нет. И я не знаю. А иеромонахов полно даже на моей памяти. И монахов. На Афоне жил один монах в Великой Лавре. Подвизался знатно, его послушанием было ухаживать за больными старчиками, а это малоприятное занятие. Мало того, что они ссутся и срутся, старчики часто хворают умом, поскольку занятия молитвой и непрестанная мысленная брань изнашивают ум. Они и ударить могут, и плюнуть как в беса. Так тот монах три года с ними провозился, перед тем как игумен, наконец, отпустил его в келью Двенадцати апостолов на Керасях. Постригся тот монах в схиму, наладил рукоделие, да не абы какое, а станки для гравировки заказал из Афин. Всё было ровно, да вот любил он в подзорную трубу смотреть на мимо проплывающие корабли. Затем его мать заболела раком, и он уехал к ней. Назад уже не вернулся. Женился. И это в пятьдесят три года. Таких историй на моей памяти много. Люди проходят монашество как определённый этап в своей жизни, зацепляются, постригаются, рукополагаются, но затем отпускают этот сложный закутанный в чёрное и пропахший ладаном мир. И бегут от него в радость семейных уз, отцовства или материнства. Таких на самом деле очень много, просто никто не ведёт строгую статистику. Уходят даже известные священники и духовники, обладающие немалой властью в монашестве.
Знаю случай из жизни известного духовника Василия Швеца – митрофорного протоиерея в целибате. Этот Швец известен тем, что начал составлять мифологию православного сталиниста. Его я знал достаточно хорошо. Рядом с отцом Василием в последнее время жили две женщины, одна из которых продала свою квартиру в Москве, чтобы помогать строить ему храм в Каменном конце – селе в Псковской области, и один иеромонах, помогавший ему в службах. Я уже говорил, что подвижники в старости обычно превращаются в груду развалин, а отец Василий при всём его богатырском здоровье был страшным подвижником. И вот после девяноста лет стали его посещать голоса, и овладела им забористая паранойя. Старик стал бояться, что эти женщины на пару с иеромонахом хотят его убить. Отец Василий звонил в полицию и постоянно жаловался, что его хотят убить, заколдовать и т. д. В итоге (точно не знаю, до или после смерти старца) одна из женщин стала открыто сожительствовать с иеромонахом, и они уехали обратно в Москву. Да, квартиры, куда можно вернуться, у них уже не было и десять лет прошли в подвижническом угаре. Зато сейчас есть что вспомнить. Благодать! Рядом с великим старцем жили все эти годы.
О женских монастырях я знаю гораздо меньше, хотя однажды полгода жил в таком монастыре паломником, охранял его и помогал сестрам в тяжелой работе. Не могу сказать, что на меня там пытались напрыгнуть и поиметь или как-нибудь домогались. Сестры это достаточно своеобразные, часто очень больные женщины. Конечно, и в женских монастырях всякое бывает. Например, ушла и вышла замуж благочинная Свято-Елисаветинского монастыря в Минске. Как говорят, сразу же после ухода она купила в Минске трехкомнатную квартиру. Насчёт лесбийского секса не знаю, врать не буду. Наверняка что-то подобное есть, но поскольку церковь – патриархальная структура, на виду только грехи отцов.
Была у меня знакомая схимонахиня из Дивеево мать Серафима – несчастная и очень сложная женщина, которая прожила всю жизнь в старой покосившейся избушке в самом Дивеево. Постриг она приняла ещё в двадцать пять лет, но ни дня не жила в монастыре. У неё был знакомый местный житель по имени Сергей, который под конец потерял ум, после того как его дом сгорел. Сергей каждый день приходил к матушке с отсутствующим взглядом, и она его кормила. Уверяют, что он был для матушки как гражданский муж в молодые её годы. Она вела себя по отношению к нему уважительно и называла только по имени-отчеству. Не знаю, может быть, это и так. Она его тайно постригла в конце жизни, пригласив знакомого иеромонаха для совершения пострига, с именем Серафим. Он был доволен в тот момент, на глазах его я видел трогательные слёзы. Через полгода после пострига его жестоко убили в Дивеево – забили молотком насмерть непонятно из-за чего. Никто его почти не знал как монаха. Кто он перед Богом, что он? – только сам создатель весть.
Чревоугодие
У каждого из монашествующих есть своя господствующая страсть. Если говорить о себе лично, то такой страстью у меня было чревоугодие. Это вовсе не значит, что я обжирался сладостями или набивал своё брюхо кашей – этого как раз за мной не водилось. Но пьянство расценивается с точки зрения православной традиции как чревоугодие, а я бухал, с отроческих лет преуспевая в поглощении крепкого и слабого алкоголя и особенно в алкогольных подвигах. Хотя продвинутые монахи-экзорцисты считают, что пьянство, как и наркомания – это вид одержимости и беснования, пьянство в свете святоотеческой идеологии есть чревоугодие, и точка. И тут мне много чего есть сказать.
Поэтому описывать по теме чревоугодия слащавых и инфантильных бородатых старичков с Афона, тоннами пожирающих торты и пирожные на ке́размах, мне как-то не с руки, когда есть столь очевидное зло, как химическая зависимость. Скажу только, что хорошо покушать монахи любят, хотя и почитают постников. Отношение к постникам примерно как к отличникам в школе. Это «терпилы» – освященные подвигами люди, без которых всё религиозное здание рушится. Но основная масса монашествующих – обычные троечники, которым ничего человеческое не чуждо, но которые очень любят предстать перед внешними эдакими духоносными отцами и владеющими некими православными тайнами духовидцами, отчего поддерживают и копируют стиль поведения отличников в подрясниках, впрочем, упражняясь при этом в злословии в отношении этих монастырских отличников. Постники ведь сами по себе – суховатые и неинтересные люди, да ещё и с каким-то высоким мнением о себе, скрываемым за нарочитым дурашливым смирением. Если с блудом монахи подпадают под обет целомудрия, то обета «не есть» никто не даёт, а само постничество оставляет широкий простор для трактовок. Как говорится в одной монастырской байке, однажды монах пришёл к своему духовнику, исповедуя ему у аналоя грех мясоедения, совершённый Великим постом (монахи и иноки мяса не едят, только архиереям можно курицу, отчего её называют «архиерейской птицей»). Но мудрый духовник отвечал кающемуся так: ты мясо-то ешь, главное в пост людей не есть. То есть постничество у современных подвижников не считается основой нравственности. Конечно, в каждом монастыре свой устав, но в целом у монашествующих из-за лишения других человеческих радостей своего рода культ еды – «утешение», как любят говорить за монастырскими стенами. В целом отношение к еде в монашестве более чем терпимое, за исключением некоторых подвижнических островков.
Афонский устав строг и суров, но даже здесь насельники некоторых монастырей легко его обходят. Например, в монастыре Филофей существуют так называемые «ке́размы» – дословно «угощения», во время которых монахи обжираются тортами, пирожными и другими сладостями. Часть кондитерских изделий им пекут сёстры из женского монастыря на острове близ Афона (этот монастырь считается у греков очень престижным и запись в насельницы идёт чуть ли не с рождения девочки в благочестивой семье). Сколько игумен Филофея ни пытался отменить эти обжираловки, успехом это не увенчалось – монахи сразу начинают фрондировать и обвинять власти в «отсутствии любви», как будто нарушаются их главные права. Эти ке́размы перечёркивают весь постный устав, его суть, но юридически по уставу не являются нарушением, хотя гликемический индекс многих филофейских монахов говорит уже как минимум о преддиабетном состоянии. Вообще диабет весьма распространён как среди монашествующих, так и среди обычного белого духовенства. Обычная рационализация защитников православия, когда внешний начинает злословить, что все попы как будто под копирку – обрюзгшие и пузатые, такая: у батюшки диабет, батюшка просто болен. Мол, у батюшек очень часты расстройства, связанные с обменом веществ, в том числе и диабет. Многие монашествующие имеют или диабет, или проблемы с пищеварением, и часто рассуждают об этом, как о «милости Божьей», поскольку иначе не нашлось бы внутренних сил совладать с чревоугодием. Так или иначе диабет и другие болезни, связанные с пищеварением, часто появляются от невоздержанного стиля питания и пристрастия к сладкому, которое дозволено и в самый суровый пост.
Ещё один интересный момент и феномен исключительно российского монашества, когда хорошая еда становится признаком принадлежности к братству, оставляя второсортную пищу для паломников и разных трудников. Такой устав я встречал во многих российских монастырях, в том числе и в знаменитой Оптиной пустыни. Братия трапезничает отдельно от гостей и небратии в специальной расписанной иконами трапезной. Еда очень хорошая, всегда (когда позволяет устав) есть молочко, масло и рыба, а также винцо на праздники. Трудники и паломники столуются куда хуже под присмотром суровых мужиков в халатах, кушая постный суп и какой-нибудь салат с кашей. В монастыре Курской епархии, где я тоже жил довольно продолжительное время, трапезная для всех была одна, но были разными столы. Стол монахов и духовенства стоял перпендикулярно столам паломников и трудников, а различие яств было куда более очевидным, чем даже в Оптиной. На столах трудников и паломников круглый год была гречка и квашеная капуста. Круглый год! Кухня монахов же была достаточно изысканной и разнообразной, приготовленной с любовью. По благословению старца И. монашеской едой подъедались и некоторые послушники, только не за столом отцов, а на самой кухне в свободное от послушаний время.
Такие «избранные» послушники за стол монашеский ещё не садились, но и с трудниками не столовались. В каждом монастыре, конечно, свой устав, но такое разделение в пище – специфическая черта русского монашества. Я путешествовал по Румынии, Молдавии, Болгарии и Сербии, жил в Греции, и нигде на Балканах я не встречал такой пищевой дифференциации в зависимости от статуса подвизающегося. Ведь если вдуматься, по монашеским меркам это просто неприлично и стыдно, но привыкшего к разнообразному чинопочитанию русского человека это не удивляет. Даже на Украине я не встречал таких монастырей. Но в России, как в Индии, в тюрьмах и монастырях, люди делятся «по мастям». В жизни, как мне видится, то же самое, только более завуалированно. Недаром есть понимание чиновничьей должности как «кормушки». Полагаю, все вы понимаете, что хорошая еда в монастыре – это дополнительный аттракцион для желающих праздно проводить своё время, играя роль подвижника. От этого и разделение. Хочешь хорошо кушать? – Стремись в братию и оказывай лояльность отцам. Свобода дороже – питайся с внешними. Прямо слепок с российской действительности.
Но вернёмся к любимому мной некогда пьянству. Тема на самом деле очень серьёзная – в монастыри, как в реабилитационные центры, на послушания отправляется большое количество химически зависимых людей. Многие из них, пообтесавшись, впоследствии принимают постриг, а то и сан. Я уже говорил, что зависимые, если не оставляют своего поприща, считаются подвижниками и духовными борцами. Но такая «духовная» борьба с пьянством на поверку является русской рулеткой, поскольку борьба предусматривает победы и поражения, то есть запои и длительные периоды трезвения, после чего подвижник вновь наступает на пробку и следует горькое падение в яму алкогольной интоксикации. Алкоголизм очень напоминает подвижничество – смирение от падения, раздвоенность сознания, когда и хочется и колется, преодоление жесточайших похмельных депрессий и сосредоточение на процессе контроля своего влечения к алкоголю. Это задаёт жизни алкоголика определённый драйв, как подвижничество задаёт драйв жизни монаха, но сама жизнь со своими подарками проносится мимо, пока алкаш самовлюблённо пребывает в своей борьбе, с трясущимися руками и сверхценными идеями добирая мистического опыта в делирии.
Духовная борьба с зелёным змием часто продолжается до самой смерти, которая обычно приходит куда раньше положенного срока. С наркоманами в монастыре легче, поскольку на послушании нарк лишается порочного круга знакомств и просто не знает, где в окрестностях монастыря найти наркотик. Конечно, настоящая свинья грязь всегда найдёт, но обычно на период послушания наркоман держится, срываясь уже по приезде в свой город. Родственники после срыва опять отправляют его в монастырь. Многие таким образом постепенно отходят от наркотиков и становятся трезвенниками, заменяя свой прежний порочный образ жизни жизнью воздержанной и церковной. Знаю лично не одного такого парня, сменившего шприц на чётки. Конечно, их жизнь идёт с момента обращения под чутким руководством духовника и окрашена в религиозные цвета, но это всё-таки лучше, чем прокалывать последние штаны, воровать и отправляться на длительную «реабилитацию» в тюрьму. Правда, когда наркоманов в монастыре много и сам монастырь либерален в уставе, они объединяются, начиная кучковаться и «мутить» – красть монастырское добро, скот и продавать, находя на вырученные деньги какой-нибудь яд для души и упарываясь в хлам, иногда «отъезжая» в своей келье в мир иной, чему я лично пару раз был свидетелем.
Но с алкоголиками в монастырях гораздо труднее, поскольку этот жидкий наркотик доступен и на краю света, даже в самом отдалённом захолустье, куда можно сбежать от суеты житейской на скит, есть спиртное. Причём дешёвое спиртное – самогон или какой-нибудь аптечный боярышник. Алкоголик – это довольно узнаваемый и даже привычный для российской действительности типаж, и в этой привычности скрыта большая трагедия. В каждом монастыре обычно обретаются не один и не два страждущих пиянственной страстью, есть с кем скооперироваться и напиться. К тому же православное христианство – алкогольная культура. «И вино веселит сердце человека» – сказано в писании. Держаться при желании можно до какого-нибудь двунадесятого праздника. Но когда на стол ставят кагор и начинают пить для душевного веселия с молитвами и праздничными песнопениями, рука алкаша весело тянется за благословлённой самим Богом рюмкой. Для человека, не страдающего алкоголизмом, это не представляет никакой опасности, но для алкоголика хряпнуть на праздничной трапезе кагорчика это как закурить на бензоколонке. Может, пронесёт, а может, и нет. Но кто тебе об этом напомнит в момент праздника? В церкви же учат, что алкоголизм – злая страсть и бесовское наваждение, а само вино – чуть ли не кровь Христова. Как может бес искусить, когда батюшка старец благословил трапезу широким крестом вместе с разложенными яствами и винишком? Тем более что перед этим ты причастился пречистых тела и крови Господних, и в их божественный состав входит вино. Всё располагает к духовности, и ты не плошай – выпей, да не пьяней, сохраняй здравый смысл. Владей собой, вооружившись молитвой и таинствами. Благодать должна помогать – так мыслит монашествующий с проблемами по части алкоголя, в очередной раз обманывая сам себя. К тому же он поговел, причастился, сил духовных поднабрался и вот на этот раз-то точно победит злую пианственную страсть.
Заканчивается такая праздничная трапеза обычно через неделю дикой трясучкой, глумной головой и покаянной болью сердца, когда желудок отказывается принимать в себя алкоголь и извергает его с болью и желчью. Самого оступившегося брата в эти адские минуты ругают, хулят, а то и бьют, ведь монашествующий горазд творить в эти дни, как любят шутить подвижники, великие «чудотворения». Сколько я таких «чудотворцев» навидался на своем монашеском пути, не перечесть. Да и сам, бывало, чудил не по-детски. В итоге обычно протрезвевшего монашествующего оставляют в монастыре, если он пострижен здесь и если нужен для послушания.
В иных случаях, разумеется, с позором выгоняют. То есть приехал алкоголик в монастырь лечиться, выпил по благословению винишка на трапезе, набедокурил с три короба и с позором был выгнан, как охальник и нечестивец.
Видал я много таких – особенно в одном монастыре Курской епархии, где я провёл в общей сложности года два. Выгоняют ненужных с большим позором. Один пожилой уже мужик обретался в монастыре и однажды получил пенсию по инвалидности и так на неё нарезался, что обгадился в келье по большому. Его даже выгонять не стали – взяли вчетвером вместе с матрасом и выбросили на помойку вместе с вещами. Была поздняя осень, и уже подморозило инеем землю. Тот, бедный, лежит в вонючей помойке в грязных коробках, яичной скорлупе и мокрой помоечной картофельной шелухе с полными штанами экскрементов, трясётся от будуна и холода, а все проходящие плюются с отвращением. Зябко, тошно, да и физически даже ступить не может… Некоторые из таких болящих во время очередного запоя умирали прямо в монастыре. Был ещё один случай в этом же монастыре, когда трудники заметили зимой лежащего на снегу в хлам пьяного замерзающего мужика. Его занесли в келью, которая называлась «вокзал» и где обретался прибившийся к монастырю криминальный сброд. Там стояли сколоченные в два этажа нары и жили люди с тюремным опытом. Они постоянно курили и варили чифир. Благочинный использовал вокзальных для самых грязных работ (не белоручек же, поющих на клиросе, посылать телячье говно месить), но сам в их внутреннюю жизнь не вмешивался, хотя участковый на «вокзале» был частым гостем. Увидев принесённого мужика, с «пальмы» спрыгнул смотрящий кельи и налил замёрзшему бортовой стакан самогону для сугреву. Тот выпил, естественно, но не разобрался в ситуации и саданул смотрящему кельи в рог. Тот не понёс оскорбления, схватил пику и ударил вокзальному гостю в бочину. Пока ехала скорая, замёрзший истёк кровью и умер. После этого нары на «вокзале» наконец сломали.
Я же говорю – пить вообще, а в монастырях особенно – русская рулетка. Алкоголик в монастыре находится в страшной ловушке, сам себя загоняя психологически как страшного грешника, хотя по сути он просто болен, но специфика его болезни такова, что страдают от неё и невинные окружающие. Хотя некоторые из этих окружающих, как ни странно, чувствуют себя даже комфортно, ведь смотри-ка – рядом есть куда худшие, чем они, подвижники, благодаря чему отсутствие проблем с алкоголем из нормы превращается в большой плюс. В том числе и для карьеры – если ты не пьёшь и не блудишь и справен на послушаниях, будь даже ты не семи пядей во лбу, если захочешь, можешь стать священником.
Однажды я, как настоящий подвижник, сам взял себе правило не пить один год. Это был обет, принятый перед крестом, Евангелием и священником. Было это как раз после убийства на «вокзале». И я честно этот год не пил, думая, что уже окреп духом против пианственной страсти. Ко дню окончания обета ветер странствий занёс меня в Черногорию. Это вообще отдельная история, как я из монастыря в Курской епархии пешком и на попутках добрался до Черногории. Пожалуй, сделаю ради этого небольшое отступление.
Это было золотое время моего подвижничества, на четвёртый год после обращения, когда я показывал по всем статьям серьёзный подход. Я протрезвел и успешно шёл к постригу и принятию сана, ежедневно служа на клиросе утром и вечером. Жизнь моя без алкоголя постепенно устаканивалась. Но однажды в иподьяконской келье, где я тогда жил, – начал читать Иисусову молитву перед сном, уже лёжа в своей кровати с закрытыми глазами. От молитвы внутренность моя засияла каким-то изумрудным светом, даже чуть бирюзовым, и я поменялся с целым миром местами. Я, моё сознание, очутилось снаружи, а весь мир уместился в моей душе. Не знаю, что это было – оптическая иллюзия (что-то похожее, когда переворачиваешь окуляр микроскопа) или мистическое переживание. Я никогда не придавал этому особого значения по золотому правилу аскетики отцов – «ничего не принимай и ничего не отвергай». Но факт остаётся фактом – через пару дней я почувствовал непреодолимое желание отправиться в странствие.
По первоначальному плану я хотел проехаться только до Украины – в Глинскую пустынь – и вернуться обратно. Благочинный признал моё право на отпуск и благословил, тем более, что денег я не просил и шёл абсолютно пустой. Шёл я в подряснике большую часть времени пешком, иногда останавливал машину, когда уставал. С собой были только какие-то самые простые вещи и небольшой рюкзак. И знаете, я быстро вошёл во вкус – каждый день находились какие-то новые приключения и маленькие чудеса, доказывающие воочию, что вселенная и Бог заботятся о тебе. Об этом путешествии можно написать целую книгу, но сейчас не буду уклоняться от темы. Путешествие моё затянулось – сначала я пересёк государственную границу Украины, затем после двухнедельного похода по святым местам ныне небратской страны пересёк границу с Румынией (у меня был заграничный паспорт, чего на тот период было достаточно). Меня так «вставило» это путешествие, что я захотел дойти до самого Афона. В Бухаресте я даже хотел ночью переплыть Дунай в нарушение миграционного законодательства – до такой степени меня это всё воодушевило. Но, слава богу, увидел из окна трамвая витиеватый и закрученный стиль русского зодчества – церковь. Выйдя из трамвая, я подошёл к этой русской церкви и обнаружил, что она принадлежит болгарскому патриархату. Это было подворье БПЦ в Бухаресте.
Зайдя в само подворье, я обнаружил довольно современного болгарского священника отца Петра, похожего на Атоса из советского фильма (пора-пора-порадуемся на своём веку), свободно разговаривающего по-русски. Отец Пётр радушно предложил мне выпить красного или белого вина (я отказался как выполняющий обет), выпил чашечку кофе, а затем открыл ему намерение переплыть Дунай, отчего отец Пётр пришёл в настоящий ужас. Он отправил меня в сербское консульство (тогда у них было союзное государство Сербии и Черногории) и дал мне около ста румынских леев, преподав наставление – «не вздумай осуществлять своё намерение по переплытию Дуная, тебя застрелят или катер убьёт; иди к сербам, там тебе помогут». И действительно, в нарушение консульских правил (визу можно получить только в собственной стране) в консульстве после определённых проблем сделали мне визу Сербии и Черногории, которую я оплатил леями отца Петра. Так я получил вход в Сербию и только за то, что я разговаривал на том языке, на котором беседовал Ленин – к русским у сербов какой-то иногда не совсем здоровый пиетет, от которого, кстати, некоторые сербы очень даже хотят избавиться…
Сербия приняла меня очень хорошо и гостеприимно. Сначала довезла попутка до Белграда, а в Белграде мне студенты богословского института сделали целую экскурсию. Затем меня отвезли на подворье Афонского Хилендарского монастыря «Сланцы», где похоронен тот самый чудаковатый старец Стефан с Карули (гора Афон), чью келью держит сейчас не менее чудаковатый и скандально известный в интернете русский монах Афанасий Карульский. Когда я вошёл в храм, как раз шла всенощная Троицы и пели знаменитую стихиру шестого гласа на стиховне великой вечерни Пятидесятницы – «Царю Небесный», которая не поётся с литургии Великой Субботы до самой Пятидесятницы. Храм был по обычаю украшен зелёной травой, из которой сербы наплели множество небольших венков. Тогда я и вспомнил тот зелёный цвет в иподьяконской келье монастыря в Курской епархии. Зелёный цвет считается цветом Святого Духа и цветом праздника Пятидесятницы (Троицы), в канун которого я и прибыл в Сербию.
Через пару дней я отправился дальше и дошёл через всю Сербию до Черногории, где поселился в Цетинье у митрополита Амфилохия, где прожил несколько месяцев.
Читатель, наверное, думает – а при чём же здесь пьянство? Я не потерял мысль, а как раз до этого самого треклятого пьянства дошёл. В Черногории меня застало окончание обета, которое я тут же решил отметить. Стояла уже осень – канун Крестовоздвижения. Я жил тогда в скиту в небольшом отдалении от самого монастыря. В Цетинье жил ещё один русский – схииеромонах Кукша из Молдавии. Мы с ним часто болтали и прикалывались над особенностями местного менталитета – всё-таки сербы совершенно другие и любовь к русским вовсе не означает, что тебя здесь будут носить на руках. Как только закончился мой обет, я взял у Кукши десять евро на пиво, чтобы отметить это дело. Год, проведённый в воздержании от алкоголя, наполнил меня уверенностью, что я контролирую ситуацию, и иллюзией того, что я наконец научился «культурному употреблению», как все нормальные люди. Разумеется, это была спичка на бензоколонке. В магазине к европейскому пиву я зачем-то купил бутылку водки – в той самой советской бутылке «из-под буратино», маркированную Волынским ликёроводочным заводом…
С утра меня будит один сербский послух, который зачитывался в монастыре Карлосом Кастанедой и даже предлагал мне поэкспериментировать с галлюциногенным индейским дурманом (Datúra innóxia), что рос неподалёку. Послух в восхищении говорит мне: «Ну ты настоящий “дьяблерос”!» Я привстал, оглянулся и оценил урон, нанесённый келье. Здесь царил полный разгром, а я сам спал, даже не раздеваясь, в ботинках на облёванных простынях. Келья досталась мне от одного музыканта вместе с колонками и музыкальным центром – музыкант управлял на клиросе и любил громко слушать хард-рок, отчего вступал в конфликты с соседями-монахами. Он жил в монастыре уже как лет семь, перед тем как впал в искушение. Месяц назад музыканта этого бес соблазнил выпить в ресторане. После культурного подпития подошёл к одной немке средних лет (она жила в келье Черногорской митрополии Цетинье в непонятном статусе и снимала православные фильмы) со скабрезным предложением. – Я хочу взять тебя как женщину, – музыкант предложил немке секс, но она, не оценив великодушного предложения, в страхе побежала жаловаться митрополиту, который сразу же музыканта и выгнал в негодовании, не дав ему даже возможности оправдаться. Келья с музыкальным центром и всеми бесами этого музыканта досталась мне. Впрочем, этот музыкальный центр, к вящей радости соседствующих монахов, был мною благополучно расколочен в хлам вместе с колонками, а CD-диски разбросаны по всему этажу, как будто «ревность по бозе сне́де мя» и я, как ветхозаветный пророк, изгонял заразу тяжёлого рока из святого места. Также было разбито окно.
Послушник, что жил рядом со мной (как сказал мне послух «кастанедовец») ходил сейчас по монастырю со свежим синяком, вызывая среди братии всеобщее сочувствие. Я же практически ничего не помнил, кроме того, как быстро поглотил свой ёрш и отрубился. Послушник с синяком рассказал потом, что я пришёл в скит затаренный пивом и водкой и быстро всё выдул один, затем, плохо держась на ногах, хотел пойти догнаться, но упал. Поэтому стал посылать его за водкой, на что тот ответил отказом: мол, тебе хватит, иди уже спи. Потом произошло то, что произошло. Я схватил какую-то бадью и расшиб окно, бадья при этом отскочила и ударила послушника по лицу, причинив ему вред. Потом я устроил погром наследства, оставшегося от музыканта, перед тем как окончательно вырубиться.
Пришлось мне после этого искушения возвращаться обратно в Россию. Нет, меня никто не выгонял, но не передать, как было стыдно в глаза людям смотреть. Хотя братья-сербы меня утешали – мы мол, сербы, уже стали мягкими (кстати, по-сербски мягкий значит «мала́ка» – да-да, то самое слово), как европейцы, а вы русские – ух! Типа если вы так сильны во зле, значит, и в добре преуспеете. У любого европейца есть глубинная генетическая память, хранящая хтонический ужас наших лесов, полей и равнин. Россия – это территория, с которой волнами шли варвары, покоряя Европу и убегая от ещё более свирепых народов. Поэтому европейцы и любят это выражение «Россия-мать». Да, она жестокая мать, но для сербов это даже выглядит плюсом, ведь якобы русские, по слову апостола Павла, «духа не угашают» и жестят, как средневековые христиане. Митрополит, чтобы утешить меня, взял с собой на службу в монастырь Острог, где я на Крестовоздвижение, болезнуя сердцем, дал Богу новый обет не пить, но уже на два года. Так я успокоился. Затем я вернулся в Россию.
Вернулся я не в монастырь Курской епархии, откуда уходил в странствие, а к отцу В., у которого начинал свой подвижнический подвиг. Отец В. в Подмосковье считается уважаемым священником и является одним из пяти духовников епархии. В миру он был врачом-психиатром и, будучи священником, занялся реабилитацией алко- и наркозависимых. У него была целая община зависимых, живущая по монашескому уставу. Когда я встретил В. в первый раз, меня так вдохновила его миссия, что я полностью прекратил употреблять безо всяких обетов, бросил работу журналиста и университет и начал помогать священнику в его святом деле помощи химически зависимым. Я ушёл к нему ещё в двадцать четыре года и помогал на клиросе и в алтаре. Потом уходил в монастырь по причинам, которые изложу чуть ниже.
Думаю, что, если бы не мои проблемы с алкоголем, я вряд ли влился бы в число подвижников. Алкоголизм и связанные с ним проблемы требовали какой-то рационализации, и церковь её предоставляла – ты одержим страстью, это твой крест, но и будущий венец, если пронесёшь его достойно. Вот тебе келья, послушание и чётки – всё, чтобы сразиться с зелёным змием и победить. Поверженное проблемами с алкоголем самолюбие восстанавливалось, и даже запои в этой парадигме внезапно обретали смысл. Никто в церкви не был заинтересован в том, чтобы я просто взял и не пил. Наоборот, эти проблемы с алкоголем были важны, как причина моего появления в храме, они были «спасительными». Бог предал тело на искушение, чтобы спаслась душа. То есть «не пить» считывается православными на уровне подсознания как «сойти с креста». Ведь если проблема пьяницы решается и человек просто не пьёт, нет и нужды во всех этих энергозатратных средневековых занятиях молитвой. Но в церкви нужны духовные борцы и надобны искушённые борьбой со страстями люди. «Не выбирай святого наставника, выбирай искусного», – как написано в патериках. А без падений и восстаний кто преуспеет в мудрости подвижнической? За одного битого двух небитых дают.
Вернулся же я к отцу В. вовсе не по своему желанию, а по его горячей просьбе (я уже несколько лет побродил в монастырях и нахватался монашеских ужимок, переняв послушнический стиль), поскольку ему нужны были люди, укреплённые в вере, чтобы помочь создать братство трезвости – отец В. свято верил, что его удачный опыт распространится на всю Россию и он станет подобен Иоанну Кронштадтскому.
Я согласился ему помочь, но не просто так, а заключив сделку – я помогаю ему на клиросе, в алтаре и с «братством трезвости», а он меня летом берёт с собой на Афон, где я хотел остаться и подвизаться. После своего странствия по Балканам я точно утвердился в своём желании попасть на Афон. Не понимая, что, собственно, из себя представляет алкоголизм, я продолжал верить в православный способ избавления от страсти, то есть контроль за своим состоянием во время употребления. Поскольку я взял два года обета воздержания от синьки в Остроге, то пока не экспериментировал с алкоголем, но в глубине души верил, что по окончании обета я внутренне изменюсь от благодати и смогу радоваться опьянению, как обычные люди, без запоев и других алкогольных эксцессов. Никто за завесой всех этих восхвалений духовной брани не объяснил мне, что из этой ямы только один выход – просто не пить. Прочувствовать свою болезнь, принять её как непреклонную данность и жить всю оставшуюся жизнь, как смертельно больной на безалкогольной диете. Ни один алкоголик никогда не восстановит контроль над употреблением, поскольку сама болезнь заключается в утере этого контроля.
Огурец можно засолить, и обычный человек может стать алкоголиком, но обратного пути нет, хоть ты тресни – как нельзя солёный огурец превратить в свежий, так и алкоголик никогда не научится контролю над употреблением. А вся эта «борьба» с пьянством сводится в конечном итоге к пьянству. Как ни странно прозвучат мои слова, но пьянство – это и есть борьба. Ни один алкоголик не катится по пути наименьшего сопротивления, уверяю вас, каждый из нас пробовал (и не один раз) бросать употреблять, но алкоголь всегда оказывался сильнее. Я бросил употреблять, как только сдался, отказался от борьбы, поднял руки и признал, что алкоголь сильнее меня, что мне с ним никогда и ни в каких случаях не совладать. После этого оплакал потерю, поскольку пить я любил больше всего на свете, и с тех пор радостно живу полной жизнью на безалкогольной диете. Не год и не два планирую провести на диете, а не пить до конца жизни.
В двух словах, что представляет из себя православный метод лечения алкоголизма как страсти. Это постоянные молитвы, постоянное напряжение, как в спортзале. Если ты срываешься и оступаешься – значит, бес нанёс тебе удар. Своего рода спарринг. Конечно, и у отца В. были свои пять процентов оставивших греховную привычку (как и везде – бабка нашепчет, протрезвятся те же пять процентов), но то, во что всё это превратилось, напоминает мне скверный водевиль. Сам отец В. излечил от пьянства одного своего бывшего пациента. Ну как излечил, просто тот сам решил бросить употреблять, а обращение в веру стало тем самым триггером. С виду отец В. очень приятный и добрый дедушка – искренний приверженец православной веры и настоящий подвижник. Отец В. убедил своего протрезвившегося пациента (его звали Виталий) начать строить монашескую общину для зависимых. Виталик был с золотыми руками и на территории храма вместе с соратниками построил огромные мастерские, в которых делал пока своими руками кресты на могилы. Но планы по развитию промысла братства были грандиозными. Причём деньги на строительство Виталик выручил от продажи своего большого дома в Домодедово. Также он построил неплохую баню для братии. Община росла, но Виталик постепенно вступал в конфликт с Мариной – старостой храма. Конфликт разрастался и закончился полной победой старосты, на чью сторону в конце концов встал настоятель. Братство трезвости (отец В. мечтал создать целое движение трезвости, которое в его мечтах распространится на всю Россию) продержалось пятнадцать лет, закончившись полным провалом.
Первый раз я ушёл от отца В. после моего первого большого разочарования в духовенстве, хотя после я ещё не один год подвизался в монастырях. Но то первое разочарование сравнимо с детским пониманием, что нет никакого доброго дедушки Мороза, хотя и отец В. со своим подчёркнутым идеализмом сильно его напоминал. Сама история разочарования такова: в нашу общину прибился как-то один парень, цыган-наркоман. Неплохой такой парень. Спортсмен. Его привёл к отцу В. тренер по рукопашному бою, чтобы спасти от героиновой зависимости. Сашос (так звали цыгана) быстро влился в общину и молитву, и казалось, что преуспевает в подвижничестве и укрепляется в трезвости. Но затем Сашос впал в искушение и спелся с другим наркоманом в общине. Они вместе начали «мутить».
Однажды кто-то украл партию золотых крестиков (Марина была из семьи генерала КГБ и, используя конторские связи, получила лицензию на торговлю золотыми изделиями), и отец В. перед всем братством на трапезе гневно обвинил в этом Сашоса. Мол, Бог тебя накажет за святотатство. Как я потом узнал, к этой краже он был совершенно непричастен и о. В. говорил чисто на эмоциях. От него – мудрого добрячка внешне – такого финта не ожидаешь, поэтому бьёт сильно. К тому же Сашос полюбил о. В. почти как отца. Это обвинение в краже со стороны священника сильно ударило по Сашосу, он как-то сразу осунулся и посерел. А на следующий день нашли его окоченевший труп на поле возле храма – передозировка. Приехала милиция, и сотрудники опросили отца В., что это за человек, на что отец В. сказал – не знаю. Что, мол, я сторож какому-то цыгану? Затем священник собрал братство, чтобы решить, «куда двигаться дальше», чтобы все сделали свои выводы и продолжили спасаться, как будто ничего страшного не произошло.
И тут мне стало не по себе. Вроде как всё правильно, никто, кроме беса, не виноват (Сашос сам сделал свой выбор, и не было смысла подставлять под удар всю общину), но отец В. позиционировал себя именно как человек, спасающий божественной милостью алкоголиков и наркоманов. Под эту миссию привлекались немалые деньги от его духовных чад. Отец В. выстроил корпус для зависимых и построил (не на храмовой земле) хороший бревенчатый дом для себя. В то же время он не нёс никакой, повторюсь – совершенно никакой ответственности за плоды своего православного целительства, но рекламировал себя, своё братство, в многочисленных газетах как истинный путь, как выход для зависимых, выдавая пафос за правду. Я тогда надел старую куртку Сашоса и в первый раз пошёл путешествовать, обвинив о. В. в том, что это братство трезвости для него самого как игрушка, как персональный дурдом для психиатра на пенсии, только, в отличие от врачей, он ни за что не отвечает. А для самих привлечённых его словами людей это не игрушки, а русская рулетка…
Затем – уже через долгих шестнадцать лет – я снова надел эту куртку, когда поехал на реабилитацию в Дом надежды на горе под Санкт-Петербургом. Там мне наконец помогли, и с тех пор я совершенно не употребляю алкоголь по милости свыше. Эта случайно найденная матерью куртка показалась мне голосом с того света – знаком от моего приятеля Сашоса в благодарность за то, что я тогда, шестнадцать лет назад, вступился за его память и обвинил отца В. в том, что он не тот, за кого себя выдаёт.
Можно, конечно, сказать, что моё бунтарство против о. В. является попыткой самооправдания и возвращения на свою блевотину, ведь я вновь вернулся к употреблению на целых долгих шестнадцать лет. Но сейчас правота тех моих слов видна как дважды два. Отец В. уже давно выгнал своего пациента Виталика, того самого, который продал свой дом, чтобы построить на храмовой земле мастерские. Мастерские (довольно серьёзный комплекс построек) принадлежат теперь храму, а в корпусе, на который отец В. во всеуслышание собирал деньги как на помощь в лечении зависимых, сейчас проживает сестричество, которым управляет та самая Марина – староста храма. А дом Виталика, что он продал для «общего дела»… А что дом? Мало ли людей продают свои квартиры и дома, чтобы обеспечить свои религиозные нужды?
В момент очарования духовностью они готовы на многие жертвы, но редко кто выдерживает такой стиль до самого конца. В особенности, если видят, как те, кто очаровывает их духовностью, в сущности, своей выгоды не теряют. Тот же отец В. построил ведь свой новый дом не на храмовой земле, чтобы в случае выхода за штат не потерять его, как Виталик – свои мастерские. Лох – это судьба. Ну а отец В., как и прежде, уважаемый духовник, и о кладбище алкоголиков, кому он так и не смог помочь, хотя и очаровывал несбыточными надеждами, никто практически не знает. Сколько их, безвестных людей, кому он красиво рисовал трезвое будущее и одурманивал благоговейными словесами?
На самом деле вымаливать помощь алкоголику акафистами и пятисотницами – это практически то же самое, как вымаливать богатство или исцеление от рака. Бывает спонтанная ремиссия, не спорю (кому-то и куш с неба падает), некоторым помогает всё это хотя бы ненадолго, но по сути все эти молитвы и посты – бесцельный труд, бенефициаром которого становится только сам храм, получающий пожертвования на «лечение больных», и священник. Больные, бывает, держатся какое-то время, перед тем как начать всё сначала, возвращаясь на свою блевотину, поскольку в православии настоящей программы исцеления просто-напросто не существует, хотя подобные отцу В. духовники пафосно распространяют другую выгодную им информацию, запутывая своей кажущейся искренностью, подвижничеством и благообразным внешним видом. И самое страшное в этой ситуации – никто не несёт за это псевдоцелительство никакой ответственности.
Сразу скажу, что своих обязательств о. В. передо мной не выполнил и с собой на Афон не взял, поскольку теперь я больше стоял на стороне интересов братства, а не на его священнической стороне, и пытался поднять братство на новый уровень. Впрочем, Марина оплатила мне часть дороги, учитывая, что я круглыми сутками пел и пономарил, помогая отцам и с отпеваниями. К тому же отец В. встретил меня уже на Афоне и поручился перед духовником.
Опять же, я не пил во исполнение обета, но буквально за месяц до отбытия на Афон пришлось начать употреблять по благословению схимонахини Серафимы из Дивеево, с которой я общался последние месяцы перед отъездом на Афон. Матушка сама винишко жаловала и покушать любила. Моя воздержанность показалась ей проявлениями царицы страстей – гордыни, и она обрушилась на мой обет со всем своим горячим темпераментом. Я какое-то время держался, но она нападала на меня, чуть ли не осыпая проклятиями за, как она считала, горделивую позу. Благословение, говорила, тебе от Бога и Матери Божьей выпивать, поскольку на Афоне все выпивают. Ну я подумал: раз сам Бог через матушку мне разрешает употреблять, значит, так тому и быть. Не знаю, к лучшему ли были её слова – быть может, придерживаясь обета, я бы прилепился к афонской братии и принял там постриг. Если смотреть с этой стороны, тогда да – к лучшему. Но вообще мне тогда было ещё двадцать семь лет и бухать мне по этому Божьему благословению предстояло ещё лет так тринадцать, а это, вы уж поверьте, крайне тяжёлое и обременительное занятие.
На Афоне действительно вино льётся рекой, и в особенности на кельях употребляют его, как и крепкие спиртные напитки, весьма в большом количестве. Обычно на престольный праздник того или иного монастыря собирается весь афонский сброд – сиромахи и келиоты, любящие праздники и вино, от которого ломятся столы. Помню, как один русский келиот рассаживал русских по разным столам, чтобы всем вина больше досталось. Греки-то – они употребляют вино как чай, для лёгкой радости, для желудка. Русские же пьют, чтобы опьянеть, поэтому стараются влить в себя как можно больше. Я лично умудрялся в Великой Лавре выпивать по семь стаканов отборного вина, отчего еле доплетался до кельи. Вино как приправа для жизни: если к нему относишься по-иному, лучше вообще не связываться с алкоголем. Как жаль, что все эти мудрые схимонахини и игумены до меня не донесли эту простую идею.
Алкоголизм в монастырях является одним из способов генерирования современного монашеского креатива, который обязательно включает в себя борьбу с бесами. Оголять нервные звенья для визионерства монахам предписано посредством постов, бдений и другого самого разнообразного подвижничества, но поскольку сегодняшние монахи как сонные мухи на варенье, не постятся и клюют носом на полунощнице, алкоголики повторяют путь древних монахов и иногда во время психозов воочию видят бесов и врага рода человеческого. В Курской епархии я слышал про монаха Макария – звонаря, который до своего обращения просидел долгое время в тюрьме. Пришёл человек к покаянию, но не отказался от вина – особенно любил Макарий кагор. Старец ему говорил – не пей, умрёшь, но тот не унимался и кагорчик потреблял в хороших дозах. Однажды на колокольне напали на него бесы из-за оголения нервных звеньев и начали его пугать. Макарий попытался перекреститься, но один бес подошёл к нему вплотную и сказал: «Что ты крестишься? Ведь ты уже наш!» Макарий тогда перепугался не на шутку, но образа жизни переменить не смог и не отказался, когда старый знакомый по зоне пригласил выпить. В доме том все перепились и начали вспоминать старое и Макария там убили. Причём, когда он уже был еле живой, зачинщик драки заставил всех присутствующих бить его, чтобы связать коллективной ответственностью. На нём прыгали тучные женщины, и его забили насмерть – жуткая неприятная смерть. «Ты уже наш», – сказал Макарию бес. Интересно, что он имел в виду?
В общем, скажу так: на Афоне справиться со пиянственной страстью невозможно, потому что нет никакой страсти, а есть алкоголь, который всякий раз включает болезнь. Нет алкоголя – болезнь спит.
А алкоголь на Афоне лился рекой, и простую мысль об алкогольной диете ни один старец не доводил. Если попадаешь в алкогольные неприятности, значит, страсть тебя борет – борись. Когда я занялся литературной деятельностью, я даже написал рассказ «Пьяница» про монаха, которого все шпыняли и не любили за пьянство, а он оказался самым смиренным из всей братии и плакал перед Богом, когда его никто не видел. Рассказ многим понравился, и в нём вся православная суть – непьющий, но живущий полной жизнью человек, не обременяющий себя постами и молитвами – это духовно больной, по которому можно только поскорбеть, а зачуханный алкаш, что всю жизнь пьёт, причиняя неприятности себе и окружающим, оказывается тайным праведником, и Бог любит его. Не за пьянство, конечно, а за смирение, осознание себя «псом смердящим» и покаяние. Его поступки в данном случае не важны, ведь он оплакивает себя. Такой вот православный подход.
Сребролюбие
Сребролюбие вообще очень странное понятие, с ходу вводящее в заблуждение любого знакомящегося с темой. При упоминании этого греха сразу складывается ощущение, что по христианскому учению серебро и злато любить низко, греховно и порочно. В Евангелии вообще сказано, что сребролюбие – «корень всех зол». Как ни старались поздние авторы найти другие толкования мотивам предательства Иуды, церковь стоит на своём – Иуда был сребролюбивый вор, поэтому и предал Христа. Ради тридцати сребреников и точка. В службе Великого Четверга в тропарях и стихирах на мой взгляд избыточно склоняется имя Иуды, как «раба и льстеца», предавшего своего учителя ради денег. Этот момент в церкви почти вероучительный, но мало кто придаёт сему значение, хотя это, несомненно, один из интереснейших штрихов церковной психологии. Чревоугодие куда более правильно отображает идею греховности и страсти, когда человек угождает своей плоти брашнами и яствами, отчего в нём происходят леность и болезни. Блуд отображает идею заблуждения незаконного секса, а сребролюбие, оно о чём – что деньги любить нельзя?
Разумеется, любя деньги, человек не любит их сами по себе, но уважает и радуется тем возможностям, которые они приносят. В том числе деньги приносят человеку и свободу, без чего невозможны самоуважение и самореализация. На это в церкви обычно замечают, что нельзя любить деньги больше, чем Бога, то есть сребролюбивый человек неправильно выстраивает приоритеты и для него деньги на первом месте. В конечном итоге по этой логике любой неверующий человек является сребролюбцем, что является собственно неправильной передачей традиции, потому как по классической схеме Евагрия Понтийского – сребролюбие есть страсть. То есть болезненная и угнетающая душу одержимость к стяжанию денег, что, согласитесь, не очень часто встречается. Блудники и обжоры, по крайней мере, встречаются гораздо чаще. Клинические случаи сребролюбия все знают со школьной скамьи – они описаны Пушкиным в «Скупом рыцаре» и Гоголем, когда он с присущим ему сатирическим талантом детально и красочно обрисовал образ Плюшкина в «Мёртвых душах». За всю свою жизнь я не видел подобных людей. Да, попадались на моём пути люди прижимистые и даже жадные, но классических сребролюбцев я не видел, хотя наверняка они есть. Как ни странно, самых жадных людей в своей жизни я повстречал именно в церкви и именно в монастырях.
Покаюсь перед читателем, что подвижническая жизнь заставила и меня считать каждую копейку, формируя мелочный и жадный церковный характер, хотя по своей натуре я весьма щедрый человек. Я был беден как церковная мышь, но эта бедность не исправляет, а напротив – искажает характер и деформирует его. И не в лучшую сторону, хотя православная реклама говорит об обратном. Ты работаешь во «славу Божью» – то есть формально за еду и крышу над головой. Бог прославляется здесь по христианскому учению твоей верой, что этот твой скорбный труд не пропадёт, а в будущем будет вознаграждён. Но далеко не всегда по вере вашей и воздастся вам. Очень часто чистая слепая вера в начале подвижничества впоследствии страшно разочаровывает. И чем ты сильнее идеалист вначале, тем страшнее твоё последующее разочарование. Я лишён этого разочарования, поскольку успел конвертировать свой опыт написанием книг.
Думаю, что именно разочарование заставляет многих покидающих церковь начинать критически оценивать её и ругать родные некогда пенаты, не принесшие никакого возрастания – ни духовного, ни материального. Это как бы личная месть всей организации за пустое времяпровождение. Однако в этом есть что-то от самопроклятия. Христос тоже проклял бесплодную смоковницу, но есть люди внутри самого церковного древа, которые убеждают, что они с Богом и плоды духовные у них есть, а покидающие церковь никогда не имели в себе Бога, поэтому и бесплодны: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Можно сколько угодно обвинять остающихся в лицемерии, но факт остаётся фактом: кто-то уходит, а кто-то остаётся – значит, его церковь устраивает. Бесплодными же по внутрицерковной логике оказываются покидающие своё церковное поприще, с чем трудно не согласиться. Ведь критики прямо говорят о том, что пребывание в церкви не принесло для них никакого плода.
Некоторые даже тщетно пытаются заработать на противодействии церкви, полагая, что действительно существуют какие-то могущественные силы внутри страны и за рубежом, заинтересованные в её свержении. Мол, Бжезинский сказал, что самым главным нашим врагом после распада Советского Союза является русская православная церковь. А значит, нам, возможно, заплатят, если мы приблизим её крах. Не заплатят. Антиклерикализм – довольно локальное общественное течение, которое при капитализме не имеет потенциала к развитию. Как можно заработать на атеизме? А на религии – пожалуйста. На деле же всё куда прозаичнее – церковь прекрасно встроилась в капиталистическую систему, и у неё на балансе сейчас множество архитектурных объектов. Общественная ниша церкви достаточно скромная и носит имитационный характер. В отсутствии внятной идеологии она очень даже неплохо смотрится со своим историческим шлейфом, традиционностью и цветастой риторикой. Церковь отделена от государства, и менять сложившуюся систему никому не выгодно. К тому же, как это ни странно звучит, церковь была одной из первых капиталистических организаций в истории, недаром она поддержала Февральскую буржуазную революцию в России. Но это касается именно что церкви-организации. Можно сказать, что это и есть истинная церковь, а прихожане являются неким стадом, которое подобает пасти и стричь.
Но в высшем её проявлении церковь всё-таки собрание епископов. Где епископ, там и церковь. Епископ может поставить сколько угодно священнослужителей, а его могут рукоположить только два других епископа. Епископ в церкви – главный владыка и церковный гарант, а священник всего лишь подмастерье той или иной степени удачливости. Его легко можно запретить в служении или выгнать за штат, если он чем-то не угодит епископу. Чаще всего священник – рабочая тягловая лошадушка, весьма бесправная и несчастная. Сейчас внутри РПЦ начинается как раз та стадия, когда епископ не просто проедает деньги или покупает дорогие особняки в Испании, но пытается и вкладывать полученные деньги. Бывшие советские дядьки довольно лихо пытаются стяжать всё со своих епархиальных огородиков, с жадностью возлагая поборы на священнослужителей. Но до социальной ответственности западных капиталистов им ещё очень далеко. Может быть, лет через двадцать пять и дойдут до этого, а пока увы. Здесь мне видится, что сребролюбие как раз-таки системная страсть верхушки РПЦ (страсть это то, что вредит), ведь церковная щедрость и широкая благотворительность снискала бы к епископам народную любовь и в конечном итоге вместе с подросшим авторитетом принесла бы куда больше денег. Хрестоматийный пример – Иоанн Кронштадтский, который мог отдать случайно встреченному бедняку свои сапоги, но при этом являлся очень богатым человеком. Но наслаждение от благотворительности («духовное» и христианское по своей сути) малодоступно современному епископату, растущему из ватника и ондатровой шапки советской эпохи. Это же обычные мужики, которые звёзд с неба не хватают и которым подфартило оказаться в обойме.
Об интеллектуальной «высоте» церкви можно судить по таким её мыслителям, как Кураев. Сам по себе он неглупый, конечно, человек, но если он вершина, что тогда в основании? Дореволюционные епископы были, конечно, настоящими владыками, с детства росшими в благочестии, а большинство современных пели в детстве «взвейтесь кострами, синие ночи». Современная церковь проста, и епископы её просты в своём добре и зле. Они беззастенчиво грабят своё окружение, пользуясь вседозволенностью и церемониальной пышностью своей стилистически средневековой персоны. Лучший способ почувствовать себя вождём папуасов в перьях, перед которым подобострастно прыгает народ под звуки дарбук – это стать епископом, дающим свою длань на целование раболепно склоняющимся прихожанам. Целование пухлой епископской руки толкуется так, что целуют на самом деле десницу Христа. И это, как ни странно, безропотно принимается церковным стадом, как будто Христос призывал когда-то к раболепию в отношении самого себя. Епископ, как вождь папуасов, не только не благотворительствует, но, гордо восседая на горнем месте, считает, что все кругом ему должны – сама система РПЦ отфильтровывает благотворителей и вбирает в себя людей особого стяжательного духа, с горячим желанием принимающих правила игры, из которых основным является осуждённый на первых церковных соборах грех «симонии» – рукоположения за деньги.
Симония, разумеется, отсутствует в бедных епархиях, когда попа иной раз наскоро рукополагают (пока не убёг) и посылают туда, где Макар телят не пас. Но даже в бедных епархиях преуспевают самые хитрые и принимающие правила игры, которые устанавливает авторитарный епископ. Не один и не два раза я слышал, как священник самоотверженно восстанавливал храм, а владыка передавал его другому попу за взнос в пользу епархии – так скромно именуется симония. Самого же священника-строителя отправляли восстанавливать какие-нибудь руины – по сути, очередную торговую точку, которую епископ, как рэкетир из девяностых, с радостью обложит поборами, снова поставив настоятелем (предварительно удалив «строителя» на новый объект) покладистого и внимательного к нуждам епархии попа. Тех священников, кто регулярно заносит владыке денег, тот, естественно, бережет и ставит на самые ответственные посты.
«А как же духовность?» – спросите вы. Смешные вы. Духовность это для вас. Это товар бесценный. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедши одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13:45–46).
Поэтому для овец предусмотрены другие правила в отношении денег, тогда как «отцам» многое прощается. C’est la vie. Церковная традиция показывает нам прекрасные примеры нестяжания в Четьих минеях, когда средневековые святые уклонялись от товарно-денежных отношений, живя в пустынях и пещерах среди диких зверей. Это, мол, и есть пресловутая «свобода во Христе», к чему нужно стремиться. Но витрина православия не означает реальных действий священнослужителей и мирян – в сложном современном мире евангельский идеал в полной мере реализуют лишь бомжи, которые, если б не бухали, не блудили и не воровали, то чётко бы жили по словам Христа, как птицы, что не сеют и не жнут, но хлеб свой имеют. Некоторые древние сирийские подвижники так и назывались «воски», что значит «пасущиеся». Когда наступало время вкусить пищу, воск (который при этом часто не носил и одежду) брал серп и отправлялся бродить, будто пасущееся животное, питаясь найденными растениями и кореньями. В настоящее время к собирательству и полной беспопечительности вернулись только бомжи. В церкви распространено мнение, что высшим подвигом является юродство и странничество. То есть стилистически это грязные побирающиеся у церкви бомжи, которые, правда, не бухают, не воруют и не блудят, а пребывают в тайных молитвах, незримых человеческому глазу. Оттого что средний православный не может бросить всё и начать благочестивое бомжевание с непрестанной молитвой на устах, он испытывает лёгкое чувство вины – я не утрирую, а показываю реальный вектор, куда православному надлежит по всем нравоучениям «расти». А если не хочешь туда расти – откупайся.
Любая община, в том числе и сложившаяся возле знаменитого старца, имеет свою экономику и бухучёт и радостно принимает любые пожертвования. Многие старцы являются богатыми или по крайней мере зажиточными людьми. Конечно, никто не поймёт монаха, если он будет тратить деньги на удовольствия, поэтому старцы вкладываются в строительство скитов и храмов, владея денежным потоком для насаждения православия, но сам этот денежный поток бывает довольно внушительным. Например, на личном счету знаменитого афонского духовника Иосифа Ватопедского пребывал не один миллион евро. Есть даже в монашестве почётное наименование игуменов и епископов – «строители». Это те монашествующие, которые сумели привлечь на свою сторону ктиторов с их богатствами, построив или благоукрасив обители и храмы. Далеко не каждый священник может стать строителем – для этого надобен особый талант, знание человеческой психологии и хорошая репутация. Раньше в Средневековье иногда уходили в монастыри люди богатые и строили монастырь или храм «под себя», становясь впоследствии игуменами. Церковная история фиксирует такие факты однозначно в положительном свете.
Иногда денежные пожертвования старца контролируют его келейники или келейницы, которые опекают старого уже человека взамен на контроль над его деньгами. Вообще, любой культ, будь то культ иконы, святого или ныне живущего старца, неотделим от его экономики. Есть и экзотические околоправославные культы, как культ «отрока Славика», позволяющий заработать его матери, главным образом на издании пророчеств «отрока». Экономика культа всегда приветствовалась церковью ещё с ветхозаветных времён – «не заграждай уста вола молотящего». То есть обеспечивая культ, ты не сребролюбствуешь, а просто, как вол на пашне, отверзаешь свои уста и перемалываешь по зёрнышку, что посылает Господь. Количество этих съеденных зёрнышек зависит от величины утробы молотящего вола. А эти утробы бывают весьма ненасытными.
То есть если копнуть глубоко, под сребролюбием церковь имеет в виду некую страсть стяжания, похожую на обжорство или зависимость от секса, а не просто владение и распоряжение крупными суммами денег. Но само название страсти, как я уже заметил, довольно лукавое, до́лжное вызывать у неофита брезгливое отношение к деньгам, как к орудию сатаны. То есть с помощью этого понятия церковные люди склоняют ктиторов и простых прихожан к пожертвованиям. «Сатанинский» уклон денег возникает в их трате на удовольствия. Большинству русских богачей не свойственен протестантский сухой стиль, поэтому этот «сатанинский» уклон в использовании денег весьма распространён. К счастью, есть в православии такое таинство, как покаяние. Если своему духовнику кается богатый человек, то это таинство почти всегда превращается в товар.
Некоторые представляют духовников как хитрых «разводил»-дельцов, выманивающих деньги у богатых простецов, однако дело обстоит по-другому. На моём жизненном пути встречалось немало бизнесменов, дела которых пошли в гору после обращения, встречались и такие, которые потерпели неудачу и разорились. Те, чьи дела пошли в гору, обычно уделяют религии серьёзное внимание, но это вовсе не обозначает, что они дурачки, которых держат попы на коротком поводке. Один мой знакомый испытывал большие проблемы в жизни, в семье, в бизнесе, усугубляя всё алкоголизмом. После посещения старца у него как-то резко всё стало налаживаться. Не берусь судить, сложились ли так случайные обстоятельства, или звёзды на небе, а может быть, и на самом деле Бог вмешался, но у знакомого с тех пор серьёзное отношение к религии и выстроенные сбалансированные отношения с духовником, являющимся одним из главных людей в его жизни. Они, по сути, близкие друзья, идущие по жизни нога об ногу.
У внезапно разбогатевших православных есть чёткое, сложившееся видение себя как держателей и распорядителей денег. Что деньги пришли им не за какие-то личные заслуги, а потому что они были избраны. И в самом деле, в девяностые большое количество более талантливых, более умных и духовитых остались не у дел, а вот я почему-то получил эту роль и мне выпал счастливый билет. Если облагодетельствованный судьбой человек не совсем дурак, он наблюдает, как окружающие его нувориши не только быстро обогащаются, но и быстро всё теряют, оказываясь, помимо всего прочего, в тюрьме, а то и в могиле. У многих из них к тому же проблемы с детьми, превращающимися в прожигающих жизнь наркоманов. Отсюда и жажда богатого нового русского подчинить свою жизнь строгому кодексу – они склоняют голову перед фартом, признавая, что в том, что они добились, их личная заслуга минимальна. Отсюда берёт истоки психология истово верующего богача.
Разумеется, новым русским вторят священники, что владение и распоряжение деньгами должно освящаться церковью. Что нужно уделять внимание благоустройству и строительству храмов Божьих и уже во вторую очередь обращать внимание и на себя. Думаю, нет смысла объяснять, что «вторая очередь» в этой парадигме всё равно остаётся «первой», однако сам стиль мышления богача как распорядителя богатств – весьма симпатичный для окружающих и комфортный для самого себя образ мысли. Богач с этикой более социально ответственен, чем богач без этики. На Западе подобные бизнесмены обычно занимаются филантропией, но наши отечественные находят себе духовника, которому помогают материально, в том числе и в его проектах. В итоге выходит гораздо дешевле создания и поддержания какого-нибудь фонда по борьбе с раковыми заболеваниями. Священник же, как любящий отец, утешит в случае печали, священник где надо остановит (хороший духовник знает, где остановить, а где разрешить), священник уберёт чувство вины и поможет в воспитании детей. И это не так накладно выходит богатому человеку, как видится на первый взгляд. Уделяя внимание храмам Божьим, новый русский приобретает смысл своего бытия – он теперь не просто внезапно разбогатевший, но человек, избранный самим Богом и облечённый денежной властью, которую он должен распространять на окружающих. Христианская этика и финансовая поддержка церкви позволяют изжить любое чувство вины, связанное с внезапным обогащением в стране с нищим и бедным населением.
Любой жертвующий на храм богач уже в глазах духовника не является сребролюбцем, но что интересно – классическим сребролюбцем часто является сам духовник. Как я написал выше, покаяние богатого человека превращается в товар. Хороший духовник чётко знает, сколько он может взять от того или иного богача – если он где-то пережмёт, богач найдёт другого духовника, хоть их сейчас и связывают тёплые, почти семейные отношения. Кающийся богач прекрасно видит и ощущает силу денег и часто ставит своего духовного отца на место. Однажды я помогал отцу В. из Подмосковья во время литургии. Началось причастие, я держал плат, а отец В. чашу. Первым причащался ктитор храма. Отец В. прочитал уже молитву Иоанна Златоуста (Верую тебе, Господи, и исповедую) и окунул лжицу в чашу для причастия, но ктитор вдруг у самой чаши сказал, что вспомнил ещё один грех, который он должен срочно исповедать. Отец В. сказал, что ничего страшного, он может исповедать его потом, на что ктитор сказал: «нет, сейчас». Отец В. послушно отнёс чашу в алтарь и начал исповедовать своего ктитора, несмотря на то что было воскресенье и в храме было полно народу. Ктитор заставил отца В. понести репутационные потери и показал свою власть перед всеми, что было его ходом в их сложной психологической игре. И ктитор, и духовник – взрослые состоявшиеся люди, и было бы неправильным делать из них играющих в бирюльки дурачков. Ктитор боится потерять фарт вместе с деньгами, а духовник боится потерять ктитора вместе с деньгами. Духовник успокаивает ктитора, а ктитор «успокаивает» духовника. Это классическая сделка, укоренённая в исторической традиции и психологически верная. При всей кажущейся для «внешних» атеистов религиозной чепухе и духовники, и их ктиторы часто достигают в жизни хорошего успеха и преуспеяния, а их критики бывают бедными, обозлёнными на жизнь людьми. Казалось бы, при чём здесь сребролюбие? А оно и ни при чём. «Сребролюбие» – это такой религиозный концепт, играющий на солнце, как меч в руках опытного религиозного манипулятора. Недаром сребролюбие связано с Иудой, кого на фресках, изображающих страшный суд, часто изображают на коленях у сатаны. Объяснение тому простое – церковники пытаются просто получить свою долю от «данных свыше» денег. Поскольку в светском государстве нет понятия «десятины» – фиксированного налога на церковь, – духовника язык кормит, как волка ноги.
Ещё сребролюбие называют в церкви неверием. Логика проста – не веришь, что Бог тебе посылает беды и удачи, веришь только в деньги и их силу. Поэтому не выстраиваешь свои взаимоотношения с божеством, а пытаешься заработать как можно больше денег, считая, что так решишь все свои проблемы. И в этом зарабатывании ты часто переступаешь не только обыкновенную человеческую мораль, но и идёшь на преступления. В этом церковь действительно играла обуздывающую жадность силу в Средневековье. Но с упразднением карательных институтов самой церкви она начала напоминать волка без зубов или генерала на пенсии. Обличительная страсть и мундир ещё имеются, но нет реальных полномочий, распределившихся ныне между различными государственными институтами. И что такое хорошо, что такое плохо есть кому детям рассказать помимо батюшки.
В быту церковные люди зовут сребролюбивыми просто богатых людей, которые не уделяют на церковь. Почему-то сребролюбие почти всегда связывается с богатством, хотя сребролюбие есть прямое порождение бедности, что я ощутил на своем личном примере. Когда я пришёл на послушание, я отказался от товарно-денежных отношений в своей жизни, полностью перейдя на обеспечение общины. Я выполнял послушание, а мне община или монастырь обеспечивали мои довольно скромные нужды. По сути это добровольное рабство, чего, собственно, в церкви и не скрывают. «Раб Божий» – говорят церковные люди в том случае, если хотят кого-нибудь похвалить. Нет, ты, конечно, волен взять и уйти в другую общину, поменять духовника, ну или вовсе покинуть церковь, но сделать это не так просто по причине психологической зависимости. Такие, как я, идеалисты являются для церкви основным топливом. Здесь не важно даже человеческое качество этого идеализма – важно количество приходящих в церковную ограду овец. Община – это такой сложный механизм, где священник символизирует Христа, но и Иуда, держащий ящик с деньгами, тоже он. Христос ведь любил останавливаться в домах богатых последователей и снискал славу гедониста (ядца и винопийца) среди фарисеев. Его странствующая община изначально принимала пожертвования «на нищих», за которыми следил тот самый Иуда.
Поскольку сам Христос не «имел где главы преклонити» – то есть являлся добровольным нищим, можно сказать, что и траты из этого ящичка были в том числе и на себя. Но христиане сочтут это кощунством, поскольку для них Христос их Бог, а Иуда страшный предатель. Христос просто не мог брать деньги из этого ящичка, раз он просил «на нищих», хотя, казалось бы, ничего в этом нет сверхвыдающегося – сотрудники благотворительных организаций тоже получают зарплату. Из-за такой психологической дифференциации христианин не может видеть в своем духовнике Иуду, но только Христа. Критическое мышление здесь подавляется вероучительным пафосом. А Христу надобно жертвовать деньги и не только для их последующей передачи условным нищим, но и возливать дорогое миро на главу. В этой схеме я был тем самым условным нищим, на которого условный Иуда «ради Христа» принимал пожертвования «в общак». Одновременно я обслуживал сам церковный спектакль и планировал через подвижничество преуспеть в духовном смысле. У меня был свой драйв, поэтому я никогда не виню ни отца В., ни других монастырских отцов за то, что я потратил практически лучшие годы жизни на церковь. Это был мой выбор и моя ответственность, и они не несут ответственности за мою жизнь, как не несёт её продавец алкоголя за алкоголизм покупающих его товар.
Полноценным членом общины послушник не является – для этого он должен быть записан в братию или пострижен. Тогда (как и в случае с едой) ему будет доступ и к другим ресурсам общины – ему могут дать денег и на протезирование зубов, или даже на холодильник в келью. Но всё равно основной денежный поток идёт в каком-то другом направлении, и никакой послушник (и даже монашествующий) не имеет права даже задать вопрос про эти деньги. Это почти везде так, куда ни сунься. Деньгами и ресурсами заправляют особые люди, а твоё место в церковном спектакле для внешних. Может быть, со временем и ты преуспеешь, если захочешь. Вся соль здесь в том, что для идеалиста и хотеть богатств является греховным чувством. Ты зачем в церкви – деньги делать? Редкий человек скажет – «да», пусть он и настоящий стяжатель в рясе. Конечно, в церкви далеко не все – идеалисты, и преуспевают здесь циничные и злые дельцы. Но и эти дельцы скрепляют свою психику нравоучениями – и зачастую при всём своём стяжательстве являются истово верующими людьми, поскольку без веры их жизнь в монастыре теряет всякий смысл. Деньги-то они делают, но зачем? Рационализация выстраивает порой остроумные комбинации (деньги нужны на случай, если придёт антихрист и можно будет купить какую-нибудь деревню, собрав туда духовных чад и т. д.), но многие монашествующие сидят на деньгах, как собака на сене. Собрать-то они их собрали, но приумножить и вложить не могут. Думаю, что скоро они покаются (по-гречески покаяние значит µετάνοια, что дословно означает «перемену ума») и начнут вкладываться в какие-нибудь криптовалюты. А пока те, кто сподобился сидеть на денежных потоках, перенаправляет их на свои счета, покупая земельные участки и квартиры на своё имя.
Всё это делается с лукавой мыслью, что скоро придёт антихрист и разорит монастыри бесовским уставом, тогда будет жить квартирное православие, о чём-де я сейчас так сильно пекусь. К тому же хорошая подушка безопасности позволяет минимизировать риски, если тебя начнёт гнобить архиерей. Церковный человек на денежном потоке найдёт тысячи причин для того, чтобы пощипать из этого пирога, и его жизнь становится двойной – одним полушарием мозга он спасается с братьями, другим – считает барыши, прямо как скупой рыцарь у Пушкина. Управление денежными потоками полностью изменяет церковного человека, который внезапно понимает, что такие, как он, являются, по сути, единственными бенефициарами этой системы. Тогда как остальная массовка создаёт для общества иллюзию соборности и демократичности. Для тех же, кто не сподобился сесть на денежный поток, сребролюбие переходит в форму мшелоимства – забивания кельи разными ненужными вещами, которые можно впоследствии выменять на что-нибудь тебе нужное. Поскольку я никогда не сидел на церковных деньгах, как благородный стяжатель золота и хрустящих банкнот, а занимался обычным плебейским мшелоимством, собирая пылесборники в виде ненужных штанов или третьей скуфейки, то каюсь в том, что был куда более сребролюбивым, чем те самые сидящие на деньгах. Они-то конвертировали свою и чужую болезнь, алхимически трансмутировав её в золото, тогда как я не избавился от привязанности к миру, прилепившись к постыдным и унизительным келейным вещам. Вместо свободы во Христе я на десятом году своего подвижничества однажды осознал, что культивирую обычную рабскую психологию, закрывая глаза на удивительное и тайное (а самое главное – несправедливое) материальное неравенство внутри самой церкви.
Покуда ты только взыскующий монашества простой послушник с козлячей бородкой, тебе приходится унижаться, пытаясь в стеснённых условиях обеспечить свои потребности. Тебя учат, что потребности должны ужиматься, что в этой тесноте «Божье творится», и во время медового месяца с православием ты принимаешь такой подход, как говорится, сердцем и «на ура», в мазохизме мня себя подвижником благочестия. Сам этот идеализм ничто без обуздания его прагматизмом. Максималисты в церкви быстро теряют здоровье, но сама община прагматична и не видит смысла в человеке, не приносящем ей пользу. При мне не одного послушника выгоняли на мороз под вымышленным предлогом, если у него проявлялись серьёзные проблемы со здоровьем. Монастырь – это не дом инвалидов. Конечно, приносить пользу можно и просто сидя в монастыре, поскольку монастырь без братии просто камни. Как я уже писал, люди – это топливо церкви. Но статус рясофорного бездельника тебе никто так просто не даст – первоначально придётся хорошо поработать. Если твоё скромное послушание далеко от финансовых потоков, тебе взамен труда обещают бесстрастие и независимость от мира на земле и спасение в вечности. Точнее, обещают только возможность, а всё остальное в твоих руках. И со временем ты понимаешь, что руки у тебя никудышные и ты не можешь удержать в них православную птицу счастья. Без оплаты труда ты отнюдь не превращаешься в бесстрастного подвижника в монастыре, но напротив – начинаешь считать каждую копейку, которая к тебе приходит. В итоге эта стеснённость превращает обычное попечение человека о себе и своих нуждах в то самое сребролюбие.
Здесь у тебя возникает выбор – либо разочарованно уходить, либо и дальше продолжать играть в эту игру, считая, что ты просто мало стараешься. Пресловутое монастырское смиреннословие на самом деле простая констатация факта, что, будучи монашествующим, ты какой-то особой рассудительностью или духовными силами не овладел. Смиренное осознание себя слабаком перед старцами из житийной литературы помогает продолжать так жить – некоторым нравится, особенно на склоне лет. Старики и старухи в миру никому не нужны и часто еле сводят концы с концами, а в монастыре они «отцы» и «матушки» – люди, обладающие определённым статусом и пользующиеся подчас большим уважением. Есть ради чего терпеть и имитировать духовность. Можно даже не имитировать, а вздыхать откровенно – «раб неключимый есмь». Со стороны экзальтированным паломникам будет казаться, что ты приобрёл смирение, хотя ты просто говоришь всё как есть, не лукавя сердцем.
Здесь опять у многих может возникнуть вопрос – а разве нет в церкви нормальных подвижников, которые не сидят на денежном потоке и не занимаются мшелоимством? Не устану повторять, что нормальные и даже хорошие люди есть везде. Думаю, что такие были и среди администрации германских концлагерей. Но эти отличники тоже, как и все, встраиваются в общину и находят в ней своё место. Благонравие – это ведь тоже товар, и благонравные являются витриной церкви. Я не видел ни одного благонравного в монастыре, который был раньше гневливым или злым. Темперамент – это судьба, как и любой другой талант.
Например, мой талант в монастыре был петь на клиросе. Такие люди тоже нужны общине, и я пользовался всеми преимуществами, которыми наделял меня статус певчего. Не упускал того, что приходило, хотя подвижничество в том, чтобы брать на себя больше скорби и страданий, а не раскрываться как цветок. Благонравные и хорошие также встраиваются в систему в виде её витрины, благодарно принимая все выгоды своего благонравия, а не выковывают себя сами. Аскеза – в переводе значит «упражнение». Как тренажёрами в спортзале упражняется тело, так аскезой возрастает и крепнет дух. Но я довольно быстро осознал свою немощь и неспособность к настоящему подвигу и искал во всём себе послаблений, хотя не спорю – само выполнение афонского устава уже сложно и тяжело и является подвигом. Интересный вопрос: а если бы провидение прицепило меня к денежному потоку, что тогда? Отщипывал бы я от этого пирога? Врать не буду – не знаю. Скорее всего, что да, потому что иначе я должен быть святым дурачком.
А я был всё-таки продуманным алкоголиком, который после Афона написал несколько интересных книг, поделившись своим опытом с читателями и получив за него неплохое материальное вознаграждение.
То есть я хочу сказать, что церковь – это обычный срез нашего общества, как тюрьма или армия. Нет там никаких особых злоупотреблений, но и особых духовных сил тоже нет. Просто сребролюбие, как и другие грехи в церкви, выглядит здесь более выпукло и уродливо на фоне поповских деклараций о святости, бессребреничестве и чистоте церкви. Виртуальное разделение на тьму и свет заставляет остро реагировать на «тёмные» дела на «светлой» стороне, хотя и «тёмные» и «светлые» дела здесь – это человеческое и ещё раз человеческое. Поэтому сребролюбивый и жадный поп выглядит настоящей карикатурой, в отличие от западного миллиардера, следящего, чтобы сотрудники выключали свет, и приносящего каждый день с собой свой обед в пакете, чтобы не тратить лишний доллар в столовой. Церковные люди обычно говорят на обвинения «внешних», что и на солнце есть пятна, что даже один из апостолов предал Христа, что тоже не является правильным. Никакого «солнца» нет. Есть лишь люди, непрестанно говорящие об этом «солнце», вокруг чего возникает особый виртуальный фон. Но у этих «солнечных» людей нет никакого сущностного отличия от людей «внешних». Хотя декларируется, что «мир во зле лежит», а «церковь свята и непорочна». Эта гордыня избранности в совокупности с собственной серостью и является основным раздражающим фактором для общества. Если церковь вдруг станет смиренней, честней и займется наконец благотворительностью, а не стяжанием, думаю, отношение общества к ней изменится. А пока её просто не за что любить. Людям не нравится, когда церковные их обманывают и пытаются навязать свои представления о мире без чёткого обоснования, почему они достойны это делать. Очень часто покрестившийся начинает смотреть на других свысока, считая, что это даёт ему право поучать других. А священник порой вообще берегов не видит.
Сегодня нет другой психологической основы антиклерикализма, кроме этого общественного раздражения бесцеремонным и грубым поведением церковных людей. Думаю, что иначе, при другом подходе самих церковных людей – радостном, терпимом и гуманном – церковь бы в обществе любили и оберегали, как древнюю традицию нашего народа. Пока что церковь представляет людям Бога, стоящего на высоком постаменте и к которому нужно идти (если не идти, то ползти) ради своего спасения, а сам Бог ни к кому идти не будет. Поза такая: «Тебе надо, ты и иди». Хотя пример Христа говорит о том, что Бог-то как раз-таки будет идти даже за последним грешником.
Теперь хотелось бы ещё немного пробежаться по психологии ктитора, чьими деньгами растёт и благоукрашается земная церковь. Здесь есть несколько интересных моментов, достойных упоминания. Представьте себе богатого человека, поверившего вдруг в Бога. Его ежедневно атакуют просьбами, и многие – от льстивых рвачей до злой тёщи – претендуют на часть его денег. Каждый видит в нём кошелёк и непрестанно просит – «дай». В церкви вроде бы к нему не относятся как к кошельку, он здесь простой грешник и смиренный раб Божий (имярек). Но рано или поздно в воздухе начинает повисать многозначительная пауза во время очередной исповеди, когда духовник в ответ на его исповедание грехов начинает вдруг изливать поверившему богачу душу и исповедовать в свою очередь свои нужды. А нужд тут немало – колокольню нужно достроить, машину заправить, да и картошку купить для трапезной. Как тут поступить? С одной стороны, просьба духовника на храм не является просьбой бедного родственника, который погряз в долгах из-за распутного образа жизни, и по религии жертва на храм угодна Богу. Не может же он делать то, что Богу не угодно? То есть у богатого человека в церкви выбора нет. По православному учению его богатство есть дар, которым он только распоряжается.
Помимо живых родственников, в том числе и того самого заблудшего бедного родственника, за которого нужно много молиться, чтобы извести его душу из заблуждений, у богача есть весь его род, его предки и пращуры, требующие молитв. Милостыня же даже души из ада выводит. Представляете себе картину: твой прапрадед мучается в шеоле после так называемого «частного суда» – бесы глумятся над ним. И только ты со своим кошельком для него единственная помощь. Богатые люди обычно люди ответственные, и православная вера заставляет их принять ответственность и за посмертную участь своих почивших во грехе пращуров. Получается, что богатый верующий так и так отдаст, вопрос только – сколько. Нельзя сказать, что ктиторы прямо так с радостью расстаются со своими деньгами, и для этого священники идут на различные уловки. Взамен ктитор приобретает уважение епископа и духовника. Особо важным ктиторам вручаются церковные награды. Иногда епископ может замолвить словечко за ктитора, если потребуется, но стопроцентной «крышей» церковь не является – сажают людей и с церковными орденами.
Помню, как ктиторша из Красного Креста помогала строить скит в Курской епархии. Приходит к старцу и говорит: «Ах, батюшка, не могу определиться с цветом фелони. Какую лучше купить – зелёненькую или серенькую?» Старец томно прикрыл глаза и отвечал: «Лучше обе». Вокруг ктиторши постоянно увивалась какая-то непрестанно льстящая ей монахиня – келейница скитоначальника. Однажды едут они (я тоже присутствовал в этой машине) в монастырь, и как раз зазвонил колокол к всенощной. «Ах, матушка, кормилица наша, а ведь как будто бы вам звонит колокол, как архиерею», – льстиво заметила монахиня. И что вы думаете – ктиторша немного подумала и отвечала: «А почему бы и нет?» Затем повторила: «Да, почему бы и нет?» Не знаю, откуда у неё были деньги, но делилась она ими щедро. Будучи журналистом, я впоследствии работал над делом Красного Креста, у которого был целый маркетинговый отдел, мониторящий одиноких больных раком стариков в центре Москвы. К этим старикам наведывались «гости», доставали им морфий и «Трамал», а особые психологи входили к ним в доверие и заставляли даже восьмидесятилетних старух с одурманенными опиухой мозгами верить в то, что они возьмут их замуж. Так были отжаты сотни квартир в центре Москвы. Не знаю, имела ли эта ктиторша долю с этих преступлений, возможно, и нет. Но факт в том, что, если такой «психолог» захочет замолить в церкви свои преступления, ему там помогут вне всякого сомнения – снимут с души его любой камень за щедрые подношения. Поэтому у церкви и уголовного мира существует довольно крепкое и сплочённое братство. Многие арестанты после освобождения записываются в трудники и живут при монастырях. В некоторых монастырях, к примеру монастыре Антония Сийского, бывшие заключённые создают даже что-то вроде общины, основанной не только на монастырском уставе, но и «понятиях». Нельзя сказать, что это отрицательный момент – человек хочет оставить преступления и пытается жить монастырским уставом. Пока государство не имеет внятных реабилитационных программ для преступников, а места лишения свободы редко кого исправляют, монастырь выступает в роли такого места.
К небогатым верующим людям, как и к богатым, у церкви также есть свои маркетинговые стратегии. Всем известный настоятель Оптинского подворья в Ясенево отец Мелхиседек придумал, на мой взгляд, просто гениальную идею «именного кирпича», покупая который, ты вносишь своё имя (или родственника) на вечное поминовение. Имя пишут прямо на кирпиче, который будет использоваться при строительстве храма. Благодаря этой схеме Мелхиседек построил уже несколько храмов, и люди продолжают собирать деньги до сих пор. В ТЦ «Принц Плаза» женщина, торгующая кирпичами Мелхиседека, недавно рассказала мне историю про то, как один мужик купил такой кирпич и повесил данную ему грамотку о сей благочестивой покупке на стену в своём кабинете. Через месяц помещение, где он арендовал кабинет, полностью сгорело, но огонь не дошёл до его кабинета, что квалифицировалось мужиком как однозначное чудо. Честно говоря, чудо это весьма сомнительного свойства, и даже если верить в чудесное угашение огня, то справедливо ли полагать, что Бог или его ангелы сожгли целое здание ради укрепления в вере этого мужика? К примеру, я сталкивался однажды с настоящим деревенским колдуном, который считал, что творит благо. Один раз после обращения к нему женщины, у которой украли последние деньги, вор через какое-то время вернул деньги обратно. Как мне объяснил один батюшка – один бес подбил деньги украсть, другой напугал вора. И всё для того, чтобы к колдуну люди начали ходить. Не знаю, но подобная логика хорошо ложится и здесь. В Троице-Сергиевой лавре есть такой старец экзорцист Герман, изгоняющий бесов, который построил на вырученные от экзорцизма деньги целый корпус. Его келейники в разговоре со мной скептически отзывались о его способностях изгонять лукавого и смеялись, что деньги ему бесы на корпус подогнали, что при любых раскладах недалеко от действительности.
В целом, резюмируя главу о сребролюбии, я бы не стал демонизировать русскую православную церковь, поскольку все жертвы ей являются делом добровольным. В Польше, например, ксендзы посылают своих людей собирать поборы прямо по квартирам. А у нас церковь заняла свою нишу и, в общем-то, не имеет государственных амбиций. Отдельные высказывания и деятели не в счёт. Эти деятели, к примеру, тот же отец Всеволод Чаплин, просто встраиваются в информационную экономику, производя нужный СМИ информационный продукт и занимая место экспертов-«мракобесов» в общественной дискуссии, которое при желании можно спокойно конвертировать в материальную выгоду. Не бог весть что, но на вино хватает.
Гордость
В прошлой главе – «Сребролюбие» – я показал, как в самом названии этого греха таится лукавство.
С одной стороны, сребролюбие – это такая болезненная страсть, от которой можно и нужно избавляться, с другой – это хитрый религиозный концепт с двойным дном, весьма действенный в руках опытного религиозного манипулятора. Сребро любить нельзя, если речь идёт о храме. В остальном поступай как знаешь, однако сохраняй признаки «овцы Христовой», для чего в принципе достаточно исповеди, после которой священник подумает, допустить ли тебя до причастия. И богатому достаточно легко склонить священника к лояльности. Начатки всех своих плодов надобно жертвовать богови для того, чтобы священники окропили святым духом весь труд твой. Самое интересное во всей этой концепции – это её беспроигрышность для церкви: где заканчивается защитная функция церковного благословения, начинается поприще духовной брани. То есть, например, если помогающий церкви ктитор спасает свои деньги во время кризиса, то батюшка не преминет объяснить это божественным вмешательством – наградой за пожертвования, подбивая ктитора к ещё более щедрым пожертвованиям. Но если ктитор деньги теряет, то священник объяснит это неизъяснимым промыслом Божьим, таким образом Бог-де наказывает ктитора, прощая ему старые грехи. Мол, сказано в писании – «кого люблю, того и наказу́ю». Это также является поводом к увеличению благотворительности – если беды над тобой сгущаются, надобно усилить молитву и увеличить взносы в церковную казну. И когда наконец отпустит (а жизнь – она такая: бывает, что прихватит, но потом обычно отпускает), ты с чистой совестью сможешь возблагодарить Господа вместе с облагодетельствованным тобой батюшкой.
В этой главе я расскажу о ещё одном манипулятивном грехе, если можно так выразиться. То есть грехе, в общем-то раздутом из ничего и не существующем в природе, но как по волшебству превращающемся в оружие в руках опытного религиозного манипулятора. Вы думаете, что сребролюбие – корень всех зол? А вот и нет. Это когда речь идёт о пожертвованиях, священник тебе тактично напомнит об иудином грехе и о том, что Бог велел делиться. Но есть в православии царица всех страстей, которая коренится в бесплотном духе, а не в греховном теле. Речь, конечно, идёт о гордости. Дьявол согрешил гордостью, не имея плотяных риз. Поэтому в монашестве, которое сравнивает себя с ангельским воинством, гордость считается самым страшным врагом, ибо одержимыми ею быть могут и великие отрёкшиеся от мира подвижники. Пафос святых отцов и их страх перед гордостью заимствовали обычные бытовые православные, которым гордиться-то, собственно, и нечем. По этой причине несостоявшееся в жизни «ничто», воцерковившись, как правило начинает мнить себя «всем». Был ты по жизни неудачником, а стал спасающимся во Христе братом. Здесь религия несёт компенсирующую роль и действительно служит неким опиумом, облегчающим восприятие действительности для большинства воцерковлённых. Многие православные начинают верить, что они не обычные неудачники, а просто люди «духовные», презирающие материальные блага подвижники благочестия. Это даёт повод воцерковлённым смотреть на успешных, но неверующих людей свысока.
Само это слово – гордость – в русском языке смешанных коннотаций. Мать испытывает гордость за успехи своих детей, патриот гордится своей страной, страна гордится достижениями своих учёных и писателей и т. д. С другой стороны, по православному учению гордость – полная противоположность смирению. Если гордость низвела Сатану в ад, смирение возводит грешника к Богу. Смирение спасает – гордость несёт погибель. Терминологическая путаница заставила отечественных церковников изобрести такой термин, как гордыня. Это гордость без каких-либо позитивных коннотаций. Как сребролюбие является безумной страстью стяжания, так и гордыня есть безумная гордость. У греков гордыня называлась хубрисом (др.-греч. ὕβρις – дерзость) – высокомерие, гордыня, спесь, гипертрофированное самолюбие, – который античные боги считали вызовом себе. Хубрис по их вере всегда приводит к перипетии (греч. περιπέτεια) – внезапному исчезновению удачи и в дальнейшем к божественному возмездию – немезису. То есть сама по себе гордыня есть нечто безумное, как и стяжательство Плюшкина, и она вовсе не распространена широко. По-настоящему гордых людей, как и по-настоящему сребролюбивых, я не видел.
Однако церковные люди любят вставлять лыко в строку по каждому удобному поводу, одёргивая эмоционального или уверенного в себе оппонента обвинением в гордости. То есть само слово «гордость» у православных не в почёте и носит почти полностью негативные коннотации. Гордость в этой парадигме это любое несмирение и какая-то маленькая недоразвитая гордыня, в перспективе могущая перерасти в гордыню большую – тот самый хубрис. Любой православный знает об этой особенности отечественной бытовой веры, когда любая, даже самая малая рассинхронизация с церковным учением, объявляется гордостью. Учитывая, что сколько православных, столько и «учений», да и само общее учение обросло мхом бабьих басен, волшебных камней и всевозможных местечковых пророчеств, гордостью православные сегодня часто именуют и самое обычное здравомыслие. Впрочем, они руководствуются в этом вопросе писанием, в котором говорится, что христианство для погибающих юродство есть, но для спасающихся «сила Божья». То есть в ответ на здравомысленные замечания от православного можно получить отповедь: грешник-де ты и неверующий. Стоит сказать, что такой подход православных в быту отпугивает многих людей, которые бы и хотели поверить, но страшатся составлять с людьми, верующими в чудодейственность землицы с могил каких-нибудь Пузёновских стариц и в пророчества об антихристе, одно тело Христово.
Как вершиной аскетических штудий современные православные полагают высшие подвиги странничества и юродства, так вектором духовного роста всегда служит смирение. Обычно религиозный человек окрашивает в религиозные краски свои заблуждения и страхи. В итоге получается интересный православный дискурс, когда любой мало-мальски подкованный в православной теме человек получает в своё распоряжение инструменты манипулятивного воздействия на окружающих, которых ему нужно «спасать», то есть всячески склонять к православному образу мысли и действия. Под смирением здесь понимается психологическая капитуляция перед оппонентом. Новообращённый сам учится склонять гриву перед духовенством, полагая, что это приобщает его силе традиции и даёт ему право на так называемую проповедь, под чем понимается безапелляционная пропаганда православных взглядов. Такой новообращённый манипулятор зорко следит за корешками «грехов» окружающих и старается выкорчёвывать их при помощи острых слов. Это называется в быту «смирять». Окружающие обычно расценивают такое поведение, как бесцеремонность и начинают эмоционально реагировать, на что новообращённый ещё больше убеждается в своей правоте, мня, что «выдавил эмоциональный гной» по «Лествице», а не просто раздражил своим непрошеным учительством. Естественно, если человек прогибается под эмоциональным напором новоявленного проповедника, это трактуется им как смирение, которое скоро приведёт к Богу. Если же человек не прогибается, то он объявляется гордым. Это настолько распространённый типаж, что знаком не только верующим, но и далёким от религии людям, поскольку подобные благочестивые ковыряльщики чужих душ наследили везде, где только можно.
Но в самой церковной системе есть чёткая субординация, и смирять имеет право только старший. Патриарх смиряет епископа, епископ – попа, поп прихожанина, а прихожанин уже отрывается на неверующих. Орёл мух не клюёт, и епископ или патриарх перед простыми верующими ведёт себя снисходительно, «по-отечески», считая ниже своего достоинства как-то резко реагировать на какие-либо выпады. В монашестве субординация считается основой – «послушание превыше поста и молитвы». В монастыре при нарушении субординации у послушника могут быть проблемы. Послушник обязан смиряться, а его могут и должны «смирять». Пройти эту выучку следует любому взыскующему монашества. Это своего рода дедовщина – школа терпения и некий фильтр, отсеивающий поверхностных верхоглядов и слабохарактерных, пришедших в монастырь под влиянием чувств или какой-нибудь ситуации. В России смиряют жёстко и, по мнению многих, «без любви».
Думаю, это чисто российская специфика. Монастыри на Балканах у тёплых морей, с обилием солнца всё же не только способствуют благочестивым размышлениям, но и предполагают более доброе отношение братьев друг ко другу. Часто в монастырь греков поступают как в семью и после послушничества послушник становится полноправным членом этой семьи. Отношения внутри братии у греков на самом деле со стороны выглядят тёплыми и семейными.
В России специфика несколько иная. На мой взгляд вхождение в монастырскую семью в наших северных краях есть, но сами семьи иные, похожие на тюремные «семейки», куда пускают только нужных им людей. И далеко не все проходят так называемый искус – фильтр, который ставит сама эта «семья» для желающего в неё вступить. Для кого-то сам опыт послушничества становится травматичным, что в принципе нормально для православия, как жёсткой воинствующей религии с упором на смирение и дисциплину. Монастырь – это не курорт, о чём любой туда поступающий сразу же ставится в известность. В начале своего монашеского пути послушник обязательно читает определённую литературу, в которой его учат быть во всеоружии и предлагают принять то, что его будут здесь смирять, то есть всячески досаждать. Это три главных книги послушника – «Лествица», «Поучения аввы Дорофея» и «Невидимая брань» Никодима Святогорца. Последняя книга может заменяться какой-нибудь другой. Российская специфика заставляет вырабатывать иной подход к послушанию, не давая особо садистическим «старцам» садиться на шею. Для этого у России есть труды Игнатия Брянчанинова, которые, к примеру, на Афоне благословлено сжигать как душевредные. Брянчанинов учил спасаться с помощью книг и таинств, не поддаваясь старцам, которые, на его взгляд, приносили больше вреда, чем пользы, и губили в духовном смысле доверившиеся им души.
На мой взгляд, сама техника приобретения «духовных даров» через смирение заключается в спонтанной адаптации послушника, который под воздействием брани и психологических ударов скатывается в самый низ пищевой цепочки. Выход из такого униженного состояния только один и заключается в трансформации своего драчливого капризного духа в смирение и благонравие. Победить старца-тирана можно только с помощью активации благих чувств и поступков. Послушник должен преодолеть своего наставника в благочестии и благонравии. По-другому победить его не получится, ведь у старца – вся полнота власти над тобой, которую ты делегировал ему сам. Причем сама адаптация мало зависит от твоих усилий и действительно нуждается во внешнем психологическом давлении (смирении) для того, чтобы твоя психика невольно среагировала и адаптировалась. В старческой традиции давление на послушника усиливается и усиливается, пока ты не пойдешь по правильному пути. Адаптация эта имеет не разумный, а природный характер, подобно тому, как послушник Шаолиня таскает кирпичи и воду и потом внезапно замечает, что овладел каким-то новым скиллом. Так и здесь – либо ты трансформируешься, либо просто привыкаешь к боли, ну или адаптируешься другим каким-либо образом. Либо уходишь.
При этом в России мало кто из начальствующих монахов сам проходил этот путь, не понимая его сути, поэтому сам этот процесс здесь для послушников более травматичный. Тут именно тот случай, когда дьявол кроется в деталях, и знание нюансов составляет половину старческого делания. Но в любом случае монашество – это договор, подписанный кровью распятого Христа. Монах умер для мира. Думаю, что трансформация может проходить и в вовсе безблагодатном коллективе, если у послушника серьёзный подход и правильное понимание самой системы.
Я не очень-то доверяю обиженной православием публике. Объясняю: обиженные эти плачутся, что нет в обителях-де «любви». На мой взгляд, эти обиженные имеют в виду «людей-вкусняшек». Знаменитая елейность духовников связана именно с этой потребностью верующих. Они любят зайти в храм и пососать сладенького попа, как леденец на палочке. «Ах, какой хороший батюшка, – говорят потом такие люди, – сколько в нём любви!» При ближайшем рассмотрении от «леденца» обычно остаются кожа да кости с ливером, наполненным таким же дерьмом, что и у остальных. Но при соблюдении дистанции иллюзию «вкусняшности» можно сохранять долго, как влюбленность. Православные постоянно мигрируют по городам да весям, обителям и храмам в поисках людей-вкусняшек. Поэтому я и не верю обиженным. Они ринулись в монастыри в поисках «людей-вкусняшек», ринулись за сладкой едой. А монастырь – это школа, где этих «вкусняшек» готовят. То есть ты хотел поесть досыта «любви», а тебя в еду начали превращать.
Гордость в православии – это страшный жупел, одеяние самого диавола, «ищущего кого поглотити», и самый часто наклеиваемый православным на оппонента ярлык. Причём ярлык этот клеится во всех случаях – гордость есть универсальное и действеннейшее обвинение (против лома нет приёма), которое можно опровергнуть лишь так называемым смирением, то есть театральным уклонением от спора. Говорю «театральным», поскольку смирение действенно только при зрителях. В качестве примера приведу реальный случай в монастыре Филофей на Афоне с игуменом Ефремом, который сейчас подвизается в США. В этом монастыре сохранилась древняя святогорская традиция: игумен являлся в то же время и духовником с правом налагать епитимью.
В Филофее был принят обычай публичного покаяния, когда провинившийся брат падал ниц перед выходящими после вечерни из храма отцами и вслух просил прощения за свой грех. Однажды игумен узнал на исповеди от одного брата, что тот занимается тайноядением и ест «далмадаки» – голубцы, завернутые в виноградные листья. – Что ж ты, брат? Разве тебе не хватает трапезы и керазмы? Сегодня после вечерни будешь делать мета́ния перед отцами, говоря: «Простите меня, отцы и братья, я чревоугодник». Тебе понятно?
Послушник оказался, однако, твердым орешком. – Нет, я этого делать не буду. В других монастырях это не принято. – Послушник после своего наглого выпада ожидал, что игумен накричит на него или прогонит прочь, но тот лишь ласково отпустил его, а вечером сам лично взял на себя его грех. После вечерни он пал ниц перед входящими в трапезу братьями и прилюдно просил прощения. Это так поразило послушника, что тот после этого совсем исправился и перестал нарушать волю игумена, также и остальные братья убедились в святости Ефрема. Подобный благочестивый перфоманс только утвердил мнение братии об игумене как о святом человеке, и Ефрем это прекрасно знал. Однако здесь должна присутствовать определённая гибкость характера и внутреннее спокойствие, а также такие поступки несут определённый репутационный риск. Если перфоманс не «зайдёт», всегда могут обвинить в прелести. На Афоне прельщённых обвешивали раньше колокольчиками и водили по горе, чтобы другим неповадно было строить из себя святого. Так что смирение – это не просто «опустить гриву», но умение изменить своего собеседника с помощью этого скифского мнимого отступления. Для этого талант надобен.
В суровом российском социуме, если ты будешь наклонять гриву и «смиряться» перед каждым манипулятором, сразу попадёшь на самый низ пищевой цепочки. Хороший манипулятор прекрасно понимает, что своим дурашливым смирением ты хочешь доказать неправоту его слов, принимая их за правоту. И этим хочешь возвыситься при помощи пестуемого благонравия. Наглые манипуляторы обязательно воспользуются этим, чтобы просто утвердить моральную власть над тобой, и начнут язвить по каждому поводу. А когда ты начнёшь брыкаться (а по слову Паисия Святогорца любая, даже самая смиренная лошадка начнёт брыкаться, если её перегрузить), станут обвинять в лицемерии, мол, строит из себя святошу. Путь смирения нелёгок, как путь добровольного батрака. Не факт, что ты сможешь его пройти. Я, например, где мог смиряться, смирялся, где не мог – «отрывался» на собеседнике. Ничего страшного в этом нет. В познании своей немощи. Не согрешишь, не покаешься – не покаешься, не спасёшься. Впрочем, я не отрицаю, что как благое качество смирение всё же существует, однако понимаю его не так, как понимает большинство отечественных православных. Раньше я делил смирение на смирение-делание и смирение-дар. Сейчас пришёл к выводу, что человек, собственно, не меняется, но может найти своё место в каком-либо обществе. Тогда конфликтных ситуаций будет меньше, а человек станет спокойнее и «смиреннее». Это как почтальон Печкин – был злым, пока велосипеда не было. Многие находят какое-нибудь послушание по душе или подымают свой статус и через это успокаиваются. Но такое место надо ещё заслужить.
Также смирение – это внутренняя сила индивида, своего рода благородство. Такое смирение-сила снисходительно и привлекательно для окружающих. Это спокойная поступь льва, а не склонённая шея собаки перед более сильным псом. Такое смирение неотделимо от внутреннего достоинства. Но в российском православии почти нет понимания христианского достоинства – упор делается на смирение-делание. Как говорил один монах, топча свою скуфью – покуда тебя не вытопчут, как скуфью, и не раздавят в тебе любое «я», не возьмётся в тебе смирение. То есть гордость здесь фактически символ личности, которой нужно переломить хребет. В монастырях часто тебя начинают подчёркнуто не уважать. Традиция, как я уже говорил, предусматривает трансформацию, но здесь происходит больше фиксация на том, что ты «пёс смердящий» без какого-либо внятного катарсиса. В российском православии это было всегда, и люди, в особенности дворового, простого происхождения носили клички, как собаки. Их даже в монастыри раньше не пускали. В итоге получается следующая картина – кто-то верит всему этому «смирению» искренне и позволяет на себе кататься, а тем временем наверх взгромождаются наиболее ушлые и хитрые, подымаясь по карьерной лестнице, а не достойные, поскольку любая меритократия невозможна без учения о достоинстве.
Следует сказать, что духовник Пантелеимонова монастыря на Афоне Макарий всё же преподал мне учение о христианском достоинстве, что послужило для меня толчком для пересмотра всей монашеской модели и в конечном итоге позволило покинуть монастырь как место, где выживают самые битые и злые. Зачем мучать себя, если понимаешь, какие плоды несёт подвижничество на самом деле? Даже смиренный монах, побеждающий оппонента своим смирением и любовью, действует здесь подобно коту, мурчанием и мимимишностью завоёвывающему своего хозяина. Без завоёванных благими качествами паломников и братьев, сами по себе, эти благие качества ни холодны, ни жарки. Но, завоёвывая почитателей, монах создаёт молву, молва формирует миф и определённый культ его преподобной персоны, развивающийся по всем канонам любого культа.
Как я уже говорил, обвинить оппонента в гордости – это самый лёгкий путь заткнуть ему рот, чем успешно пользуются и самые скудоумные православные. Если ты отрицаешь наличие у себя этой самой гордости, это только подтверждает диагноз. Будь ты трижды умнее – откроешь рот, прослывёшь высокоумным гордецом. Любой спор есть особое взаимодействие, когда картина мира оппонента и даже его видение тебя влияют на твои слова и поведение. Обычно, наблюдая за схваткой двух религиозных манипуляторов, замечаешь, как второй на обвинение в гордости выкатывает обвинение в осуждении – мол, «не судите и не судимы будете». Сюда же идёт притча о соринке в глазе брата и бревне в своём глазу. Здесь обычно в ответ следует возражение, что «я, мол, не осуждаю, а рассуждаю». Ну и в таком духе. Православная полемика обычно грязная, со множеством передёргиваний и эмоциональным пафосом, подменяющим логику. Напоминает схватку двух баранов. Особенно смешным её делают темы, вокруг которых эти бараны танцуют и ломают свои рога: смирение, вера, любовь и другие добродетели. Ревность по бозе снедает и без того скудные умы, разжигая в душе пафос новообращённого.
Опытные религиозные люди с высот своего давнего воцерковления обычно снисходительно и с отеческим пониманием относятся к этим придурковатым неофитам, однако сами от них отличаются, как художественная скульптура от наскоро отёсанного куска камня. У опытных верующих всё то же самое, но это другая стадия болезни, с которой человек научился более-менее жить, не причиняя урон себе и окружающим. Опытный православный обычно носит толстую личину «адекватности», но в определённых обстоятельствах эта маска также может слететь, а под ней блестят всё те же бараньи рога. Этот момент хорошо был заметен в интернете, в том числе и патриарху Кириллу, призвавшему священников умерить своё присутствие в социальных сетях. Понятное дело, этот призыв был из-за репутационных потерь, которые понесла церковь от безответственных заявлений батюшек и глупых свар, в которых священники выглядели настоящими баранами. Если бы священники демонстрировали выдержку и мудрость, патриарх, естественно, только бы приветствовал их деятельность в интернете, где всё тайное становится явным.
Хотя в православии этой самой «гордостью» тычут во всех мало-мальски разгорающихся спорах, гордость считается страстью сугубо подвижнической, поскольку гордиться можно и своим бесстрастием. Оттого гордостью часто называется чрезмерное тщеславие, то есть болезненная радость от того, что тебе оказывается честь. Но это объяснение не вполне православно. Гордый монах может и не быть тщеславным и не нуждаться в людском одобрении, однако в его сердце может свить гнездо сам дьявол, поскольку подвижник может превозноситься сам в себе от собственных добродетелей и подвигов и делать это перед самим собой. В целом я согласен, что монахи народ гордый и любящий вынимать сучцы из глаз лопоухих паломников, несмотря на брёвна в своих. Практически любой монах в России и за рубежом не просто убеждён, что посредством своего чина кающихся он приближается к Богу, но и в том, что его молитвы «сильнее» молитв окружающих. Сами окружающие (воцерковлённый благочестивый люд), казалось бы, и рады таким лоснящимся от елея бородатым божкам и носят их на руках. Схема однотипна – какой-нибудь схимонах Рафаил доблестно противостоит глобализации, сатанинским кодам и новым паспортам, а его братию «греют» люди, старца поддерживающие, но сами имеющие все эти сатанинские знаки для зарабатывания денег. Таким образом Рафаил получает грев, а его поклонник своего рода индульгенцию.
Сила молитв – концепт весьма и весьма спорный, но коренящийся в традиции. Праведный перед Богом человек имеет дерзновение просить в своих молитвах различные блага для себя и окружающих, а грешнику надлежит только каяться, поскольку нет у него дерзновения и прежде необходимо примириться с Господом (под чем подразумевается исповедь, выполнение епитимии и причастие святых тайн). В ином случае просьбы о благополучии это дерзость и безрассудное упование на милость Божью, что вызывает гнев Божий, внезапную и наглую смерть и прочие кары небесные. То есть монашество как институт рассматривается всё-таки мирянами как соль земли и сообщество праведных, в чьих молитвах нуждается мир, а не сообщество кающихся грешников, как оно создавалось. У монашествующих здесь есть прекрасная пиар-поддержка в виде благочестивой подцензурной литературы и восторженных поклонников, передающих из уст в уста слухи о том или ином старце или батюшке. «Чин кающихся» для современных монахов (да и не только для современных) есть удобный социально одобренный образ. Почти в любой культуре есть своего рода ангелы-хранители мест, городов и целых стран. Поэтому сам культ этих хранителей психологичен и естественен. А теперь внимание – следите за палочкой иллюзиониста. Монахи имеют устойчивую связь с загробным миром. На небесах есть крупный сегмент святых, которых называют преподобными – это всё выходцы из монастырей и пустыней. У преподобных есть мощи и раки, у которых можно заказать молебен и помолиться о той или иной нужде. И преподобные обычно считаются покровителями той или иной земли или города. Так и «живые преподобные» – старцы – также пользуются всеми преимуществами этого статуса ещё при жизни. Конечно, быть старцем тоже своего рода труд, но он вознаграждаем как психологически, так и материально.
Сами монахи искренне убеждены, что они с Богом и их молитвы хранят этот мир. Я нисколько не преувеличиваю и не утрирую. Монашеский спецназ – как называл афонских подвижников игумен Афонского подворья в Москве – например, активно распространяет различные пророчества, что конец света будет только после того, как святая гора Афон погрузится в пучины морские и в храме Преображения, что на самой вершине горы, соберутся так называемые «невидимые старцы», которые и отслужат последнюю в истории литургию. У этих пророчеств столько модификаций (от оголтелых до более-менее вменяемых), что можно написать целую книгу и не одну (что, в общем-то, и делается). Такие же благочестивые байки окружают другие духовные центры типа Дивеевского монастыря. Я тут не посмеяться хочу над этими байками, а довести до вас мысль, что намоленность стен, икон и людей делает монахов своего рода «живыми мощами», которые в глубине души весьма и весьма мнят о себе. Самое интересное, что эта внутренняя гордость у них не рефлексируется и не осознаётся. Получается, что в журчании ручья не слышно, как журчит ручей, и в непрестанной невидимой брани против гордости не осознаются в общем-то простые вещи и очевидная собственная безумная гордость не видна. Всё как бы так и должно быть. Вы можете спросить «батюшек» из черноризцев – если монах находится в чине кающихся, не является ли дерзостью просить Бога о благах и тем более «хранить мир» своим молитвенным присутствием? Иначе тогда не носи чёрные одежды и не называй себя кающимся. Житийная литература выходит из этого несоответствия следующим образом – обычно объявленный преподобным монах просто каялся и не видел своих добродетелей (их скрывал Бог, показывая ему его грехи), но при этом перед самим Богом он был праведником и его молитвами держалась земля. Так многие святые просили Бога даровать видение грехов, а не добродетелей.
Но сейчас подобная психология мало распространена, поскольку является средневековой и жёсткой. Это модель сегодня просто не работает. У современных монахов выдержанный стиль, и упор делается на смирение – мы хоть и не такие, как в житиях, но монастыря своего не покидаем, и в этом есть наш подвиг. Есть даже притча о монахах последних времён. Я взял её из интернета и не знаю первоначального источника. Похожих притч я слышал много, и смысл везде был таким – и последние станут первыми – что, в общем-то, тоже укладывается в мои рассуждения о непомерно раздутом самомнении монашествующих, помогающем им оставаться в обителях.
«Несколько старцев-пустынников собрались вместе и стали рассуждать о будущем. Они ясно видели, что в монашеские обители пустыни стала прокрадываться слабость нравов и что нет уже в иноках верности первых старцев.
Один из них сказал:
– Мы стараемся теперь исполнять все то, что заповедал нам Бог. Те, которые последуют за нами, будут это исполнять лишь наполовину. А за ними пойдут другие, из которых большинство уже ничего не будут исполнять. Но те, которые среди этих последних пребудут верными своим обетам, они, как испытанные великими искушениями, будут выше нас и наших отцов».
Это мнение о себе как о молитвенниках (которое, впрочем, не афишируется, но и не отрицается, а если и отрицается, то только чтобы выдержать стиль «смирения») весьма далеко от покаяния по сути, хотя монахи постоянно воспроизводят его стилистически. Впрочем, я лично и не требую, как суровый ревнитель, чтобы монашествующие грызли землю и омачивали полы кельи горючими слезами, проводя свои часы во вретищах и за скудной трапезой вымаливая у Бога себе прощение. Я прекрасно понимаю, что подобный образ жизни уже давно не существует в природе. Даже то, что монахи делают сейчас, на самом деле сложно и тяжело. Даже если они не работают, мало молятся и просто сидят в своих кельях. Ты попробуй посиди так. Это ж добровольная тюрьма – через полгода взвоешь. Это самое горделивое мнение о себе как о молитвенниках, которое подкрепляют восторженные паломники, уверяющие, что по их молитвам в их простых жизнях начинают происходить благие изменения, помогает монашествующим оставаться на своём месте и не покидать своего поприща. Этого от них требует совесть, требует святая церковь и требуют окружающие. Здесь все средства хороши. Это же своего рода призвание, хотя в православии считают «учение о зове» католическим и неверным. То есть монах – это устоявшийся психологический типаж, имеющий корни в традиции и занимающий определённую нишу в обществе. Говорить о том, что всё это вред и всё это зло, я бы не стал, хотя и отговаривал бы от этого пути своих хороших знакомых. Монашеская гордость – не самое лучшее, что человек может получить от жизни. Но для кого-то и этого много. Каждому своё.
Проиллюстрирую, пожалуй, эту монашескую гордость на конкретном примере. Лет десять назад почил на святой горе известный старец Евфимий, который жил при Великой Лавре и в последние годы сильно болел. У этого Евфимия был келейник, который старца не очень-то уважал, в отличие от паломников, считающих его «великим молитвенником» (всё правильно, при ближайшем рассмотрении величие тает, посему оно должно быть покрыто облаком тайны). И вот этот келейник постоянно забирал у старца его ножницы, которыми он постригал себе бороду и усы для причастия. Старец как-то находил новые ножницы, но келейник зачем-то снова отбирал их у него, может быть, для того, чтобы старец не поранился. И вот Евфимий как-то разговаривал с русским постриженником Лавры Афанасием, который сейчас ведёт весёлую интернет-деятельность на Карулях, и начал расспрашивать того про Путина. Афанасий тогда Путина уважал и говорил о нём всякие приятные вещи. Тогда Евфимий прослезился и чуть ли не умоляя спросил: «Если он и впрямь такой хороший человек, то может он мне ножницы прислать?»
– Ножницы? Путин?
– Да! Пусть он мне пришлёт ножницы!
Афанасий сначала почесал затылок, но он почитал Евфимия как старца и воспринял его слова, как задачу, которую нужно выполнить. Он ещё тогда был дружен с «афонским обществом» и позвонил Георгию Полтавченко – нынешнему губернатору Санкт-Петербурга, доведя до того просьбу старца. Полтавченко якобы рассказал об этом Путину, и тот распорядился переслать на Афон посылку с ножницами и другими небольшими подарками. Не знаю, Путин ли на самом деле распорядился прислать посылку, или сам Полтавченко, но старец был очень доволен. Типа, пусть попробует теперь келейник у меня ножницы отобрать, я скажу, что их сам Путин прислал. Не посмеет. Многие скажут, что вот, Евфимий-де прямо как простой и чистый ребёнок, ножницы у президента попросил. Но греки скудоумных в старцах не держат. Это в России любят увечных фриков возводить в ранг святых и слушать, что там какой-нибудь «блаженненький Алёшенька» прорцыт, после того как келейница ему сопли подотрёт. Греки уважают в святых только здравый разум. Здесь совершенно другая идея – не святой простоты, а равенства старца и руководителя большой страны. Старцы на самом деле считают себя фигурами самого крупного масштаба для общества. Как-никак их молитвами мир держится, и самое главное – в это верят миллионы людей. А это, хочешь или не хочешь – великая сила. Конечно, до брахманического уважения Средних веков современным монахам далеко, но марку стараются держать.
Одна моя знакомая как-то попыталась снять куколь с головы старца Власия из Боровска, так что вы думаете – тот встал и отвесил ей хорошего такого леща. Уважает свой чин старец. Верит, что через него Божье делается. А если он сосуд Божий, то и чести этот сосуд требует. А как вы думали? Сегодня во время написания этих строк мониторил православные сайты, и на одном из них нашёл просто шикарную цитату: «Старцу о. Власию было открыто, что вскоре Россию ожидают очень тяжелые испытания. Он обратился к нам, чтобы мы – Русские Афониты – усугубили свои молитвы за Святую Русь». Ага. Оно самое. И конечно же, эти православные подвижники даже не думают, что находятся в каком-то обольщении или обладают неадекватно завышенным самомнением, действительно полагая себя эдакими «воинами света» на обеспечении верующих этим «воинам» православных лопухов.
Есть ещё один момент, касающийся гордости, и тут я уже хочу выступить в качестве доброго, хоть и непрошенного советчика. Совет касается церковного отношения к приходящим в церковь людям. С одной стороны, церковь ценит лояльность, с другой – не делает практически ничего, чтобы поддерживать в людях эту лояльность. В основе такого легкомысленного отношения к овцам, которых, по учению, привлекает в ограду сам Господь, лежит та самая гордость. Мол, тебе надо, ты и приходи. А не хочешь спасаться – значит, дурак. Короче, мы тут спасительным делом организации церкви занимаемся, а твоё дело спасаться. А спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не хочешь? Хрен с тобой. Отойди и не мешай. Потом скажут что-нибудь типа: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если б они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши». И не поспоришь на первый взгляд. Однако такое легкомысленное поведение в отношении приходящих в церковь не имеет основания в предании. Православное предание оставило нам в «Отечнике» интересное свидетельство о послушнике, который очень хотел стать экономом, и игумен вместо того, чтобы смирить его и отвадить от тщеславного наслаждения послушанием, поставил его экономом, объяснив, что монашеский потенциал в послушнике хороший и, если он экономом его сейчас не поставит, тот обидится и уйдёт. То есть церковь ценила приходящих людей, но сейчас, похоже, там действует принцип: «Меньше народу – больше кислороду». Знаете, кто самый главный враг попа? Правильно – соседний поп.
Эта гордость на самом деле – чадо поверхностного (и даже напускного) церковного высокомерия и элементарного неверия в задачи и цели церкви как корабля спасения. Церковь – структура с ярко выраженным преобладанием идейного над материальным. Но идейное заклеймено уже внутри самой церкви как сектантское, и церковь не только не занимается активным прозелитизмом, но и не старается удержать тех, кто в результате тех или иных обстоятельств в неё попал. Люди приходят в церковь с самыми разнообразными талантами, большинство из которых оказывается в церкви невостребованными. Разумеется, верующие пытаются применить их даже в создавшихся условиях, но это просто-напросто никому не надо. Возьму простой пример – издательская деятельность. Я, например, себя нашёл и смог применить свой талант, и моя первая книга даже получила премию «За лучшее художественное произведение 2008 года» на выставке «Православная Русь». Но талант писателя заключается и в критическом переосмыслении некоторых вещей. Как только я начал экспериментировать с литературой – получил отповедь от издателя. Мол, пиши «про духовность», то есть обычную художественную пропаганду. Я лично ничего не имею против пропаганды, но у меня талант несколько другой. Если мы – православные писатели – не будем фиксировать и отображать существующую реальность, она рано или поздно (сегодня скорее рано, чем поздно) вступит в противоречие с транслируемой лубочной картинкой даже в сознании самого упоротого ортодокса. Но основным драйвером поведения современных епископов (да, думаю, и раньше так было) является страх за то, что реальная информация может повредить их бизнесу, ведь реальность противоположна экзальтации. А экзальтированные в церкви – важный сегмент рынка. Они больше боятся не за паству и не за народ Божий, а за свои кошельки и митры. Мало того – они в глубине души думают, что правильно делают, беспокоясь о своём. Что идеалистами являются только дураки. Они не спасают, а лишь успокаивают людей, и скрепляют куполами и крестами постсоветское общество. Лицемерить тяжело. За это общество и вознаграждает материально.
Может быть, всё это и так, но сами ваши страхи иррациональны и в конце концов, как я уже писал в главе о сребролюбии, вредят бизнесу. Ничего не вижу плохого в том, чтобы церковь проявляла себя материально, чтобы она богатела и красовалась своими богатствами. Красота – спасёт мир. Но красота создаётся общими усилиями задействованных в строительстве людей. А условные пастыри снимают с себя всякую ответственность за организацию не только индивидуального спасения, но и коллективного труда. Например, я написал около восьми довольно популярных книг, но ни одна православная сволочь (по некоторым данным, сволочами назывались раньше иподьяконы, волочащие за архиереями мантию) не поинтересовалась, что со мной произошло, когда я начал свою критику церкви. Может быть, для того, чтобы я пришёл в себя, хватило бы простого приглашения на разговор и отеческого вразумления. Но в тот момент я как раз и понял, что церкви как таковой и нет. Если до меня, всё-таки считавшегося одним из популярных православных писателей, нет никакого дела, то до других и подавно нет. Во мне были какое-то время заинтересованы издатели, но я старался дистанцироваться от навязываемого мне пути пропагандиста. Я долго думал, как выйти из этого внутреннего конфликта, и придумал проект типа серии «Жизнь замечательных людей», но о церковных деятелях прошлого и настоящего. Это и не жития святых, и не дидактическая литература, а романы, в которых допускалась милая моему сердцу вольность, но в том числе это была бы крепкая историческая проза. Я даже нашёл людей и озвучил идею проекта в издательстве ПСТГУ. Через какое-то при встрече с моим издателем я удивился, что он рассказывает мне мою же идею как коллективную идею православных издателей и приглашает в качестве одного из авторов. Дескать, они хотят построить один большой магазин православной литературы и запустить эту серию. Я пытался сказать, что эту идею я буквально озвучил неделю назад в ПСТГУ, но издатель это проигнорировал. Это и послужило причиной прекращения нашего сотрудничества. Я опубликовал свой проект в ЖЖ, а издатель обвинил меня, будто я украл чужую идею.
До сих пор думаю, что означает эта ситуация в духовном смысле. Ведь и название моей первой книги было «Украденные мощи». Быть может, коллективное безумие церкви квалифицировало меня как хитрого лазутчика, который «украл» нюансы церковного быта, чтобы потом сделать на этом себе имя? Но во всяком случае, где же их пресловутая серия, если идея их? Рынок заняла постыдная и просто глупая литература. Всё для спасения. Всё замерло и покрылось прижизненным мхом. А как гранитный памятник на могилу православной литературы возложены «Несвятые святые» епископа Тихона – неплохая в целом, но посредственная книга, которую никто уже не сможет переплюнуть внутри церкви. Не знаю, что они там сейчас обо мне думают, поскольку я о них не думаю вообще. Всё сложилось как сложилось. Раз не нужен я церкви, то и церковь такая мне не нужна. Хотя, может быть, для такого, каким я сейчас являюсь, и нужна, но такая, как есть – слабая, бесхребетная и равнодушная. Мне нравится наша христианская культура и наше прошлое. У него тоже должны быть свои смотрители.
Таких покинувших церковь по разным причинам огромное количество. И это люди талантливые и умные – лучшие, как однажды обмолвился в разговоре со мной отец Всеволод Чаплин. Они породили целый феномен расцерковления. Сейчас не Средневековье, и покидающий церковь не сталкивается с общественным давлением. Также бывший православный легко находит другую психологическую и идеологическую основу для жизни, от христианской до атеистической, и живёт подчас куда более радостной и полноценной жизнью. По своему юридическому статусу церковь – обычная религиозная организация, но по своей форме она – наследница той средневековой церкви, которая определяла жизнь и быт целых поколений. Она ещё не растеряла свой вальяжный лоск, с которым обращается и ныне со своими прихожанами. Итоги плачевны – в церквях, как правило, из молодёжи отираются не вполне здоровые люди, а также те самые «синие платочки», которые спасли церковь в советское время. Они не предадут и оправдают перед людьми даже самого жадного и неприятного батюшку, пышными грудьми встав на его защиту. Синие платочки и странные бородатые мужички – это церковный костяк, но уверяю вас – наплюют и на них. Со своими средневековыми верованиями они нужны только в качестве покупателей церковных товаров первой необходимости. Сегодня это уже мало актуально. Если всё будет идти как идёт, скоро в церкви останутся только конченные мазохисты и завернутая в парчу багровоносая гордость.
Гнев
Это, на мой взгляд, самая показательная глава, потому как бесстрастие более всего ассоциируется именно с безгневием и, заглянув во «внутренняя» церкви, можно легко убедиться, что никаким бесстрастием там не пахнет и люди там в моральном отношении являются обычными людьми, если не хуже. И это всё потому, что гнев всегда на виду. Блуд обычно творится втайне, чревоугодие отвратительно, но, если не брать пьянство, не пугает и мало смущает окружающих. Сребролюбие тоже не афишируется, ведь всем известно, что деньги любят тишину. Гордость вообще маскируется под бесстрастие, как рыба-камень (вероятно, самая ядовитая рыба в мире) виртуозно маскируется под камни. И только гнев всегда на поверхности, и гневливый сам себя обнаруживает на страх для одних и на потеху для других.
Для примера вспомню монастырь в Курской епархии, где зачастую происходило всякое непотребство. Однажды одно наркозависимое чадо по имени Семён, у которого отец купался в тюменских долларах, накуролесило с три короба. Мало того что Семён с другими болящими украл со скотного двора и пропил поросёнка, они ночью у братского корпуса избили хворого на голову деда, отобрав у него какие-то копейки. Разумеется, все утром об этом уже знали. Но Семён, как будто ничего не произошло, всё ещё гордо расхаживал по монастырю. После воскресной службы к нему подошёл благочинный в полном парадном одеянии, правда, уже без фелони, но в клобуке и с большим иерейским крестом на груди. Благочинный раньше был боксёром, поэтому старец и поставил его на этот ответственный пост – контингент в монастыре был крайне неоднозначный.
Благочинный выходил как раз на трапезу с братией и паломниками, куда они торжественно направлялись с пением молитв и воскресного тропаря. Увидев Семёна, он побагровел, подошёл к нему вплотную и схватил за шиворот. Затем громко и прилюдно заявил, что, если тот не уберётся из монастыря, пока будет длиться трапеза, он будет лично Семёна… а далее употребил всем известную, но неуместную в этой книге матерную конструкцию, обозначающую жёсткое анальное изнасилование. Гнев так застит глаза, что благочинный в тот момент даже не подумал, как он будет смотреться в глазах паломников, которые по воскресениям приезжали в монастырь на так называемую «отчитку». Разные экзальтированные «матушки» постарались сделать вид, что этих слов не было, хотя потом хихикали между собой, послушники с суровыми лицами восприняли всё, как будто так и надо, поддерживая пафос благочинного. Но мне лично было очень смешно, поскольку обыденное в быту российских гопников ругательство и угроза изнасилования смотрелись в контрасте с длинной бородой и крестом православного монаха просто дико и вызывали комический эффект. На этом контрасте и идёт такая на первый взгляд неадекватная антицерковная реакция со стороны обывателей. Да, в церкви подвизаются простые люди с недостатками и не́мощами, как любят здесь говорить, но ведь заявляется, что люди в церкви трудятся в борьбе над страстями. И якобы сей скорбный труд отделяет их от внешних и возносит на некую духовную высоту. Но контраст декларируемых «истин» с реальным поведением верующих столь велик, что трудно удержаться и первым не бросить в них камень. Каждый из нас сталкивался, наверное, с хвастливым человеком, который всё время говорит «я», «я», но сам из себя ничего не представляет. Это раздражает, и хвастуна всё время охота одёрнуть. Верующие воспринимаются в быту такими же хвастунами, поэтому «внешние» всегда норовят найти на этом «солнце» пятна и утереть нос тому, кто высоко его задирает. Но сами верующие этого не осознают, считая, что подобное негативное поведение внешних идёт от наущения самого диавола, которого, видимо, попаляет огнь благодати в их сердцах. Одному старцу было видение – сердце от причастия «не в осуждение» святых тайн возгорелось небесным огнём.
У меня есть теория, что в церкви адептов с помощью специально составленных молитв и самого церковного учения ненамеренно вгоняют в манию величия, нарекая поверивших «избранным Божьим стадом» и спасающимися «овцами Христовыми». В сравнении с людьми, в церковь не ходящими, это почти святые. Ни у кого здесь не должно появиться сомнения, на чьей стороне правда. Верующий ведь воспринимает учение не только не критически, но и с большим пиететом, а это как компьютер без фаервола – на него можно установить самое разнообразное вредоносное ПО, подчинив операционную систему сочинённому хакером алгоритму. Также адептов вгоняют и в параноидальный бред, когда внушается, что лукавый дьявол непрестанно плетёт сети, дабы погубить ещё одну душу. Вдохновляемые бесами – духами злобы поднебесной – жиды и масоны плетут заговоры, заседая в Бильдербергском клубе и писая в Богемской роще. Эти злодеи внедряют в России УЭК и ИНН – так называемую «предпечать», чтобы вовлечь их в апостасию и навесить на лоб уже настоящую «печать антихриста», гарантирующую вечный ад. Вариаций этого бреда огромное количество, и подобная литература – важный сегмент православного рынка. История у таких людей представляется заговором дьявола против Бога, и сейчас дьявол якобы победил в бездуховных Европах, но адепт-параноик вопреки всем дьявольским козням «спасается». И скоро на земле будет так плохо, что верные будут землю есть, как учила Матронушка, а землица та питать будет. Такие дела. Также весьма распространён и манихейский бред, когда человек делит мир на добро и зло, белое и чёрное, искренне считая себя воюющим на стороне добра. Отсюда и странность, которая происходит с верующим человеком после обращения. Многие, конечно, благодаря своему обращению бросают курить, пить и воровать (что, в общем-то, является плюсом – лучше торчать на религии, чем на героине), но некоторые до обращения были вполне хорошими законопослушными людьми, не курили и не пили, и их новые приобретённые добродетели весьма и весьма спорны.
Мания величия даёт стойкий взгляд на неверующих сверху вниз. Паранойя дегуманизирует неверующего до безвольно плетущегося на поводу у дьявола субъекта, которого, как известно, нужно спасать. А манихейский бред деления мира на чёрное и белое позволяет легко изливаться праведному гневу на нечестивцев, когда острое и злое слово забивается в оппонента как шар в лузу. Но всё же у верующих существует смутное понимание, что они делают что-то не так, и это накапливающееся понимание время от времени выливается в самобичевание и реализуется в покаянном чувстве – «яко свиния в калу лежу». Прозревшие грешники охают и ахают, как будто выполняя супружеский долг, и, покаявшись, вновь возвращаются на свою обличительную стезю, как пёс на свою блевотину.
Но если церковь для людей – это лечебница, куда призываются не здравые, но больные, зачем тогда переносить повадки и понятия своего дурдома на окружающих? Где логика? Выходит, что да – мы больные, но мы осознали свои болезни и поэтому неизмеримо выше вас, своих болезней не видящих. Видите, как всё запущено? Нездоровье, оказывается, тотально, а они его якобы видят у себя, оттого и получают право учительствовать. Хотя со стороны в некоторых случаях в самих верующих явно просматривается некая симптоматика, православный говорит: «Да, это так, и я это понимаю. А вот ты нет». Если оппонент начнёт возражать, его начнут упрекать в гордости и прелести, пеняя на какие-то недостатки. Вообще с православными лучше не спорить, поскольку любой спор перерастает в совершенно идиотский разговор, в котором одерживает победу православный, поскольку он низводит оппонента до своего уровня. Если говорить о здоровье в общем, то православие вообще его не приветствует, а всевозможные болезни часто по крайней мере воспринимаются православными как «милость Божья». «В здоровом теле – здоровый дух» – это ой как не по-православному. Церковь просто не заинтересована в развитии спорта и общей физической культуры. Человек должен быть с перекосом, с надрывом, с религиозной дурью. Лоялен структуре, а не турнику. Его плач, страдания и никчемность отольются епископу в митру. Человек должен звучать не гордо, блекло, смиренно. Исторически спорт, олимпиады – были неотделимой частью античной греческой культуры, репрессированной имперским православием. Античный культ тела изначально был в контрах с православием, как две враждебных друг другу культуры жизни одного греческого народа. Православие стало первой победой Азии над Европой. Затем были другие. И столица мира, одна часть которой в Европе, а другая в Азии, просто обречена была стать азиатской. Спорта нет без увлечения, а церковь ревниво относится к любым увлечениям, кроме долгих изнуряющих молитв, что по всем душеспасительным отечникам угодны Господеви. «Спасётся столько людей, сколько в будний день молится в храме», – говорил Амвросий Оптинский. Спорт и физическая культура – это ж как бы угождение себе, фокус смещается с Бога на себя, своё тело. Непорядок. Спортом часто занимаются по выходным. А как же – помни день субботний? Воскресенье богови, любой праздник богови. Утро богови, день богови, вечер богови. Отдельная статья – питание. Три продолжительных поста, один – великий, и среда-пятница – это ж ни один спортсмен не выдержит. Питание в спорте полдела. Церковь спортсмену просто неудобна. Даже ислам удобнее, легче для спорта. Нельзя быть искренним спортсменом и искренним православным одновременно. Конечно, думаю, что для Фёдора Емельяненко, например, духовник сделает в этом отношении послабления. Спорт церкви не нужен, а вот свои гвардейцы не помешали бы, поэтому она в последнее время вполне лояльно относится к боевым искусствам. Но боевые искусства – всё-таки это не общая физическая культура. Православные святые учат молиться всегда и во всякой нужде, но к телу относиться пренебрежительно, поскольку оно, будучи здоровым, может якобы одержать верх над духом.
Непонятно как аскетические идеалы монахов восторжествовали и стали в церкви мейнстримом, но факт остаётся фактом – церковь не заинтересована в здоровом крепком поколении, потому что вряд ли такое поколение заинтересуется церковью с её болезненными аскетичными идеалами. Помню, как в лучшие годы своего странничества и послушничества я находился в Черногории, и однажды во время паломничества в монастырь Острог меня поселили в келью с трудником-бодибилдером. Он помогал убирать в храме (в халате, как и полагается труднику), а потом в келье качал мышцы с помощью гантелей по какой-то странной системе. В моём типичном сознании постсоветского верующего монастырь и бодибилдинг уж никак не сочетались. Я реально смотрел на него, как на идиота. И кому из православных я потом об этом случае ни говорил – все смеялись. А вот сейчас и я регулярно хожу в зал качать мышцы. И мне не смешно. Какова ирония! «Для духа молитва, а для тела гантели» – так объяснял свою позицию тот трудник. Не знаю насчёт молитвы для духа, а гантели телу уж точно не повредят.
Для меня церковь и монастыри являются показательным срезом общества, как тюрьма или армия, по которому можно судить о состоянии общества в целом. В девяностые в церковь пришли, конечно, самые разные люди, их было много. Но сегодня остались не самые плохие и не самые хорошие, но или самые больные, или самые замотивированные. Гневливых в церкви тоже немало, и они пользуются определённым пониманием. Есть у православных один термин, который более всего касается раздражительности – «искушение», когда монашествующий или мирянин, часто после продолжительных молитв и недосыпания, вроде бы пребывает в хорошем и ровном состоянии духа, даже умильном, я бы сказал. И тут откуда ни возьмись появляется человек, который тебя начинает непомерно раздражать. Или шуметь кто-то начинает. Или вещь важная неожиданно теряется – поводов для «искушения» масса. Само это сильное раздражение и сопутствующие ему события и называется у православных искушением.
Виной тому они называют, естественно, если не самого дьявола, то мелкого беса, который разжигает огнь раздражения с помощью вереницы разных мелких событий. Называют такого беса соответствующе – «пакостник», поскольку во время искушения обычно ничего серьёзного не происходит и чисто со стороны это буря в стакане воды. Подобные «искушения» случаются часто буквально на пустом месте, а вред или скандал от них бывает большой. И заметьте, обвиняются в искушении злые люди, подвернувшиеся под руку, и инфернальные силы. А сам раздражающийся принимает на себя роль жертвы. Второе название «искушения» так и именуется – «нападки». К примеру, представьте, что на меня начинает крыситься какой-нибудь монах, объясняя это нападками. Причем я его действительно почему-то раздражал – то пел не так, то отвечал не так, то поглядел не так. В общем, искушал я его. А он что? Да ничего. Терпел нападки, не расхристанно же орал во всё горло с выпученными от гнева глазами, как виделось мне. Воин же Христов, а не какой-нибудь безблагодатный мирянин. Искушение у него. Хотя, скорее всего, так отрыгивался в монахе постоянный недосып, отсутствие сексуальной жизни, недостаток каких-нибудь веществ в организме из-за продолжительных постов, а также общая измотанность и неудовлетворённость жизнью. Немаловажным раздражающим фактором является и пресловутое послушание, когда вся твоя жизнь определяется другими людьми, а твоя личная воля репрессируется как самочиние. Раздражение – это чёткий маркер ослабленного организма. Но православный пребывает в обольщении своей мнимой духовной силы, поэтому здравая идея ослабленности организма конфликтует в нём с высокими представлениями о себе как о подвижнике. Даже если он и признаёт, что подвижничество его сильно ослабляет, всё равно он уверен, что посредством этого ослабления его дух возвысился. Отсюда раздражение от подвижничества испокон веков рационализируется как «нападки». То есть признак духовной силы и готовности к подвигу, а не телесной слабости.
Это давняя традиция, широко распространённая в православном быту, хотя об этом как-то не принято писать. Особенно сильно бес нападает во время постов. Разумеется, поскольку организм ещё сильнее ослабевает, раздражение в посты усиливается. Но православные рационализируют этот феномен как постовые происки врага. «Нападки»-де усиливаются, поскольку с помощью поста и молитвы православный ополчается на страсти. Сей род только так прогоняется. Но уходить сам не хочет, сопротивляется. Православный часто убеждён, что со временем его страсти совершенно источатся от подвига и он станет безгневным. Однако пусть не надеется, борьба эта продолжается до последнего вздоха и гнев преследует человека, как я покажу дальше на доступном примере, и в самом преклонном возрасте.
Сам я тоже, бывало, гневался, но гнев мой происходил обычно от пьянства и недосыпа. Однако на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре приходилось стойко терпеть собственное раздражение, ведь тамошние монахи зорко следили за поведением послушников. Это люди тонкие, и если заметят бычье сопение в ответ на поучения иеромонахов, то начинают ещё больше досаждать, чтобы послушник или смирился, или же покинул обитель и сам себя этим дисквалифицировал. Таких «дисквалифицированных» в целом половина Афона. Не в силах сдерживать свои раздражение и гнев, а сдерживать их куда сложнее, чем, к примеру, сдерживать блудные позывы или желание стяжательства, они уходят (чаще всего со скандалом) и бродят от монастыря к монастырю. Или вовсе оседают в пустыне. Если вы думаете, что в афонских пустынях обитают самые суровые аскеты и великие молитвенники, то спешу вас разочаровать. Это в большей мере пристанище для «дисквалифицированных».
В пещерах на Афоне часто предаются откровенному пьянству или, сходясь с зилотами, занимаются злословием в отношении масонских, по их мнению, монастырей. Особенной нелюбовью у них пользуется Ватопед, в котором частым гостем, например, является английский принц Чарльз. Встречаются между монахами и откровенные драки, особенно если они хорошенечко подопьют. Люди в пещерах отираются своенравные и свирепые, хоть и полудохлые от бродячего образа жизни и постоянного пьянства.
Моим послушанием в монастыре было петь, а партесное православное пение весьма сложный процесс, поскольку ты поёшь не один и не в унисон, а выстраиваешь гармонию вместе с другими певцами. Монастырь – это место, где принято недосыпать, что уже само по себе вызывает раздражение. А монастырский устав просто варварский и жестокий для певцов. Певец должен много спать и много есть, чтобы хорошо петь. И беречь себя от болезней. Но ежедневное продолжительное пение вызывало хронический ларингит и вместо пения певчие иногда хрипели на связках, что дико злит тех, кто поёт с ними в унисон. А учитывая, что храмы зимой не отапливаются, петь было очень тяжело. И когда при всём при этом кто-то начинает фальшивить, раздражение растёт по экспоненте и само пение становится невыносимым. Бывает, что и ты кого-то раздражаешь своим пением. Я пел первым тенором, а это самый высокий тон и самый раздражающий для окружающих. Если ты где-нибудь занизишь, это сразу же нарушает всю гармонию.
И наконец, самое неприятное, что в довесок ко всему раздражается и сам регент, который благодаря своему высокому статусу имеет право сбрасывать своё раздражение на подчинённых. Ведь помните – отцы смиряют, послушники смиряются. Я простоял на клиросе несколько лет с крайне негативно настроенным и просто злобным регентом-украинцем, который очень хотел войти в собор старцев, для чего ночи напролёт учил греческий язык, а утром приходил на клирос невыспавшийся и злой. Поскольку он был иеромонах, его статус позволял «гневаться и не согрешать». Попросту говоря, он злобствовал в отношении всех певцов, но особенно отыгрывался на самых бесправных певчих, в том числе и на мне. Сам я тоже человек с характером, и эта выливающаяся на меня злоба провоцировала ответное раздражение, которое по своему низкому статусу в монастырской иерархии я должен был сдерживать.
Регент же был настоящим садистом, и у него даже было моральное обоснование собственного поведения, основанное на армейском опыте. Он часто вспоминал, как, будучи старшим сержантом, избил одного уснувшего на посту солдата до крови. Бил прикладом. Регент считал, что правильно делал, так как в армии нужно любыми способами держать дисциплину.
И иногда он спрашивал у меня, правильно ли он сделал тогда, чтобы обосновать свои действия и раздражение в отношении меня. Я тогда лишь пожимал плечами, а сейчас у меня сии духовные словеса вызывают лишь снисходительную усмешку. Если бы его слова были справедливыми, то воспитанная такими «гениями» украинская армия должна была быть «всех сильней». Однако я этого на Донбассе не заметил. Удивительно, как в этих мозгах причудливо оправдывалась бесцеремонность и злоба в отношении подчинённых. Ведь он с помощью «нападок» (лучше не скажешь) воспитывает в нас «дух», а не просто отрыгивает своё раздражение в отношении куда более бесправных, чем он, людей. Честно говоря, я терпел, насколько мог, а мог я тогда многое, ведь у меня был достаточно серьёзный подход. Тем не менее, меня один раз напугало, что гневные помыслы начали рождать в сознании образы убийства. Сами угрозы убийства на Афоне я слышал и в отношении себя. Мол, легко где-нибудь выманить человека в кустарник, ударить камнем по голове, а потом либо прикопать где-нибудь тело, либо выбросить в море с грузом – падальщики-осьминоги постепенно его утилизируют. Вряд ли кто-нибудь будет тебя искать. Ну сорвался, уехал. Не выдержал…
И вот однажды раз красил крышу архондарика, сидя на самом верху, а внизу у самой кромки крыши ходил тот самый регент без страховки. Архондарик – он очень высокий, а улица внизу каменная – костей не соберёшь. Очень просто незаметно по крыше скатиться вниз к кромке и толкнуть в спину не подозревающего регента вниз – вряд ли он выживет после падения. Образы воображаемого убийства стали красочными яркими представлениями и как бы единственным выходом из создавшейся ситуации. Меня это напугало – с тех пор я прекрасно понимаю, как человек может убить другого из ненависти. Христианский принцип побеждать зло добром в этом случае не сработал, поскольку регента невозможно было победить добром. По крайней мере для меня. И, честно говоря, несмотря на все громкие церковные декларации и свидетельства, оставленные в многочисленных житиях святых, я не видел ни одного внятного случая, когда откровенное зло реально побеждалось добром. В быту смирение, может быть, и могло победить, поскольку, как я уже говорил, настоящее смирение – это благородное и сильное качество, вызывающее симпатию. В идеале такое смирение должно соответствовать высокому статусу старца или духовника. Тогда оно работает. А если ты никто, да и благородства внутреннего мало, как ни опускай гриву, только сильнее трепать будут. По-настоящему злому человеку даже в радость показать «смиренному» всё его лжесмирение. Без достоинства оно и превращается в лжесмирение, а топчут же как раз твоё достоинство, как скуфейку из притчи. В итоге я в тот же день (когда красил крышу и подумал об убийстве) подошёл к духовнику, рассказал о мыслях и образах убийства и попросился на другой клирос, где было полегче. Другого выхода для меня тогда не было. Тем не менее я терпел, покуда мог терпеть. Это был мой жизненный принцип в монастырях. Поэтому у меня сейчас, спустя много лет, нет ощущения, что я где-то сдался или побежал от страха и желания покоя, как один из сорока Севастийских мучеников в баню из холодного озера. Поэтому же у меня нет никакой обиды на монастыри и монашествующих. Всё было честно.
Меня, кстати, так чуть не скинул вниз один послушник в искушении. Ему показалось, что я подменил на послушании какие-то баночки с краской или каким-то раствором. По его мнению, я подменил эти баночки со злым умыслом, чтобы «искусить» его и лишить душевного покоя. Мои оправдания, что никаких баночек я не менял, казались бедолаге лишь явными признаками моего лицемерия и особого цинизма. Классика. Этот послушник – тоже щирый украинец – бросил в миру свой строительный бизнес и занимался в монастыре именно стройкой. Работал он много, энергии отдавал монастырю очень много (однажды под его руководством мы достраивали храм Петра и Павла с усыпальницей сорок восемь часов подряд, с перерывами лишь на еду). Но голова была его слабым звеном. Паранойя – вещь довольно суровая, и здесь я не вижу с его стороны какого-либо умысла и понимаю, что в его представлении я действительно казался каким-то демоническим искусителем, поэтому якобы и подменил эти баночки. Духовник поменял мне послушание, и после дня три мы с тем строителем-послушником не здоровались. Потом приехал в монастырь один дальневосточный архиерей, которому духовник монастыря (как и другим российским и украинским архиереям) в знак уважения давал исповедовать братию.
Я у него исповедался, рассказал про «баночки», и он меня как-то утешил, типа прости его по-христиански. А я сказал: «Владыка – помолюсь». В архондарике, где я тогда жил, рассказал об этой исповеди одному труднику, поделившись своими впечатлениями, мол, хороший такой владыка. На сердце было спокойно. Ко мне вдруг подошёл этот послушник-строитель и спокойно, даже смиренно вызвал меня на разговор на крыльцо третьего этажа. Я грешным делом подумал, что молитвы владыки дошли до престола Господня и послушник-строитель принесёт мне сейчас свои извинения. Но не тут-то было. Сначала он спокойно так говорит мне:
– Исповедался?
– Да. Исповедался. И владыка такой хороший, рассудительный, – говорю про владыку и всё ещё думаю, что он сейчас попросит прощения. Но следующий вопрос показал, что его намерения были другими.
– А про баночки ты ему рассказал?
Я раздражился тому, что снова придётся доказывать свою невиновность и начал оправдываться, на что тот резким толчком перекидывает меня через перила вниз головой и держит меня за ноги. Глядя на каменный тротуар с приличной высоты, я слышу угрозу:
– Если ты не признаешься, что подменил баночки, я сейчас тебя скину вниз!
Расстояние до каменного тротуара было метров пятнадцать. Убиться было весьма легко. Каким-то чудом я вырвался и убежал, крутя пальцем у виска. Рассказал всё духовнику отцу Макарию, который сказал только, что поговорит с ним. Послушнику объяснили, что земля круглая, а трава зелёная, и он вроде как даже покаялся и признал свою неправоту. Однако всё равно чувствовалось, что он меня до сих пор считает человеком, подменившим эти чёртовы баночки. И потом у меня с ним была ещё пара неприятных инцидентов.
Как я уже говорил, ежедневное раздражение мне приходилось сглатывать, как слюну, что дурно сказывалось на здоровье. В итоге (как раз в то время, когда на ум стали приходить картины возможного убийства регента) раздражение внутри сердца начало скапливаться, а я старался в соответствии со средневековыми манускриптами пожигать его Иисусовой молитвой. Не знаю физиологии этих процессов, но однажды гнев прямо начал выедать сердце изнутри, а потом в сердце что-то лопнуло, и мне стало очень плохо физически. Где-то неделю я еле ходил, а сердце в груди трепетало, как птица в силке. Сил не было вообще. К врачу я не обращался, и до сих пор не знаю, что это было. Возможно, микроинфаркт. Но я расценивал всё это тогда с «духовной» точки зрения. Наибольшим материальным объяснением происходящих «духовных» процессов послужили книги Тихомирова из девятнадцатого века, в одной из которых он объясняет, что в том месте, где святые отцы учат «опускать ум в сердце», по врачебным воззрениям того времени находятся два нервных узла – это и есть то самое «сердце» святых отцов.
Отсюда возникает эффект умиления при сердечной молитве. С того времени, когда Тихомиров писал эти книги, прошло больше ста лет, и сейчас фундаментальная медицина куда мощнее, но никакой «старец Рафаил» не спешит пройти исследование, чтобы явить миру физиологию сердечной молитвы. Хотя заявляется, что этой молитвой мир держится, в её силу и реальность, собственно, мало уже кто верит. Сила Божья в тайне совершается, и современные старцы удовлетворяются маргинальными перфомансами для малого стада – избранного круга верующих. А что там реально происходит с людьми – науке то неизвестно. В подвижнической литературе часто используется образ «лопания»: страсть-де извелась от молитвы. Да, физиологию же этих духовных процессов никто не знает, но подвижники в старости обычно представляют собой настоящие развалины. Подозреваю, что все эти духовные методы борьбы со страстями – род средневекового самоистязания варваров, может быть, и укрепляющего дух в том смысле, как его укрепляют тюрьма или армия, но уж точно не имеющего отношения к здравомыслию.
Есть ещё один интересный момент, касающийся гнева. Он в православии может быть полезным и даже праведным. Зависит же это только от того, куда ты этот гнев направляешь. У почитаемого старца, как сакральной фигуры, на которую молятся, любой гнев праведный. Я был знаком со старцем Василием Швецом, который считался великим подвижником и таковым и являлся. Человек реально подвизался покруче любого монаха, хотя был простым митрофорным протоиереем. Но он был настолько гневливым, что мог сломать стул о спину алтарника, если, к примеру, тот не успеет вовремя подать кадило. Если ко кресту после литургии подходил курящий человек и старец учуивал запах табака, он сразу же бил его железным крестом по голове. Отец Василий требовал, чтобы перед чашей со святыми дарами все в храме вставали на колени и, бывало, гневно орал на весь храм, если кто-нибудь не додумывался сам встать на колени (собственно, по церковным правилам это не обязательно). В церкви такой гнев называется «ревностью по бозе» и считается добродетелью, хотя по форме это самый что ни на есть обычный гнев, сопровождающийся возбуждением, увеличением сердцебиения и покраснением лица. Но ревность по бозе – это полезная канализация гнева, а бесконтрольный гнев считается страстью, нуждающейся во врачевании.
В Библии много примеров такого праведного гнева. И сам Бог неоднократно гневался на свой народ, подвергая подчас его жестоким карам. Новый Завет смягчил понимание гнева и однозначно осудил насилие, но человеческую природу он не изменил. Поэтому православные должны и будут испытывать праведный гнев, если оскорбляются их святыни. И здесь невозможно научить православного толерантности. Святыни для них окружаются очень трепетными, родственными чувствами, поэтому они часто остро реагируют на хулу, как мать реагирует на оскорбление ребёнка. Но говорить, что эти религиозные чувства – плохо и глупо, означает обычную антирелигиозную пропаганду. Религиозные же люди не так глупы, как часто представляется – обычно это вполне современные люди, придерживающиеся христианского экзистенциализма. Религия поддерживает их внутренний баланс и помогает выживать. В современном мире религиозные чувства – есть некая уязвимость, и провокатору очень легко играть на этих чувствах. Но думаю, что через поколение-два православные адаптируются к действительности, и оскорбить их будет уже не так легко. Всё дело в том, что знаменитое возрождение православия после семидесятилетнего вавилонского пленения коммунистами рассматривалось народом как реставрация, поэтому за основу были взяты средневековые представления о церкви, которая в советское время не развивалась, а приходила в упадок. Естественно, эти средневековые представления конфликтуют (и порой очень жёстко) с окружающей нас действительностью, но, думаю, объективная реальность такова, что церковь в России сохранится, найдёт свою нишу и постепенно приспособится к миру. Однако перед этим будет период коллективной церковной фрустрации (который уже набирает силу), когда верующие наконец поймут, что реставрация церкви в том виде, в котором она была, невозможна, да и в принципе не нужна – ничего хорошего во времени Феофанов Затворников и уж тем более Василиев Великих не было.
С другой стороны, сейчас для верующего появились все возможности для реального личного морального совершенствования, чтобы явить миру преимущество быть православным. Сейчас очень удобное, почти тепличное для православных время: подвизайся – не хочу, яви, если сможешь, миру всю красоту православия. Пока этот вызов православными особо не подхватывается, и почти все в церкви хотят лишь быть частью большого православного целого, навязывающего свою волю меньшинствам. Помню, как меня удивил афонский монах Силуан – врач Свято-Пантелеимонового монастыря. Сам по себе Силуан – беззлобный и простой человек, но он как-то мне сказал, что «скоро мы изгоним из России всех неправославных». Так и сказал – изгоним. Не знаю, как сейчас, но тогда большинство в монастыре, включая и меня, считали, что набирает силу настоящая церковная реставрация вместе со всеми болячками Средневековья, считающимися законными и благочестивыми церковными действиями, как пощёчина Николая Чудотворца еретику Арию.
Разумеется, подобный подход общество никогда не примет. Поэтому монахи сегодня не являются мудрыми водителями человечества, а скорее ролевиками-толкиенистами и обычными смотрителями средневековой традиции. В чём-то они могут помочь, но в целом монахи основываются на конфликте с обществом, противопоставляя ему церковь в общем и монашество в частности как законную альтернативу, которая никогда уже не победит, но будет привлекать людей определённого склада ума и характера. И они будут ограждаться от общества с помощью своего раздражения благодати ради. Святые отцы называют гнев «силой души». В православии задействована античная антропология, где душа имеет мыслительную, раздражительную и желательную силы. Тимосом (раздражительной силой) греки называли напряженность душевной энергии. Сила души, по св. Исааку Сирину, «проявляется в природной ревности и усердии». Платон помещал умную часть души в голове, тимос в сердце, а эпитимию (желательную силу) – в печени. То есть гнев как страсть является лишь неспособностью человека обуздывать и покорять эту силу, а не само вызываемое гневом возмущение. Здесь есть один момент, который я считаю своим долгом разъяснить, поскольку эти нюансы мало кто понимает. Гнев – самая шумная и разрушительная страсть, поэтому нуждается в обуздании. Ведь внезапный гнев часто служит причиной убийства. Средневековые монахи, которые, стиснув зубы, учились борьбе с гневом, на самом деле были носителями передовых на тот момент знаний о человеческой психологии и сами были практикующими психологами. Их пример вдохновлял многих мирян, в числе которых были люди, носящие меч и скорые на гнев. Монашество питало христианство в целом, а религия помогала отдельным индивидам держать себя в руках. Христианство послужило колыбелью цивилизации, а монашество было её нянькой.
Средневековые люди были практически дикарями по современным понятиям, а их жизнь в общем была очень суровой, поэтому и лекарство было суровым. В этом – единственная причина того, почему средневековые монастыри напоминают современному человеку худшие образцы изуверских сект. Взять, например, пятую главу известного монашеского манускрипта «Лествица», которую вряд ли сегодня будут рекомендовать для исполнения даже самые аскетичные подвижники, хотя «Лествица» и до сих пор считается главным мануалом по борьбе со страстями, и эту книгу продолжают рекомендовать всем поступающим в монастыри. «Лествицу» по православным правилам необходимо читать Великим постом между последованиями. Пятая глава повествует о некой темнице, куда игумен ссылал согрешивших монахов и которые там умирали в покаянии от болезней, голода и холода, тем самым обретая спасение.
Не удивляйтесь, но такое изуверство сегодня продолжают на Афоне проповедовать. Хотя вряд ли кто-нибудь и живёт по «Лествице», как хвалился перед учёными ещё в начале века Силуан Афонский. В сознании современного православного лучшие представители по-дикарски сурового Средневековья являются золотым фондом аскетики, как для российского литератора золотым фондом являются Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Словарный запас современных писателей богаче, и идеи, поднимаемые ими, куда сложнее, – но золотым фондом всегда останутся Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Так и в аскетике: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст всегда в сознании современного монаха останутся недостижимой величиной, хотя трудно сказать, что представляли собой эти люди в реальности. Если бы человечество придумало машину времени, думаю, что православные пережили бы немало разочарований.
Однако в чём-то православные правы – эти святые действительно представляли собой лучших людей своего века, и это было практически общепризнанным. Монахов почитали за наставников цари и сановники, купцы и военачальники. Сегодня же церковь хоть и копирует стиль Средневековья, количество информации о реальном положении дел всё-таки говорит о том, что авторитет церкви низок. Это не значит, что люди там по-особенному дурные или плохие. Нет. Это значит, что церковь, и в том числе монашество, на сегодня – отжившие своё институты, не оказывающие серьёзного влияния на ход цивилизации и даже тормозящие её развитие. У православного ведь совершенно другие стандарты человека и общества, заимствованные им из той же «Лествицы» вместе со средневековым пафосом. Разумеется, эти представления вступают в противоречие с действительностью и современным подходом к человеку. Православие параноидально и не ждёт от жизни ничего хорошего, а монашество – это самое средневековое крыло православия, где вызревают подчас странные идеи, ставящие в отношении остального «неверующего» общества психологическую границу. Эта граница появляется у православного адепта и составляет в нём вместе с пафосом тот самый тимос Платона – раздражительную часть души. То есть по православному учению тимос обеспечивает душу необходимой энергией, но и вредит, если становится неуправляемым.
Со стороны хорошо видно, как православный тот же самый тимос у иноверца рассматривает как фанатизм, глупость и изуверство, а также чуть ли не предательство, хотя ту же самую эмоцию у своих братьев почитает, осуждая лишь «ревность не по разуму», то есть беснование самых одиозных церковных персонажей. Этот же пафос хорошо просматривается и у атеистов, которые считают церковь пристанищем самого дурного мракобесия, что мало отличается психологически от восприятия какой-либо религиозной структуры как вертепа сатаны или еретического сборища. Многие покидающие церковь не могут перестроить свою психику и демонтировать чёрно-белое мышление и в итоге лишь меняют плюс на минус. Раньше он любил боженьку и осуждал неверующих, а сейчас считает себя пробудившимся и воспрявшим от мракобесия и клеймит верующих чуть ли не как злодеев или слабоумных поповских марионеток, что не является правдой в той же степени, как не является правдой и то, что неверующий человек является невменяемой сволочью (по словам Достоевского – русский человек без Бога дрянь).
Тем не менее застрявший в православии по разным причинам чаще всего человек с нечётко оформленной личностью, которую нужно ежедневно по несколько раз на день собирать воедино с помощью келейных и общественных молитв. Ему кажется, что так выстраивается над ним некий купол и некий щит, избавляющий его от «стрел лукавого». Большинство этих «стрел» воображаемы, и такая бдительность играет с адептом плохую шутку – он перестаёт видеть реальные угрозы и живёт непрактично, излишне уповая на Бога, то есть прочно основываясь на трёх русских сваях – авось, небось и как-нибудь.
Есть ещё один малоизученный момент. В человеке изначально заложен пафос освобождения от репрессивной социальной системы, который хорошо считывается в многочисленных творениях от Гомера до наших дней. Сериалы, книги, видеоигры – везде внимание приковывают противостоящие системе герои. Значит, нужно признать объективность этого чувства. Ты сочувствуешь и отождествляешь себя с этими персонажами. Это приятно и это глубоко в нас. Сам по себе пафос освобождения инстинктивный и не осознаваемо безрассудный, почти на уровне рефлекса. И в религии есть где этому чувству по-настоящему развернуться. Практикующий верующий рационализирует, что «борется против зла», хотя, возможно, просто испытывает некоторую приятность от ощущения сопротивления «злу». По сути, отличие погружающихся в пещеры пензенских затворников от белоленточных борцов против «тирана» минимальное и заключено в разной стилистике, обусловленной происхождением, воспитанием и окружающей средой.
Верующий страшится дьявола и князя мира сего, но он ему же и противостоит, как современный революционер Путину. Противостоит по-настоящему – до крови, до застенков, до пещер. Как истинный «воин света». Серьёзный подход к этим инстинктам и движение на поводу этих инстинктов – вещь несовременная и, честно скажем, отсталая. Зачем искать на свою задницу приключений и заниматься вандализмом в отношении себя, если сегодня на этом пафосе освобождения построена целая индустрия? Я, например, во время написания этой книги прохожу видеоигру «Evil within 2», испытывая те же самые чувства «борца с матрицей», избавляя свою повседневность от избыточной истерии, но не усугубляя свою жизнь обременительным противостоянием с властями или не менее обременительным и вредным для здоровья подвижничеством. Власть позволяет мне законопослушно жить и развиваться. Развитие государства зависит от суммы развития его граждан. Что ещё от неё нужно?
В игре ты победил матрицу и спокойно вернулся к своим обязанностям. А в реальности, конечно, эмоций куда больше, но и похмелье затягивается на годы, а то и на десятилетия. Церковь пытается уверить власти, что настраивает этот тимос пасомых таким образом, что в случае каких-нибудь проблем все верующие как по команде встанут под ружьё и лягут в окопы. Но это далеко не факт, поскольку церковь не признаёт власть конкретно этой команды, кому поёт сейчас дифирамбы, а сам принцип власти, поэтому опираться на неё вменяемый лидер не будет. РПЦ в этом отношении организация совершенно сервильная, а в нравственном отношении слабая. По слову одного из моих собеседников – «делать из христианства долговременную государственную идеологию, особенно же военно-государственную, стало совершенно невозможно, как невозможно вывести сторожевого кота. В самый ответственный момент он начнет урчать и ластиться, и все, на что он способен – воровать колбасу».
К тому же законопослушных верующих не так много. Многие считают власти «масонскими» и исполнителями роли «мировой закулисы» и готовы фрондировать по любому поводу, устраивая в качестве устрашающей акции крестный ход. И даже у тех, кто на словах показывает лояльность, всегда спрятан камень за пазухой. И да – у верующего всегда Закон Божий будет выше Конституции. Верующие, скорее, хотят «купить» власти своей лояльностью, а не реально лояльны. Впрочем, это как раз нормально.
Уныние
Последняя глава будет повествовать о самой главной монашеской страсти. Именно уныние, а не гордость и не сребролюбие, является королевой монашеских келий. Сребролюбие касается только некоторых счастливых монахов, как кресло мерседеса касается лишь некоторых поп: благородное стяжание – удел избранных. Гордость, которую монахи прежних времён записали в королеву монашеских келий, уже давно не живёт в обителях. Гордиться, собственно, монахам нечем, хотя они с завидным упорством имитируют эту гордость, зная, что без этого внешнего лоска они не привлекут к себе боящихся жизни. Многие миряне преодолевают свой страх перед событиями жизни с помощью посредников (заступников), якобы имеющих особое дерзновение перед божеством. А посредник, если «зрит Бога», должен быть в определённом монашеском образе. Ангельском чине. Иначе веры ему нет. И хотя сам монашеский устав растит у подвизающихся завышенную самооценку, уважения к монахам в обществе уже не так много, как это было раньше, до революции. Сами же плачут, что подвига нынче днём с огнём не сыщешь. Чревоугодие монахи и вовсе уже за грех не считают, а на пьянство смотрят плохо, но с пониманием. В монастыре же тоска смертная, как тут не выпить? Большинство монашествующих всё же не блудники и пытаются соответствовать каким-то христианским нормам и следовать монашескому уставу. Но выглядит всё, конечно, жалко. Судя по издательскому тренду, подвижническая литература России акцентирует внимание «благочестивых» читателей на покаянии и на монашестве так называемых «последних времён», когда уже нет никаких духовных даров и спасать будет только плач о своих грехах. То есть рационализируется факт повального уныния в монастырях, что выдаётся за некое покаянное чувство. Стилистически это довольно похожие эмоциональные состояния…
Тем не менее, несмотря на все мои критические слова и заявления, свидетельствую, что православие – это всё-таки некая базовая ценность для русского человека. Сейчас, когда я пишу эти строки, пришла весть о смерти российского сатирика Михаила Задорнова, что он перед смертью примирился с церковью и приобщился святых тайн. И это совершенно нормальное поведение человека, находящегося перед порогом смерти. В последние месяцы или дни жизни эпатаж и земное мудрование спадают, как старая кожа змеи, и возникает нужда ухватиться за что-то основательное. Василий Розанов говорил, что Христос нужен человеку, когда приходит его смертный час. В последние месяцы жизни он тесно общался с известным религиозным философом и священником Павлом Флоренским, но отказался у него исповедоваться перед самой кончиной: «Нет, где же Вам меня исповедовать. Вы подойдете ко мне с “психологией”, как к “Розанову”, а этого нельзя. Приведите ко мне простого батюшку, приведите “попика”, который и не слыхал о Розанове и который будет исповедовать “грешного раба Василия”. Так лучше…»
Простота и неотвратимость смерти легко соединяются с традиционной религией, как и сама смерть, примиряющая простецов с философами и богатых с бедными. Но трудно совместить смерть с борьбой против религии. Смерть людей антирелигиозных часто превращается в мучительную агонию. Хотя некоторые атеисты утверждают, что им легко воспринимать собственную смерть – «было время, когда нас не было, и никаких страданий тогда мы не испытывали». И напротив – человек, верящий в вечную жизнь, вынужден всё время давить в себе сомнения, умерщвляя критическое мышление. Тем не менее никто не может отменить смерть и ритуализацию смерти. Монахи, да и вообще все религиозные люди, напоминают всем своим видом о неотвратимости смерти – задача, в общем-то, нужная, но сложная именно своей основательностью. Критики церкви часто этого не понимают, фокусируясь на каких-то бирюльках типа роскошных панагий и митр или на какой-нибудь довольно скромной яхте, на которой, дай Бог, раз в год на пару деньков патриарх сможет покататься. Особенно фокусируют своё внимание почему-то на часах, которые неумолимо тикают, приближая нашу кончину. «Брегеты» ли это или часы «Луч» – да какая, собственно, разница?
Общество иерархично, и предметы роскоши, специфические аксессуары есть маркер принадлежности к определённому кругу. И наша с вами ненависть есть тоже такой маркер – любовь черни ничем не лучше ненависти. Но как Абрамович счастливее Путина, так и Евгений Пархаев из «Софрино» счастливее патриарха. Первые свободно распоряжаются своим временем и свободно наслаждаются богатством. Вторым нельзя, да и некогда – всё время пожирает служба. Возьмём, например, простого епископа. Хоть ты, владыка, просто делаешь вид подвижника, само это делание и имитация ангельского образа – чрезвычайно энергозатратный и утомительный труд. Видит Бог, дайте мне архиерейский доход, всё равно не согласился бы на саккос и горнее место. Сложно постоянно пребывать в образе праведника, тем более сложно делать это в мире с совершенно другими координатами. Раньше реальный высокий социальный статус архиереев всё компенсировал, а теперь этот статус весьма спорен, бесспорен только высокий доход. Что скажу на этот счёт? Деньги, конечно, хорошо, но в данном случае счастья они не принесут. Волку всё-таки легче носить свою шкуру, чем овечью.
Здесь мудрость! Вот что я вынес за годы своего тесного знакомства с церковью. Имеющий уши да услышит. К религии нужно относиться уважительно, но находиться от неё на почтительном расстоянии, обращаясь как к кредитору в крайней нужде или только освящая жизненные вехи – крещение, венчание, отпевание. Так жизнь будет легче и счастливей. А соблазнишься призраком святости и встанешь на церковный путь, будешь всю жизнь плакать горькими слезами. Не нужно думать, что жизнь церковников беззаботна – эта беззаботность уныла. Если ты погружаешься в культ, скоро начнёшь напоминать мудрого ворона или чёрную каркающую ворону. «Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися». Ты словно клоун Пеннивайз в бордовом парике-камилавке, раздающий на улице флаеры. Такова твоя работа – звать в царствие небесное. Пугать вечными мучениями и соблазнять невнятными райскими кущами. Причем рай всегда туманен и непонятен, а ад всегда конкретен. Приходите к нам все труждающиеся и обременённые, мы наденем на вас иго «благое и лёгкое». А если не хотите, то умереть вам не получится, Господа грешники, и после смерти вас так распнут и вытянут из вас все жилы, что останется в вас только вечный вопль отчаяния в безжизненной пустоте.
Работать таким «Пеннивайзом» не каждый сможет, к тому же доход церковников и беззаботность часто преувеличиваются. В быту это тот самый крест, с которого нельзя слазить. Так что, друзья мои, бытовой агностицизм – «что-то там есть» с почитанием (без вовлечения) религиозной традиции земли, на которой живёшь – самый правильный, царский путь. Здесь мудрость, которую я слышал лично от многих священников и монахов (в том числе и афонских), уже влипнувших в церковность. Думаю, что Экклезиаст со мною бы согласился. Поэтому, друг мой со взором горящим, если ты хочешь встать на церковную дорогу, мой тебе добрый совет – прежде трижды подумай, чтобы потом локти не кусать. А если в своей нормальной жизни встретишь такого «Пеннивайза» на пути, не спорь с ним, уважай в нём таинство смерти, откупись, позолоти ручку ради спасения своей души. Не оппонируй и не навлекай на себя проклятия. К слову сказать, большинство населения так и живёт. Им главное, чтобы их не учили жить и не лезли со своими рекомендациями, а религия сама по себе им не мешает. Они знакомы с ней поверхностно, чего хватает для успокоения – поп молится, значит, «что-то там есть». Надежда где-то близко, как и прощение. Поэтому религия всегда находит свою экологическую нишу даже в самом светском и свободном обществе.
Конечно же, многие из призванных на этот путь прекрасно всё понимают и пытаются с него сойти. Но что-то внутри их самих мешает им измениться (скорее всего, настоящее изменение невозможно), и они продолжают непрестанно говорить о религии, но уже со знаком минус, в принципе выполняя ту же задачу, что и люди религиозные, поскольку и убеждённые атеисты напоминают обществу о смерти, доказывая самим себе, что они не «сошли с креста», а просто последовали здравому смыслу. Как верующий давит в себе сомнения, обвиняя безбожников, так и перебежчик-атеист непрестанно бранит церковников, давя в себе сомнения – а вдруг я всё-таки сошёл с креста и попаду по смерти в ад? Это те же клоуны в париках, раздающие флаера «здравого смысла», и они также делают важную общественную работу, поскольку попам нельзя давать воли.
Помню, как ещё в советские годы мне попалась атеистическая книжка «Черное воинство» о монашестве, где монахи сравнивались с чёрными воронами. Знаете, это весьма правильное и убедительное сравнение. Я достаточно много пел и читал на отпеваниях, бывало, что меня даже нанимали читать псалтирь перед гробом покойника. Попу или псаломщику при этом дают какую-то денежку и пакет с едой и самогоном. Помню, помогал одному священнику из Курской епархии отпевать покойника в одной деревне – в конце требы попа попросили, чтобы он «запечатал могилу». Это такой аттракцион для селян, когда лопатой делаешь по четырём сторонам могилы кресты и возглашаешь, что эта могила «запечатывается до второго пришествия Иисуса Христа». Поп стал отказываться и говорил, что в требнике такого не написано. Конечно, дополнительный пакет с едой и спиртным решил этот вопрос, и тогда он театрально «запечатал» могилу. В тот момент я ощутил себя мелким бесом в этом чёрном воинстве – дьячком-орком, жаждущим поживы. Мы в своих чёрных подрясниках напоминали самых настоящих ворон у настоящего трупа.
Однажды во время чтения кафизм над трупом я почувствовал себя даже не урчащим утробно от предстоящих поминок мелким орком, а эдакой голодной вороной у падали. Думаете, что мысли мои сопровождали душу усопшего, когда я читал псалтирь над телом умершего? Нет, мысли были в пакете с самогоном и мясом, изредка принуждаемые долгом внимать тексту на сопровождение души. Мы символически раздирали тело покойного в виде поминального мяса и самогона, чтобы оно опять было предано всецело земле. Прах к праху, плоть к плоти. Что же касается самого сопровождения души, то здесь вопрос сложный и неоднозначный. Поминальные обряды есть везде и у всех, и поэтому религиозные ритуалы объективны, а не являются выдумкой пытающихся заработать на смерти жрецов. Но и вороны, каркающие за окном, тоже объективны.
Эта глава получилась самой серьёзной из всех, поскольку затрагивает очень важный вопрос. По сути, само широкое распространение уныния в обителях говорит о том, что в глубине души монастырь воспринимается насельниками как гиблое место. С другой стороны, продолжать находиться в таком гиблом месте можно, только обладая надеждой и верой в лучшее будущее. Всё равно духовная адаптация должна происходить. Находиться в монастыре только из-за материальных причин нереально трудно, если речь идёт о монахах, а не о трудниках, которые часто живут при монастырях из-за проблем с жильём. Опускаться не хочется, поэтому иногда и оседают в монастырях, оставляя его при любом удобном случае. Но постриг – дело довольно серьёзное даже сейчас, когда можно спокойно взять и уйти – двери тюрьмы открыты. Современные монахи действительно пытаются соответствовать некоторому идеальному образу, знакомому верующим по многочисленным примерам из житийной и подвижнической литературы. Но ничего не выходит, максимум – следование уставу приводит к определённому ортодоксальному стилю, причём не только внешнему, но и внутреннему. Поэтому наиболее успешные монахи обладают хорошим актёрским дарованием. Однако при ближайшем рассмотрении и проснувшемся критическом мышлении хорошо заметна узость и серость монахов, а также их обусловленность, когда православие является концептуальной тюрьмой, накладывающей оковы не только на тело, но и на дух. В прошлом ортодоксальный стиль был универсален для больших территорий и считался не просто каноничным, но единственным в своём роде – иные традиции были далече и «от лукавого». Сейчас же монашество выглядит отличной реконструкцией и психологически непростой субкультурой, замкнутой в ограниченность своего дискурса и невозможной для любого поступательного развития. Смоковница ещё цветёт, но плодов уже не приносит.
Отсюда и уныние. Эта особенность не только современного монашества – ещё Игнатий Брянчанинов замечал, что его рясофорные современники более других страстей терзаемы тлетворным духом уныния. Правда, он не описывал причины такого уныния (пеняя, как всегда, на беса), хотя они на поверхности – молиться, поститься и послушаться это объективно чрезвычайно унылое времяпровождение, несмотря на громкие заявления и убедительные декларации о «радости молитвы». Возможно, раньше жизнь была настолько суровой, что было не до уныния – нужно было уметь выживать в тяжёлых условиях. И молитва действительно была чрезвычайно востребованной активной психотерапией. Но жизнь постепенно менялась – уровень стресса в обществе значительно просел, а комфорт повысился. Но с уменьшением драйва и опасностей повысился уровень депрессии, которая уже названа в обществе болезнью двадцать первого века. Сегодня монахи в своих кельях приобрели относительный покой и как бы «удобно» устроились в жизни. При этом стали понимать, что какие-то жизненные блага и развлечения пройдут мимо них. И услужливо предоставленные им удобства идут в комплекте с весьма жесткими и тяжёлыми ограничениями, из которых главным является даже не целибат, а ограничение в свободе передвижений.
Представьте, что вас посадили в тюрьму или поселение на пожизненный срок. Вам запрещено покидать место поселения, заводить семьи и надлежит повиноваться режиму содержания. Вместо этого вы должны играть роль «духовного» человека, от чего зависит ваше место в монашеской иерархии, и единственной доступной вам радостью является молитва. Естественно, для нормального человека это не повод для радости и он, скорее всего, будет унывать. С одной стороны, жизнь монаха устроена – есть кров над головой, миска супа, необременительное (чаще всего) послушание. В случае чего его подлечат и вставят зубы, дадут одежду и предметы личной гигиены и даже отпуск на Афон и Иерусалим. С другой стороны, монах не испытает радости отцовства и не держит жизнь в своих руках, доверяя её течение старцам и духовникам. А молитва и служба – они действительно доставляют своего рода «радость». Сама служба – достаточно сложный процесс, требующий внимания и сосредоточенности. Ты поёшь, читаешь часами и по окончании служб испытываешь удовлетворение и облегчение, как будто полностью выговорился перед Богом и выполнил свой важный общественный долг. Есть такое. Без службы и клироса я вряд ли продержался бы в монастыре так долго.
И кого-то такая жизнь может полностью устраивать. Мне одна монахиня говорила, что на самом деле такая жизнь удобнее. Люди, мол, и так работают от зари до зари, к пенсии зарабатывая себе квартиру вместе с геморроем. Как купленным рабам, им хватает заработанных денег ровно на месяц и иногда на ежегодную поездку к морю. При этом у мирянина огромное количество решаемых и нерешаемых проблем, которые приводят к преждевременному изнашиванию организма и ранней старости. «Будь как я, – говорила мне эта монахиня, – поспал, поел, помолился, что ещё надо?» Её слова воспринимались слабо, поскольку у неё самой были трое взрослых детей (два священника) и куча внуков, пенсия и постриг в почтенном возрасте. Человек действительно удобно устроился и особенно не унывал. Уныние – бич молодых подвижников. Хотя и старики в монастырях им болеют. Старец Ипполит говаривал так: «Некоторые говорят, что в монастырях для них рай, а я жил все пятьдесят лет, как в аду». Естественно, «адом» старец называл депрессивные состояния той или иной степени тяжести, которые традиция обзывает унынием. Для того чтобы эти депрессивные состояния победить, монаху нужно, во-первых, смириться со своим положением добровольного узника, а во-вторых – чем-то заполнить свою жизнь. Монашеский устав для мирян кажется неким подвигом, однако уверяю вас – весь этот сложный устав подчинён одной задаче: держать монаха в рамках, чтобы он не покинул монастырь. Все эти долгие службы заполняют тянущую и голодную пустоту внутри, а не являются обременительными веригами. Есть, конечно, и либеральные монастыри, которые хотят удержать людей с помощью относительной свободы. Но такой подход слабо оправдывает себя – легкий устав привлекает авантюристов и бездельников, и они всё равно уходят, если на горизонте замаячит более выгодная перспектива.
Но даже долгие красивые службы не избавляют подвижника от чувства тревоги, что он делает что-то не так и неправильно распоряжается своей жизнью. Такой парадокс: по сути, монашеский инфантилизм и отказ от борьбы за жизнь приводит не к покою, а наоборот – к беспокойству. В идеале, как декларируется, борьба за жизнь переносится из реальности в виртуальность, где монах в постах, молитвах и других подвигах стяжает благодать духа святаго. Но все эти «подвиги» переоцениваются не только внешними, но и самими монахами. Молитва лишь заполняет пустоту и не несёт особой радости, хотя в монашеских мануалах она расписывается как огонь свечи, без которой монах превращается в огарок. Может быть, в Средневековье молитва и приводила к виртуальной альтернативной жизни и собирала воедино разум в мире хаоса магического мышления.
Но сейчас такой альтернативной келейной жизни не существует именно как жизни и монах, обременяя себя молитвами, ничего особенного не приобретает. Это обременение даёт ему ощущение какого-то особенного долга перед Богом и обществом, однако нет никаких внятных доказательств, что этот долг вообще существует. Кроме деформирования самого характера подвизающегося, она не меняет его в лучшую сторону, мало того, своей текстовкой заталкивает подвижника прямиком в Средневековье – весьма отсталое и мрачное время. Если раньше анестезией при выдирании зубов был мощный удар по затылку, «вырубающий» больного, неужели вы думаете, что духовные практики отличались какой-то тонкостью? Ничему другому, кроме ненависти к миру, эти ушедшие в Средневековье «учителя» научить не могут. Ненависть и злоба – тоже энергия и тоже заполняет голодную пустоту. Это лучше, чем раздражение, которое возникает от недостатка энергии и является слабостью. Лучше злиться на дьявола и врагов православия, чем унывать, потому что уныние – это обессиливание. Благодаря выбранному образу жизни подвижник переформатировал свою эмоциональную жизнь, «приморозил» некоторые сильные чувства, ожидая, что в эту пустоту войдёт сам Бог. Но входит туда королева монашеских келий – уныние – вместе со своей свитой: леностью, страхом, отчаянием, слабостью, саможалением и сопровождающими высокий уровень стрессовых гормонов болезнями. Злоба всяко лучше, поэтому многие православные весьма агрессивны. Ещё пустоту заполняет страх разных масонов и злобных сатанистов, окружающих святую матушку-Русь. Это как бы разрешённые традицией страсти – ненавидеть врагов православия и бояться их происков. Огромный сегмент православного издательского рынка составляет играющая на этих страстях литература, порой весьма оголтелая.
Тем не менее мирян монашеское страдальческое уныние не отталкивает от монастырей и даже в какой-то мере привлекает. У монашествующих с мирянами есть определённый негласный договор – миряне содержат монахов, а те за них молятся Богу. Психологически это выглядит так: чем больше монахи мучаются, тем лучше, ведь они уподобляются Христу и мучаются в том числе и за нас, «грешных». По причине «особой чистоты душевной» они якобы имеют такое дерзновение – молить за мир и особенно за знаемых, тех, кто их почитает за «рабов Божьих», кто одаряет их и заказывает записки. То есть монах – кто-то типа целебного кота, который лечит больной орган и берёт на себя болезнь. Православный люд просто бесцеремонно пытается свалить свои недуги на монашествующих за довольно мелкий прайс и почтительное благоговейное отношение. И унывающий больной монах для них – живое доказательство того, что эта схема работает. Этот договор в общих чертах соблюдается обеими сторонами, но монахи являются заложниками таких отношений и не имеют возможности осуществлять современную и востребованную среди людей духовную практику. За образцы практики взяты средневековые образцы, которые современные монахи старательно пытаются внедрить в свою жизнь, имитируя стиль «Отечника» и «Лествицы». По-другому в подозрительной православной среде просто нельзя. Не поймут и обязательно осудят. Набожность и намоленность воспринимаются на бытовом уровне как некая электризация монаха, как чудотворной иконы или какого-нибудь святого предмета. И к этим людям обращаются как к шаманам, которые могут исправить ситуацию обратившегося за помощью в монастырь верующего в лучшую сторону.
То есть если раньше монахи были основными поставщиками обществу экзистенциального опыта (они имели время наблюдать за психическими процессами и фиксировать их в своих работах, когда миряне были сосредоточены на выживании), то сейчас монастыри являются аттракционом для религиозных мирян. В итоге общественный запрос порождает бытие монахов – в обителях практикуют примитивный магизм изгнания злых духов, молятся о здравии и осуществляют доступ к почитаемым предметам культа – мощам, чудотворным иконам и другим «мироточивым главам». Разумеется, сам монах тоже должен быть соответствующим образом одет и должен соответствовать общему стилю религиозного аттракциона. Общество уже давно отвергло монашеский опыт, и он востребован сегодня лишь у малого числа религиозных людей. Под это малое число монахи и заточены – общий образовательный и культурный уровень сегодняшних православных определяет монашескую повестку. Но это не значит, что среди монахов отсутствуют мыслящие люди, которые пытаются осознать текущее положение дел в монашестве и как-нибудь на него повлиять. Такие люди есть (как есть такие люди и в церкви в общем), и они пытаются искренне понять, что произошло с церковью и можно ли оздоровить и исправить ситуацию. Но большинство также искренне считают церковь и православные монастыри кораблями спасения и возрождают древние аскетические уставы.
Сегодня трудно имитировать разные чудеса и исходящую от молитв благодать, поэтому популярные монашеские авторы встают на прагматичные рельсы Игнатия Брянчанинова и зарабатывают очки откровенной мизантропией. Из таких авторов стоит упомянуть отца Рафаила (Карелина). Неспособность влиять на мир рационализируется им не просто личной неспособностью монашества, а особенностью последнего времени, когда попущено на земле воцариться злу, а добро выживает в небольших монашеских анклавах и дотлевает, как искры, на ранее жарком и ярком кострище. Если рассудить, что представляет собой эта мизантропия, то можем с уверенностью сказать, что это и есть то самое уныние и нежелание поверить, что за монастырскими стенами человечество может радостно, комфортно и полноценно существовать. Эта радость воспринимается подобными унылыми монахами бесовским и антихристианским наслаждением, а альтернативой этой радости они предлагают так называемое покаяние – фактически то же самое уныние в благочестивой обёртке. Разумеется, подобный аттракцион на любителя, но депрессивные мизантропы есть в любом обществе, и монашеское скорбное мировоззрение им всё объясняет: люди – неблагодарные сволочи и забыли Бога. Но ты на них не смотри, а смотри на себя, свой путь и постарайся пройти его достойно, то есть выполняя какие-то странные средневековые разряды по молитве, труду и послушанию. Такому человеку говорят: сегодня нам оставлено только покаяние. Никаких тебе духовных даров, мира и радости, но скорбный крест до могилы, что отнюдь тебе не гарантирует рай от могилы. Но не теряй надежды. Такие эгоистичные мизантропы считаются сегодня хранителями традиции. Других даже под дулом оружия не заставишь поддерживать эти жертвенные костры.
Возникает определённый курьёз – для внешнего многие монахи выглядят суровыми аскетами в покаянных чувствах, хотя там покаянием и не пахнет. Они думают, как их достал брат, духовник, монастырь и т. д. Как хочется куда-то свинтить отсюда подальше на море, да нельзя. А экзальтированный паломник видит перед собой суровое постное лицо и полагает, что наверняка этот монах пребывает в думах о своих грехах (хотя сам безгрешен, как ангел) и молится за весь грешный мир. Службы действительно помогают в таком состоянии, особенно если хор хороший, но проблему уныния они не снимают. Покаяние в христианском смысле слова означает просто перемену отношения к греху и раскаяние в содеянном. Невозможно просто брать и постоянно каяться – это просто-напросто противоречит законам психики. Но монахи особо-то и не каются, а весь их постный вид определяется внутренним затяжным унынием. Молитва не лечит, а действует как сто грамм на алкоголика с утра. Монах, помолившись, выговаривается и винит в унынии не выбранный образ жизни (ведь раньше монахи были радостными и счастливыми), а только себя. Такое самобичевание проблемы не решает, хотя и считается «благочестивым». На время становится легче, но потом уныние подступает с удвоенной силой. Проблему решает так называемое «смирение» – как я уже писал в одной из глав, это стадия окончательного принятия своего пути. Раньше этому принятию способствовало общество: монашество – это был серьёзный выбор. Существовали свои церковные суды, и расстрижение фиксировалось в паспорте. Расстриг не любили, считали иудами и нигде не брали на работу. Сейчас же есть большое количество расстриг, которые вполне нормально устроились в жизни. Бывшие монахи женятся, заводят семьи и живут в свое удовольствие. Поэтому достигнуть стадии принятия монаху сегодня трудно, ведь он в любой момент может положить рясу на стул, забрать паспорт и уйти из монастыря восвояси, делая чего душа пожелает. Помогает в чём-то и алкоголь – в монастырях и семинарских общагах действительно очень много пьют. Если монах – алкоголик, его стараются терпеть.
Деятельные монахи спасаются от уныния с помощью послушаний. Они с утра до ночи заняты и расходуют всю свою жизненную энергию, отчего чувствуют удовлетворение и получают хорошее настроение. Но в монастыри часто влекутся люди ленивые, не подвига ради, а просто ради пайки и койки, а также какого-никакого, но положения в обществе. Такие после периода послушаний и пострига часто уходят во внутреннюю эмиграцию и тяжело страдают от уныния. Дополнительные послушания у людей с таким складом характера вызывают только ещё большее уныние. Они при этом думают, что являются рабами. Возвращаться в мир страшно, пребывать в монастыре – тошно. Часто они лежат в своих кельях, сказавшись больными, и оттого заболевают ещё сильнее. Спортом, как я уже писал в прошлой главе, заниматься грешно, оттого ситуация усугубляется, поскольку в больном теле трудно сохранить здоровый дух.
Но всё-таки не хочу заканчивать главу и книгу в общем в стиле «всё плохо». Даже в самой плохой ситуации можно найти плюсы.
Монашествующие могли бы найти в себе силы и приобрести экзистенциальный опыт в борьбе с депрессией, как, например, приобрёл его известный ныне автор Экхард Толле, который на протяжении многих лет мучился чудовищнейшей депрессией и нашёл выход в пребывании «здесь и сейчас». Я его сам не изучал, но вижу, как его опыт оказался востребованным, поскольку депрессия – наиболее распространённое психическое расстройство. В сентябре 2017 года этот автор впервые посетил Россию, где выступил перед рекордным количеством участников за всю историю своих лекций – зал собрал более шести тысяч человек. Какой старец может собрать такой зал, да и вообще, как православный старец может помочь людям преодолеть депрессию? Своими советами церковники только вгоняют в ещё большую депрессию. Толле я взял лишь для примера того, что есть люди, которые помогают другим (и довольно успешно) с помощью различных духовных учений и практик. Дают какой-то смысл в жизни и учат, как обращаться ко внутренним резервам, чтобы справляться со стрессом и более эффективно жить. По миру разъезжают различные буддийские монахи и другие учителя, чьи проповеди вполне востребованы современным миром. Но монах максимум что может – это прочесть лекцию в узком православном кругу. Греки в этом отношении более продвинуты. Если мы возьмём книгу про русского старца, то там нет ничего особенного, его личность может быть и выпуклая, но привязанная к определённому стандарту того, каким должен быть настоящий русский старец. Греки же любят витиеватость и имеют за собой великую базу античной философии и культуры. Поэтому в потенциале именно греческая православная церковь может ещё сказать что-то миру. К примеру, тот же старец Ефрем из Филофея (тот самый, что сделал поклон перед всей братией, чтобы спасти чревоугодника-брата, который отказался делать метания) лет пятнадцать назад приехал в Америку и развернул там достаточно мощную деятельность, открыв с десяток монастырей.
При этом я не идеализирую греков и понимаю, что греческие старцы могут быть довольно странными. Соседний русскому Свято-Пантелеимонову монастырю на Афоне – монастырь Ксиропотам. Там старец и игумен постоянно разъезжает по различным богословским конференциям, где выступает с речами и докладами. Между тем сам Ксиропотам считается одним из самых строгих монастырей святой горы. Тамошние монахи столь суровы, что по уставу звонить родным и близким можно только четыре раза в год. При этом работают монахи и послушники по три часа, кухня у них очень хорошая, в том числе есть и керазмы-угощения. Есть шикарная библиотека, а также фонотека с любыми проповедями и духовными песнопениями. Я разговаривал с тамошними братьями, и они рассказали, как страшно их борет уныние. Игумен-то не дурак – молодой уважаемый богослов, который разъезжает по всему миру на монастырские деньги, а братья создают для него соответствующий фон, как братия почти самого строгого монастыря на Афоне. Я не знаю, чем закончится этот эксперимент – возможно, и явит людей великого духа. Но лично у меня на этот счёт большие сомнения. Вообще сегодняшнее духовное возрождение Афона связано с искренним желанием людей приобщиться традиции. В том числе этому помогла книга Силуана Афонского – точнее, книгу написал его ученик архимандрит Софроний (Сахаров), используя дневниковые записки старца. Из жития Силуана можно понять, что старец годами страдал от жесточайшей депрессии, которая в аскетической традиции считается «мистической ночью» или промыслительным оставлением подвижника благодатью для его укрепления. После жесточайших лет борьбы с унынием старец испытал инсайт и оставил после себя записки.
Если бы монахи с помощью духовной адаптации испытывали подобные инсайты и рассказывали мирянам, как справиться с депрессией, цены бы им не было – и они были бы на своём месте, поставляя обществу бесценный экзистенциальный опыт. Монахи же сейчас в своём концептуальном ограничении не могут помогать людям, поскольку ориентированы только на православных верующих. Любому неверующему, если он придёт к монаху со своими проблемами и откроет сердце, тот прямо скажет, что все беды его потому как он некрещёный или невоцерковлённый. Или вовсе откажет в разговоре. А воцерковлённого станет учить по принципу: «Чем хуже – тем лучше». Что Бог спасает его посредством злоключений и неприятностей – «кого люблю, того и наказую». Что же касается уныния, то монах не станет ломать традицию – отцы учат, что унынию нужно активно сопротивляться по методу ещё большего ухудшения своей жизни (когда бухал, часто слышал от монахов, что таким образом Бог меня «спасает»).
Например, уныние зовёт отправиться домой или к родственникам. Не слушай – усиль молитву и пост, противостоя козням лукавого. Монахи верят, что, если пойдёшь у чувства на поводу, оно постепенно выведет тебя из монастыря. Возможно, и так, но для мирян такой метод не подходит. Сейчас монашествующий, как я уже писал, боится сболтнуть лишнего, поскольку является деталью большого мистического аттракциона. Он знает, что легче всего научить депрессивного молиться и читать какой-нибудь акафист. Придраться к нему за такую рекомендацию нельзя, поскольку к монаху обращаются преимущественно православные, у которых молитва представлена однозначно в положительном свете. Если не помогает – веры нет или грехи какие-нибудь мешают. Ну или мало молишься, вот я, например, молюсь много в монастыре, и Бог мне помогает… Поди проверь, кто ему там помогает. Монах, даже если и сам изнемогает от уныния, лжёт искренне «во спасение».
В итоге некоторые искренне верующие начинают замаливаться и превращаться в смешных и иногда опасных подвижников в миру. Такие замоленные есть или отираются при каждом монастыре, причём чаще всего не среди братии, а среди самих паломников, что следуют монашеским рекомендациям. Депрессия лечится молитвой, но никуда не уходит после первых молитвенных опытов, хотя по вере молящегося и отступает на время. Замоленность вместо чудесных божественных даров ведёт к утрате социализации, наплевательскому отношению к жизни и здоровью, а также является мостом к самым разнообразным психическим нарушениям. И самое страшное, что никто в этой ситуации, никакой монах или старец не может сказать замоленному – «не молись». Максимум обвинить в неправильной молитве и прелести. Но сама эта неправильность и замоленность укоренена в православной традиции – в агиографии издавна люби́м образ замоленного, хворого на голову человека, которому молва приписывает чудесные дары прозорливости и исцеления. Однако, как утверждают жития, Бог действует через них. Такие люди везде гонимы и часто ночуют прямо на улице. Я встречал таких людей, живущих рядом с монастырём. Это люди с явными психическими нарушениями, с которыми пытаются справиться с помощью молитв, но только подбрасывают хвороста в огонь. Конечно, отечественная психиатрия – чрезвычайно жёсткая и карательная структура, с которой не каждый хочет сталкиваться, но она хотя бы предусматривает надзор и частичную социализацию больных на голову людей, особенно если смотреть за ними некому. Выглядят же такие замоленные настоящей карикатурой на само монашество. Возможно, таким образом провидение хочет дать некий знак для тех, кто ещё внутри.
Монастыри часто излагают альтернативную точку зрения на психические нарушения как на бесовскую одержимость. Когда жил в одном монастыре Курской епархии, часто разговаривал с такими людьми с самой разной симптоматикой – голосами, ощущением посторонних сущностей внутри тела. У людей с ярко выраженным бредом монастырь и практикуемый монахами экзорцизм являются подтверждением этого бреда, и эта альтернативная психиатрии «бесовщина» по моему опыту (а всё-таки я два года пропел на этих «вычитах») не помогает, а во многом даже вредит. Формально к монахам не подкопаешься. Вы пришли в монастырь, как в лечебницу, из-за веры в благодать. Благодатью вас здесь обеспечивают – есть церковные таинства, продолжительные службы и причастие святых тайн. Всё для вас, и если что-нибудь пошло не так, значит, либо вы сами плохо стараетесь, либо Богу так угодно.
Если говорить не о монашестве в частности, а обо всей церкви в целом, то депрессивные настроения связывают ещё и с так называемым феноменом эмоционального выгорания. Рассмотрим это явление поближе. Человек обычно «приходит к Богу» благодаря некой переоценке ценностей или инсайту. Само это слово «прийти» говорит о свободном выборе человека. Раньше ты рождался в определённой традиции и должен был её придерживаться под страхом уголовного наказания. Но сейчас люди к вере приходят. Но многие как приходят, так и уходят, в том числе священники и монахи. Проблема этого выгорания абсолютно надуманная – если в церковь можно прийти, значит, из неё можно и уйти. Это довольно своеобразный и обременительный образ жизни, и оставаться в нём долгое время можно только благодаря серьёзной мотивации, идейную часть которой и называют верой. Мотивация бывает разная.
К примеру, человек борется с алкоголизмом, совершает преступления или элементарно рукоблудничает и ничего не может с этим сделать. Церковь даёт мощный инструментарий для совершения благих изменений в обмен на лояльность и определённые жертвы. Это не обязательно деньги, но время, энергия и уклонение от удовольствий во время постов или другой вид самоограничения, приносимый на церковный алтарь как жертва. Чем меньше человек во что-то вкладывается, тем меньше он это ценит.
И наоборот, если человек не только вкладывается материально, но и морально (Сыне, даждь мне сердце), он воспринимает простое учение с суровой серьёзностью. Есть определённая часть верующих, что останется с церковью несмотря ни на что. Это ни в коем случае не самые лучшие или самые верные. Это просто люди определённого психологического типа, чаще всего не рефлексирующие подлинную реальность, а находящиеся в плену у заблуждений и под воздействием местечковых православных баек о чудесах, с помощью которых верующий вводит себя в состояние экзальтации. Есть целые места на карте, где эти чудеса производит коллективное сознание верующих и транслирует их вовне с помощью многочисленных брошюр и сарафанного радио. Одно из таких мест, например, Дивеево, где вам расскажут о живых растущих камнях и других чудесных событиях.
Сама вера в чудеса или даже готовность в них поверить вызывает прочное эмоциональное возбуждение, приводящее к пограничным состояниям сознания. Но я не психиатр и не берусь описывать их с точки зрения науки, хотя прекрасно ощутил всё на своей шкуре. В жизни любого, даже самого истового верующего обязательно наступает момент, когда он понимает, что всё, во что он верит, начиная от «живых камней» и заканчивая символом веры, далеко не очевидно и даже весьма сомнительно, учитывая познания и гуманные понятия нашего века, не запрещающего веру, но и, честно говоря, особо её не одобряющую. Общие понятия людей давно изменились и гуманизировались, а церковные люди выглядят на фоне современной общественной ткани яркой и грубой заплаткой.
Одно время, конечно, были иллюзии, что православная церковь (которая по своей структуре стремится к универсализму) займёт лидирующие позиции на интеллектуальном рынке. Но, к сожалению многих, вдохновлённое «духом святым» не нашло понимания в обществе именно как универсальное средство для жизни. Некоторых привлёк в церковь героический уклад жизни, подчинённый великой цели спасения собственной души. Однако человек верующий начинает замечать, что в нравственном отношении он не сильно отошёл от мирского и вообще в самом этом «мире», собственно, нет ничего плохого. Верующий либо встраивается в этот мир, либо начинает его активно отрицать. При встраивании в мир он начинает понимать, что церковь ему нужна лишь как некий маркер, что он принадлежит к определённой общественной прослойке, обладающей церковным опытом. Именно поэтому многие расстриги спокойно общаются в соцсетях с обычными верующими, поскольку церковь, не имея реальных рычагов воздействия (под словом «реальных» я имею в виду карательных), со временем утрачивает свою идейную бескомпромиссность и по-настоящему важным остаётся лишь полученный в церкви опыт. И так называемое расцерковление и выгорание – тоже часть церковного опыта, и многим, остающимся внутри, интересно, что происходит с человеком вовне. И многим уже очевидно, что ничего страшного как бы и не происходит.
Если же говорить обо мне лично, то в начале моего пути православие казалось мне таким большим бездонным кубком знания. Когда жадно и большими глотками выпивал традицию, насыщая свой ум и сердце и постигая то, чего был лишён в советское время, чувствовал ощущение довольства и религиозной сладости. Затем внезапно источники начали заканчиваться. Сладость во рту исчезла, а чрево неприятно забурлило. Где-то на донышке можно было почерпнуть религиозного рахат-лукума на Афоне и всё – православие для меня закончилось. Кончились даже остроты Кураева и Чаплина – их речи превратились в крутящуюся по кругу пластинку. И всё это выстроенное из букв религиозное здание неожиданно посыпалось, буквы превратились в песок, каждая песчинка которого посчитана не только самим Богом, но и человеком. Альфа и омега, бета, гамма – всё под нашими ногами, хоть кто-то извращает реальность, ударяясь в этот песок головой, как будто он выше, а не ниже нашего ума. Как мне представляется – сама традиция существует сейчас в качестве коллективного заговора подвижников-атлантов, держащих на плечах картонное небо выдуманного ими православия, непонятно почему и непонятно зачем. Просто из вредности или из верности поддерживают огонь жертвенных светильников. Зябко им в этом мире. Чем, какими чувствами они живут, чем себя укрепляют? Я не призываю тех, кто остался, покидать монастыри, поскольку мне тоже интересно, к чему приведёт этот эксперимент, да и не ощущаю себя вправе давать такие советы, тем более людям, которые находятся в условиях непрестанной борьбы и сомнениях.
Для меня же мой путь продолжается, и я с той же жадностью, что и раньше, продолжаю искать если не истину, то правильный подход к своей жизни. Я ни о чём не жалею, никого не осуждаю, и желаю всем добра. На этом всё. Успехов на выбранном вами пути, каким бы он ни был.



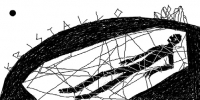

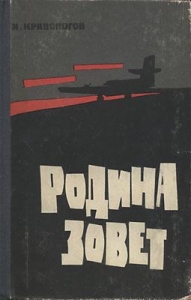


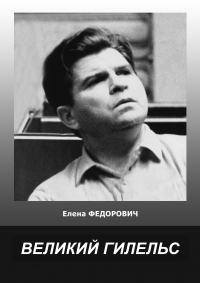
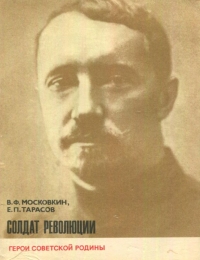
Комментарии к книге «Картонное небо. Исповедь церковного бунтаря», Станислав Леонидович Сенькин
Всего 1 комментариев
Сергiй
25 июл
Какая-то тотальная безблагодатность звучит у автора в тексте. Я понимаю, у него есть некоторое разочарование от того, что чудо исцеления от алкоголизма у него увы не произошло, но какой был смысл столько лет подвизаться, чтобы выуживать недостатки, а не искать там святости?