Александр Панкратов-Чёрный Судьба-злодейка
© Панкратов А., 2018
© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадры из фильмов)
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Глава 1
Босоногое-босоногое… Конопатое-конопатое Детство, долгой в Алтай дорогою Убежавшее от Панкратова[1].В рубашке родился…
Мама родила меня на сороковом году жизни. Я был последним, четвертым, ребенком в семье. Мои старшие брат и сестра Толя и Лидочка умерли во время войны, поэтому из четверых детей в живых остались только двое: я и Зиночка, моя сестра от первого маминого брака с Иваном Панкратовым, чью фамилию я ношу. Зиночка родилась в последний год войны, я – четыре года спустя.
Мама рассказала мне одну удивительную историю, которая с ней произошла в Петербурге. Там жила ее семья до «переворота» (так мама называла революцию). Они с бабушкой шли через Малую Невку к храму. К ним подошла цыганка, посмотрела на маму и говорит:
– У, какая черноглазая! Не цыганка ли?
Бабушка отвечает:
– Нет, не цыганка. Мы казаки.
Цыганка маме рассказывает:
– Ну, Агриппина, доживешь до девяноста лет…
– Откуда имя-то знаешь? – спрашивает бабушка.
– Знаю. Я все знаю! – отвечает цыганка и продолжает:
– Четверо детей будет. Но война начнется. Двоих детей во время войны потеряешь.
Все сбылось. Мама скончалась на 90-м году жизни.
А еще цыганка сказала:
– Младшенький прославит семью, знаменитым будет.
Это она имела в виду меня, я был последним ребенком в семье, младшеньким, и мамой любимым.
Я родился семимесячным, недоношенным. Думали, не жилец. А 1949 год, как мама рассказывала, был голодный. В деревне маму все успокаивали:
– Ну, Агриппина, не переживай: семимесячный недородился – не жилец, умрет… Лишнего-то рта не будет.
Но дедушка с бабушкой не отступились, меня завернули в тулуп – и на печку. Затопили, хотя было лето. Меня выпаривали, как птенца. Молока у мамы не было, грудь была пустой. Бабушка где-то нашла тряпицу реденькую, туда творог с сахаром намешивала – и мне в рот. И я чмокал. Вот так меня выпаривали. И выходили.
Казачья кровь
Фамилия, которую я ношу, досталась мне от первого мужа моей мамы – Ивана Панкратова. У моего отца фамилия Гузев, от слова «гузка» – были такие казачьи подразделения еще в древности: когда казаки отступали, то заслоны ставили «прикрывать гузку». Предки мои по линии отца были из черниговских казаков, а вот по материнской линии – из донских. Фамилия матери была Тока, но не от слова «токарь», который металл точит, а от слов «ток», «тетерев», «токует». Токи – это такая казачья фамилия была. В Ростовской области даже есть станица с таким названием. Вот оттуда, с Дона, и пошли наши корни по материнской линии. А Токами их назвали почему? Мои прапрапрапредки были хорошими охотниками, били тетерева. Те, кто охотой увлекаются, знают: на тетерева профессионал должен ходить. И взять тетерева легче тогда, когда он токует, то есть поймать «на свадьбе».
Мама была младшей в семье, одиннадцатым ребенком. У нее было две сестры, все остальные – братья: офицеры, казаки. Четыре поколения по маминой линии служили в царской охране. Причем многие принадлежали к личной охране императоров. Дедушка в Зимнем дворце отвечал за безопасность Золотой лестницы, по которой дипломаты и иностранные гости поднимались на прием к императору. Дед был кавалером ордена Св. Владимира за участие в Первой мировой войне. Он был в числе георгиевских кавалеров, которые сопровождали государя императора с семьей до Тобольска в ссылку. Потом, когда их вернули в Екатеринбург, чекисты расформировали казачью охрану, и он потерял связь с однополчанами. До середины 1924 года он со всей своей большой семьей жил в Петербурге. Трое его сыновей скрывались от советской власти, потому что были офицерами Белой гвардии.
После революции на такую родословную не могли не обратить внимания. Когда умер В. И. Ленин, дед решил эмигрировать через Дальний Восток в сторону Харбина. Но дошел только до Новосибирска, где в 1927 году его с семьей арестовали и сослали в алтайскую деревню Конево. Когда ссылали, спросили, что это за фамилия – Тока? Он объяснил, что охотничья фамилия, от слова «токовать». Ему ответили:
– С этого момента никаких Тока, будете Токарёвыми.
Вот так фамилия Токарёвы за ними и закрепилась.
Дед с соседом Иваном Викуловичем, его сослуживцем по полку, оказались первыми поселенцами в деревне, первый колышек забивали. Деревня была при колхозе. Раньше район назывался Каменским, с центром в городе Камень-на-Оби – такой маленький городок купеческий, кстати, родина известного советского режиссера Ивана Александровича Пырьева. Когда позже соседняя деревня Панкрушиха разрослась, район стал называться Панкрушихинским. Каменский район сделали отдельным.
Вся деревня состояла из ссыльных, которых туда привозили со всей страны. Помню, было три немецкие семьи, с Украины сослали многих родственников бандеровцев, так как самих бандеровцев убили после войны. Жили здесь поляки Архимовичи; Должиковы и Корякины с Украины, а из казаков были Иван Викулович и мой дед. Они крепко дружили.
Дед с Иваном Викуловичем иногда тайно встречались по ночам и отмечали что-то. Я не знал, что именно, но что-то важное и торжественное, потому что зажигали керосиновую лампу, а это редкость была у нас в деревне: все экономили на керосине. Лампу обычно зажигали только по большим праздникам. Я, любопытный, в одну из таких ночей проследил за дедом с Иваном Викуловичем. Они достали тесемкой перевязанные бумажники и размотали, а там – медали и кресты за Первую мировую войну. Потом дед рассказал мне, за что ему вручали эти награды. Для каждой из них была своя история.
Дед все время был благодарен господу богу, что сослали их именно в 27 году. Потому что уже в 29-м всех царских офицеров расстреливали.
– Под богом ходим, – повторял дед.
Я его спрашивал:
– Почему под богом?
Он отвечал:
– Потому что все видеть надо. Вот Он и вознесся… Над всем миром…
– Так там же небо, – говорил я.
Дед улыбался и как-то тихо произносил:
– Он выше, а над Ним – никого.
Мама
Мама тихо мне: «Санка! Санка!» И босой за ограду утром – Спозаранку бегом за саранкой Я, за счастьем своим как будто…Панкратовой мама стала, когда вышла замуж за Ивана Панкратова. В 1927 году она убежала из ссыльной деревни в Камень-на-Оби, работала там на крольчатнике. Ей было семнадцать лет. В Камне-на-Оби ее сосватал Иван Панкратов, работник комсомола. С его фамилией мама чувствовала себя в безопасности. Они путешествовали по всей стране, и в Барнауле Иван Панкратов оказался в НКВД – в разведке. На этой должности он ездил по округам Средней Азии. Там они с мамой и встретили войну.
В первом браке у мамы родились Лидочка, Толик и Зиночка. Как я уже упоминал, Лидочка и Толик умерли во время войны. Зиночка родилась в последний год войны. А вскоре после Победы, в начале 1946-го, Иван Панкратов пропал без вести в Японии, где служил офицером военной разведки.
Мама осталась одна с дочерью на руках, Зиночке еще и годика не было. Мама была контуженная, плохо слышала, потому что всю войну прослужила в железнодорожных войсках, где их эшелон разбомбили. Она пришла в военкомат, где служил ее муж, а это разведка, НКВД. Ее стали расспрашивать и выяснили, что она ссыльная. На мамино счастье, ее разыскал друг мужа, тоже какой-то чин в НКВД. Он ей сказал:
– Агриппина, мотаться тебе теперь по ссыльным местам, а ты с ребенком на руках. Давай-ка мы тебя к отцу и сошлем.
И отправили до Барнаула. На каких-то подводах ехала она от Барнаула до Камня-на-Оби. От Камня-на-Оби тоже около ста километров до нашей деревушки Конево. Приехала. Дедушка встретил маму очень сурово. Сели за стол, дед маму спрашивает:
– Ну что, большевичка, добегалась?
С тех пор к маме у него было прохладное отношение, которое позже распространилось и на меня.
В деревне мама встретила моего отца Василия Гузева, тоже из репрессированных. За что сослали отца, мне так и не удалось узнать. Мать с отцом быстро расстались, и когда ее в 1959 году реабилитировали, она взяла фамилию Панкратова.
«Семь» – волшебное число
Мое самое первое воспоминание – о том, как я учился ходить. Рассказал маме, а она не поверила:
– Что ты хлопаешь-то! Как ты мог помнить? Ты в семь месяцев пошел.
– Помню, – говорю. – На мне тогда была широкая белая распашонка колокольчиком.
Ее бабушка мне сшила из наволочки. Я помню, дед кушак, тоже связанный бабушкой, привязал к ножке стола и протянул до софы – деревянной такой скамьи, которую они с Иваном Викуловичем смастерили. К подлокотнику этой софы дед привязал второй конец кушака. Помню, как я в этой распашонке, держась за кушак, от софы шел к столу. Для меня «семь» – волшебное число. Семимесячным родился, в семь месяцев пошел и после седьмого класса поступил в театральное училище. Но обо всем по порядку.
Трудодни
Сейчас это сложно себе представить, но я рос в деревне без электричества. На керосине экономили. Бабушка вставала очень рано, затемно, часов в пять-шесть утра. Чтобы приготовить еду, разжигала лучинку в кути (так на Алтае называли кухню). Эту лучинку я до сих пор помню. Иногда готовила со свечкой. Свечки либо сами делали из воска (пчел на Алтае всегда – тучи!), либо покупали в Камне-на-Оби. Ездили, как говорили тогда, «с оказией» – если кто-то туда направлялся, ему заказывали, – но только когда были деньги, а это бывало редко. В колхозе денег не платили. Работали все за трудодни.
Я стал работать с шести лет, возил копны – зарабатывал трудодни. Когда сенокос идет, женщины копнят сено, мужики мечут стог, а дети подвозят копны к стогу. Мама прикапнивала со мной, водила почти под уздцы лошадь, потому что я был маленького роста. Я часто падал с лошади от солнечного удара. Мама меня тихонько водичкой обольет, чтобы бригадир не увидел. Все время приговаривала:
– Не плачь, а то услышат и уберут тебя – меньше заработаем трудодней.
За трудодни платили тем же, что крестьяне производили: зерном или маслом от наших же коров (в колхозе маслобойка была, жители свозили туда молоко, потом маслом с ними и рассчитывались). Сколько у тебя трудодней – столько тебе полагалось килограммов масла, пшеницы. Чтобы хватало на семью, работали все: и мама, и сестра, и я. Пшеницу мололи на дому. Из этой муки и хлеб пекли в печи.
Когда стали появляться комсомольские стройки, то молодежь, чтобы найти какую-то возможность из этой деревни вырваться, записывалась туда добровольцами, не имея ни профессии, ни образования. Работа на стройках была тяжелая и опасная. Там погибли Ванька Сидоров и Витя Макаревич из еврейской семьи.
Кличка у Вити была Кошка, потому что он очень лихо лазил по деревьям. А Витину маму в деревне называли Горбуньей. Когда их с Витей сослали, она была матерью-одиночкой: мужа либо расстреляли, либо он в лагерях сидел (не принято было рассказывать, кто за что был сослан).
Я спросил:
– Мама, а почему тетя Фаня стала горбатой?
Мама рассказала, что избу Макаревичам построить было некому: мужика в семье не было, а строили тогда все своими силами. Им мужчины из деревни выкопали землянку – вот как фронтовые землянки: земляной пол, из кирпича сложенная печурка с трубой на крыше и потолок деревянный, который покрывали кошмами, войлоком. Так они и жили. А землянка была низкая, поэтому тетя Фаня все время ходила согнутой. Это стало для нее привычным состоянием, согбенная была старушка. Хотя старушкой ее в прямом смысле назвать было нельзя. Все женщины были еще молодыми, но выглядели как старушки, потому что труд был непосильный. В пять уже вставали, к шести надо было успеть на дойку, а возвращались под ночь, и еще надо было что-то по хозяйству сделать – тяжелый был труд.
А мы, дети, счастливые, играли в войну, дрались и хотели, чтобы когда-нибудь нас приняли в пионеры.
Дедов конь
Когда дед решил купить коня, над ним смеялась вся деревня. Дело в том, что до прихода к власти Н. С. Хрущева нам разрешалось разводить скот. В основном покупали корову, чтобы молоко давала, овец разводили на шерсть, гусей, уток – чтобы яйца несли, в крайнем случае кобылу, чтобы приплод был. Но мой дед купил жеребца, казалось бы, совсем бесполезное животное, – потому что он казаком был и всегда говорил:
– Казак на кобылу не сядет.
Каждое утро дед вставал в шесть часов, садился верхом на коня и скакал по окружным полям. Еще он был толстовец, подражал писателю Л. Н. Толстому. У него была такая же бородища – я тогда только на картинах художников видел таких бородатых стариков. Ходил всегда в толстовках, которые шила ему бабушка, подвязывал их кушаком.
Стоил конь тогда огромных денег – это как сейчас «Мерседес» купить. А так как работали в колхозе за трудодни, то деньги можно было получить только с подработок. Дед был мастер великий: делал деревянные грабли, сани-розвальни из дерева. Он дружил с дедом Никанором Карякиным, одноногим кузнецом, который ковал полозья для его саней. Вместе они мастерили оглобли, вилы, рогатины, грабли – и все это продавали тайком в Камне-на-Оби. Дед деньги откладывал и в итоге купил жеребца.
У нас в деревне была довольно большая конюшня, где распоряжался конюх Тимофей. И когда сенокос заканчивался, мы там тоже подрабатывали в ночное или помогали пасти коней. Нам за это платили – правда, трудоднями.
И вот однажды я возвращался с пастбища на дедовом коне, подъехал сзади к кобыле. Я тогда не знал, что кобыла не любит, когда жеребец сзади подходит. Она как лягнет. Жеребец-то умный, увернулся, а мне досталось. Лошадь ударила меня очень сильно прямо в лицо. Я улетел в кусты и потерял сознание. Не знаю, сколько я там пролежал, но искали меня долго. Наконец нашли. Помню, меня на телеге везут, я лежу весь в крови, и обезумевшая мама бежит рядом и причитает:
– Сыночка, сыночка! Да что же это такое!
А бабушка Аннушка ее успокаивает:
– Под богом ходит. Видишь, живой.
Но со слухом у меня после того происшествия до сих пор осложнения.
Школа
Школьные учителя тоже были ссыльными. Помню, преподаватель литературы и русского языка Ольга Александровна ото всех скрывала, что ее батюшка был священнослужителем, жил в соседнем селе. А вот Татьяна Алексеевна, учительница математики, меня терпеть не могла и все время била костяшками пальцев в лоб, приговаривая:
– Смотришь в книгу – видишь фигу!
А дело было в том, что ее отец стрелял в моего деда. Он был ярый большевик и ненавидел моего деда за то, что тот – бывший царский офицер: и как это такая несправедливость случилась, что в одной деревне бок о бок жили враги. Однажды он подкараулил деда, выстрелил в него из ружья и ранил. С тех пор его дочь меня недолюбливала. Вообще, в классе меня сторонились. Все дети были, как говорится, из предыдущих ссылок, а раз мы с мамой приехали недавно, после всех, значит, мы самые страшные враги. Из-за этого иногда приходилось драться с ребятами.
Но однажды я вернулся в класс после переменки, сажусь за парту, а у меня в парте – пирожок, а то и два. Я стал следить и вычислил, кто с пирожками в школу ходит – оказалось, это Лида Лысьева, самая красивая девочка в классе, мне тайно подкладывала пирожки. Так мы с ней подружились и дружили до самого моего отъезда.
Тогда в классе мальчиков и девочек сажали отдельно: мальчиков – слева, девочек – справа. Брили всех наголо, чтобы вшей не было: и девчонок, и мальчишек. В деревенской школе мы учились четыре класса. Все были отличниками. А секрет был вот в чем: в одной комнате этой избы-школы стояло два ряда парт: учились вместе первый и третий классы, а в другой комнате – второй и четвертый. Поэтому, учась в первом классе, мы уже запоминали что-то из программы третьего. Когда приходили во второй класс, естественно, для нас этот материал был – «семечки». Учась во втором классе, мы слушали программу четвертого… поэтому все были отличниками.
Еще в деревне была прекрасная библиотека, которая располагалась в отдельной избе. Книги собирали у всех ссыльных – кто что успел с собой привезти, поэтому выбор был разнообразный. Я читал много, пропадал в библиотеке. Бабушка всегда поощряла это мое занятие. Уже в детстве я прочитал Толстого, Пушкина и Достоевского, дореволюционное издание Ги де Мопассана, даже «Иллиаду» Гомера. К концу 4-го класса я знал наизусть почти всю библиотеку, потом пересказывал содержание книг остальным ребятам – не все любили читать, а слушать каждый был готов. Эта моя начитанность позволила мне завоевать определенный авторитет среди ребят, она и в дальнейшем меня много раз выручала.
Первые стихи
Первый мой поэтический опыт случился, как говорится, не благодаря, а вопреки. Мы с ребятами каждый вечер собирались на грудке (так мы называли холм за деревней). Среди нас был Ванька Сидоров, долговязый парень на несколько лет старше меня. Ему тогда уже лет четырнадцать было. Талантливый, прекрасно играл на балалайке и на гармошке и сочинял частушки-нескладушки. Что такое рифма, он не знал, но сочинял. И стихи были очень злые – каждый в деревне боялся стать объектом его частушек. Этот Ванька Сидоров заметил, что я неравнодушно посматриваю на Лиду Лысьеву, которая ему очень нравилась, а Лида, кажется, отвечала мне взаимностью. Вот в один печальный для меня вечер, когда на грудке собралась почти вся молодежь деревни, он пришел со своей гармошкой и объявил:
– Частушка-нескладушка про Шурку Панкратова!
Я насторожился, а он при Лиде Лысьевой как запоет:
Ты родился под мостом, На тебя куры срали. От того ты не растешь, Гнида конопатый, Шурочка ПанкратовЭто при моей-то «любимой»! Я схватил какой-то дрын и начал гонять его по всей деревне. А он долговязый был, бегал намного быстрее меня. Я его догнать не смог, но готов был за себя отомстить и подраться, если понадобится. Драчун я был неплохой, потому что мне все время приходилось защищаться от своих сверстников. И вот я, обиженный, плача, пришел домой. Пока никого в избе не было, взял тетрадку у сестры и написал на Ваньку стих, страшный стих. Я собрал весь фольклор деревни – все, что от мужиков слышал. На следующий день на грудок прихожу, мрачный, на всякий случай кол взял хороший – от Ваньки защищаться. И когда все собрались, я объявляю:
– Стих! Ваньке Сидорову посвящается!
Ну и как дал им этот стих, с листа читал. Не успел я закончить, как Ванька Сидоров меня погнал. На этот раз я оказался проворнее, он отстал.
На другой день вся деревня узнала о моем поэтическом дебюте. Дед вывел меня во двор:
– Варнак! – говорит («варнак» – это казачье слово, им называют варвара, которого следует наказать) и всыпал мне вожжей.
Дед часто меня порол. Вожжами – это еще ничего, было делом привычным. А когда ему под руку уздечка попадалась, тут я уже боялся, что, не дай бог, удилами. И он меня отпорол. Оказывается, на следующий день утром ему рассказали, что внук его на грудке выдал мат-перемат. В нашей семье это было страшно наказуемо. Дед всегда говорил:
– Варнак! При большевиках живем. Учись пахать, сеять, лес валить, дрова колоть, землю пахать, а щелкоперство это брось.
Вот так он меня крепко воспитывал. А бабушка меня всегда успокаивала.
В детстве я был почему-то конопатый. Старухи смеялись надо мной, говорили:
– Санька ходит Панкратов-то, мухами весь засиженный.
Мне было очень обидно, а бабушка меня однажды успокоила:
– Санка, не обижайся на старушек. Они же не знают, что тебя солнышко любит.
И с тех пор, когда я плакал, то утешения искал всегда у бабушки. Бабушка мне тогда сказала:
– Пушкина-то почитай. Вот это – поэзия. А матерные слова ни к чему.
Потом, когда я начал писать стихи, мама всегда предостерегала:
– Санка, брось писать стихи – расстреляют, а не дай бог – посадят.
Уже после перестройки, когда у меня вышла первая книга стихов, я приехал к маме. Книгу ей показываю и говорю:
– Мама, видишь, меня напечатали.
Она полистала книгу и зарыдала в голос. Обняла меня, прижала к себе, плачет и говорит:
– Все-то тебе, сибирячок, неймется. Все-то тебе неймется. Смертыньку ищешь!..
Кино наоборот
Раз в месяц к нам в деревню из Камня-на-Оби привозили кинопередвижку. И вот «ду-ду-ду» – стучал движок, и показывали кино. Вся деревня собиралась на фильм. Вместо экрана вывешивали простынь, и мы с ребятами по другую сторону простыни смотрели кино: в зале все места были для взрослых, а нам разрешалось смотреть только за простыней – «за экраном». Поэтому, когда я уже учился во ВГИКе, мой учитель Ефим Львович Дзиган спрашивал:
– Саша, ты араб или еврей?
Я не понимал вопроса, а он объяснял:
– Кинопанорамы в твоих учебных работах идут справа налево. А надо слева направо, как книгу читаешь.
Я кино воспринимал в обратную сторону и потом долго от этой привычки освобождался.
Тогда меня особенно потрясли фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». И судьба сложилась так, что я потом учился у Ефима Львовича Дзигана, режиссера фильма «Мы из Кронштадта». Помню фильм «Бродяга» с Раджем Капуром, который вся деревня ходила смотреть. Все бабы потом по вечерам собирались в избе у мамы, приходили с веретенами пряжу прясть и плакали: все вспоминали, как в фильме шайка бандитов над главным героем бродягой изгалялась. А я потом на грудке изображал танцы Раджа Капура из того фильма… Пройдут годы, и я познакомлюсь с Раджем Капуром на Московском международном кинофестивале незадолго до его кончины, а он представит меня Риши Капуру – своему сыну.
Был 1957 год, когда я изображал на грудке Раджа Капура. Я это запомнил, потому что тогда произошло одно важное событие. Собрались мы на грудке и вдруг смотрим – скачет мужчина на лошади:
– Мужики! В космос аппарат запустили!
Это почтальон наш был, который раз в неделю к нам приезжал, привозил из района газету «Правда». Потом мы узнали, что запустили искусственный спутник. А еще в 57 году была годовщина революции, 40-летие, и в нашу деревню провели радио. Причем это были круглые рупоры, как во время войны. Их устанавливали не у всех. Мы мальчишками все время бегали к этим радиостолбам и прикладывали к ним ухо в надежде услышать радио. А потом, незадолго до нашего отъезда в 1959 году, провели электричество. В нашу деревню постепенно приходила цивилизация.
Шапито в сарае
В 1959 году маму реабилитировали, выдали паспорт (до этого ни у кого из ссыльных паспортов не было) и пенсию назначили: то ли семь, то ли девять рублей. В нашей деревенской школе было только четыре класса, а мама хотела дать нам с сестрой достойное образование, поэтому решила переехать. Нам разрешили выехать из Алтайского края, но перемещаться мы могли только до Урала, в Центрально-Европейскую часть России маме уезжать было запрещено. Мы решили ехать в Кемеровскую область. Там жила мамина тетя Мария Алексеевна Козлова.
Перед отъездом впервые в своей жизни я попал в город Камень-на-Оби. Для меня, десятилетнего мальчишки, впечатление было грандиозным. Даже потом, когда я съездил в Москву и Петербург, на меня эти города произвели меньшее впечатление, чем Камень-на-Оби, потому что это был первый город, который я увидел вживую, не в кино.
Чтобы достать денег на отъезд в Кемеровскую область, мы решили продать корову. А для этого нужно было ехать в город. Сосед направлялся туда на телеге. Мы привязали корову к соседской телеге и гнали все сто километров до города. Ехали с мамой вдвоем – сестра в тот день работала в колхозе. Первые ощущения от города: множество телег, автомобилей было два-три, и те грузовики. Корову мы продали, по мнению мамы, удачно, и я впервые попробовал мороженое в бумажном стаканчике по десять копеек за порцию.
– Ой, почти как морозево, – сказал я.
На Рождество из творога с сахаром и сметаной бабушка делала лепешечки и выносила на улицу, на мороз. Эти застывшие лепешки назывались морозево. А тут настоящее молочное мороженое!
Но особое впечатление на меня произвел цирк шапито. Там я в первый раз увидел клоунов, которые жонглировали факелами, и увлекся. Приехал в деревню – думаю, научусь жонглировать. Нашел три округлых камешка, пожонглировал ими – получилось. Думаю, пора переходить на факелы. Нарубил куски стальной проволоки, один конец обмотал тряпкой и паклей, макнул в солярку, поджег. Другого места не нашел репетировать, как в сарае, где сено хранилось. Главное – потолок высокий, как купол в цирке. Жонглирую, собой доволен – настоящий артист цирка! И вот одна из этих проволок воткнулась под стреху в крыше и горит. А я росту маленького был: прыгал – не достал, а лестницу не нашел. И сарай сгорел. Ну и дед очень «популярно» мне тогда объяснил, что такое цирк в деревне. От деда, конечно, сильно досталось. С тех пор я о карьере циркача и не думал, хотя ходить в цирк люблю до сих пор. У меня очень много друзей-циркачей, среди них семьи Никулиных и Дуровых.
Переезд
Помню, как плакал, когда мы покидали нашу деревню. Приехала полуторка, нас посадили в грузовик, погрузили наши вещи. Среди них огромный бабушкин сундук, зеленый кованый, с хитрым каким-то замком – там все мамино богатство хранилось. Бабушка привезла сундук из Петербурга с собой в ссылку и подарила его маме перед нашим отъездом. Уезжали втроем: мама, сестра и я. Попрощался с бабушкой. Деду руки не подал, но он и не требовал этого, стоял мрачный, перекрестил нас. И мы поехали. Едем в Камень-на-Оби, а нам навстречу – Лидочка Лысьева с мамой.
Я кричу:
– Лида!
– Саня! – кричит Лида мне в ответ.
Вот так мы попрощались.
Сначала из Камня-на-Оби мы плыли в Барнаул. Тогда я впервые ощутил, что такое пароход. Причем пароход тот был еще с лопастями, с колесами. Разместили нас на палубе, и плыли мы всю ночь. Я не мог заснуть: смотрел на бакены, которые встречались на реке, на отвесные высокие берега – все было в новинку. Хоть и текла у нас в деревне речушка Бурла, приток Оби, где мы ловили окуньков, но она была узкая. Еще были озера: Ванино и Русаково. Но такой большой судоходной реки, конечно, я раньше не видел. Это была великая Обь.
В Барнауле мы на трамваях пытались добраться до железнодорожного вокзала. В трамвай нас не пускали из-за огромного бабушкиного сундука, который мама везла с собой. Она долго-долго уговаривала какого-то шофера, чтобы довез до вокзала. Наконец уже вечером мы сели на поезд. Ехали опять в ночь до города Белово, где нас встречала мамина тетя.
Жила Мария Алексеевна в поселке Новостройка в пятнадцати километрах от Белово. До этого она тоже много лет просидела в лагерях на Колыме. Там добывала золото на рудниках. Однажды ее вагонеткой в забойнике придавило к стене. Мария Алексеевна сильно покалечилась, работать больше не могла, получила инвалидность. Когда ее реабилитировали, она перебралась в Кемеровскую область.
В поселке Новостройка у нее была девятиметровая комната в коммунальной квартире – бывшем тюремном бараке. Там жили в основном ссыльные, много было уголовников. Мы поселились вместе с тетей в этой комнате. Мария Алексеевна и мама спали на одной кровати, я – на полу около двери, а сестра Зиночка – на том самом бабушкином сундуке.
Дверь в комнату почему-то открывалась во-внутрь. Когда начиналась драка в коммуналке (а там жило пять-шесть семей), то все женщины бежали спасаться от пьяных мужиков к маме. Маму боялись, она очень строгая была. И когда посреди ночи соседки прибегали к нам (двери тогда не запирались: воровства не было), мой матрас-«кровать» толкали дверью.
Через несколько лет тетя переехала из Кемеровской области в город Фрунзе (сейчас Бишкек): врачи рекомендовали ей климат Средней Азии. Там она и скончалась много лет спустя. Во Фрунзе тетя на свои деньги построила детский дом. Оказывается, некоторым реабилитированным политзаключенным Хрущев давал пособия – что-то вроде компенсации за невинно отбытый срок. Когда Мария Алексеевна уехала из ссылки, у нее не было ни семьи, ни детей, и она решила, что ее деньги могут помочь чужим детям. Построила детский дом, при нем жила сама: полы мыла, за детишками ухаживала. В Бишкеке даже мемориальная доска есть о том, что детский дом построен Марией Алексеевной Козловой.
Когда тетя уезжала, девятиметровую комнатку оставила нам. И мама, будучи уже больной (у нее была острая форма гастрита), устроилась работать бригадиром разнорабочих на стройку. Рядом с нашим поселком возводился еще один – Колмогоровский. Нужны были рабочие руки, вот мама и пошла. Тот, кто строил, получал квартиры, и маме с двумя детьми через несколько лет выдали в Колмогоровском небольшую однокомнатную квартиру, метров восемнадцати: маленькая кухонька, печка углем топится, потому что там уголь добывали. Так, постепенно, из деревенских мы превратились в городских.
День шахтера
Был август месяц. Приближался День шахтера, да и школа на носу. И мама сказала:
– Все, Санка. Деревенская жизнь кончилась, ты теперь мальчик городской, поэтому надо купить тебе костюм.
И купила мне костюмчик какой-то дешевенький, но очень этому радовалась:
– В нем и в школу пойдешь.
День шахтера праздновали на берегу Ини – притока Оби. Разворачивалось целое народное гулянье. Накрывали поляну, причем в прямом смысле: столов не было, подстилку расстилали прямо на земле (она была вместо скатерти). Приходил кто-то из народных коллективов, танцевали и пели. А для ребятишек качели сделали, с ними у меня связана отдельная история.
Я пришел на праздник в новом костюмчике, подстриженный в парикмахерской – для меня это было впервые, потому что в деревне нас стригли ножницами «под барана» или, как еще говорили, «лесенкой». Когда волосы отрастали, они торчали в разные стороны и получался такой смешной «ежик». А тут в парикмахерской меня побрили наголо машинкой, ровненько, аккуратненько. И вот я прихожу на гулянье – «городской» парень, в моем представлении. А остальные ребята на меня смотрят и переглядываются. Они-то одеты просто: штаны, рубашонка какая-то. А я стою таким франтом. Стал соображать, как мне восстановить в их глазах свою репутацию. И заметил качели. Я ведь в деревне чемпионом был, крутил «солнышко» аж сто пятьдесят раз! А здесь, в Новостройке, Витька Шамай, татарин, был вроде вожака среди этой детворы. Он перед ними прокрутил «солнышко» раз пятьдесят. Все под впечатлением: «Ну дает Витек! Ну, Шамай!» И тут я скромненько в этом пиджачке залез на качели и как начал крутить. Но как только завершил свой победный сто пятидесятый круг и спрыгнул с качелей, вся эта ватага набросилась на меня (Витьку мой успех очень оскорбил, вот он и натравил на меня ребят). Порвали на мне этот костюмчик, избили, зубы выбили. Пришел я домой – мама в обморок чуть не упала.
А у нас в коммуналке жил бандит по кличке Коля Сорок Пятый. Он узнал, что случилось, на следующий день провел меня за руку по всему поселку и сказал ребятам:
– Если кто тронет, уши оборву.
С тех пор меня никто не трогал. А потом я со всеми подружился. Мы вместе уходили из поселка на берег реки Ини, и я часами – не преувеличиваю, часами – рассказывал содержание библиотеки деревни Конево. Ребята были неначитанными, учились плохо. Я им читал и свои стихи, и Лермонтова. И «Всадника без головы» Майна Рида рассказывал, и «Трех мушкетеров» Александра Дюма – они слушали, открыв рот. А по вечерам пересказывал им новеллы Мопассана… Так я сделался душой компании.
Три миллиметра
Летом я спал на раскладушке на балкончике. По вечерам, когда темнело, я уходил на балкон и писал стихи. Напротив нашего дома стоял другой дом. В нем жила Таня Красильникова, моя одноклассница. Я был к ней неравнодушен, поэтому часто с балкончика за ней наблюдал. Я видел, как она ушла на танцы. У меня музыкального слуха не было – я на танцы не ходил. Стемнело. Было около десяти часов вечера. Над ее подъездом зажгли фонарь. Я смотрю: какой-то парень зашел в подъезд. Потом мне сказали, что это был рецидивист, освободившийся из тюрьмы (видимо, зашел в подъезд заночевать). Через некоторое время Таня вернулась с танцев и тоже зашла в подъезд. Через несколько секунд я услышал ее крики – как был в трусах и в маечке, спрыгнул с балкона (мы жили на втором этаже) и побежал на помощь. Открываю дверь – передо мной здоровый мужчина, на Тане – разорванная кофта и платьице. Я на него бросился, и вдруг – ах! Помню только, как инстинктивно произнес: «Господи!» – и в глазах потемнело. Оказывается, он проткнул мне грудь заточкой: целился в сердце.
Я полтора месяца лежал в больнице. Очнулся – вижу перед собой белый потолок и медсестру, склонившуюся надо мной. Потом доктор, проверив рентген, сказал мне, что в трех миллиметрах от сердечной сумки прошла заточка – то, что я выжил, было настоящим чудом.
«Под богом ходим!» – говорил дедушка.
Как я решил стать актером
Кино я полюбил еще в деревне, когда смотрел с ребятами фильмы передвижного кинотеатра. Тогда у меня родилась мечта – снимать кино самому. Со временем эта мечта окрепла. В «Справочнике киномеханика» я прочитал, что кино снимают режиссеры, которые в основном работают с актерами. Поэтому я решил сначала стать актером, а потом идти в кинорежиссеры. Мама же такие мечты не приветствовала. Она хотела, чтобы я стал военным. Не только потому, что все мои дяди были военными, но еще и потому, что мы очень бедно жили, а мама думала, что военных за счет государства обувают, одевают, кормят и квартиры дают. Это она в кино видела. Уже потом, когда я служил в армии, я видел, что командир моей роты лейтенант Толя Кутузов жил с женой и сыном в нашей же казарме, отгороженный от солдат байковым одеялом.
Мама же мне всегда говорила:
– У военных одежка казенная, кормежка казенная. Потом, на себя посмотри, ты же у меня страшненький (я все еще конопатый был), а за офицерами симпатичные девчонки ухлестывают – глядишь, жена будет красавица.
У мамы были свои аргументы за то, чтобы я шел в военные. Дед же меня так наставлял:
– Заруби себе на носу, варнак, служить надо Отечеству, а не властям.
Вот этот дедушкин девиз я в сердце храню, как талисман. Это мой камертон проверки на честь, совесть и достоинство перед Родиной.
После окончания мною 7-го класса, в августе, пришло письмо от дяди Терентия, маминого старшего брата. Он сидел на Колыме (кстати, вместе с актером Георгием Степановичем Жженовым), а после реабилитации уехал на поселение в Темиртау, Северный Казахстан. Еще один брат, Василий, в Алма-Ате оказался. Дядя Семен с Сахалина попал в Камень-на-Оби, дядя Андрей – на железнодорожную станцию Мир между Славгородом и Камнем-на-Оби. Брат дедушки Иван был сослан в Иркутскую область. В общем, всю семью разбросало по Сибири и Казахстану.
Получив письмо, мама поехала навестить дядю Терентия, а сестра Зина и говорит:
– Санка, пока матери дома нет, беги в артисты.
Сестра знала о моих мечтаниях. Я ей всю жизнь доверял и доверяю. Она отдала мне деньги, которые мама нам оставила.
Я нашел в библиотеке справочник средних учебных заведений, посмотрел: уже прошли экзамены и в Барнаульской театральной студии, и в Красноярской студии при ТЮЗе, и в Новосибирске, и только в Горьком (сейчас Нижний Новгород) набирали на актерское отделение. И вот я через всю Россию (мое самое долгое путешествие) на верхней полке общего вагона поехал поступать в артисты. Зина в авоську мне рубашку белую положила и джинсы – это было модно. Купила, как сейчас помню, за 4 рубля 10 копеек полотняные джинсы с желтой строчкой советского производства. Моего размера не было – купила на размер меньше, короткие, но выбирать не приходилось. И сандалии на босу ногу надел. На ногах цыпки, как у нормального деревенского парня. Конопатый. Вот так я поехал в Горький поступать в театральное училище.
Глава 2
Вернуться в молодость нельзя, Но оглянуться и увидеть, Как дружно жили мы, друзья, Боясь друг друга вдруг обидеть, И осознать, что есть рука, К тебе протянутая в горе… После чего ты на века Готов уйти Колумбом в море.Цыгане
Цыгане в истории нашей семьи играют особую роль. Я рассказывал, как маме в молодости цыганка предсказала ее судьбу, и все сбылось. У меня же подобный случай произошел, когда я только прибыл в Горький.
Перед отъездом сестра Зина сшила мне в трусах карманчик, спрятала туда деньги и наказала:
– На вокзалах всегда цыгане пасутся. Смотри, чтобы не обворовали.
Я прибыл в Горький, и как только вышел из здания Московского вокзала, ко мне подошла цыганка. Я – сразу за карман. А она:
– Деньги-то в трусах небось прячешь?
Я ужаснулся: «Она уже знает, где деньги. Права была сестра».
А цыганка смеется:
– Не бойся, мальчик! Не возьму я твои деньги. А вот в артисты поступишь.
И я поступил.
Вступительные экзамены или этюд на рояле
Когда я приехал поступать в Горьковское театральное училище, мне было неполных четырнадцать лет. Я был самым младшим среди абитуриентов.
На первом экзамене попросили что-нибудь прочитать. Я вспомнил фильм «Старшая сестра» Георгия Натансона, в котором героиня Татьяны Дорониной произносит знаменитый монолог «Любите ли вы театр?», и решил с этим монологом поступать. Только я начал читать его на прослушивании, меня отвел в сторону Виталий Александрович Лебский, директор училища, и посоветовал вместо этого монолога прочитать что-нибудь веселое, с юмором. Ну, я купил брошюрку журнала «Огонек», которая была посвящена пограничникам. Тогда я не знал, что много лет спустя сыграю пограничника и даже получу премию «Золотой венец границы». На вступительном экзамене я прочитал какие-то, как сейчас мне представляется, чудовищные стишки и басню про пограничников. Были там такие слова:
…Старичок-паучок. Прыг-скок через границу, Но не дремлет пограничник, Службу знает он отлично…И далее по тексту стихотворения: поймал пограничник того старичка-шпиона. Вот такой стишок со счастливым концом я прочитал, причем на полном серьезе. Рассказывал, как какой-нибудь детектив Агаты Кристи. Все в приемной комиссии хохотали.
Потом Виталий Александрович попросил показать этюд. Я немного растерялся.
– Что ты умеешь делать? – спросил он. – В деревне, наверное, гнезда птичьи зорил?
– Зорил, – ответил я.
– Так представь, что вон там гнездо…
Он указывает на кулису. Я снимаю с себя сандалии… А поступал я в своих коротких джинсиках, сандальки на босу ногу. И самое печальное, что моя белая рубашка в авоське испачкалась: сестра положила буханку хлеба, десяток яиц и кусочек сала в дорогу – и вот это сало через газету пропитало всю рубашку. И я в этой запятнанной рубашке поступал… Ну, я наметил, где гнездо. А у кулисы рояль стоял, старинный такой, беккеровский. Я разулся (ведь мы по деревьям босиком лазили), разбежался, прыг на этот рояль, схватился за кулису и полез наверх. Слышу внизу охи да ахи. Смотрю: седоголовая женщина полулежит в обморочном состоянии. Это была Софья Андреевна, преподавательница вокала и сольфеджио. Она после революции аккомпанировала самому А. Н. Вертинскому. А беккеровский рояль, на который я так резво прыгнул, был единственным инструментом во всем училище.
Дальше – экзамен по вокалу. А у меня совсем нет музыкального слуха. Экзамен принимала та самая Софья Андреевна, которая чуть не лишилась чувств, когда я запрыгнул на рояль. Сначала я спел гамму – в ноты попал. А потом она меня попросила исполнить какое-нибудь произведение. Я запел народную частушку, а она спрашивает:
– Мальчик, а что вы орете?
Я и признался:
– Я ору, чтобы вы нот не слышали. Если вы их услышите, вы сразу поймете, что я ни в одну ноту не попадаю.
Она улыбнулась:
– Ну, иди.
Думаю, выгнала с экзамена. Потом смотрю, поставила «четыре». Я позже, когда был студентом и с ней занимался, спросил, почему она мне тогда четверку поставила. Она ответила:
– За честность: ты признал, что у тебя нет слуха.
Следующим заданием было прочитать стихотворение. Я, недолго думая, выбрал из школьной программы «Буря мглою небо кроет…» А. С. Пушкина. Читал я, по моим стандартам, нормально, скороговорочкой, просто и обыденно. Но такая манера страшно возмутила педагога по речи Людмилу Александровну Болюбаш.
– Такое пренебрежение к великому Пушкину, – сказала она и поставила низкую оценку.
В результате я не набрал одного балла, и меня не приняли. Я стоял в коридоре и плакал. И не потому, что не поступил. В справочнике я прочитал, что на актерское можно поступать до двадцати пяти лет – у меня впереди было еще десять с лишним лет. А плакал потому, что деньги истратил: у мамы пенсия была копеечная после реабилитации. Вот стою я и плачу. Вдруг подходит ко мне высокий красивый седой старик, похожий на Станиславского, и спрашивает низким голосом с прононсом:
– Прелестное дитя, отчего слез так много?
Я и отвечаю:
– Понимаешь, папаша, какая-то мымра на экзамене сказала, что я по-русски плохо разговариваю. А я в деревне-то лучший говорун был.
Мужчина попросил меня зайти в кабинет. Оказалось, что я разговаривал с одним из основателей училища, заведующим учебной частью Георгием Аполлинарьевичем Яворовским. Он преподавал в училище речь и историю театра. Яворовский спросил у меня:
– С мамой приехал?
Я отвечаю:
– Нет, один.
– Один через всю Россию? – удивился он и вызвал в кабинет Людмилу Александровну Болюбаш. Спросил, почему она поставила мне низкую оценку. Та пожаловалась, что я Пушкина скороговоркой прочитал. Я и ответил:
– Так чего же рассусоливать. У нас в Сибири бури – обыденное явление. Зачем из этого событие-то делать?
Яворовский и Болюбаш посмеялись, и тут Георгий Аполлинарьевич говорит:
– Людочка, пиши заявление об уходе.
– Как? – изумилась она.
– А вот так, – ответил он. – Потому что ты лентяйка. Приехал мальчик из глубинки через всю Россию, а ты прицепилась к тому, что он Пушкина скороговоркой читает. Значит, работать не хочешь.
– Ну ладно, Георгий Аполлинарьевич, возьмем этого дурачка, – согласилась Людмила Александровна. И меня приняли.
Уже учась у Людмилы Александровны, я спросил у нее, много ли за свою практику она встречала таких дураков, как я.
Она отвечает:
– Нет, только двоих: тебя и Женю Евстигнеева.
– А Евгений Александрович-то почему был дурак? – удивился я.
– А он тоже читал стихотворение «Буря мглою небо кроет», – ответила Болюбаш. – Только ты все забалтывал так, что слов не разобрать, а он плевался.
Потом судьба распорядится так, что я подружусь с Евгением Александровичем Евстигнеевым и снимусь с ним в нескольких фильмах.
Мои учителя
Мне очень повезло с учителями. Под богом ходим! В Горьковском театральном училище я занимался у тех педагогов, у которых учились Евгений Евстигнеев, Людмила Хитяева, Михаил Зимин, Григорий Левкоев. Сценическое движение и танец преподавала Гостева Лидия Ивановна, ученица Айседоры Дункан. Актер Владислав Дворжецкий часто проводил мастер-классы. Хлибко Николай Селиверстович был моим непосредственным педагогом по актерскому мастерству. Ему помогала Тамара Александровна Рождественская (родная тетушка Геннадия Николаевича Рождественского, великого дирижера), характерная комедийная актриса. Когда говорят, что я – комедийный актер, то я отвечаю, что очень многому от нее научился. Такие были мастера!
Педагоги к нам относились удивительно уважительно. К каждому подходили индивидуально, с понимаем того, кто мы и откуда. Это было очень важно – вот такое прикосновение человеческой души к подростку, к мальчику из провинции. Они понимали, что Шура Панкратов – простой парень из Алтайской деревни. Но из-за этого меня не унижали, не оскорбляли, не говорили, что я быдло или недоросль. Наоборот, оберегали. Нас воспитывали. Нам очень мягко, ласково объясняли, как нужно себя вести. Они из нас делали артистов, интеллигентов; мягко, тактично вели нас к тому подиуму, на который мы должны были выйти. И это была основа всей педагогической системы Горьковского театрального училища. Не знаю, сохранилась ли она сейчас.
Я помню, Софья Андреевна мне говорила:
– Сашенька, у рояля так не стоят.
А затем следовала лекция часа на полтора о том, что это за инструмент – рояль, кем он производится и почему вот так выглядит. Я стоял и с замиранием сердца слушал. И когда она говорила: «А сейчас, Санечка, нота «ля». Ты понимаешь, что ты не попадаешь?» – я понимал, что рояль – это такой хитроумный инструмент, и что в ноту «ля» надо попадать. Это была мука, но это было творчество.
Людмила Александровна Болюбаш, педагог по речи (та самая, которая чуть не «забраковала» меня на вступительном экзамене), когда узнала, что я живу только на одну стипендию, сказала:
– Панкратов, в выходной – обязательно ко мне домой. У тебя очень большие проблемы с речью – надо заниматься.
Я приезжал к ней домой. Она мне наливала огромную тарелку щей, давала две-три котлеты с грудой гарнира…
Я спрашивал:
– Людмила Александровна, а речью заниматься когда будем?
Она отвечала:
– Ты что, с ума сошел, чтобы я еще выходной день на тебя тратила…
Подкармливала меня.
Два стакана чая без сахара и тринадцать кусков хлеба
Учась в театральном училище, я собирал библиотеку. Даже на двадцать рублей стипендии я изыскивал возможность покупать книги. У меня была прекрасная библиотека поэтов. А мама мне каждую неделю присылала посылку – ящичек, а в нем: картошка, кусочек сала, три рубля денег и письмо, в котором самым главным было: «Санка, не транжирь деньги». Ну и из расчета на то, что придет посылочка, я деньги все тратил: покупал книги, и вдруг – посылки нет и нет. Оказывается, мама слегла в больницу с острым приступом гастрита, и посылку мне не отправили. Я голодал трое суток. У меня уже начались какие-то галлюцинации из-за голода. А дело было зимой. Вот еду я в трамвае, гляжу, на полу пятнадцать копеек лежит, вмерзших. Для меня это был целый процесс. Я два круга проехал на трамвае, пока эти пятнадцать копеек выбивал изо льда, чтобы люди не заметили – стыдно было. Потом, чтобы не заметили, как я их поднимать буду, шапку уронил, накрыл шапкой эти пятнадцать копеек, нашел, зажал в кулаке. У нас в студенческой столовой стакан чая без сахара стоил одну копейку, а с сахаром – три копейки, и одну копейку стоил кусочек хлеба. И вот я, проголодав трое суток, прибежал в эту студенческую столовую, взял два стакана чая без сахара и тринадцать кусков хлеба. На меня смотрели как на сумасшедшего, но зато я был сыт.
В эти три голодных дня Георгий Аполлинарьевич Яворовский заметил, что я очень бледный хожу, держусь за стенку, потому что меня шатало от голода. Вот иду я по коридору, чувствую, кто-то меня по плечу хлопает сзади. Оборачиваюсь – Георгий Аполлинарьевич:
– Молодой человек, ну нельзя же так сорить деньгами.
И дает мне пять рублей. Я говорю:
– Георгий Аполлинарьевич, это не мои деньги.
Он отвечает:
– Я что – слепец! Я шел за тобой – у тебя из заднего кармана выпали пять рублей.
Я отвечаю:
– Георгий Аполлинарьевич, ну не может быть у меня таких денег.
Он возмущается:
– Ты хочешь сказать, что я лжец?!
В общем, заставил меня взять эту пятерку. Он отошел, а я держу в руках пять рублей и вспоминаю, что у меня на брюках нет заднего кармана.
Вот у таких людей я учился.
Актерское мастерство «с тряпочки»
Вспоминаю Николая Селиверстовича Хлибко, моего педагога по актерскому мастерству. Крупный, а-ля Меркурьев, сидел он на стуле, обмахиваясь носовым платком, и говорил:
– Саша, я, конечно, не могу прыгнуть, как ты, но ты прыгни, как я не прыгну.
В этих словах – и признание своих недостатков, и осознание твоих достоинств.
Начинал он, как мы говорили, «с тряпочки». Например, репетируем сцену Коробочки из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Студентка Ирина С. выходит и начинает свою реплику:
– Ой, здравствуйте…
И тут Хлибко останавливает ее:
– Минуточку, Ирочка. Коробочка может вот так выйти, без тряпочки?
Та в недоумении:
– А зачем ей тряпочка?
Хлибко отвечает:
– Потому что у нее все протерто, все обихожено. Она с тряпочкой должна выйти.
Ирина берет тряпочку, выходит снова, а Хлибко ей:
– Ирочка, вот ты с тряпочкой вышла. Зачем?
– Так вы же сами сказали…
– Это я сказал. А Коробочка? Тряпочку она вынесла с собой в руках зачем? Чтобы что-то протереть. А что можно протереть? Например, столик перед Чичиковым.
Ирина протирает столик. Хлибко продолжает учить:
– А теперь куда ты денешь тряпочку?..
И так далее. Вот так создавалась сцена, с мотивационных вопросов: как ты вышел? с чем? зачем ты вышел?
Потом Хлибко продолжает:
– Вот ты, Ирочка, откуда вышла и куда идешь?
Она отвечает:
– Из комнаты в комнату.
Хлибко возражает:
– Нет, голубушка. Ты вышла из кухни. А что у тебя в кухне было?
Ирина догадывается:
– Самовар…
– Так вот ты оттуда вышла после самовара… А зачем ты вышла?
– Для разговора…
Хлибко возражает:
– Нет, ты вышла, чтобы все протереть, чтобы все сделать удобным, красивым, а уж потом Чичикова слушать…
То есть на наших глазах создавалась целая история, и это было гениально. А когда переходили к диалогу, начинался детальный анализ: что тебя интересует в беседе? как ты слушаешь собеседника? почему ты его слушаешь именно так? одни ли интересы вы с вашим собеседником преследуете в разговоре? Хлибко преподавал не систему Станиславского по принципу «действуй в обстоятельствах», а систему Михаила Чехова по принципу «в какой атмосфере ты находишься». Например, на кладбище нужно разговаривать тихо, потому что атмосфера кладбища тебе это диктует.
Дипломный спектакль мы поставили по моей инсценировке «Мертвых душ». Я работал над спектаклем как драматург и актер. Отдельно ставили сцены с Коробочкой, Ноздревым, губернатором и другими действующими лицами пьесы. А как объединить их в единый спектакль? И Хлипко поставил передо мной эту задачу. Гоголь сжигал свои рукописи. И я придумал, что он сжигает листы рукописи «Мертвых душ» в камине по очереди: одну сцену, вторую, третью… И перед зрителем мы эти сцены по очереди разыгрывали. Я в этом спектакле играл автора. И когда дело дошло до финального монолога, я бросился от камина и закричал:
– Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…
Когда Хлибко увидел эту сцену, он мне предложил:
– Встань на колени и шепчи: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…»
Я удивился:
– Разве можно эти слова шептать?
А он ответил:
– Их нужно шептать, ведь это – личное. Ты перед Господом стоишь!..
Он прочувствовал, что кричать это человек не будет. Все актеры кричат, а он советует шептать. Это – осознание Гоголя в келье. Это глубокий личный урок. Гоголь велик для меня по сей день!
Тамара Рождественская, которая ему помогала преподавать актерское мастерство, была, напротив, актриса комедийная. Если меня считать комедийным артистом, то комедийное чувство она мне передала.
– Санька, а ты сделай так, а ты повернись вот эдак, – советовала она мне.
Я спрашиваю:
– Зачем?
А она отвечает:
– А это смешно.
Она мне все время показывала, что смешно, а что нет. Сама она, когда Бабу-ягу играла в детской сказке, всегда жаловалась, что в железной маске надо выходить на сцену: в нее дети стреляли из рогаток, потому что верили, что ее Баба-яга – настоящая. Тамара Рождественская мне часто говорила:
– Санька, ну что ты комикуешь? Ты все время хочешь быть смешным, а ты и так смешной.
У нее я научился чувству меры, которое так важно для комедийного актера.
Оттенки белого
Самым любимым предметом в училище у меня было, как ни странно, искусствоведение. До этого я и не представлял, что живопись так многогранна. Альбина Александровна Нестерова, наш педагог по изобразительному искусству, не просто рассказывала нам биографии художников, а говорила с нами о палитре, красках, о различиях в техниках. На ее занятиях у меня возникало ощущение проникновения в таинства живописи. Альбина Александровна водила нас в Музей изобразительных искусств в Горьком, где выставлялись картины лучших отечественных художников, и на примерах их работ наглядно показывала, что даже стакан можно написать разными способами. Особенно мне запомнилось, как она говорила о том, сколько в белом цвете может быть оттенков. Оказывается, семьдесят пять. Как? А вот так художник видит. Для меня это было открытием, и в то же время я себя чувствовал несчастным человеком: почему я не вижу, что в белом цвете столько оттенков! Значит, я бездарь, значит, я слепой?
И в черном цвете оттенков не меньше. Для меня теперь «Черный квадрат» К. Малевича – это не просто геометрическая фигура, это гамма красок. Ведь в этом черном цвете присутствует и белая палитра!
Это знание и чувствование живописи мне потом очень помогло при поступлении во ВГИК.
Кружок поэзии и КГБ
Пусть стихи мои вспыхнут в огне! Я устал их писать – они плачут, И приносят мне боль, и в окне, Как горящие свечи, маячат…Учась в школе и театральном училище, я продолжал писать стихи. Впервые меня опубликовали в газете «Кузбасс», когда мне было лет тринадцать. В ней я прочитал, что Михаил Александрович Небогатов, поэт-фронтовик, набирает кружок поэтов в Кемерово. Он был инвалидом Великой Отечественной войны, другом Александра Трифоновича Твардовского. Я взял тетрадь со своими школьными стихами и поехал к нему. Нашел его адрес. Когда я приехал к Небогатову, в гостях у него был Лев Ошанин. Он тогда с певцом Виктором Кохно ездил по Сибири с творческими встречами. Кохно пел песни на стихи Ошанина. Ошанин заехал к Небогатову вот почему: Твардовский тогда выпустил четырехтомник своих стихов (первое более полное его собрание) и через Ошанина, зная, что тот по Сибири поехал и будет в Кемерово, просил передать этот сборник Небогатову.
Небогатов меня попросил показать мои стихи. Я дал ему тетрадь, он прочел. Дал послушать Ошанину. Они довольно благосклонно отнеслись к моим виршам. Ошанин, который был профессором в Литературном институте им. Горького, предложил мне после окончания десятилетки поступать в Литинститут, а я тогда уже был зачислен в Горьковское театральное училище. Но я обещал им, что буду продолжать писать. Небогатов дал мне горьковский телефон и адрес Бориса Ефимовича Пильника, тоже фронтового поэта, инвалида войны, и попросил его найти. Я так и сделал.
При Доме ученых Пильник вел кружок поэзии. Туда ходили Юра Уваров и Юра Адрианов, впоследствии известный нижегородский поэт и прозаик, председатель Нижегородского отделения Союза писателей. Я тоже присоединился к поэтическому кружку. Вот тогда-то я и попал «под колпак».
Вторая половина 60-х годов, брежневский период. Оттепель еще жила, дышала, хотя уже затихала, замирала. Однако интерес к поэзии не остывал. Еще проходили поэтические вечера, куда приезжали Римма Казакова, Лариса Васильева, Ольга Берггольц.
Помню, Ольга Берггольц, уже старенькая, приехала на открытие памятника Борису Корнилову в городе Семенов Горьковской области. В горьковском Доме ученых по случаю ее приезда организовали творческий вечер. Зал был переполнен. Причем пришли и пожилые люди, и молодежь. Она уже слабым голосом читала свои стихи по памяти, что-то забывала, но прием был грандиозный. И я был счастлив провожать Ольгу Федоровну до гостиницы «Нижегородская», вел ее под ручку. Она много говорила, шутила. Сейчас я, вспоминая ее, задумываюсь: Ольга Берггольц пережила Ленинградскую блокаду, много написала об этом. А что значит – много написать? Это значит – много пережить, перечувствовать, осознать. Это большой груз человеческих переживаний. И при этом она не потеряла чувства юмора. Вспоминая ее, я всхлипываю, не боясь сентиментальности, и молюсь за нее.
Подошли к гостинице, поднимаемся по парадному крыльцу. Она немножко поскользнулась, я ее – раз – подхватил под руку, держу. Она улыбнулась, погладила меня по плечу и сказала:
– Хорошая реакция, Санечка, не уронил поэта, – а то бы все буквы рассыпались.
Я подумал: «Как метафорично!» – Она вся состояла из поэзии и слов.
А вскоре ее не стало…
На одном из таких вечеров я познакомился с еще одним замечательным поэтом-фронтовиком Эдуардом Асадовым. Будучи слепым, он обладал необыкновенным видением в поэзии. И очень много писал о любви. Меня это удивило: фронтовые стихи, а большей частью не о войне совсем, а о любви. И я поинтересовался, почему у него так много лирической поэзии, обращений к возлюбленной через стихи.
– А на войне о чем еще думать? – ответил он. – Только об этом: о любви, о нежности, о ласке… Когда тебя окружает жесткий и жестокий мир, тем более война, то думаешь о самом добром и самом нежном, а что может быть добрее и нежнее такого человеческого чувства, как любовь?
Кстати, молодежи очень нравились стихи Асадова, и когда им говорили, что поэт слепой, – они не верили, потому что было ощущение, что стихи написаны суперзрячим человеком.
В 1966 году (мне было семнадцать лет) Борис Ефимович Пильник направил меня во Владимир на Всесоюзный семинар молодых поэтов. Это значило, что, пройдя семинар, я должен был стать членом Союза писателей или как минимум кандидатом. Руководил семинаром известный поэт, лауреат Сталинской премии, профессор Литературного института Павел Григорьевич Антокольский. На семинаре мои стихи приняли очень хорошо. Там же я познакомился с Николаем Рубцовым, Беллой Ахмадулиной и многими другими московскими поэтами. Вернулся я в Горький весь окрыленный. В каком-то крупном журнале опубликовали цикл моих стихов, и Пильник меня познакомил с Серафимом Андреевичем Орловым, филологом, профессором Горьковского (сейчас Нижегородского) государственного университета. Встреча состоялась на квартире у Пильника. К слову сказать, Орлов был шекспироведом. И хотя ни одного его труда по Шекспиру не опубликовали, его работы были очень популярны в университетских кругах. Пильник показал ему мои стихи. Орлов рекомендовал мне поступать на филологический факультет Горьковского государственного университета.
Ну, я доверился профессору и решил поступать, для этого бросил театральное. Общежития университет не предоставлял, поэтому ютился я в ветхом жилище у стариков, ветеранов войны, которых переселили из полуподвала в новую квартиру. Старики сказали:
– Вот тебе ключи. Окна забей чем-нибудь, чтобы не знали, что здесь кто-то живет, и живи – до весны не снесут.
И в этом полуподвале я жил почти полгода до весны. Окна забил фанерой, днем зажигал свечи. Электрическую лампочку включал только ночью. Думал, годик проучусь на филологическом и перейду в Литературный институт в Москву – стал готовить себя в поэты.
Близился День Победы. Пильник на кружке поэзии вышел с предложением:
– Ребята, а почему бы вам не написать посвящения поэтам-фронтовикам и вообще стихи на тему войны?
Я и написал. И посвятил свое стихотворение Павлу Когану. Я тогда очень любил его поэзию. Любимым стихотворением было «Гроза», которое заканчивается словами: «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!» Только потом я узнал, что Михаил Кульчицкий и Павел Коган бежали из Литературного института на фронт добровольцами, где и погибли. А бежали, потому что знали о близившемся аресте. Кульчицкий с очень слабым зрением, – 8, погиб в первом же бою. Павел Коган не провоевал и полугода, тоже погиб. И я написал стихотворение под впечатлением от творчества Когана. Эпиграфом взял те самые строки из его «Грозы»:
Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал! Мы все живём, у всех есть право. Но прав ли тот, кто врал. И тот, Кто на правах, как крол на травах, На браво вырастил живот. И восседая в тесных креслах, О Преснях пресно говоря, Искал подтекст В прелестных песнях, Всех уверяя, что «не зря». И находил, и с ходу к делу Так приступал, как наступал. И люди пятились к расстрелу, С ума сходили – и в подвал. И на пол сразу – наповал. Поэт поэтому овал Воспринимал так туго, И детства угол рисовал – Один лишь угол, угол, угол.Наступил 1967 год, 50-летие советской власти. Поэтов стали душить. В столице уже буйствовала цензура, запреты, гонения на Иосифа Бродского и других поэтов. Но мы там, в провинции, еще не ощущали этого: выходили на улицы со своими стихами, выступали на поэтических вечерах в университете, во Дворцах культуры. Проходили вечера, посвященные поэтам-фронтовикам, на которых я читал и свое стихотворение, посвященное Когану. Оно широко разошлось среди студентов. И кто-то на меня за него «донес».
Еще Пильник нам такие задания давал: предлагал одно слово, и за десять минут мы должны были сочинить стихотворение, используя это слово. И вот в один, как потом оказалось, роковой для меня вечер Пильник дал нам слово «мозг». Я сочинил:
Мозг напряжен, как мускул, Пытается воспринять, что же такое русский, Русская Родина-мать. И не хватает мочи, И не хватает сил. Может быть, мозг не прочен, Годен лишь на утиль? Может быть, русская Родина-мать – Это и есть тот мускул, Который не следует напрягать?..Упражнение выполнил – выбросил и забыл, а кто-то из нашего кружка листок подобрал… и меня в КГБ на Воробьевку вызвали. Испугался я страшно, ведь вся семья была когда-то репрессирована, и мама предупреждала: не писать стихов.
Меня допрашивал майор КГБ. Он показал мое стихотворение – то самое упражнение, от руки написанное, которое я выбросил. На меня и досье уже было собрано. А в кабинете у него – шкафы от пола до потолка, закрытые. Он на них указал и говорит:
– Вот, видишь, здесь, наверное, пять-шесть Достоевских, два Толстых, точно три Тургеневых, но никто из этих авторов не появится в печати. А ты со своими стишками куда лезешь?
Сначала он меня вербовал в осведомители (то есть в «стукачи») – я отказался. Тогда он заставил меня дать подписку о том, что я не буду распространять свои стихи. Думаю, ладно – подпишу: лишь бы не посадили. Дал подписку, а маме на глаза показаться стыдно: Литературного института мне теперь было не видать, а из театрального училища ушел…
Пальто-шинель и возвращение в театральное училище
Нужно было как-то выживать. Я устроился работать дворником у Дома-музея Каширина (Музей детства А. М. Горького), что на Почтовом спуске. Отвечал за тротуар. Однажды я отбивал лед с тротуара, присел на скамеечку отдохнуть, курю. Вижу, мои преподаватели из театрального училища – Николай Селиверстович Хлибко, мой педагог, и Николай Александрович Левкоев – прогуливаются. Увидели меня. А я зарос, космы длинные отрастил, шапка на мне, а еще пальто особенное: мне его мама сшила, когда я поступил в училище. Она достала из бабкиного зеленого сундука черную фронтовую железнодорожную шинель – подарок на День Победы (берегла ее все это время), и из этой шинели соседка тетя Клава, портниха, скроила мне пальто. Необычное такое полупальто-полушинель, но сукно хорошее, теплое. В этом пальто я в театральном учился, потом в Пензенском драмтеатре отработал и даже во ВГИК ходил в этом же пальто. Я всегда шутил, когда говорил, что меня согревает «мамина фронтовая шинель». И вот в этом пальтишке я сидел и курил. Преподаватели меня увидели. Взглянув на мои лом и метлу, спросили:
– Шурка, подрабатываешь?
– Да, работаю.
А они допытываются:
– Ну а как с университетскими делами?
Тут я им все рассказал. Они попросили меня почитать мои стихи, я прочитал. Хлибко мне сказал:
– Возвращайся в театральное.
– А возьмете? – робко спросил я.
Я сдал пропущенные за полгода предметы, и меня приняли обратно, но на курс младше, к Валерию Семеновичу Соколоверову – знаменитому актеру, который учился когда-то вместе с Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым. Заканчивал я уже с другим курсом.
Московские каникулы
На зимние каникулы у меня не было денег ехать к маме в Сибирь – я оставался, подрабатывал дворником, а в свободные дни, в субботу и воскресенье, мы садились на поезд с моим другом Витей Шведом. У него тетя Соня работала директором вагона-ресторана. Витя меня брал к тете Соне, и она нас бесплатно возила в Москву и из Москвы на поезде, кормила-поила в этом ресторане. А в Москве мы приходили со студенческими билетами в театры и посещали их. В то время студенты театрального училища имели право бесплатно посещать спектакли в любом театре страны.
Театр «Современник», который тогда был на Маяковке, пользовался особой популярностью. Я приходил в театр, в окошечко протягивал студенческий билет. Мне его обычно выбрасывали обратно и говорили:
– Дипломатам негде сесть, а ты тут со студенческим лезешь.
Я отвечал:
– Тогда доложите Евгению Александровичу Евстигнееву, что Шура Панкратов из Горького приехал.
Она докладывала. И выбегал Евгений Александрович из гримерки (я с ним тогда уже был знаком):
– Шурочка, давай, быстро-быстро…
Так я пересмотрел весь репертуар «Современника».
Владимир Высоцкий, 1965 год
В один из таких приездов мы с Витей попробовали в первый раз попасть в Театр на Таганке. Нас, конечно, не пустили. Витя вернулся на вокзал к тете, а я решил постоять – может быть, удастся проскользнуть на спектакль. Шел «Добрый человек из Сезуана». Подхожу к служебному входу, смотрю, стоит Николай Бурляев в белом военном полушубочке. Он тогда уже был популярным артистом после «Иванова детства». Рядом с ним стояла симпатичная хрупкая девушка. Как потом выяснилось, это была Ирина Роднина – они дружили. Я к Бурляеву нагло подхожу и говорю:
– Николай, вы можете мне помочь пройти? Я приехал из Горького, студент театрального училища.
Он отвечает:
– Ты что, мальчик, с ума сошел! Сейчас Высота выйдет, не знаю, проведет ли он меня.
– А Высота – это кто?
– Владимир Высоцкий.
Я решил еще постоять. Выбегает Высоцкий:
– Колька, давай, только быстро! И по-тихому – наверх. И ты, парень, не отставай!
Это он уже обратился ко мне, думая, что я в компании с Бурляевым.
Закончился спектакль, я решил зайти в гримерную, поблагодарить Владимира Семеновича. Спускаюсь в какой-то подвал, а там уборщица полы шваброй протирает. Я у нее спрашиваю:
– Тетенька, а как пройти в гримерную к Владимиру Семеновичу Высоцкому?
– Да вон они сидят там все, – проворчала она.
Я захожу в гримерную, там сидят действительно все: Боря Хмельницкий, Виталий Шаповалов, Валера Золотухин и Владимир Семенович. Я здороваюсь. Они переглядываются: кто такой?
А Высоцкий меня узнал:
– Так это ты с Колькой Бурляевым приходил?
– Я.
– Ты откуда?
– Из Горьковского театрального училища.
– Мужики, налейте парню.
Я засиделся с ними, уже и забыл, что мой поезд ушел, что ночевать мне негде.
Заходит та же ворчливая уборщица:
– Хватит тут сидеть, разгильдяи. Освобождайте помещение. Уже полночь!
Мы поехали в ресторан ВТО (Всесоюзного театрального общества, сейчас – ресторан «Дом актера») на Тверскую (тогда улицу Горького). Посидели, выходим, а Высоцкий спрашивает:
– Слушай, а ты где ночуешь-то, парень из Горького?
– На вокзале, наверное.
– Ты что, с ума сошел – на вокзале! Поедем.
И привез меня к своему другу режиссеру Леве Кочаряну, где я и заночевал.
Пензенский драматический театр
Когда я окончил Горьковское театральное училище, я получил приглашения на работу сразу от нескольких театров: Магнитогорского драмтеатра, Свердловского, Ставропольского театров, и в Горьком меня оставляли, но я выбрал Пензенский драматический театр, потому что режиссер предложил мне оклад по тем временам очень высокий. После театрального училища меня ожидала зарплата 75 рублей, а в Пензе мне предложили 110 рублей – это оклад актера первой категории. Так как надо было помогать маме (пенсия у нее была совсем крошечная), я согласился ехать в Пензу. Еще я понимал, что режиссер Рубен Вартапетов очень во мне заинтересован, раз предлагает такую зарплату.
Я потом спрашивал, почему он мне дал такой высокий оклад. Он ответил, что почувствовал: со мной будет интересно работать. В дипломном спектакле по «Грозе» А. Островского в Горьком я играл полусумасшедшего старика Кулигина, по моей инсценировке «Мертвых душ» Н. Гоголя был поставлен другой дипломный спектакль, где я играл автора. Тогда Рубен меня и выделил. Еще я играл в комедии Дж. Флетчера, репетировал Олега Кошевого из «Молодой гвардии» А. Фадеева. Я был разноплановым актером, а Вартапетов именно такого и искал.
Вот я приехал в Пензу и попал в руки к Рубену Вартапетову. А у него было кредо: делать ставку на молодых актеров. Он говорил:
– Старики уже всего добились: у них машины, квартиры, звания. От них ждать чего-то острого, социального не стоит. А если потребовать – это будет скучно и вяло. А вот молодые, которые за душой не имеют ничего, зарплаты маленькие – они злые, они остро чувствующие, остро воспринимающие действительность. Вот с ними можно и нужно работать.
Поэтому нам доверялись роли удивительные. Актер Зуев, ранее ничего не сыгравший в театре, был утвержден на роль Володи Ульянова. Тогда было трудно себе представить такую смелость со стороны режиссера. Я играл Ваню в «Цыгане», Жосефа в «Хищнице» О. де Бальзака и другие серьезные роли. Моей последней ролью, своеобразным прощанием с театром, стала роль Лариосика в «Днях Турбиных» М. Булгакова.
Ценным было то, что у нас не существовало определенного амплуа. Например, я играл Жозефа в «Хищнице» О. де Бальзака в паре с народной артисткой Людмилой Александровной Лозицкой, роль серьезная, и тут же – «Остров сокровищ» для детей, где я играл Боцмана Хенса, пирата, а в «Днях Турбиных» я – трогательный интеллигентный мальчик. То есть роли были совершенно разноплановые.
Когда Рубен Вартапетов мне предложил такой высокий оклад, я почувствовал, что без работы не останусь. Для меня как для молодого актера это было важно. И я действительно был занят в репертуаре. Мне повезло и с прекрасным актерским составом театра. В Пензе работали: Народная артистка РСФСР Людмила Лозицкая, Народный артист СССР Петр Кирсанов, заслуженный артист РСФСР Николай Накашидзе, которого мы звали просто Дядя Коля. Рядом был Михаил Светин, известнейший актер. С ним я играл то его сыновей, то его племянников – часто в комедиях, которые я очень любил. Мы со Светиным просто «купались» в таком роскошном репертуаре.
Для меня Пензенский театр был очередной (после Горьковского театрального училища) ступенью в подготовке к поступлению на кинорежиссуру. После училища я как бы оканчивал десятилетку, получал среднее образование и имел право поступать в институт. После школы я бы вряд ли сразу попал во ВГИК. А театр и театральное училище были той самой ступенью, которая помогла мне прочувствовать, что такое профессия актера. Параллельно я читал много литературы о кинематографе. «Историю теорий кино» Гуидо Аристарко я переписал от руки: в областной библиотеке книгу на руки не давали, поэтому я приходил в читальный зал и переписывал ее.
На репетициях я наблюдал за Рубеном Вартапетовым, за коллегами, смотрел все спектакли, которые ставились до меня. Еще во время учебы в Горьковском театральном училище мы, студенты, были заняты в массовых сценах в Горьковском драмтеатре. Я запомнил, как Владимир Яковлевич Самойлов играл Ричарда III в спектакле, который поставил интересный режиссер Ефим Табачников. Театральная режиссура находилась на высочайшем уровне, было у кого учиться.
Поэтому когда я поступал во ВГИК, на собеседовании мне задавали вопросы по изобразительному искусству, по живописи, а прочитать стихотворение, басню, прозу меня уже не просили, хотя это и входило в экзаменационные требования. Теоретическую работу я писал о цветовом кино (не о цветном!), о цвете в кино. На нее обратил внимание Сергей Аполлинариевич Герасимов, руководивший во ВГИКе актерско-режиссерской мастерской.
– Надо же, Эйзенштейн не успел закончить работу, скончался, но тоже думал о проблемах цветового кино, – заметил он.
Конечно, при поступлении во ВГИК мне задавали вопросы о кино: что я знаю о кинематографе? почему я решил работать в этой сфере? Я ответил, что хочу создавать мир, которого был лишен в детстве. Потому что только через кино я узнавал, что есть какой-то другой мир: что есть города, есть троллейбусы, трамваи, поезда, пароходы, самолеты… А у меня в деревне ничего этого не было, электричества не было, радио не было. Я долго не верил, что самолеты на самом деле могут летать, потому что я их никогда не видел. Я думал, что это все сказка, выдумка. А фантазия у меня была хорошая, я много читал и представлял, как с помощью кино создам свой необычный мир.
А Бэла белкой может быть…
В Пензе состоялась моя вторая встреча с Беллой Ахмадулиной. Мы познакомились на литературном семинаре во Владимире в годы моей учебы в Горьковском театральном училище. Когда меня запретили как поэта, я на какое-то время выпал из литературного мира.
Белла приехала в Пензу на творческую встречу. У нее был билет на ночной поезд, и надо было где-то скоротать вечер перед обратной дорогой. Как она мне потом рассказывала, она решила сходить в театр, где в фойе увидела мой портрет и вспомнила, что еще мальчиком во Владимире я заявил о себе неплохо как поэт. Белла Ахмадулина узнала мой адрес. А жил я рядом с театром.
В тот вечер я был занят только в первом акте, поэтому к моменту окончания спектакля уже сидел дома в компании друзей. Стук в дверь. Открываю – Белла Ахмадулина. Мокрая как мышь: на улице шел проливной дождь.
– Саша, здравствуйте!
Я пригласил ее в комнату. Белла засмущалась от внезапно обрушившегося на нее внимания со стороны моих друзей, которые были поражены, увидев вот так знаменитую поэтессу. Просили ее читать стихи. Она прочитала что-то из нового, помню, читала наизусть поэму «Дождь», посвященную ее разлуке с Е. Евтушенко и навеянную ненастной погодой.
Когда все разошлись, Белла меня попросила:
– Саша, почитай мне, что ты сейчас пишешь.
– Я не пишу.
– Читай, – настойчиво повторила она, – не может поэт не писать.
У меня в комнате стояли диван и кресло из «кабинета Ленина». В театре шел когда-то спектакль о Ленине, а мебели у меня не было – вот мне и выдали реквизит. Из-под этого дивана я вытащил свою тетрадь и читал Ахмадулиной свои стихи.
Когда я поступил во ВГИК, мы с Беллой Ахмадулиной виделись уже чаще. Она меня познакомила с Юрием Нагибиным, Борисом Мессерером, с которым мы дружим до сих пор.
Под влиянием пронзительной поэзии Беллы Ахмадулиной я написал несколько стихотворений. Вот одно из них, посвященное ей:
Б.А.
А Бэла белкой может быть, И в белом снеге след оставив, Она не сможет позабыть Исчезновенья черных клавиш… А в черных клавишах тоска. Печаль и боль моей России… И рвется жилка у виска, Как ниточка, к небесной сини, Где в каплях кровь она свою С космическим сольет пространством, А я им песню пропою На грустном языке цыганском.Москва
Когда я сдавал вступительные экзамены во ВГИК, я приходил на Красную площадь и разговаривал с Москвой. Я спрашивал:
– Москва, ну неужели ты меня не примешь? Неужели я тебе, столица, не нужен? Ну, прими меня, ради Христа.
И помню, как только я сказал эти последние слова – зазвонили куранты. И я понял, что поступлю во ВГИК. И поступил с первого раза. Я счастливый человек.
«Под богом ходим!» – говорил дедушка.
Франсуа Ленар и советское киноискусство
В Пензенском театре работал Генрих Левкович, прекрасный театральный художник. Он сам когда-то учился во ВГИКе на режиссера у Михаила Ильича Ромма, но был исключен за хулиганскую выходку. У них курс был хулиганский: А. А. Тарковский, А. С. Кончаловский, Г. Левкович… Генрих уехал в Петербург, закончил Академию художеств, работал с режиссером Г. А. Товстоноговым, потом перебрался в Пензу и устроился в театр главным художником. Я с ним поделился, что готовлюсь к режиссуре. Он мне объяснил, что кино – это в первую очередь изобразительный ряд. Поэтому нужно прекрасно знать живопись. А я живопись в Горьковском театральном училище изучил хорошо. Генрих мне много рассказал о кинохудожниках и театральных художниках. Но самое главное, он рассказывал, как вести себя на приемной комиссии. Он говорил, если там будет М. И. Ромм, он точно задаст вопрос об импрессионистах. Проблема была в том, что об импрессионистах я знал все, но ни одной картины в подлиннике не видел. Я несколько раз приезжал в Москву в Пушкинский музей, но то экспозицию куда-то вывозили, то зал закрывали на реконструкцию – в общем, не везло. И тогда Генрих Левкович мне посоветовал придумать своего импрессиониста.
– Пусть будет Франсуа Ленар… – сказал он.
– А кто это? – спросил я.
– Да никто, вымышленный художник, – ответил Генрих. – Скажешь, что твой любимый импрессионист, а так как теорию ты знаешь – смело ври что-нибудь про импрессионизм. Если эта тема тебе попадется, конечно…
…И попалась. А раньше на вступительных экзаменах во ВГИК собирались все кинорежиссеры: А. Столпер, Е. Дзиган, С. Герасимов, М. Ромм, Л. Кристи и другие. Операторы приходили: Б. Волчек, В. Монахов, А. Головня. Собирались все кафедры, потому что им было важно, кто идет в кино, какая смена их ждет в будущем. Это сейчас во время экзаменов комнаты закрываются – никто не знает, кого зачисляют и почему. И вот я сидел перед такой уважаемой комиссией. Про Коровина и про Серова рассказал, а когда Ромм спросил, как я отношусь к импрессионистам, стал сочинять про Франсуа Ленара. Ромм был в шоке: он прожил жизнь и не знал такого художника, а тут какой-то мальчишка из провинции приезжает и знает Франсуа Ленара! Пока я ему рассказывал, он выкурил, кажется, сигарет пять. Так волновался, потому что понял, что он пропустил в своей жизни что-то ценное. Когда я закончил, он посмотрел в конец стола – там сидела симпатичная брюнетка Манана Андронникова, дочь Ираклия Андронникова, она преподавала историю изобразительного искусства. Вот Ромм смотрит на Манану, а она хохочет:
– Михаил Ильич, мы с вами счастливые люди. Мы сегодня присутствовали при рождении нового имени в искусстве импрессионистов.
Она меня, конечно, раскусила. У меня земля из-под ног ушла. А Ромм засмеялся и обратился ко всем педагогам:
– Друзья мои, если это молодое дарование умеет так врать, ему место в советском искусстве.
И я получил оценку «отлично».
Атмосфера – это святое
Шел второй тур вступительных экзаменов во ВГИК: письменная работа. Продолжительность: восемь часов. Попалась тема «Удивительный сон после советского праздничного дня». Так как в моей семье из советских праздников отмечался только День Победы, то я написал такую небольшую новеллу. В деревне празднуют День Победы. Все ветераны надели ордена, собрались в избе. А мальчик с девочкой лежат на печке и смотрят на них, а потом уснули. И приснился им сон, что заблудились они в лесу. А лес – это колонны Рейхстага, и все вокруг заминировано. И вдруг к ним вышел Дядя Петя с гармошкой, одноногий ветеран войны, показал на протез и сказал: «Вот, только что потерял ногу. Я вас выведу из леса». И вывел их на поляну. Дядя Петя топнул протезом, деревяшка воткнулась в землю, а из нее ветки начали расти – и выросло на поляне дерево. Дядя Петя взял гармошку и как заиграет. Все заплясали, захороводили вокруг этого дерева, и дерево распустило листья. Голубизна неба меж листьев – как синие глаза Дяди Пети. Птицы закричали… и дети проснулись. Бабушка убирает со стола, говорит маме: «Хорошо посидели, вспомнили святой день – День Победы».
Я отдал рассказ, который писал минут сорок, и побежал пить пиво. Сидим на ВДНХ с ребятами, и Володька Грамматиков, мой будущий однокурсник, говорит:
– Представляете, какой-то сумасшедший написал в сочинении, что из протеза у ветерана войны дерево выросло и люди вокруг дерева стали хороводить.
Я стою, слушаю, молчу. Прибегает Ася Боярская, аспирантка Дзигана, спрашивает:
– Кто здесь Панкратов?
Я отозвался. Она говорит взволнованно:
– Я договорилась, забирай работу и пиши новую.
Я отказался: стыдно. Она уговаривает:
– У тебя же так прекрасно собеседование прошло… а что ты в сочинении написал? Из протеза веточки растут! Ты к кому поступаешь? К Ефиму Дзигану, режиссеру фильма «Мы из Кронштадта»! Реалистичнее нет мастера, чем Дзиган, а у тебя такой сюрреализм.
Но я уже выпил, мне было неприятно идти в институт. Через три дня вывесили результаты, смотрю списки: Панкратов – «отлично». Потом я Дзигана спросил, почему он мне за такой сюрреализм «пять» поставил? Он ответил:
– Друг Панкратыч (так он меня называл), ты единственный передал атмосферу праздника – Дня Победы. А для режиссуры атмосфера – это святое.
«Под колпаком»
Я ведь во ВГИК мог и не поступить, была вероятность не попасть даже на вступительные экзамены. Для поступления во ВГИК я почтой из Пензы выслал свои работы. Отправил, жду, а ответа нет. Оказывается, перехватили почту (в Пензе, как и в Горьком, я был «под колпаком» у КГБ), а узнал я об этом совсем случайно. Мы поехали в Куйбышев на гастроли, и я решил позвонить во ВГИК. Звоню в приемную комиссию, и, на мое счастье, ответил Юра, аспирант из Югославии, который был дежурным. Спросил мою фамилию, уточнил и заволновался:
– Вы прошли конкурс, что вы тянете? Через два дня экзамен!
Я – к Рубену Вартапетову. Дело в том, что я был очень плотно занят в репертуаре. Он ответил:
– На три дня я на твои роли постараюсь ввести артистов, но в театр ты больше не вернешься.
Я сымпровизировал, что накануне в ресторане засиделся с какой-то девушкой, и исчез из ресторана, а сам – на поезд в Москву. Прошло три дня, Рубен объявил поиск. Меня искали в Куйбышеве, а я в это время в Москве сдавал экзамены во ВГИК. Помню, заседала мандатная комиссия, меня уже зачисляли – я вторым был по баллам. Захожу в кабинет – вся профессура сидит, смотрю – батюшки! – чекист, майор 5-го управления КГБ, который меня вел по Горькому, разместился рядом с ректором. Нашли. Я в шоке. Но я не растерялся. В Пензе я руководил СТЕМом (был такой Студенческий театр вроде КВН). Там на меня вышел секретарь обкома комсомола и попросил, чтобы я сказал, что создал этот студенческий театр как бы по просьбе обкома комсомола. Я ответил, что я не комсомолец. Этот вопрос секретарь уладил: мне выдали справку, что я инструктор обкома комсомола, и эту справочку я в досье вложил.
Так вот на мандатной комиссии чекист меня спрашивает:
– Ошибки Горького не повторятся?
Вся профессура переглядывается. Я отвечаю:
– Нет.
– А чем докажете?
– Посмотрите, у меня там справочка лежит, – сообразил я, – о том, что я инструктор обкома комсомола.
Зачислили. Вышел. Меня ребята ждут на такси, чтобы ехать в ресторан отмечать поступление. Под мышкой у меня «История КПСС» (на случай, если комиссия начнет гонять по истории партии). Друзья спрашивают:
– Ну, как прошло?
Я эту книжку хрясть о ступени:
– Приняли!
И вдруг чувствую, по плечу кто-то стучит тихонько. Повернулся – стоит майор-чекист:
– Подними, – говорит, – и не бросайся нашей идеологией.
Когда после перестройки Пятое управление расформировали, мы с тем чекистом встретились. Оказалось, хороший мужик. Ему нравились мои стихи, которые осведомители передавали. Тогда, будучи студентом, я не мог понять, кто у меня из тумбочки в общежитии стихи ворует. И он мне назвал фамилии тех, кто на меня доносил. Оказалось, те, на кого я и не мог подумать, кому я помогал с учебой. Один из них – парень из деревни, как и я. Чекист рассказал, что, когда его вербовал, он искренне поверил, что я – враг народа. Обидно было. Я спросил:
– А вот грузин у нас учился… Я его увидел на фестивале, с тобой за столом сидел – он доносчик?
Тот ответил:
– Грузин у нас работал, но слова о тебе не сказал.
А был профессиональный чекист, оказывается…
ВГИК
Поступив во ВГИК, я попал в мастерскую Ефима Львовича Дзигана. Это был уникальный педагог. И уникальность его заключалась в том, что он каждого своего ученика считал личностью. Он с нами разговаривал, как с состоявшимися людьми, которые хотят снимать кино. И потом, общаясь с бывшими учениками – Элемом Климовым, Ларисой Шепитько, Эдмондом Кеосаяном, – я сделал вывод, что такой подход у него был ко всем своим студентам. Для него мы все были равны. Помню, на старый Новый год он всех нас, первокурсников, собирал в своей квартире и знакомил между собой, чтобы мы чувствовали себя на равных.
Дзиган говорил:
– Друзья мои, режиссуре научить нельзя. Это мировоззрение каждого человека. Каждый видит мир по-своему.
И учил нас только техническим приемам. Я считаю, в этом была его гениальность. Поэтому из его мастерской вышли такие разные режиссеры: Владимир Грамматиков, Эдмонд Кеосаян, Элем Климов, Владимир Шамшурин, Андрей Разумовский, Михаил Юзовский, Александр Светлов, Валерий Лонской, я – мы все разные, потому что у нас разное мировоззрение. Он нас учил деликатно, позволяя каждому сохранить свою самобытность, и спасибо ему за это. В итоге, отучившись у Дзигана, мы сами умели снимать, монтировать и т. д.
Система обучения тогда была построена так, что студенты учились у всех преподавателей понемножку, вне зависимости от того, в чьей мастерской они числились. Мы могли прийти к Сергею Аполлинариевичу Герасимову на репетиции учеников его актерской мастерской. На операторском факультете слушали лекции Анатолия Дмитриевича Головни, Владимира Васильевича Монахова, Бориса Израилевича Волчека. К Петру Сидоровичу Пашкевичу приходили на занятия живописью. Потрясающая была система. Сейчас преподаватели закрываются со своими студентами в мастерских, и никто не знает, чему их учат и почему.
У Дзигана, по неизвестным мне причинам, были сложные отношения с великим режиссером, тоже преподавателем ВГИКа, Михаилом Ильичом Роммом – они почти не общались. Но, несмотря на это, Дзиган нас всегда заставлял в свободное время посещать занятия Ромма. Михаил Ильич обучал нас методу мизанкадра. И когда Ромм скончался, Дзигана не было на похоронах, но всю свою мастерскую он попросил пойти и попрощаться с великим режиссером – мы все провожали его в последний путь. Потом, после похорон, у нас были занятия с Дзиганом, и Дзиган целую лекцию посвятил творчеству Ромма. Дзиган восхищался мастерством Ромма как рассказчика. Он считал: если режиссер умеет рассказывать, значит, он обладает творческим видением. Ромм и Дзиган были очень разными. Как преподаватель Ромм был строгий, жесткий, все рассказывал и даже диктовал. А вот Дзиган не диктовал, старался не навязывать нам своего видения. Ромм себя считал мэтром, а Дзиган – нет. Снял «Мы из Кронштадта», но мэтром себя не считал, был очень скромным. Я часто прихожу на могилу Дзигана, кладу цветы и вспоминаю его.
Валентина Максимовна Терешкович, правая рука Дзигана, была для нас как мама, присматривала за нами. Она преподавала нам азы актерского мастерства. Ее отец, актер Максим Терешкович, работал у Всеволода Мейерхольда и дружил с актером Игорем Ильинским.
В мастерской С. А. Герасимова работал Анатолий Григорьевич Шишков, ученик Станиславского, который в МХТ ходил на спектакли самого Михаила Чехова и был лично с ним знаком. Студенты из других мастерских собирались смотреть, как он преподавал мастерство актера. Будучи также и прекрасным театральным режиссером, спектаклей он все же ставил мало, в основном преподавал. А. Г. Шишков был «педагогом нравственности» – глубоко верующим человеком. Он всегда говорил, что идти в искусство надо с чистой душой и обязательно с верой – тогда не будут страшны препоны любой идеологии. Я его считал и считаю своим духовником. Я бывал у него дома, мы много говорили о боге и о своем месте в миру… о том, почему Церковь разрешила хоронить артистов на кладбище, а не за оградой. Я молюсь за этого человека! И всегда помню…
Преподаватели актерского мастерства изучали с нами и систему Станиславского, и систему Чехова, хотя Николай Селиверстович Хлибко, мой преподаватель в Горьковском театральном училище, говорил:
– Прочитали систему Станиславского «Работа актера над собой» – и забудьте.
А Шишков советовал:
– А вот Михаила Чехова повнимательнее почитайте. Там понятнее написано.
Мы читали все. Библиотека во ВГИКе была прекрасная. И Станиславский, и Данченко, и Мейерхольд. В форме брошюр издавались лекции наших профессоров – все это было в библиотеке, и все это мы читали и изучали.
Зарубежную литературу преподавала Ольга Игоревна Ильинская. Близкий друг поэта Дмитрия Кедрина, она отсидела в сталинских лагерях и вернулась. Особенность ее как педагога состояла в том, что от нас как от режиссеров она требовала своего личного восприятия того или иного произведения: не хрестоматийного, а именно как мы его поняли. Это было очень важно для нас как для начинающих режиссеров.
Вадим Леонидович Меллер, теоретик, кандидат искусствоведения, объяснял нам, как анализировать фильмы. У него мы учились образному видению кинокартины, восприятию атмосферы сцены.
Ефим Дзиган всегда просил нас ходить на лекции операторов. Владимир Васильевич Монахов, Борис Израилевич Волчек рассказывали, что такое кадр, какой должна быть композиция, как светотень работает в кадре. Это было очень интересно.
Кинооператор Анатолий Дмитриевич Головня был оригинальным человеком. Он меня поразил тем, что читал наизусть стихи Заболоцкого, Пастернака, Пушкина – любил поэзию. И главный лозунг (над которым мы подшучивали) у него был: «Деточки, главное, чтобы все было в резкость».
Петр Исидорович Пашкевич был гениальным художником, который детально и живо рассказывал нам о декорациях. Например, как создать образ квартиры? Квартира должна работать на актеров, она должна раскрывать мир, который их окружает. Рассказывал, как правильно осветить квартиру, чтобы создать в ней необходимую режиссеру атмосферу.
Трудно запоминать ложь
Сложнее всех предметов мне давались история КПСС и политэкономя – потому что ложь запоминать трудно. Я много знал про историю партии из жизни, а на занятиях и экзаменах нужно было давать заученные ответы на вопросы, то есть лгать лгуну. Я и сейчас себя считаю совестливым человеком, поэтому лгать лгуну всегда было трудно и страшно.
На нашем курсе был потрясающий парень Валентин, детдомовец. У него была феноменальная память. Оказывается, до поступления во ВГИК он закончил разведшколу, в совершенстве знал немецкий язык (его готовили в Германию нелегалом). Но у Валентина обнаружилась эпилепсия, и он пришел к нам на курс режиссуры. Так вот, благодаря своей феноменальной памяти, он мог прочитать страницу и тут же наизусть ее пересказать. Помню, он таким образом запомнил статью Карла Маркса из «Капитала», и когда преподаватель его спросил, тот начал рассказывать статью наизусть, будто книгу читал. Мне показалось, что педагог поседел: он никак не ожидал, что студент наизусть будет цитировать Карла Маркса.
И чтобы штыки сверкали на солнце…
Ефим Львович Дзиган знал, что я был «под колпаком» у КГБ, понимал меня и сочувствовал мне. Оказалось, он и сам в 30-е годы был сослан – и причем за самую ценимую свою работу – фильм «Мы из Кронштадта».
Кинооператором на фильме был Наум Соломонович Наумов-Страж – отец режиссера Владимира Наумова. Всеволод Витальевич Вишневский был автором сценария. Его боялись как огня, потому что он способен был донести куда надо, и тех, кто работал над его фильмом, могли отстранить от съемок или даже арестовать. Фильм снимали в Кронштадте, на Балтике. Однажды от Вишневского приходит письмо с требованием, чтобы в сцене, где отряд матросов идет по набережной, их штыки обязательно сверкали на солнце. И Дзиган с оператором ночь не спали – думали, как это сделать, ведь штыки были черного цвета – они не могли сверкать. Одно дело – плоские клинковые штыки, а те были трехгранные игольчатые черные. И Наум Наумов-Страж придумал обернуть штыки фольгой и направить на них большой луч. Сделали – не блестят: Балтика, погода пасмурная. Тогда решили по фону пустить черный дым (в то время все пароходы дымили). В итоге на катерках жгли огромные шашки с черным дымом, на фоне этого черного дыма шли моряки со штыками, обернутыми фольгой, а осветители светили большими прожекторами-дигами. И штыки сверкали. Вишневский был доволен. А режиссер с оператором очень переживали, ведь если бы они не добились нужного эффекта, на них могли донести как на врагов народа: якобы губят фильм о революционных матросах. Такое тревожное было время.
Потом все же Дзигана сослали на некоторое время в какой-то военный округ руководить самодеятельным театриком, и именно за этот фильм. Дзиган якобы показал конфликт между пехотой и моряками. В фильме есть сцена, где пехотинец говорит:
– Мы скобские, мы скобские!
И снимает свои погоны. И кто-то из руководителей пехоты представил это таким образом, что Дзиган в фильме принизил пехоту, а моряков возвысил. Хорошо, не расстреляли, а только сослали. И Дзиган говорил, что каждый свой фильм они тогда снимали как последний, поэтому каждый раз выкладывались до предела.
Наша мастерская
Я и Владимир Грамматиков пришли во ВГИК уже с актерским багажом. Еще в нашей мастерской учился Слава Подвиг, который потом работал ассистентом у Сергея Федоровича Бондарчука. Николай Лырчиков, мой земляк с Алтая, из деревни, сейчас отошел от режиссуры, но состоялся как драматург. Джахангир Шахмуратов, азербайджанец, поступил по направлению из республики. Во время учебы во ВГИКе снимал эксцентричные комедии в гайдаевском стиле. Потом он ушел в спорт, стал чемпионом СССР по карате, сейчас у него своя школа. Валентин Мишаткин, тоже мой однокашник, прославился комедией «Встретимся на Таити».
Учился с нами и Раймо О. Ниеми, финн. Я недавно был в Хельсинки и с ним встречался. Он одно время руководил рабочим театром, а сейчас очень плодотворно работает на финском телевидении, снимает сериалы. Ирене Тенес-Фернандес, полуиспанка-полуфранцуженка, после ВГИКа работала помощником у Антониони. Мурат Амаров, казах, к нам пришел на второй курс из мастерской Бабочкина. Он получил серьезную травму и не мог работать актером, поэтому закончил режиссуру. Слышал, что он в Казахстане снял фильм, но я его не видел. Сайдо Курбанов учился у Игоря Таланкина. Потом снимал в Таджикистане. Перебрался с Валерием Ахадовым в Магнитогорск, возглавляли там театр. Сейчас вернулся в Москву, снимает сериалы.
Вот такая у нас была мастерская.
«Урок»
По окончании второго года обучения нам дали задание снять курсовую работу. Некоторые ребята находили контакт со студентами-сценаристами. У меня не получилось найти сценариста, поэтому я решил, что буду писать сам. Я подавал Дзигану много своих сценариев, а он все не утверждал. В очередной раз Дзиган собрал нашу мастерскую, подвел итоги:
– Все принесли сценарии, один друг Панкратыч не несет. Если через три дня сценария не будет, – обратился он ко мне, – не зачту тебе курсовую работу.
Я, расстроенный, вернулся в общежитие. В комнате со мной жил Коля Лырчиков, мой земляк с Алтая. Спустя годы он станет известным драматургом и писателем. Когда я пришел, Коля читал журнал «Работница» и показал мне одну статью. Школьная учительница писала, что не понимает современную молодежь, в частности своих учеников. Например, когда она им рассказывает про пылкие чувства Риты Устинович и Павла Корчагина, описываемые в книге «Как закалялась сталь» Н. А. Островского, они слушают абсолютно равнодушно – в этом учительница увидела бездуховность современных школьников.
Меня статья заинтересовала. Я тут же побежал в библиотеку, взял повесть «Как закалялась сталь» и перечитал. Нашел ту сцену объяснений между Павлом Корчагиным и Ритой Устинович, о которой писала учительница, и понял, что это была последняя встреча героев. Рита Устинович, комсомолка, – бывшая любовь Павла. С ним она снова встретилась после Гражданской войны на съезде комсомола, уже будучи замужем. И Островский намеком, но дал понять, почему в конце повести Павел Корчагин едет в поезде, рвет письма от Риты и выбрасывает в окно. Муж Риты уже был арестован в результате репрессий, и Рита, вероятно, тоже будет репрессирована. И Павел струсил. Он рвет письма, чтобы исключить любой намек на его связь с Ритой. Вот откуда потом возникает этот пронзительный монолог Корчагина: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». То есть он корит себя за свой поступок, это как бы муки совести. Когда я перечитал повесть, я все это понял.
Я решил взять ту самую сцену объяснений между Павлом и Ритой и использовать ее в своей курсовой работе. Придумал такой сюжет. В классе идет урок, ученики сидят на местах. Я разбил учеников на пары: мальчик с девочкой – и эти реплики распределил между учениками. Каждый мальчик видит себя Павлом Корчагиным, каждая девочка – Ритой Устинович. И между этими парами разыгрывается диалог из сцены объяснений между Павлом и Ритой. Мальчик говорит реплику за Павла Корчагина, девочка ему отвечает за Риту Устинович. Следующая пара подхватывает диалог: второй мальчик говорит следующую реплику Павла – вторая девочка отвечает. И получился очень любопытный сюжет, через который к тому же раскрывались взаимоотношения между учениками в классе: романтические отношения, симпатии друг к другу, антипатии. Еще в эту историю я ввел классную руководительницу и учителя физкультуры, между которыми тоже разворачиваются романтические отношения – складывается еще одна пара, еще одни Рита и Павел, которые сами об этом не подозревают.
Учитель физкультуры слушает учеников и не понимает их взаимоотношений, не понимает всей глубины сцены, которая перед ним разворачивается. Он оказывается «глухим» к их переживаниям. В финале фильма физрук гоняет детей по кругу:
– Раз-два, раз-два.
И все ученики послушно прыгают на одной ножке, все как один в спортивных формах.
Камера поднимается вверх, и мы видим: школьники движутся по кругу, как в знаменитой картине Ван Гога «Прогулка заключенных».
Получилась очень глубокая история, которую я так и назвал – «Урок». Я за ночь написал сценарий – страницы четыре, не больше – и подал его Ефиму Львовичу. Этот сценарий был моей последней надеждой.
Ефим Львович был демократом, многие вопросы выносил на обсуждение всей мастерской. Для этого Дзиган организовал некий «круглый стол», за которым шли беседы и обсуждения. Даже перекуров не делали. На этот случай в центре стола стояла круглая банка из-под кинопленки – это была наша пепельница. Дзиган курил трубку, мы смолили сигареты. Я предположил, что мой сценарий тоже будет обсуждаться на нашем «круглом столе», поэтому заранее переговорил с ребятами (мастерская у нас была очень дружная), попросил поддержать.
На следующий день Дзиган собрал всю мастерскую, сам пришел расстроенный, напряженный. Я понял: сценарий ему не понравился. Ефим Львович начал:
– Ну что, друзья мои, прочитал я сценарий друга Панкратыча. Мне кажется, это никуда не годится. Грамматиков, ну-ка, прочитай вслух, чтобы все понимали, о чем идет речь.
Он часто начинал обсуждения с меня и Грамматикова, потому что мы оба были профессиональными актерами и у нас единственных в мастерской было хоть какое-то близкое к кинематографу образование. Володя Грамматиков начал читать. Кто-то улыбнулся, кто-то хохотнул – значит, не все поняли, для чего я задумал свой фильм.
Володя закончил, Дзиган спрашивает:
– Ну, все слышали, что друг Панкратыч насочинял? Будем утверждать или нет?
И, к изумлению Дзигана, ребята ответили:
– Ну конечно! Идея интересная! Может получиться потрясающая картина…
Ребята меня поддержали. Делать нечего – Дзиган утвердил сценарий.
Я начал подбирать актеров. Олег Чайка согласился сыграть учителя физкультуры, Оля Гобзева – классную руководительницу. Оля и Олег, естественно, снимались бесплатно, за что я им очень благодарен. Да и потом благодарил всех артистов, кто снимался у меня в учебных работах. Не просили денег, но все работали с большой отдачей и доверием к начинающему режиссеру – даже и не режиссеру, еще студенту.
Сейчас Ольга Гобзева ушла в храм. Когда я посещаю церковь и мы с ней встречаемся, она всегда улыбается и говорит:
– Саша, а я вспоминаю, как мы работали.
Сложнее было найти талантливых детей на роль школьников. Я очень долго, недели две, если не больше (а сроки учебные короткие), искал ребятишек. У нас тогда ассистентов не было, поэтому я сам ходил по школам. Так я нашел девочку Таню Кох, которая привела подружку четвероклассницу Наташу Вавилову. С ее приходом у меня появилась идея ввести в фильм еще одного персонажа. В финальной сцене, когда камера поднимается и сверху мы видим скачущих по кругу учеников, по лестнице вниз спускается девочка. Она вся такая светлая, чистая, голубоглазая – идет вниз по лестнице и плачет. Мы не знаем почему – это тайна: может быть, ее кто-то обидел. То, что она спускается сверху вниз, тоже символично и несет в себе определенную трагическую нотку. Это метафора о том, что при сложившейся системе такая чистота со временем неизбежно опустится. В качестве музыки в финале фильма звучала тема Нино Роты из кинофильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли. Вот такую плачущую Джульетту в моем фильме сыграла Наташа Вавилова. У меня в курсовой работе состоялся ее дебют в кино. После этого Наташа поступила во ВГИК и стала сниматься.
Подбирая ребят на роль школьников, я не проводил с ними никакого собеседования, случайных детей собрал – как в жизни и бывает, в школе обычно непредсказуемый коллектив собирается. Оля Гобзева помогла. Ее муж Виктор, с которым я был давно знаком по Горьковскому театральному училищу, работал мимом. Он вел в одном из дворцов культуры в Москве детскую секцию пантомимы. И Оля предложила мне сходить на занятия к Виктору и посмотреть на его ребят. В итоге я почти весь класс набрал из его учеников. И для меня было плюсом, что они уже как-то были знакомы со сценическим пространством.
Собрал я всех ребят, в себе был уверен, думаю: «Ну неужели я не научу ребенка, как играть, что ему делать в кадре…» Я специально подобрал колоритных детей, чтобы видна была индивидуальность каждого. Например, один – длинный рыжий, другой – невысокий брюнет, третий – блондин… Были и дети постарше. Я подумал, что кто-то мог быть двоечником, второгодником.
Я собрал их всех. Посадить негде было – ребята стояли, я сидел, как начальник:
– Ребята, снять надо очень быстро, – сказал я им. – Поэтому сосредоточьтесь. Я продумал, как все должно происходить, и прошу меня слушаться, не сопротивляться. Плохого я ничего не придумал. Вы меня поняли?
Так, по-дружески, я с ними договорился, можно сказать, на равных. И отдам должное, ребята очень слушались. Те, кто занимался в секции пантомимы, знали, что Ольга – супруга их руководителя. Поэтому дисциплина была прекрасной. Только один мальчик все время хулиганил. Смешной, непоседа. Я показывал, как нужно пройти, он соглашался. На репетиции все делал правильно, а снимаем, и он вдруг на одной ноге начинает прыгать. Я говорю:
– Что ты делаешь?
– Дальше ведь мы прыгаем на одной ноге – вот я и репетирую.
– Репетировать потом будешь. Ты сейчас пройди нормально, – говорю я ему.
Были сложности и у Наташи Вавиловой. Наташа никак не могла понять, почему в финале она должна плакать. А плакать просто так, без причины, не могла – не актриса ведь. Но когда Наташа увидела, что я нервничаю, она сказала:
– Хорошо, Александр Васильевич, давайте снимать.
Пошла и заплакала. То есть уже меня пожалела. Это было очень трогательно: в ее душе жила человечность.
Курсовую работу я снял дня за четыре, показал Дзигану. Он посмотрел, сказал:
– Ну, не знаю, не знаю… Посмотрим, что скажет кафедра…
Идет заседание кафедры. Я жду в коридоре, волнуюсь. Ася Боярская, которая тогда училась в аспирантуре, выбегает с заседания и говорит:
– Саша, все прекрасно! Ты получил пять.
Потом она мне рассказала, что вся кафедра возмутилась, когда посмотрела фильм. Моей идеи никто не понял. Но решал все С. А. Герасимов, занимавший тогда пост заведующего кафедрой режиссуры. Сергей Аполлинариевич всех выслушал и ответил:
– Ну что же, спасибо за высказанные рекомендации, за то, что так внимательно отнеслись к работе студента Панкратова. Думаю, надо посылать картину на фестиваль короткометражных фильмов. А я предложу эту работу Академии педагогических наук. (Герасимов был членом Академии.)
Вот так мой фильм «Урок» поехал на фестиваль в Мангейм, в Германию, где его посмотрел Андрон Кончаловский и захотел со мной познакомиться.
«Под богом ходим!» – говорил мой дедушка.
«Конец Левки Демченко», или Головоломка по Гайдару
В качестве дипломной работы я решил снять фильм по мотивам рассказа Аркадия Гайдара «Конец Левки Демченко». Сценарий мы написали вместе с Аркашей Трифоновым. Он тоже учился во ВГИКе, но на сценарном. Писали мы вместе, но свою фамилию на сценарии я не ставил.
Сюжет разворачивается во время Гражданской войны. В финальной сцене, где красноармейский и белогвардейский мальчики соскакивают с лошадей и собирают ягоды, я придумал такой ход, что обоих мальчиков играет один актер. То есть была задумана такая метафора: один мальчик – за белых, второй – за красных, но детство у них одно. Подал сценарий, Дзиган снова не понял моей задумки:
– Друг Панкратыч, опять ты головоломку затеял… Гайдар – это же такой великий писатель, а ты и здесь от сюжета отступаешь…
Но надо сказать, что Дзиган всегда по-доброму ко мне относился. Мы подали заявку на «Мосфильм» (меня единственного из мастерской отправили туда снимать диплом после того, как моя курсовая получила призы). Я был направлен в объединение Сергея Федоровича Бондарчука, а у него главным редактором работал Валерий Феликсович Карен. Он нас сразу предупредил, что съемки будут дорогими: нужна конница и прочее. Но далее беседа приобрела неприятный оборот. Карен попросил меня выйти, чтобы переговорить с автором – он имел в виду сценариста Аркашу Трифонова, ведь на сценарии была указана только его фамилия. Аркаша остался в кабинете, а я вышел в коридор. Спустя какое-то время появился Аркаша, красный как рак, весь взволнованный, сказал, что редактор за утверждение сценария просит отдать ему 50 процентов от тех денег, которые мы заработаем (а за дипломный проект уже платили какое-то вознаграждение).
Я злой захожу в кабинет:
– Валерий Феликсович, у вас совесть-то присутствует? Со студентов деньги спрашиваете?
– Так, мальчишка, пошел вон, – ответил мне Карен.
Я говорю Аркаше:
– Пойдем.
Мы поняли, что главное – найти средства на наш фильм. Тогда мы могли бы снять его на учебной киностудии. За этим мы обратились в Госкино. Там посмотрели нашу смету. Тех 20 000 рублей, которые обычно давали на диплом, не хватало. Требовалось примерно 35 000–40 000 рублей. Самой дорогой была конница. Причем я сказал, что буду снимать в районе кавполка, рядом с конюшней: и лошадей никуда не надо перегонять, и лес рядом. Нам отказали, денег не дали.
Тогда я наивно спросил Лидию Иванову, ведавшую бюджетом Госкино:
– Почему же Наташе Бондарчук, Николаю Бурляеву и Игорю Хуциеву на их диплом, полнометражный фильм «Пошехонская старина», дали по 100 000 рублей каждому?
– А это их родители заслужили, – получил я ответ.
– А моя мама прошла всю войну, пережила репрессии, ссылку – она разве не заслужила, чтобы ее сыну дали чуть больше денег на съемки?
На что мне сказали:
– А ты, мальчик, вообще, откуда родом?
– Из Сибири, с Алтайского края.
– Ну, большой край. Этот край тебе пусть и дает деньги.
Я разозлился, порвал сценарий. Пришел к Дзигану, все рассказал и добавил:
– Я по Шукшину хочу снимать.
Дзиган вздохнул:
– Ну и что делать будешь? Тебе ведь Шукшина уже запретили…
«Штрихи к портрету». Диплом
В конце второго года обучения во ВГИке, когда я должен был снимать курсовую работу, по общежитию ходил рассказ В. М. Шукшина «Штрихи к портрету». Рассказ потряс не только меня, но и всех студентов, тем более поклонников Василия Макаровича. Поэтому когда мы достали номер «Нашего современника», где был опубликован этот рассказ, то устраивали ликбез: собирались у кого-нибудь в комнате и вслух читали. Для нас это было откровение – злободневное, наболевшее. А для меня Шукшин был не только душеписатель, но еще и земляк.
«Штрихи к портрету», я считаю, один из лучших рассказов Василия Макаровича. Тогда у меня родилась идея его экранизировать. Но я понимал, что курсовой работе он не соответствует по метражу, так же как и дипломной. Поэтому я решил снимать работу «по мотивам» рассказа. Нужно было получить разрешение Василия Макаровича. Я пришел на Киностудию им. Горького, где он в то время продолжал работать над «Стенькой Разиным». Я поймал Шукшина в коридоре. (Счастье! Встретил святого!) Это было мое первое с ним знакомство.
– Здравствуйте, Василий Макарович!
Он ответил:
– Ну, здорово.
Я с юношеской задорностью сказал:
– Василий Макарович, я ваш земляк.
Он:
– Ну и что?
– Прочитал ваш рассказ в журнале и хочу экранизировать. Учусь на режиссерском факультете у Ефима Дзигана. Душу тронул ваш рассказ…
– А ты кто?
– Шура Панкратов с Алтая.
Он меня посадил на скамеечку в коридоре (помню холодную скамеечку из досок, почти мокрых) и спросил:
– С какого района?
Я ответил.
– А как ты во ВГИК-то попал?
Я рассказал. Мы с ним просидели и проговорили часа два. В конце он сказал:
– Шурка, не берись экранизировать мой рассказ – не дадут.
Я возразил:
– Но рассказ-то ваш вышел.
– Ты бы знал, сколько я труда положил, чтобы его напечатали. Спасибо Семенову.
Георгий Семенов, писатель, помог ему пробить рассказ. Я с ним дружил. Прекрасный писатель, хотевший, чтобы люди жили в красоте, – писал о художниках, делающих лепнину на потолках и стенах.
Я обещал и попытался – написал сценарий, но, естественно, кафедра его запретила. Ефим Дзиган, мой мастер, предупредил, что я рискую нажить врагов и в Госкино, и в идеологическом аппарате. Дзиган даже написал на титульном листе курсовой: «Друг Панкратыч, снимать по данному материалу – заведомо идти на провал. С уважением, Ефим Дзиган». Но идея снимать по Шукшину у меня осталась. Потом, когда умер Василий Макарович, я на его могиле дал себе слово, что сниму этот фильм. И снял дипломную работу по мотивам его рассказа.
«Под богом ходим!» – говорил мой дед.
Ректор ВГИКа Виталий Николаевич Ждан тогда уехал во Францию на конференцию киношкол Европы. Воспользовавшись этим, я уговорил Дзигана подойти к Сергею Аполлинариевичу Герасимову и подписать сценарий для диплома. Но обманул я и Дзигана, и Герасимова. Поймали мы Герасимова после четырехчасового просмотра документального фильма о киномонтаже Филонова. Вышел он усталый, изможденный, и мы подошли к нему. Дзигану я сказал, что для диплома у меня был утвержден сценарий по мотивам рассказа Аркадия Гайдара «Конец Левки Демченко». Дзиган думал, что именно его он дает на подпись Герасимову, а я подложил титульный лист сценария «Штрихи к портрету» по мотивам В. М. Шукшина. И Сергей Аполлинариевич, уставший, подписал. Но когда выяснилось, что именно подписал Герасимов, денег на съемку мне не дали.
Тайно, пока Ждан был в Париже, мы на себе таскали камеры, технику и прочее оборудование – снимали диплом. Мои друзья-артисты согласились работать бесплатно. Я тогда очень дружил с Малой Бронной. Дружба эта началась раньше, когда я работал в Пензенском драматическом театре. Главный режиссер театра Рубен Вартапетов был близким другом режиссера Анатолия Васильевича Эфроса. Помню, когда я с Рубеном Вартапетовым в первый раз приехал в Москву, мы пошли на премьеру постановки Эфроса в Ленком (тогда Эфрос еще работал в Ленкоме). После спектакля Рубен повел меня за кулисы и познакомил с Эфросом. И когда я поступил во ВГИК в 1971 году, я по возможности приходил на репетиции к Эфросу уже в Московский драматический театр на Малой Бронной, где он работал режиссером, все спектакли смотрел в его постановках. Я считаю, что в какой-то степени Эфрос был моим педагогом по режиссуре. На репетициях я познакомился с его актерами – Левой Дуровым, Валей Смирнитским, Николаем Волковым – подружился с ними. И когда я им объяснил, что мне не дают денег на актерский гонорар для съемки дипломной работы (деньги выделили только на пленку, учебная киностудия дала кинокамеру – и все), мои друзья-актеры согласились сниматься бесплатно. Согласился мне помочь и Валера Льянов, талантливый оператор и мой друг, к сожалению, рано ушедший.
Если ехать из Москвы в Свиблово, там раньше протекала маленькая речушка, а за этой речушкой стояла деревушечка. И мы пешком из ВГИКа – с камерой на плече и штативами – шли в ту деревню. Актеры с нами. Выбирали в деревне дом, приходили к хозяевам, уговаривали. Если нам не хватало чего-то по реквизиту, мы из соседних дворов бревно приносили, дрова. Вот так снимали фильм – и за неделю успели. Ждан приехал, а у меня уже готовый материал в монтажной – проявлен и напечатан. Я уже занимался монтажом, никого не ставя в известность.
Защиту моего диплома сделали закрытой. Обычно защита проходила в Большом зале, на нее приходили все студенты ВГИКа. В моем случае ректорат распорядился, чтобы защищался я только в кинозале ректора (небольшой зальчик на пятнадцать мест). Я очень волновался, боялся, что могут не засчитать диплом, потому что я снял его тайно.
Актеры приехали меня поддержать: они понимали, что раз так прячут этот диплом, то могут выступить против меня. И, на мое счастье, председателем государственной экзаменационной комиссии был Леонид Иович Гайдай. Он посмотрел фильм и встал на мою защиту. Фильм ему понравился. Не зная, к чему придраться, Ждан заявил о том, что я нарушил норматив. Диплом должен был состоять из двух частей по десять минут, а у меня получилось две с половиной части – всего двадцать пять минут вместо требуемых двадцати. Гайдай в очень жесткой форме Ждану ответил:
– Виталий Николаевич, а почему вы свои нормативы не применили к режиссерам Бондарчук Наталье Сергеевне, Николаю Бурляеву, Игорю Хуциеву? Они же сняли полнометражный фильм на троих «Пошехонская старина» в девяти частях.
Ждану нечего было возразить. Выступил и Лева Дуров, очень горячо, остро:
– Что же вы творчество на корню губите! Режиссер только делает первые шаги и снимает диплом, а вы его уже топчете! Как вам не стыдно! Вы же работаете в искусстве.
Я получил «отлично» за диплом. Сергей Аполлинариевич Герасимов, так же как и в случае с курсовой работой «Урок», направил мою дипломную картину на кинофестиваль. Она получила призы и премии в Германии, Финляндии, Польше, Испании.
После защиты диплома я от двух мастерских – Столперовской и Дзигановской – был направлен на «Мосфильм», то есть был официально зачислен в штат «Мосфильма». Я уже должен был улетать в Тобольск на выбор натуры для фильма «Сибириада», работать в котором меня пригласил Андрон Кончаловский, как меня призвали в армию. Мне шел 28-й год, и по закону я вышел из призывного возраста. Более того, в театре и во ВГИКе у нас была военная кафедра, после которой освобождали от армии. Меня никак не должны были призвать.
Но только мы в выходные отгуляли диплом, как в понедельник утром за мной пришли…
Глава 3
Все позабылось, потерялось, Осталась жизнь моя во рву, И наповал меня усталость Бросает замертво в траву. Я сплю, и сон мне страшный снится – Ты где-то в космосе… Одна, Войной подстреленная птица Россия, Родина, Страна…Дядя Ус
Итак, меня призвали в армию. Но кажется, забрали. Думаю, за стихи. Пришли утром ко мне домой двое в штатском и один милиционер, увезли в военкомат, на моих глазах уничтожили паспорт, заставили подписать подписку о невыезде. А через два дня меня уже везли в штаб полка в Алабино. Я ждал, что меня распределят в кавалерийский полк при «Мосфильме», потому что все вгиковцы уходили туда. Этот полк всегда участвовал в военных съемках. А меня без учебки сразу отправили в Таманскую мотострелковую дивизию пулеметчиком, в четвертую роту.
Командиром роты был Толя со звучной фамилией Кутузов. Ему было 23 года. То есть в роте я был старше своих офицеров. Но дедовщины не было. Меня очень уважали. Большинство служивших ребят были из деревень, а там детей всегда учили почитать старших. Так как старший был, то ко мне и солдаты, и офицеры относились с глубочайшим уважением. Дядя Ус – такая кличка у меня была в армии, потому что я с усами пришел и носил их на протяжении всей службы.
Армию я вспоминаю всегда с добрым чувством. Хоть меня призвали незаконно, но сам я из семьи военных. Меня воспитали в понимании, что армия – это долг. Я не сопротивлялся. И не жалею. Надо было отслужить, и я отслужил. Я всегда помнил слова моего деда: «Служить надо Отечеству, а не властям!»
В роте я был пулеметчиком и, надо сказать, неплохо стрелял, особенно по ночным мишеням – это такая мишень с мигающим индикатором: лампочка на ней мигает и гаснет. Вот один раз она помигала – я жду, второй раз начинает мигать – я ее – «бах!» – и убивал.
Полк у нас был парадно-показной. К нам часто приезжали зарубежные делегации из стран, с которыми наше Министерство обороны сотрудничало – из Ливии, с Кубы, из других стран, – и мы для них устраивали тактические учения, боевые стрельбы и прочее. Поэтому муштра была страшная. Каждый день – четыре часа строевой подготовки. Мне было тяжело физически, потому что я был старше. Кроме того, еще в школе у меня было травмировано левое легкое, после того случая, когда рецидивист воткнул мне в грудь заточку (меня забирали в армию – здоровьем моим не интересовались). Одно дело, когда ты просто на плацу маршируешь, отрабатываешь шаг, но и это сложно: ногу нужно было поднимать на семьдесят сантиметров (прапорщик ходил с рулеткой и мерил), если ниже – на губу. Еще сложнее было, когда маршировали в полной амуниции с пулеметом. Пулемет весил тринадцать килограммов, рюкзак – двадцать килограммов, и также нужно было тянуть ногу или бежать шесть километров до полигона.
Прапорщик
В самых трудных ситуациях меня всегда выручало чувство юмора. Вот и в армии я часто хохмил.
Когда я только пришел в роту, мне выдали галифе образца 1950-х годов, широченные. И мне было обидно, что у всех нормальные галифе, а у меня такие. А в воинскую фуражку вставлялась металлическая дужка. Вот я в каптерке, когда прапорщик отвернулся, вытащил из фуражек эти дужки и вставил в галифе. Нас построили. Прапорщик идет и смотрит. От меня – метр слева, метр справа – стоят солдаты, потому что в обе стороны от моих ног торчали два «крыла».
Прапорщик:
– Это что такое?
Я отвечаю:
– Галифе, получил в каптерке.
Рота смеется. За такую смелость наказывали. Меня отправили на кухню драить полы, мыть посуду, чистить картошку.
Прапорщик у нас был негодяем. В его обязанности входило проверять посылки, которые приходили его солдатам. Он посылку открывал, а там, например, варенье: мама сынку отправила. Он отбирал и своему сыну отдавал. Если что вкусненькое, он и сам рад был полакомиться. Так вот в нашем буфете я купил сто граммов ирисок, в туалете из хозяйственного мыла нарезал такие же квадратики и завернул их в обертку от ириски. В левый карман положил это завернутое мыло, а в правый – ириски. Стоим в строю на утренней поверке. Я жую ириски.
Прапорщик:
– Рядовой Панкратов, два шага вперед!
Я:
– Есть! – шагаю вперед.
– Что жуем?
– Ириски! – И достаю из левого кармана кусочки мыла, завернутые в облатки.
– А что не угощаешь?
– Пожалуйста, товарищ прапорщик! – И протягиваю ему, а рота знает о моей задумке.
Прапорщик:
– Учитесь у старшого! Рядовой Панкратов уважает командира, угощает.
Берет он этот кусок мыла в рот – и… начинает материться:
– Ты что мне дал?!
И отправил меня на губу.
Письма-треугольники
В армии стихи писать почти не доводилось, да я и побаивался, потому что дал подписку о нераспространении. Но иногда мой поэтический талант приносил пользу другим.
Мы поехали на учения в Горьковскую область, и была у нас такая практика: выбрасывать конверты в окна на станциях в надежде, что их подберут девушки. А солдаты темные были, необразованные. Вот я для них и сочинял четверостишия по примеру «Дорогой незнакомке от…» Письма сворачивали в форме треугольников, как фронтовые, и выбрасывали в окно. Был у нас старший сержант Сашко Пивовар, украинец. Я написал для него такое вот письмо, и на одной станции девушка откликнулась, ответила. У них завязалась переписка.
Он часто по ночам плакал. Я думал, может, обижают парня. Спросил, что случилось. Оказалось, что он вырос без отца, мать инвалид, он был единственным кормильцем в семье, работал трактористом, а его в армию отправили, потому что план призыва надо было выполнять. У нас он был главным механиком на БМП (боевой машине пехоты). Однажды наш полк задействовали в съемках фильма «Фронт. За линией фронта». Режиссер Игорь Гостев попросил меня помочь, потому что вторым режиссером у него была женщина, Владлена Харитонова, – а картина военная. Консультантом на фильме был генерал-полковник Дружинин, и я не выдержал, подошел к нему и попросил освободить от воинской обязанности старшего сержанта Пивовара. Через три недели Сашко освободили от армии и отправили домой. Он вернулся на родину, встретился с девушкой, с которой они переписывались. Потом они поженились, сейчас у них трое детей. Вот так счастливо закончилась одна история любви.
Для меня же работа на съемках фильма «Фронт. За линией фронта» стала хорошей школой. Я фактически выполнял обязанности второго режиссера. Правда, зарплату я не имел права получать. На площадке я командую, а потом – съемочный день закончился и надо возвращаться в палатки, которые были у нас вместо казарм. До этого у меня уже был опыт работы в качестве второго режиссера: по окончании второго курса ВГИКа мы работали над историческим фильмом «Принимаю на себя» про Серго Орджоникидзе режиссера Александра Орлова.
Стыдно плохо служить
Наш полк считался элитным. У нас была теплая казарма, кровати двухъярусные. Единственное неудобство – не было горячей воды, умывались холодной. Когда давали отпускные, наши солдаты хвастались, что у нас были хромовые, яловые сапоги, а у простых солдат кирзовые.
Не так давно я был на юбилее нашей Таманской дивизии. Я пришел в свой полк, в свою казарму – а там сейчас служат контрактники. У каждого и коврик под кроваткой, и тапочки, и холодильничек стоит в казарме – у нас этого, конечно, не было. Есть даже телевизоры. У нас был один в Ленинской комнате – это изба-читальня, где проводились политзанятия. Смотреть разрешалось только в определенное время – дадут тебе час посидеть посмотреть телепрограмму, обычно, новости. Я посмотрел, как живут нынешние военные, и сказал им:
– Ребята, при таких условиях стыдно плохо служить.
Армейская дружба
В армии среди солдат, как когда-то в детстве среди деревенских пацанов, я слыл главным эрудитом, из-за чего чуть не попал в неприятную историю. Было это на учениях в Горьковской области. Сидели мы в окопе, и я солдатам рассказывал содержание «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына, потому что они его не читали. Солдаты, разинув рты, слушали о лагерной жизни при советской власти, а в окоп незаметно зашел новый командир роты младший лейтенант Сергей и послушал. После моей лекции он меня вызвал.
– Вы соображаете, что вы делаете? Солженицына рассказываете! (А Солженицын был тогда запрещенным писателем.)
Я не растерялся:
– Простите, я закончил ВГИК, это идеологический институт, а чтобы бороться с врагом, его надо знать.
Лейтенант задумался:
– Я об этом не подумал.
И расстались. Я до конца службы боялся, что, не дай бог, он донесет. Лейтенант оказался порядочным человеком, не выдал. Мы с ним потом подружились. Позднее он еще раз доказал свою дружбу.
Таким же честным и понимающим был командир батальона Владимир Антонович Тимощук. К солдатам он относился с какой-то отеческой любовью, называл нас сынками. Неприятный случай произошел в процессе работы над фильмом «Фронт. За линией фронта». Режиссер фильма Игорь Гостев хотел, чтобы во время съемок одной сцены камера перемещалась по рельсам, проложенным через озеро. Была поздняя осень, минусовая температура. Озеро Селигер, где проводились съемки, уже покрылось льдом. А режиссер заставил солдат, направленных к нему помогать в проведении съемок, разбивать прикладами лед и прокладывать операторские рельсы прямо в воде. Солдаты были в легких немецких шинельках, под ними – только гимнастерочка, на ногах – короткие десантные сапожки, да пилоточки на головах. Даже актера Игоря Ледогорова для съемок той сцены одевали в прорезиненный водолазный костюм, поверх костюма – шинель с утеплителем. И это притом, что солдатам нужно было не просто пересечь озеро, они по несколько часов работали, стоя в ледяной воде. Неудивительно, что некоторые солдаты стали терять сознание. Тогда я решил в термос с чаем, который им подавали, вливать водку, чтобы они хоть как-то согревались. И кто-то на меня донес. Командир Тимощук вызвал меня к себе, я объяснил, что произошло. Потом Тимощук переговорил с врачом, который подтвердил, что у солдат было сильнейшее переохлаждение.
Я числился простым рядовым, и за такое самоуправство мне грозило серьезное наказание. Чтобы меня спасти, Тимощук тайно отправил меня на десять дней в Москву. Но кто-то все же узнал и доложил. Мое отсутствие объявили самоволом, а мне это грозило Алехинскими казармами, которые были знамениты своей жестокостью. Тогда Тимощук позвонил мне, приказал быстро садиться на электричку, ехать в расположение нашей воинской части и сказать, что все десять суток в населенном пункте Выдропужск я охранял военное обмундирование и имущество, а в Москве меня не было. Иначе и он бы пострадал, потому что я по его распоряжению уехал. Меня в Особый отдел вызвали и спросили, где я пропадал. Я и ответил, что охранял имущество в Выдропужске. Меня попросили уточнить, какое имущество я охранял. Я ответил, что не знаю: я же рюкзаки не раскрывал, скатки не раскатывал. Я действительно не знал, какое военное имущество я мог охранять. Вызвали этого Сергея, командира роты, и спрашивают его, что же я все-таки охранял.
Он не растерялся и отрапортовал:
– Так точно! Вам предоставить весь список?
Получается, комбат его предупредил, и это меня спасло.
Вместо положенного мне года, я служил год и полтора месяца. Последние полтора месяца – в разведроте. Первые азы только успел пройти за это время: как по азимуту ходить, наблюдать за территорией. Большой пользы от моего пребывания в разведроте не было. Просто не хотели, чтобы я раньше освободился, вот и придумали, как задержать.
Глава 4
«Сибириада»
Еще учась во ВГИКе, я познакомился с Кончаловским. На кинофестивале в Мангейме Андрон увидел мою курсовую работу «Урок» и заинтересовался. Он спросил Никиту обо мне, тот посоветовал ему обратиться к Володе Грамматикову, с которым мы учились в одной мастерской. Грамматиков привел меня на встречу с Андроном в квартиру Натальи Петровны Кончаловской и Сергея Владимировича Михалкова (родители Володи Грамматикова были их соседями по лестничной клетке). Мы познакомились с Андроном, долго беседовали. Помню, я раскритиковал его фильм «Романс о влюбленных»: меня немножко шокировало, что в этом фильме все герои говорят белым стихом – я в этом увидел какую-то неправду. И я Андрону прямо сказал, что из-за этой неправды зритель не верит в отношения героев. Андрон рассмеялся, поблагодарил меня за то, что я был искренен, а еще заметил, что В. Шекспир «Ромео и Джульетту» тоже в стихах написал. Я замолчал, не стал с ним спорить. Спустя много лет я пересмотрел фильм и понял, что ошибался: именно на этом белом стихе все в фильме было закручено.
Когда Андрон запустился с «Сибириадой», то предложил мне пойти к нему ассистентом. Он пригласил меня, в первую очередь потому что я из Сибири и знаю деревенский быт. Я ответил, что мне надо сначала снять свой диплом по В. М. Шукшину. Он спросил, почему бы мне не поступить, как Игорь Хуциев: он был на практике у М. А. Швейцера и защитил курсовую материалом из фильма Швейцера? Я ему возразил, что И. Хуциев все же потом с Н. Бондарчук и Н. Бурляевым снял полнометражный фильм «Пошехонскую старину». Итак, я решил сначала защитить диплом во ВГИКе, а потом пойти работать на «Сибириаду». Когда я с отличием защитился, у Андрона шел подготовительный период перед съемками фильма, и он меня направил в Тобольск на выбор натуры. У него была идея: найти для съемок настоящую сибирскую натуру. Я уже готовился к вылету, но рано утром в понедельник меня забрали в армию.
За месяц-два до окончания службы весь наш батальон задействовали в съемках картины И. А. Гостева «Фронт. За линией фронта», и Гостев назначил меня исполнять обязанности второго режиссера. Снимали мы в Вышнем Волочке, а рядом уже приступали к съемкам «Сибириады». И когда объявлялись выходные, Эрик Вайсберг, директор «Сибириады», тайно от командиров приезжал за мной на машине. Я уезжал и встречался с Андроном, мы беседовали.
Вернувшись из армии, я решил запускаться со своим фильмом, но меня уже не принимали в штат «Мосфильма». Прописки московской тоже не было. Я ходил по «Мосфильму» со своими учебными работами, которые носил в огромных коробках. Сам Ефим Львович Дзиган, мой наставник, заходил со мной в кабинеты, ходатайствовал за меня, но, несмотря на это, меня никто не брал на работу. Я предполагаю, что руководство «Мосфильма» и Госкино знало, что я «под колпаком» у Пятого управления КГБ как поэт, и была установка меня не запускать.
Вот в один прекрасный день иду я, как обычно, нагруженный коробками, по коридорам «Мосфильма», а навстречу – Андрон Кончаловский в окружении своей свиты из ассистентов и помощников. Поравнявшись со мной, Андрон говорит:
– Саша, здравствуй, дорогой! Отслужил?
– Отслужил.
– Ну а что не звонишь?
– Как-то неудобно, – замялся я.
– А что сейчас делаешь?
– Да вот, хожу в поисках проекта, но не дают запуститься. И сценарий у меня уже есть, и даже не один.
– А у меня ассистент по реквизиту заболел. Лежит на серьезной операции. Пойдешь вместо него?
Вот так я начал работать на «Сибириаде».
Ассистент режиссера
Вообще, работать ассистентом режиссера у Андрона Кончаловского – задача не из легких, потому что у него идеи часто возникали прямо на съемочной площадке. Андрон был очень внимателен к деталям. Если видел в кадре современную кровать, просил найти в деревне кровать 1920-х годов. Эрик Вайсберг, директор картины, давал мне машину, на которой я исколесил всю Тверскую губернию, самые ее глубинки. Заходил в избы к старикам и старухам, предлагал:
– Бабуля, я тебе заплачу денег, как за двуспальную кровать барокко.
Платил и забирал у нее кровать 20-х годов. Иной раз смотрю, там какая-то скалка старая лежит, какая-то бадья, ушат деревянный – все, что мог, сгребал, увозил с собой, и кадр заполнялся историческими реквизитами. Андрон меня хвалил, а я никогда не жаловался на свою работу. Она была трудная, но интересная. И самое главное в этой работе было то, что я всегда был рядом с Андроном. Для меня это была полезная и интересная школа.
У Кончаловского я научился многим нюансам работы режиссера. Во-первых, это поселение группы. Как приехал в экспедицию, убедись сначала, что вся группа поселилась и все довольны. Это очень важный фактор. Кстати, и Никита, брат Андрона, это держит на вооружении. Важно разместить всех, в том числе и рабочих, потому что, когда в процессе съемок от рабочих начинаются жалобы на номер, на отсутствие удобств (приходится бегать в коридор), горячей воды – это влечет за собой большие проблемы. Когда работник изначально приходит на площадку с ужасным настроением, с недовольством – это всегда сказывается на качестве работы. Андрон это прекрасно понимал, и я этому в первую очередь у него научился. Он всегда вселялся в свой номер последним – только после того, как администрация докладывала: все довольны, все хорошо. Но часто, не доверяя администрации, сам обходил номера, чтобы убедиться, что действительно все довольны и все хорошо.
Во-вторых, уважительное отношение к актерам. Я тоже, когда снимал работы как режиссер, следовал его примеру: никто в группе не слышал, о чем я говорил с актером. Иногда бывает, режиссер во всеуслышание отрицательно отзывается о работе актера, начинает оскорблять его или даже орать на него – и актер от этого зажимается. Лучше тихонечко отвести актера в сторону и лично объяснить, что тебя устраивает, а что – нет. Андрон всегда хвалил своих актеров, а так как я находился рядом, то слышал, как он кому-то из съемочной группы говорил:
– Ой, ужасно, ужасно.
А потом обращался к актеру:
– Молодец, давай еще дублик. Только сначала пойдем поговорим-пошепчемся.
Вот это я перенял у Андрона. Режиссер обязательно должен быть психологом.
В-третьих, нужно знать человеческую сторону актера: знать его слабые места, чем актер может быть недоволен, тщеславен ли он, кому он симпатизирует в этой группе, а кого недолюбливает. Этому я научился у Андрона, поэтому мне с актерами всегда легко работается. Ну и еще потому, что я сам актер, знаю актерскую природу, понимаю, что актеру может мешать в работе. Возможно, поэтому я ни разу не слышал от актеров какой-либо жалобы на меня.
Когда я подключился к работе на «Сибириаде», съемки шли почти месяц. Было отснято много материала. Я благодарен Андрону за то, что он меня всегда приглашал на просмотр рабочего материала. Я сидел рядом, он показывал, что отснято, и спрашивал:
– Саш, как думаешь, какой из дублей я возьму?
Я отвечал. А он:
– Нет, не угадал. Может быть, по качеству операторской работы этот дубль и лучше, но по психологическому рисунку персонаж играет сильнее в другом дубле.
Таким образом я с Андроном прошел весь процесс монтажа. Я присутствовал с ним и у Эдуарда Артемьева, когда тот писал музыку. Андрон меня познакомил с этим прекрасным композитором, удивительно талантливым и творческим человеком, и я потом стал бывать в доме у Артемьева. Артемьев давал мне послушать свои произведения, которые еще никто не слышал, и рассказывал, как писалась эта музыка.
Сам Андрон Кончаловский был очень музыкальным, он пришел во ВГИК после консерватории. Причем Кончаловский обладал тонким музыкальным вкусом. Когда мы собирались у него дома, там никогда не звучала попса (в то время в моду входили разные группы, исполняющие «популярную» музыку) – там звучала классика. Например, Сергей Рахманинов. И мне он прививал вкус к хорошей музыке. Он и лекции мне читал, как музыковед. Я как-то заметил, что у него очень много произведений Рахманинова. У него дома можно было найти даже самые незначительные опусы этого композитора. Оказывается, в это время Кончаловский работал над сценарием фильма о Рахманинове. Он рассказал мне всю его судьбу. Насколько мне известно, Андрон проследовал всеми маршрутами путешествий Рахманинова: и, как говорится, житейскими, судьбоносными, и гастрольными. Это тоже урок, который преподал мне Кончаловский – максимально полно изучить то, о чем ты пишешь, знать все о персонаже, о котором снимаешь кино.
Мой актерский дебют
У Андрона в процессе работы над фильмом была психологическая установка на то, чтобы группа чувствовала себя единой семьей, поэтому он каждый вечер устраивал общие ужины. Собирался весь творческий состав группы. Мы развлекали друг друга, устраивали что-то вроде актерских капустников. На них обычно выступали Никита Михалков, Людмила Гурченко (правда, она тогда после операции на ноге не могла танцевать, но всегда принимала участие в шутках, хохмах, розыгрышах), Саша Адабашьян, который был душой этой компании, великий Павел Петрович Кадочников. У Кадочникова был маленький магнитофончик, который он вешал на шею, включал фонограмму и пел песни, чаще всего частушки (их он знал огромное количество). Ну и я к ним присоединялся. А Андрон наблюдал. Однажды после очередного капустника на эстраде гостиницы «Селигер» в Твери он меня спрашивает:
– Саша, а ты случайно не актер? Ты профессионально ведешь себя на сцене.
Я отвечаю:
– Я профессиональный актер, около трех лет работал в театре, сыграл шестнадцать ролей.
Андрон не знал, что я во ВГИК пришел после театра и с актерским образованием.
– Тебя надо снимать, – решил он.
Андрон вызвал сценаристов Рудольфа Тюрина и Валентина Ежова и дал им задание придумать мне роль. Так в сценарии появился Сашка – верховой на нефтяной вышке.
С этим персонажем связана одна забавная история. Андрон обратил внимание на то, что мой персонаж Сашка вышел из тюрьмы. В сценарии даже была такая фраза, которую произносил герой Никиты Михалкова: «Санька, не забывай, откуда ты вышел».
Андрон говорит мне:
– Если ты вышел из тюрьмы, значит, ты должен быть бритым наголо.
Я запротестовал:
– Как же так, Андрон! Ты же видел, как на меня девчонки смотрят?
А мы в молодости с Никитой Михалковым были внешне чем-то похожи. Когда мы с ним во время съемок приходили в ресторан в Томске или в Твери, нас все путали. Никита мне рассказывал, как он однажды ехал в поезде (я уже тогда снимался, был популярен), к нему подошел мужчина и попросил:
– Александр, дайте автограф.
– Какой такой Александр? – удивился Никита.
– Ну, вы же Панкратов-Черный. Что мы, не узнали, что ли!
И Никита Михалков от моего имени расписался. Ко мне тоже часто подходили:
– Никита, дайте, пожалуйста, автограф.
Я от его имени расписывался. И, учитывая огромную популярность Михалкова, я тоже пользовался успехом, в том числе и у девушек. И вдруг – наголо.
– Сань, надо бриться, – настаивал Андрон.
Я наотрез отказался. Тогда он придумал такой ход:
– Если я побреюсь, тогда ты согласишься? – спросил Андрон.
– Ну, давай. Но только пусть начнут с тебя.
Мы сели в гримерной, Андрон начал бриться. И только когда у него побрили полголовы, я сел рядом: и меня можно – и нас обоих побрили. Вся группа хохотала и над Андроном, и надо мной. Потом, когда Никита будет снимать фильм «Обломов», он тоже заставит бриться наголо Андрея Попова. Тот, как и я, будет возмущаться. Тогда Никита вместе с Александром Адабашьяном тоже побреются. То есть этот опыт Кончаловского был принят за образец.
Почти трагический случай
Был и еще один случай на съемках «Сибириады» – уже не такой веселый, даже можно сказать, почти трагический. Андрон – реалист. В финале фильма есть сцена, в которой нефтяная вышка падает на меня и герой Никиты Михалкова погибает, спасая жизнь моему герою. В первоначальном варианте сценария он спасал технику, но потом Андрона осенило, что герой должен спасать человека, пусть даже из тюрьмы вышедшего, какого-то незначительного – но человека, теряя при этом себя. Так вот в сцене меня придавливает вышка, а Никита пытается поднять эту вышку из огня и сам проваливается в тартарары, но спасает меня. Начали репетировать. Вышку опустили, я под нее заполз, стал изображать, что меня вышка якобы держит. Андрон говорит:
– Саша, все это неправда. Ты притворяешься, что тебя придавило вышкой. Мы тебя придавим по-настоящему.
– В каком смысле?
– В прямом.
Андрон всегда добивается правды от актера, правды от заданных обстоятельств, в которые тот или иной герой попадает. Кроме того, у нас были потрясающие консультанты-нефтяники. Мы отрепетировали. Я не помню, сколько тонн нефти было вылито в канавку вокруг вышки, под которой я должен был лежать, но много. Напалмом обмазали даже эту вышку. Когда начинается пожар – металл раскаляется. Если вышка попадает в огонь, она раскаляется добела. Андрон именно этого и хотел, чтобы правда была на экране.
Когда я посмотрел, где будет этот пожар полыхать (метрах в двух-трех от меня), то подумал: «Ох, жарко будет». А был конец апреля или март. Снег уже таял. Думаю: «Валенки у меня загорятся от этой жары – надо их намочить». Недалеко была лужа. Я намочил валенки, заполз под эту вышку, меня придавили, начали снимать. Андрон дал команду пиротехникам. Они зажгли огонь – и там такой жар начался, что мои мокрые валенки закипели. Я чувствую, ноги варятся в этих валенках. Я ору, слезы на глазах. На репетициях у Никиты очень ловко получалось: раз – подцепил вышку и поднял. А на съемках он, видимо, растерялся: не получается поднять – и все. Первый раз – мимо, второй раз – мимо. Я смотрю на Никиту – он сидит за этим краном, нервничает. А вылезти-то я не могу, меня по-настоящему придавили. Смотрю на Андрона, мол, вытаскивайте скорее, а Андрон у камеры стоит, плачет, как я, и говорит оператору:
– Ну, гениально! Гениально! Какая правда жизни.
Кстати, Андрон всегда сопереживает персонажу, внутренне живет вместе с героем, которого снимает.
Наконец Никите удалось подхватить вышку. Подняли вышку, меня выдернули, и я – бегом к этой луже, чтобы валенки опять намочить. Смотрю, а лужа испарилась от такой жарищи. Я бегаю кругами по площадке, ищу лужу, потому что ноги горят, а Андрон всем говорит:
– Посмотрите, из образа выйти не может. Ну, гениальный артист.
Потом он меня будет все время хвалить. И я до сих пор стараюсь его не подводить, доказывать своими актерскими работами, что Андрон сказал тогда правду.
Это был мой актерский дебют в «Сибириаде». И что интересно, Андрон, когда фильм вышел, на многих улицах Москвы повесил огромных размеров плакаты с моим изображением, хотя роль у меня в фильме была, скорее, эпизодическая. На афише мое лицо красовалось рядом с Людмилой Гурченко и Никитой Михалковым. И зрители начали спрашивать обо мне: что это за актер, которого так рекламируют?!
Творческая солидарность
Творческая группа на «Сибириаде» была очень дружная и спаянная, и это заслуга режиссера Андрона Кончаловского. Андрон подбирал единомышленников – не только по творчеству, но и по человеческим качествам. Суметь сформировать дружный коллектив – это тоже одна из задач режиссера.
Андрон, зная, что я без квартиры в Москве, привлекал меня играть в эпизодах. Зарплата ассистента по реквизиту в то время составляла 110 рублей, а Андрон добился в актерском отделе, чтобы ставка у меня как у актера была – 28 руб. Это по тем временам были большие деньги. Молодые актеры, закончившие ВГИК, получали 10 рублей. Мне сразу дали 28 рублей, а Андрон, чтобы я зарабатывал, мне говорил:
– Санька, по улице сейчас пройдешь.
– Я же в этой сцене не участвую.
– Если пройдешь, то 28 рублей получишь. Раз прошел в кадре, значит – съемочный день.
Рита Подсухская, гример, подыскивала мне какую-нибудь бороду, надевала шапку. Я изображал пьяного, шел по улице где-то на заднем плане, чтобы меня не узнавали в этом персонаже. Что-то еще придумывали: спиной пройти или в каком-то другом костюме, в робе, например.
Директор картины Эрик Вайсберг сначала возмутился: в течение месяца я зарабатывал по 28 рублей в день, потому что я каждый день был в кадре, плюс моя ассистентская зарплата в 110 рублей – по тем временам это были колоссальные деньги. Эрик негодовал, потому что я за месяц заработал больше Кончаловского. Но это было желание Андрона. Эрик потом с этим смирился, и я, зарабатывая на «Сибириаде», мог оплачивать съемную квартиру в Москве, дарить дамам цветы, шампанское. Как говорится, жил король королем. Но было и еще кое-что – у нас с Эриком была одна дама сердца, которая в итоге выбрала меня. Я подумал: «Все! Теперь Эрик отомстит и платить не будет». Но Эрик не стал этого делать. Он только сказал:
– Ну, Сашка, ты для нее-то уж не жалей на подарки.
И выписывал мне зарплату.
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко – это актриса, которой я всегда восхищался. На «Сибириаде» ее мучила проблема с переломанной ногой. Причем сделали одну операцию (штифты вставили), оказалось – неудачно, и пришлось все переделывать. Она хромала очень сильно, боли были нечеловеческие. Поэтому Андрон, когда ставил перед ней задачу, говорил:
– Люсенька, пройдешь по тротуару с Никитой под ручку – и хромай. У тебя же вся судьба изломана, и пусть ты будешь хромоножкой.
Она отвечала:
– Хорошо-хорошо, буду хромать.
Но раздавалась команда «Мотор!», и Гурченко не могла позволить, чтобы зритель увидел ее хромоножкой. И она шла… «Стоп, сняли!» – Она падает и теряет сознание от боли. Ее приводят в себя. Андрон опять говорит:
– Люся, хромай, ну что ты себя насилуешь.
– Хорошо, Андрон.
Снимали, и опять повторялось то же самое. Сколько силы воли, желания быть прекрасной, элегантной, привлекательной было в этой женщине! В Люсе это одна из главных черт характера. Андрон мне дал тайный приказ: везде сопровождать Люсю, чтобы, не дай бог, где-нибудь не споткнулась. Я ее сопровождал пообедать в ресторан или куда-то пройтись – всегда был рядом с ней. А она, увидев во мне друга, в одной из своих книг упомянула: «Рядом всегда находился близкий и преданный друг». Не назвала, кто был этот друг, но упомянула. Иногда она, уже доверяя мне, тихонько спрашивала:
– Вы с Андроном смотрите материал: как я там?
Я говорю:
– Очень хорошо.
– А Андрон доволен?
– Очень доволен.
– Саша, не лукавь. Может быть, он чем-то недоволен?
– Очень доволен, Люсенька, что ты!
Я ее всегда успокаивал. Хотя в каких-то сценках Андрон и был чем-то недоволен, но я это скрывал. Вот такие вот были прекрасные и теплые отношения.
Майор Кадочников
Мне, как ассистенту режиссера, Андрон Кончаловский поручил сопровождать Павла Петровича Кадочникова, исполнявшего в «Сибириаде» роль Вечного Деда. Кадочников был очень популярным актером, и Андрон хотел быть уверен, что его нигде не отвлекут, не задержат, и он прибудет на съемки вовремя. Однажды Павел Петрович повел меня в ресторан. С нами была Наталья Андрейченко. Зашли. За стойкой бара стояла крупная женщина. Как только женщина увидела Кадочникова, она воскликнула:
– Паша! Явился!
Оказывается, это была старая знакомая Павла Петровича. Они обнялись. Белла была хозяйкой ресторана, она накрыла на стол. Мы посидели. Ресторан уже закрывался.
– Паша, едем сейчас ко мне, – предложила Белла.
Нас привезли в ее квартиру на окраине Твери. Там Белла снова накрыла на стол. Я очень волновался: утром съемки, а я был в ответе за актеров. Но как я мог ослушаться Народного артиста СССР! Утром я бужу Павла Петровича и Наталью: пора ехать. Такси вызвать не удалось, и хозяйка предложила добираться на трамвае: в десяти минутах ходьбы от ее дома находилась конечная трамвайная остановка. Мы нашли остановку, сели в трамвай, хлопаем по карманам – оказывается, кошельки где-то оставили, ни у кого денег нет. К счастью, водитель трамвая узнала Кадочникова и повезла нас бесплатно. Всю дорогу нам и нашим попутчикам она рассказывала биографию Павла Петровича, которого все знали и любили. Я посмотрел на Кадочникова, а он с полуулыбкой и грустью слушал рассказ о себе.
Мы вышли на конечной остановке в центре Твери. Рядом – набережная. Павел Петрович был моржом, он предложил:
– Санька, скоро съемки, а мы с похмелья. Давай нырнем в Волгу?
– Холодно, – возразил я. – Одежда мокрая будет (дело было осенью).
– Так народу никого, шесть утра. Нырнем без одежды!
Мы снимаем все с себя и ныряем в Волгу-матушку прямо у памятника А. С. Пушкину. Плаваем. Смотрим, на набережной появилась милиция:
– Выходите.
А как выйти? Мы же голые. Но делать нечего, выходим. Наталья Андрейченко кричит милиционерам:
– Отвернитесь, я обнажена!
Вышли, одеваемся, а у меня одна мысль в голове: «Все, на съемки опоздали». Подходим к милиционерам. Павел Петрович из внутреннего кармана пиджака достает целлофановый пакет, а в нем – бумага, сложенная вчетверо. Он ее разворачивает, показывает милиционеру:
– Читайте, лейтенант.
Лейтенант вытягивается по стойке смирно.
– Павел Петрович, а мы не знали, что вы майор!
Оказывается, у Павла Петровича после съемок в фильме «Подвиг разведчика» сохранилась бумага за подписью И. Сталина и К. Ворошилова о присуждении ему почетного звания майора всех родов войск СССР.
– Доставьте нас, пожалуйста, на съемочную площадку, – сказал Кадочников.
Его просьба была исполнена. Я предполагаю, какая картина предстала перед съемочной группой, когда мы прибыли на площадку на одном-единственном мотоцикле. Павел Петрович разместился в коляске, Наталья Андрейченко сидела у него на коленях, а я – за спиной лейтенанта милиции. Прибыли мы вовремя. Я ждал, что Андрон рассердится на меня, а он только посмотрел на нас и сказал:
– Какие же вы талантливые!
Никита Михалков
Сейчас Никита изменился, возмужал, а тогда мы были молодые, горячие. Никите всегда хотелось быть в центре внимания. И были случаи на площадке, когда Андрон ставил перед Никитой задачу, как сыграть, но тот, сам будучи режиссером, начинал спорить и предлагал сделать по-своему. Андрон понимал, что брату хочется покрасоваться, и шел на уступки. Он говорил:
– Хорошо. Давай снимем сначала то, что прошу я, а потом – твой вариант.
Никита соглашался, а уже в монтажной Андрон мне говорил:
– Саш, ну я же был прав.
Вариант Никиты отодвигался в сторону, в работу шел вариант Кончаловского. А Эрик Вайсберг и главный оператор Леван Пааташвили нервничали, потому что понимали, что в картину дубль Никиты не войдет, но пленку-то тратили. Снимали на «Кодак», который стоил больших денег по сравнению с отечественной пленкой.
Но иногда Андрон принимал то, что предлагал Никита. Во всяком случае, сцену последней встречи персонажей Никиты Михалкова и Людмилы Гурченко Андрон принял в версии Никиты. В ней Никита сильно стискивает зубы, когда героиня Гурченко отказывается ехать с ним – так сказать, от боли, ото всего пережитого. Это Никита сымпровизировал в кадре. И Андрон сказал:
– Никита – молодец, спасибо. Это туда. Попал.
А иногда бывало, едем с площадки, и Андрон водителю говорит:
– Останови.
Водитель останавливается. Андрон убегает в поле, падает в траву и плачет. Этому удивляться не стоит – на площадке все бывает: переживаешь, страдаешь, мучаешься… Андрон Кончаловский сам по себе очень ранимый человек, интеллигентный. Однажды Андрона кто-то оскорбил, и я ударил этого человека.
Я сказал Андрону:
– Ну что ты молчишь? Врезал бы ему тоже. Он ведь хам.
Андрон отвечает:
– Ну что ты. Это же живой человек.
Андрон не способен – так воспитан. Почему и поговорка ходила: Никита – папин сын, а Андрон – мамин. То есть очень разные братья. Никита – охотник заядлый, даже свое охотхозяйство завел, а Андрон концерты посещает, театры, слушает музыку. Поэтому интересно за ними наблюдать, когда они в одном «профессиональном» котле варятся, как, например, на «Сибириаде».
Глава 5
«Взрослый сын»
После съемок в «Сибириаде» ко мне, казалось бы, должен был прийти успех: я стал узнаваем, и Андрон меня хвалил перед всеми своими знакомыми кинематографистами. Были случаи, когда мы шли по коридору «Мосфильма», мимо проходил кто-то – например, Бондарчук или Райзман, – а он говорил:
– Так вот, братко, послушай меня внимательно…
И со временем даже утвердилось полушутливое мнение, что якобы я внебрачный сын Сергея Владимировича Михалкова, тем более что мы с Никитой были очень похожи.
Каждый месяц я приносил в Госкино по киносценарию. Моя жена Юля работала тогда редактором в объединении Сергея Аполлинариевича Герасимова на киностудии им. Горького. Она тоже мне приносила сценарии, которые шли в их объединение. Я все это перечитывал, и то, что меня привлекало, подавал в Госкино – лишь бы что-то снимать, но все сценарии мне запрещали. Причем мне говорили «нет», а через месяц кто-то из моих товарищей запускался с этим же сценарием. Так продолжалось три с половиной года. Борис Владимирович Павленок, который тогда был заместителем председателя Госкино СССР, казалось, делал все возможное, чтобы меня не было в кинематографе.
И наконец на моем творческом горизонте появилась Ганна Оганесян. Сейчас ее фамилия Слуцки (по мужу), и она живет в Израиле. Ганна – дочь очень талантливого кинорежиссера Генриха Оганесяна. Она мне дала почитать сценарий «Взрослый сын». Ганна в то время готовилась к рождению ребенка, лежала в родильном отделении больницы.
После трех с половиной лет без работы я, конечно, ухватился за этот сценарий. Причем сценарий был актуален: это была история о молодежи, а руководство Госкино как раз поставило задачу снимать больше фильмов для молодой аудитории. Я переписывал сценарий много раз, подчиняясь поправкам редакции «Мосфильма» и Госкино. Я не хотел носить поправки Ганне в больницу, тревожить ее, и все переделывал сам. У меня были замечательные редакторы: Нинель Владимировна Боярова, Нина Григорьевна Скуйбина (жена покойного Эльдара Рязанова) – они делали все, чтобы сценарий запустили. Но никак не получалось. Я все быстро исправлю, отправляю в Госкино – там дают новые поправки.
Полгода я занимался только переписыванием сценария. Тогда я попросил совета у Андрона Кончаловского, и он мне сказал:
– Саша, ты в кино, как Шукшин, случайно попал. Ты в кино для всех чиновников – случайный человек. У тебя ни папы, ни мамы, ни дяди с тетей – ни в Госкино, ни в Кремле, ни хотя бы в торговле, поэтому ты случайно будешь получать случайные сценарии и случайные постановки. А значит, вноси все поправки, которые требуют чиновники – это их работа. У тебя веса и авторитета в кино пока нет, тебе их не победить. Поэтому делай, как они просят, а снимать будешь, как ты хочешь, как ты видишь этот фильм.
Я послушался совета и терпеливо вносил все требуемые поправки. Я боялся показывать последний вариант сценария Ганне Оганесян, потому что от ее идеи почти ничего не осталось.
Моя команда
И наконец меня запустили, через три с половиной года мытарств. Мне повезло работать с замечательной командой. Зиновий Гризик был директором – очень опытный кинопроизводственник. Кинооператором был Тимофей Павлович Лебешев. Его сын Паша и Никита Михалков подошли ко мне, и Паша попросил:
– Папе 75 лет, ему уже никто не дает снимать, а он без съемок долго не проживет (Тимофей Павлович тогда тяжело болел). Возьми его оператором-постановщиком. В помощь мы дадим второго оператора, моего друга Виталика Абрамова.
Удивительный человек – Виталик, как потом выяснилось, потомок Зайцева – нашего эмигранта: писателя, философа.
Таким образом, у меня было два оператора: Тимофей Павлович Лебешев, классик советского кинооператорского мастерства, и Виталий Абрамов. Все портреты снимал Тимофей Павлович, да и актрисы доверяли только ему. А сложные панорамы уже снимал Виталий.
С Женей Леоновым-Гладышевым я познакомился благодаря моему ассистенту по актерам Эмме Петровне Дукельской. Я искал для фильма простое курносое лицо. Кого только мне не показывали: студентов МХАТа, ВГИКа, Щукинского, Щепкинского училища – мне все не нравилось. Я настаивал:
– В герое должна быть простота.
Наконец Эмма Петровна Дукельская приносит мне фотографии и говорит:
– Саша, я нашла то, что вы ищете.
Кладет передо мной снимки. Гляжу, с фотографий смотрит на меня курносый, улыбающийся, обаятельный мальчишка. Женя был штатным актером «Ленфильма», окончил Ленинградский театральный институт, но «Ленфильм» его не задействовал, он сидел без работы.
Я говорю:
– Вызывай.
Вызвали Женю, я с ним порепетировал этюды и взял его в фильм.
Женя Леонов-Гладышев играл главную роль. Актрисы в фильме были просто замечательные: Лена Цыплакова, Лена Глебова, Таня Божок, ученица Бондарчука, с которой мы учились во ВГИКе. А главную героиню сыграла Оля Гудкова – девочка с улицы.
Я очень рад, что народная артистка Людмила Шагалова согласилась сыграть у меня крохотную эпизодическую роль.
Помню, как пришла ко мне на пробы Роза Макагонова. Она была любимой актрисой моего детства. Вспоминаю ее по фильмам, в которых она снималась – глаза ее открытые, наив, даже некоторая детскость, которая меня очень трогала. Когда она вошла, я увидел эти глаза. А Роза Ивановна заплакала и сказала:
– Я располнела, но для фильма я похудею. Все-таки моя героиня – актриса ТЮЗа…
– Роза Ивановна, да я вас утвердил уже.
– Ну как же… Я посмотрела по сценарию… Я уже старая, а играть нужно молодую.
Я возражаю:
– А в ТЮЗе Лидия Князева до старости лет играла мальчишек!
Я ее утвердил, она была счастлива, потому что пятнадцать лет до этого нигде не снималась. А после «Взрослого сына» ее снова начали приглашать, она стала играть в сериалах, Пульхерию Ивановну сыграла на Одесской киностудии – и актриса ожила. Я очень радовался.
Я был счастлив, что актеры соглашались сниматься, ведь сценарий был ужасно искромсан. Поэтому я сначала всех актеров вызывал на беседы по поводу сценария – даже тех, кого брал на эпизоды. При встрече я рассказывал актерам, как вижу ту или иную сцену. Я говорил:
– Прочитали сценарий? А теперь я вам расскажу, какой будет эта сцена, когда я ее буду снимать.
И они соглашались. Мы прекрасно работали вместе. Вообще, у меня с актерами всегда складывается дружба. Они в меня верят, я в них верю, доверяю. Очень трогательно, что я тогда был мальчишкой, молодым режиссером, а меня слушались опытные и знаменитые актеры.
Со Славой Езеповым, правда, случилась грустная для меня история. Он очень талантливый и интересный актер Малого театра, и на кинопробах на роль отца главного героя хорошо себя показал, но Вячеслав Шалевич был намного ярче и интереснее, и я утвердил Шалевича. Вдруг через неделю съемок Шалевич заявил, что уезжает с театром в Болгарию на гастроли.
Я не мог отложить съемки. У меня был очень плотный график из-за того, что я снимал в чужом павильоне.
Дело в том, что мне не дали создать свой павильон – квартиру профессора. Я хотел построить такую старую квартиру с выносным окном-фонарем, в которой еще до революции жила интеллигенция. Мне это окно было необходимо как архитектурный элемент прошлого века, а мне не давали его построить: декорация была подготовлена для фильма Аллы Суриковой.
Тогда Николай Александрович Иванов, заместитель генерального директора «Мосфильма» по кинопроизводству, на худсовете встал и произнес гневные слова:
– Ну что вы позорите киностудию «Мосфильм» в глазах молодого режиссера! Парень снимает первый фильм, вы его засунули в чужую декорацию, запрещаете переклеить обои, чтобы павильон хоть как-то отличался от того, который построили для фильма Аллы Суриковой – он и просит-то окно-фонарь, которое можно просто приставить к вашему окну. А вы ему и этого не даете – что же это за ведущая киностудия страны!
И настоял. Мне разрешили адаптировать павильон для моего фильма, но через неделю велели его освободить, несмотря на большой метраж фильма.
В соседнем павильоне свои «Пять вечеров» снимал Никита Михалков. Оператором у него был как раз сын Тимофея Павловича – Паша Лебешев. Никита, я помню, побил рекорд по стране: за один день отснял 250 полезных метров. Более того, он за двадцать пять съемочных дней снял полнометражную картину «Пять вечеров». Но снимал он черно-белую картину, в этом отношении ему было проще, чем мне. А у меня был широкоэкранный цветной фильм, что предполагало серьезную и кропотливую работу со светом. Но мы не отставали.
Можно представить, какой напряженный график был у нашей съемочной группы. Поэтому, когда Шалевич сообщил мне, что уезжает на неделю в Болгарию и хочет отменить съемки, я сказал:
– Слава, я вас снимаю с роли, вы меня подводите.
На что он мне ответил:
– И кого ты будешь снимать, мальчишка? Я – народный артист СССР, а кто ты такой?
– Сниматься будет Езепов, – ответил я.
Я попросил Эмму Петровну Дукельскую поехать к Езепову и уговорить его сниматься. Она связалась с театром Вахтангова, узнала, что у Шалевича действительно взят билет на поезд в Болгарию, и пошла к Езепову. Слава, конечно, был обижен на то, что я его сразу не утвердил, но Эмма Петровна уговорила его. Замену пришлось производить быстро, я даже не успел поставить в известность руководство киностудии. Отношения с Езеповым были на «вы», напряженные, но он очень понимающий актер, прислушивался ко всем моим рекомендациям – и сыграл замечательно. Во всяком случае, я был им очень доволен.
Экспедиция
За неделю мы отсняли сцены в декорации московской квартиры. Следующий этап – Крым, Феодосия. В фильме есть большой фрагмент, в котором действие происходит на море. Когда снимали на Золотом пляже в Феодосии, приходилось импровизировать, потому что в массовку никто не шел: люди приехали отдыхать, в основном это были курортники из разных регионов страны. Поэтому я просто внедрял актеров в группу загорающих-отдыхающих, объяснял, что надо делать, куда и как идти – прятали камеру и снимали. Отдыхающие даже не знали, что они у меня в кадре, поэтому в этих сценах получилась такая естественная атмосфера: люди загорают, а мои герои живут своей жизнью.
Мы снимали уже три дня, как вдруг приезжает черная «Волга», спрашивают:
– Кто здесь главный?
Я откликаюсь:
– Ну, я режиссер-постановщик.
– Поедемте.
Поехали.
– Давайте ваш киноматериал.
Оказывается, там, где мы снимали, находился секретный объект, какой-то военный завод, как я помню. В кадр попал даже не завод, а гора, которой не было на карте, но ее нельзя было снимать. Арестовали весь отснятый киноматериал. Мы, конечно, не знали, об этом секретном объекте. Когда мы выбирали натуру для съемок, нам понравились места: горы, вид из расщелины на море. Снимали проход по пляжу, и помню, какой-то огонек мигал у горизонта – оказывается, это тоже был маячок какого-то военного объекта. Это, безусловно, была недоработка администрации киностудии: так как зона приграничная, надо было согласовывать места съемок.
Пришлось переснимать весь материал в других местах. Переехали, работали оперативно. Очень важно, что группа в меня верила. Даже Павел Тимофеевич, шутя, говорил:
– Второй Пырьев пришел на «Мосфильм».
Он знал, что я был земляком Пырьева.
В Коктебеле мы нашли у одной женщины квартиру, которую как бы арендовали наши герои. После нас многие на «Мосфильме» снимали в этой квартире. И Голубую лагуну нашли, о которой до нас никто не знал. А обнаружил ее и другие замечательные места Тимофей Павлович Лебешев.
Гримером на съемках «Взрослого сына» была Маргарита Подсухская. Она работала на «Сибириаде», и я ее пригласил к себе старшим художником-гримером. Снимали сцену, в которой действие начинается на танцплощадке, потом героиня Оли Гудковой оттуда убегает и идет по берегу моря, ее догоняет герой Жени Гладышева. Камера на кране поднимается. На общем плане мы видим две маленькие фигурки – Жени Гладышева и Оли Гудковой. Персонаж Гладышева встает перед ней на колени и просит прощения. Солнце садится. Вот такая лирическая и грустная сцена была придумана. Пять минут – и солнце заходит. Времени на съемку было мало, поэтому отрепетировали все до мелочей. Идет съемка, камера вот-вот поднимется, и вдруг вижу, к актерам бежит Маргарита Подсухская со своим гримерным ящичком. Я понимаю, что она сейчас в кадр попадет, а вернуться и снова начать мы уже не успеваем: солнце зайдет. Я подбегаю к Маргарите, толкаю ее с этим ящиком в море – из кадра ее выбросил. Камера дальше снимает сцену. Мне машет Витя Трахтенберг, мой второй режиссер: все, снято. Я кричу оператору:
– Все сняли?!
Тимофей Павлович с Виталиком отвечают с крана:
– Сняли, Василич, сняли!
А Маргарита Подсухская плачет, выходит из моря, вся мокрая, с этим ящичком, в котором, вероятно, погибли все ее гримерные принадлежности. Я собираю группу на танцплощадке, попросил массовку удалиться, встаю перед гримером на колени и говорю:
– Маргарита, простите меня, пожалуйста.
Она всхлипывает:
– Я ведь только… реснички поправить.
– Зачем реснички? Это ведь общий план.
А она плачет и тоже на колени встает. И мы перед всей группой стоим – художник-гример и режиссер-постановщик – на коленях и просим друг у друга прощения.
Тимофей Павлович Лебешев улыбается и произносит со вздохом:
– Нет, не Пырьев. Иван Александрович ни перед кем на коленях не стоял…
Хозяйку дома в Крыму сыграла замечательная армянская актриса Нина Мамиконовна Тер-Осипян. Она потрясающий человек. Администрация сообщала ей, когда меня будить, и Нина Мамиконовна каждое утро меня будила.
В шесть утра, лишь солнышко взойдет, она стучала в мою дверь:
– Санечка, пойдем смотреть на восход солнца. Бутерброды у меня с собой. И, как всегда, четвертинка водочки.
Мы сидели на набережной, смотрели на восход солнца и говорили об искусстве, делая по глоточку водочки из бутылочки.
Потом Нина Мамиконовна отлично сыграла у Никиты Михалкова в «Пяти вечерах». Никита увидел ее у меня в материале, когда я монтировал картину, и спросил:
– Кто это?
– Актриса из театра Маяковского…
А потом смотрю, она у него сыграла соседку главного героя – все в том же халатике. Никита, как и я, торопился. Время на съемки было ограничено.
Нина Мамиконовна, Народная артистка РСФСР, когда-то работала с В. Э. Мейерхольдом и А. Я. Таировым, родилась еще в Российской империи. На 90-летие я ее поздравлял. Она уже с трудом меня узнала. Я прибежал с охапкой роз, встал перед ней на колени. Спросил:
– Нина Мамиконовна, вы меня помните?
Она долго-долго на меня смотрела, а потом сказала:
– Лицо знакомое, кто-то из ухажеров, наверное…
Вот такая была экспедиция. Но в целом коллектив был очень дружный. Потом уже – а у меня и по пять лет перерывы были в работе – меня ждали работники моей первой съемочной группы, чтобы работать со мной на других фильмах. Например, Толя Голубев, который руководил осветителями на съемках «Взрослого сына», работал со мной на всех следующих картинах.
Если Никита Михалков снял фильм «Пять вечеров» за 25 дней, то я своего «Взрослого сына» – за месяц-полтора. Меня ограничили во времени, да и растягивать не было средств – деньги на картину дали небольшие, 360 000 рублей. Это был более чем скромный бюджет для полноэкранного цветного фильма.
Монтаж
Я вернулся на «Мосфильм», сделал черновой монтаж «Взрослого сына», показываю. Александр Алов и Владимир Наумов комплиментируют меня, говорят добрые слова – худсовету фильм понравился. Очень радуются мои редакторы Нина Скуйбина и Нинель Боярова: хорошая получается картина, с настроением. Показываем генеральному директору «Мосфильма» Николаю Трофимовичу Сизову (это было обязательным требованием, прежде чем представить фильм в Госкино). Он посмотрел материал, взглянул на меня и сказал:
– Да… А утверждали Шалевича.
К тому моменту все уже забыли, что изначально на роль отца главного героя был утвержден Вячеслав Шалевич. Я начал оправдываться:
– Николай Трофимович, возникли непредвиденные обстоятельства. Шалевич не смог участвовать в съемках…
– Ну, и Езепов неплохой. Интеллигентный профессор.
И утвердил. Повезли картину в Госкино, и Борис Владимирович Павленок выступил с очередной критикой в мой адрес:
– Почему ты из сына профессора сделал подлеца? Это пощечина интеллигентной молодежи. Он должен раскаяться.
Павленок заставил переснять финал, сделать так, что мой герой возвращается к своей девушке. Этого не было ни в сценарии, ни в первой версии фильма.
Было и еще одно замечание, устранив которое, на мой взгляд, мы лишили картину сильной по своей художественности и эмоциональности сцены.
– Что эта сумасшедшая тут ходит? – отозвался Б. В. Павленок о финальной сцене фильма, которую мы считали одной из самых удачных.
Снимали на Юго-Западе Москвы, где тогда только строилась гостиница «Салют». Там, где сейчас вырос микрорайон, был лес. Ганна Ганевская, художник по костюмам, придумала для героини Тани Божок пончо в форме крыльев, которое якобы подруги связали и подарили ей. В изначальном финале фильма героиня ходит по лесу, размахивает пончо, как птица крыльями, и разговаривает как бы со своим любимым человеком. Она идет, объясняется ему в любви, а камера отъезжает от нее, поднимается вверх на кране – и мы видим, что девушка совсем одна ходит по лесу. То есть все эти романтические истории – лишь ее мечты, а на самом деле у нее никого нет, она одинока.
Очень пронзительная была сцена. Весь «Мосфильм» приходил смотреть, как она была снята. Я – поклонник Федерико Феллини, и сцену эту снял под впечатлением от его фильма «Ночи Кабирии», где героиня Джульетты Мазины после того, как ее обманули и бросили, идет, плачет, но вдруг сквозь это отчаяние начинает улыбаться: все-таки она видит в этом мире что-то светлое, какую-то надежду. И моя сцена с девушкой в пончо была навеяна мотивами Федерико Феллини. Моя героиня – тоже одинокая, брошенная, но она осталась с мечтой, что счастье еще впереди и что в ее жизнь обязательно придет любовь.
Вот эту грустную лирическую сцену Павленок заставил убрать из фильма.
Потом вырезали большой фрагмент с Леной Цыплаковой, которую мы с Никитой Михалковым и Женей Гладышевым два дня уговаривали побриться наголо для одной сцены. В ней героиня Лены Цыплаковой говорит, что хочет, чтобы ее любили не за внешность, а за внутренние качества. В итоге Лена побрилась. А в то же время она снималась в роли Джейн у Льва Кулиджанова в фильме «Карл Маркс. Молодые годы». Наумов потом, хохоча, мне рассказывал, как она пришла на съемки к Кулиджанову в платочке. Режиссер говорит:
– Ну-ка, сними платочек-то…
Лена снимает – а она лысая. Говорят, Кулиджанов тогда упал с кресла, потерял сознание от неожиданности: как теперь ее снимать в роли Джейн? Лене пришлось доигрывать в парике. Я ей благодарен, что она пошла на этот риск.
К сожалению, пришлось вырезать много сцен и переснять финал, но фильм все-таки вышел, и на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе я получил приз и диплом за «Лучший дебют». «Взрослого сына» также наградили призом журнала «Советский экран» как картину, выдержавшую кинопрокат – она принесла много сборов и стала очень популярной среди молодежи.
Как я стал Черным
После выхода картины «Взрослый сын» Филипп Тимофеевич Ермаш, председатель Госкино, вызвал меня к себе и попросил поменять фамилию. Дело в том, что когда мой однофамилец, тоже режиссер, Александр Панкратов поехал на фестиваль в Карловы Вары, то в оргкомитет фестиваля направили его фотографию, но биографию, по ошибке, приложили мою. Вероятно, потому что мои вгиковские работы уже имели призы и меня в Европе немного знали. Думаю, и после «Сибириады» мое имя могло быть на слуху, потому что фильм имел большой резонанс. Однако в Госкино мне намекнули, что, мол, не надо примазываться к знаменитым людям, набиваться к ним в родственники. Я тогда не знал, что Саша Панкратов, мой однофамилец, – племянник Э. К. Тиссе, великого кинооператора, который снял с С. М. Эйзенштейном фильм «Броненосец «Потемкин». Однако хоть мы и были тезками, но внешне мы сильно отличались. Второй Александр Панкратов был светлый, даже рыжий, а я был жгучим брюнетом.
Примерно в то же время на Пленуме молодых кинематографистов чуть не произошла подобная путаница. В Белом зале Дома кино обсуждали мой дипломный фильм «Штрихи к портрету», который получил приз в Германии. На Пленуме Илья Вениаминович Вайсфельд, в то время профессор ВГИКа, завкафедрой драматургии, поднял такую проблему:
– Интересно, – спросил он у аудитории, – почему вдруг Европа заинтересовалась работой Александра Панкратова «Штрихи к портрету» на основе русского современного писателя Шукшина? Как вы думаете, молодые кинематографисты?
А из зала ему закричали:
– Илья Вениаминович, а какого Панкратова вы имеете в виду? Их же два.
– Я имею в виду «черного», – ответил он.
В тот день я решил изменить свою фамилию. И когда я снимал свою вторую картину «Похождения графа Невзорова», то попросил указать в титрах «Панкратов-Черный». Теперь, если журналисты пишут о моем однофамильце, то в скобочках указывают «Белый». Когда мы с Сашей встречаемся, то подшучиваем друг над другом. Он говорит:
– Я тебя сделал Черным, а ты меня – Белым.
«Похождения графа Невзорова»
Фильм «Взрослый сын» был моим дебютом на «Мосфильме», но в штат меня так и не приняли. При этом продолжали советовать:
– Снимай.
Я носил сценарии, и, как прежде, их запрещали. Вдруг Алов и Наумов предложили мне взять в работу сценарий по мотивам повести Алексея Толстого «Похождения графа Невзорова, или Ибикус». Двенадцать лет до меня Алов с Наумовым его пробивали, но безуспешно. В итоге они приступили к работе над фильмом «Бег» по пьесе М. Булгакова и очень многое для своего фильма оттуда позаимствовали, например, сцену с тараканьими бегами. А то, что осталось от сценария, предложили мне. Но я взялся за работу без колебаний, и не только потому, что мне нужен был проект, но и потому, что я люблю творчество Алексея Николаевича Толстого, а «Похождения графа Невзорова, или Ибикус» считаю одной из лучших его повестей об эмиграции. Я в ней увидел много метафор.
Я согласился, думая, что Алов и Наумов, состоявшие в худсовете «Мосфильма», поддержат меня в запуске картины, но они в это время были заняты другими фильмами. Четырнадцать раз я переписывал сценарий, идя на поправки Госкино. Я остался без поддержки, и все директора «Мосфильма» отказались со мной запускаться в эту аферу: на весь проект мне выделили лишь 460 000 рублей, а по самым скромным подсчетам подобная историческая картина стоила минимум полтора миллиона. Основных затрат требовали исторические костюмы, декорации, корабль, на котором герои уплывали из России. Нужны были также конница и пиротехника. Но я принципиально решил, что сниму эту картину, несмотря ни на что.
Я запросил для фильма обычный формат, который требовал меньше затрат на изобразительный ряд по сравнению с широким форматом, когда в кадре нужно расставить большое количество объектов и распределить массовку. В Госкино мне отказали. Я пошел на уступки:
– Хорошо, если нельзя обычный, давайте широкий формат.
– Ага, – возмутился Павленок. – Широкий формат просишь – значит, хочешь сделать эпическое произведение про страдания русской эмиграции?
То есть для него широкоэкранный фильм ассоциировался исключительно с эпическим произведением.
Тогда я стал добиваться, чтобы фильм был черно-белый. Я уже знал опыт Никиты Михалкова на «Пяти вечерах», знал, что черно-белый фильм можно снять очень оперативно, так как меньше работы со светом, да и пленка стоит дешевле. Павленок снова возмутился:
– Хочешь под хронику снять, чтобы народ поверил, что это документальное изображение страданий русских эмигрантов?
Снова запретил. Таким образом, Павленок пытался найти любые причины, чтобы воспрепятствовать съемкам. Меня и знакомые директора отговаривали:
– Саша, денег мало – не потянешь ты этот фильм.
Я посоветовался с Ганой Ганевской, художником по костюмам. Она меня обнадежила:
– С костюмами проблему решим, что-то возьмем из подбора.
Женя Черняев, художник, который работал с А. Тарковским на съемках «Андрея Рублева», заверил:
– Декорацию мы на берегу построим – потребуется только два вагона леса.
Осталось найти директора. Почти потеряв надежду, я подошел к Семену Марковичу Кутикову, был уверен – он тоже не возьмется. Семен Маркович был директором у Элема Климова на фильме «Агония». Тот попросил принести сценарий. Я принес, он почитал. Через какое-то время я к нему захожу, и он спрашивает:
– Молодой человек, прочитал я ваш сценарий. В каком жанре вы хотите снимать этот фильм?
Меня потряс этот вопрос. Обычно директора жанром не интересуются. Я отвечаю:
– Трагифарс.
– Прекрасно, я согласен.
Я был ошеломлен, на радостях побежал к Элему Климову, рассказал, что его бывший директор дал согласие работать со мной на моем новом фильме.
Элем схватился за голову:
– Саша, он жулик. Если он согласился, значит, в сценарии увидел, на чем можно украсть.
Я удивляюсь:
– Да не может быть! У меня и красть-то нечего – копейки.
– Значит, он все же нашел, где можно украсть, – настаивал Климов.
Но положение у меня было безвыходное, и я решил рискнуть.
Мне удалось привлечь в свой фильм потрясающих актеров. С Петром Ивановичем Щербаковым мы познакомились на съемках фильма «Мы из джаза» и дружили до конца дней. Владимира Яковлевича Самойлова я знал еще по Горькому, где в спектакле он играл Ричарда III, а я, студент театрального училища, – маленький эпизод гонца, которого он бил нагайкой. Владимир Яковлевич был мне очень признателен, что я потом привел его к Андрону Кончаловскому на «Сибириаду». Актеры снимались у меня за очень маленькие деньги, поэтому я благодарен им всем – потрясающие люди, самоотверженные.
Лев Борисов
На роль графа Невзорова сначала был утвержден Алексей Жарков, а Льва Борисова я взял в фильм позже.
Со Львом Борисовым мы познакомились еще в Пензе. Я тогда только начинал работать в Пензенском драматическом театре. Ко мне в квартиру пришли друзья и спросили:
– Можно, у тебя переночует артист, брат Олега Борисова?
Лев Борисов приехал из Москвы показываться Рубену Вартапетову, главному режиссеру театра, чтобы устроиться на работу. Я говорю:
– Конечно.
Они открывают дверь:
– Вносите.
И Леву внесли. Оказывается, пока он ехал поездом из Москвы в Пензу, нашлись собутыльники и напоили его – а он страдал от алкогольной зависимости. Конечно, никакого показа в театре не было. Он у меня переночевал, потом вернулся в Москву – вот такое было шапочное знакомство. Спустя годы мне мой тесть Владимир Васильевич Монахов рассказывал, что Лев Борисов снимался у них в фильме «Высота» Александра Зархи. Владимир Васильевич отзывался о нем как о талантливом актере, но из-за его проблем с алкоголем с ним трудно было работать.
Когда я запустился с «Похождениями графа Невзорова», мы с женой Юлей снимали квартиру на улице Двадцати Шести Бакинских Комиссаров на Юго-Западе Москвы. У нас уже родился сын. Я пошел в овощной магазин, смотрю: какой-то грузчик катит тележку с капустой и мне подмигивает – в рваном халате, заросший седой щетиной. Я подхожу и спрашиваю:
– Мужик, ты что мне подмигиваешь?
Он отвечает:
– Саша, ты меня не узнал? Я Лева Борисов.
Он мне рассказал, что устроился грузчиком:
– Зарплата небольшая, но зато домой фрукты привожу, у меня дочка растет. А ты в Москве-то что делаешь?
– Я стал режиссером на «Мосфильме». Сейчас в запуске.
– А что снимаешь?
– «Похождения графа Невзорова». Как раз кинопробы идут.
И он вцепился мне в руку:
– Саша, попробуй меня.
– Лева, я вроде бы уже определился с актером на главную роль.
– Я прошу тебя, дай шанс.
Я обещал узнать, дадут ли мне еще смену на кинопробы. Пришел на «Мосфильм» в актерский отдел, начальником которого был Адольф Михайлович Гуревич. Он запротестовал:
– Саша, ни в коем случае. Его запрещено снимать и на «Ленфильме», и на «Мосфильме». Он подведет тебя. Ты за копейки снимаешь картину, у тебя такой график напряженный!
– Хорошо, но кинопробы я сделаю, я ему обещал.
Я дал Борисову выучить большой монолог. На следующий день Лева пришел собранный, играл потрясающе. Когда я стал показывать кинопробы худсовету, Наумов посмотрел и сказал:
– Кого хочешь, того и бери. И Жарков хорош, и Борисов.
Я показал Сизову, генеральному директору. Он предложил мне самому решать, но предупредил, что с Борисовым могут быть проблемы. Я утвердил Борисова на свой страх и риск. Вышел из кабинета генерального директора, а в приемной сидит Леша Жарков. Я завел его в свой кабинет:
– Леш, ты заслуженный артист, у тебя хорошее положение в Театре Ермоловой. А я шанс даю человеку. Так что не обижайся, я утвердил его.
Леша Жарков на меня сильно обиделся – лет пять мы не разговаривали.
Поначалу у меня с Борисовым тоже были проблемы. Сцены в павильонах мы сняли, уехали в экспедицию, а он запил. Там уже мне помогли мои друзья-актеры Володя Самойлов и Петя Щербаков. Уединились с ним, поговорили, и он завязал, работал очень преданно, искренне. И получил на Московском кинофестивале гран-при за лучшую мужскую роль. Потом я поговорил с Сандриком Товстоноговым, тот взял его в театр Станиславского.
Дербент
Я был невыездным, поэтому сцены в Турции снимал в дагестанском Дербенте. Подсказал мне это место Женя Черняев. Мы приехали в Дербент – действительно, типичный мусульманский город. Потом, когда я уже был в Стамбуле, то понял, что мы угадали с Дербентом. Когда фильм сделали, Алову с Наумовым многие производственники говорили (чем я втайне очень гордился):
– Вот у Панкратова – Турция, а вы в Стамбуле снимали, а Турции не видно.
Во время съемок нас ожидали непредвиденные трудности. Пропал вагон с костюмами – не довезли костюмы, которые Ганна Ганевская отобрала на «Мосфильме». Потом, когда закончились съемки, вагоны нашлись. Не знаю, произошло это случайно или было сделано умышленно. В итоге Ганна ходила по мусульманским домам и просила у них одежду. Почти бесплатно ей давали какие-то накидки, чадры. Она одевала в них массовку.
Оператор Дильшат Фатхулин, который до этого много работал с Михаилом Швейцером, все время придумывал разные эффекты со светом. Какие-то предметы перекрывал, освещал только необходимый нам угол, потому что на все пространство света не хватало.
Помню, в год съемок исполнилось 2700 лет мусульманскому кладбищу. По мусульманской религии там было запрещено снимать – это память предков. А мне мулла разрешил, и мы сняли на кладбище одну сцену. Даже на хачкар, надгробный камень, у меня актер садился. Материал был суперинтересный.
Мне нужна была большая конница на побережье, а мне дали только дюжину всадников. Мы с оператором придумали, как выйти из положения. Поставили камеру в центре, а по кругу пустили всадников, которые на ходу должны были переодеваться. Скачут перед камерой белогвардейцы, мы их снимаем крупным и общим планом. Потом, когда они перемещаются за камеру, накидываем на них бурки. Они выскакивают перед камерой уже в бурках в образе красноармейцев. Мы снимали против и по часовой стрелке – вот так у меня получался бой.
Парохода мне тоже не дали (за аренду требовали сумасшедшие деньги), поэтому мы нашли старую-старую баржу и Женя Черняев ее задекорировал под «корабль дураков». Образ корабля нашли замечательный – в этом были и трагизм, и фарс.
Два вагона леса
А скандал с директором все же случился: пропали два вагона с лесом – как снимать без декораций! Я готов был свернуть экспедицию. Но Женя Черняев сказал:
– Я все сделаю.
Он ездил по аулам и собирал какие-то палки, чтобы построить декорацию. Щитами от партикаблей для осветительной аппаратуры закрывал крышу павильона – хватало только на одну сторону. На одной стороне сняли – эти щиты переносились на другую, то есть выкручивались как могли. Спасибо таланту моих потрясающих художников и рабочих – настоящих мастеров своего дела. Они находили выход из любого положения.
А за три дня до окончания съемок директор Семен Кутиков прибежал в мой номер гостиницы в Дербенте с бутылочкой коньяка и черной икрой:
– Саша, надо поговорить.
Кто-то из группы доложил на «Мосфильм», что лес исчез, и должна была приехать комиссия, чтобы разобраться в ситуации. У меня по сценарию эта декорация (два вагона леса) должна была сгореть в последний съемочный день. И директор меня просит:
– Сожги декорацию завтра.
– Зачем?
– Послезавтра приезжает комиссия.
Я говорю:
– Нет, не могу.
Тогда он разводит руками и говорит:
– Ну все, значит, меня посадят.
То есть комиссия увидит, что леса нет. И на следующий день я назначаю съемку. Благо что все актеры были на месте. А у меня вместо бревен только палки, которые нашел Женя Черняев. Мы с трудом выпросили четыре камеры, чтобы снять эту сцену: палочки вспыхнут, сгорят – одной камерой не успели бы снять. Приехали ребята-операторы, друзья Дильшата. Расставили точки, определили, что крупно снимать, что общим планом. Все сняли с массовкой. Сгорела декорация. Приезжает комиссия, изучает пепелище и возмущается:
– Двух вагонов леса мы здесь не видим.
Я говорю:
– Если сомневаетесь, посмотрите материал.
Они посмотрели: мы сняли полноценный объемный пожар. В общем, спас директора от тюрьмы.
Потом мы встретились с Элемом Климовым. Он с грустью мне сказал:
– Да, Саша, ты пережил многое.
И действительно, после этого фильма я начал седеть.
Резать вдоль?
Я придумал несколько приемов, чтобы снять некоторые сцены с минимальными затратами. Смену времен года решил снимать из одного павильона, меняя вид за окном. Так, за одну панораму проходил год жизни героев. Панорама начиналась, Невзоров и Ртищев играли в карты, камера направлялась на окно – там весна. Панорама продолжалась, герои по-прежнему играли в карты, но одеты были уже по-другому, камера опять направлялась на окно – там уже лето, потом – осень и, наконец, зима. Пока камера была направлена на окно, герои переодевались, часть мебели убирали из кадра. Наступала зима, и мебель исчезала совсем, потому что нужно было топить печку. Все это было снято одним кадром. К сожалению, по распоряжению Госкино эту панораму пришлось вырезать.
В целом Павленок вырезал из фильма семьсот пятьдесят метров – это двадцать пять минут экранного времени.
Была снята, а потом вырезана интересная метафорическая сцена на эмигрантском пароходе, когда покидающие родину молятся на иконостас, а икон не видят – видят только оклады, сквозь которые просвечивают небесные звезды.
Вырезана сцена в кафе, где Бурлюк читает свои стихи. Вдруг выходит огромный поэт и на вытянутой руке несет маму – маленькую старушку. Говорит:
– Мама!
И читает. Зал начинает свистеть. Он:
– Тыр-пыт-выр-мыр…
Ему кричат:
– Уходи со сцены!
А он:
– Мама! Не обращай внимания.
То есть он для мамы читает, а мама сидит и плачет, умиленная.
Вырезали цыганку в исполнении Натальи Крачковской, она сыграла замечательно. Цыганка предсказывала Невзорову весь его путь. Сначала на эту роль я пригласил Галину Борисовну Волчек. Она прочитала сценарий и сказала:
– Да, Саша, я не ожидала, что ты обо мне такого плохого мнения…
– Почему же, Галина Борисовна? – искренне удивился я. – Наоборот, я думаю, что вы талантливая актриса и у вас таких ролей еще не было.
Она ответила:
– Но твоя цыганка же с клыками…
– У Толстого так написано… – возразил я.
– Хочешь, чтобы меня, Галину Волчек, руководительницу театра «Современник», увидели с клыками? Я что – хищница какая?
И отказалась, ну и роль была небольшая. Я на Галину Борисовну не в обиде. Вместо нее сыграла Наталья Крачковская. Снимали мы в подземелье, там организовали цыганский табор с кузницами и лошадьми – необычные были съемки. Но Павленок заставил вырезать эту роль целиком.
Получив очередные правки, помню, я с возмущением сказал Павленку:
– Вы что, хотите, чтобы я пленку вдоль разрезал? Ну куда еще больше резать…
Пять с половиной лет я пробивал этот фильм, ходил по коридорам «Мосфильма» мрачный, злой, заросший – «черный» был действительно, ни с кем почти не разговаривал, и уже поговорка начала ходить по «Мосфильму»:
– О, Ибикус идет.
Это в африканских племенах есть такой символ смерти – заросший череп.
Несколько раз пришлось переснимать финал фильма. Первый финал был таким: пристанище Невзорова сгорело, осталась одна только лестница; на пепелище сидят Ртищев с Тепловым (Самойлов со Щербаковым), обгоревшие, оборванные, и говорят:
– Надо же, все погибло, все разбежались – это крах, это конец.
Они находятся посреди пустыни. Метафора была следующей: Христос в пустыне истину искал, а это – люди без будущего. У них и прошлое сгорело, и будущего нет – трагедия эмигрантов, покинувших отечество. Вдруг перед ними начинает шевелиться пепел, а из пепла вылезает Невзоров. И лестница стоит уцелевшая, правда обгоревшая, еще дымящаяся – уходит в небо. И вот Невзоров по этой лестнице у них на глазах поднимается и исчезает в небесах.
Ртищев с Тепловым переглядываются и говорят:
– Невзоров.
То есть такие проходимцы вечны и тоже хотят на небо, и выживут после любых катаклизмов, антихристы. Камера поднимается: море, пустыня, песок. Невзоров уходит в небо. Снимали, кстати, на том самом месте, где и «Белое солнце пустыни» – на том же песчаном пляже.
Финал в Госкино запретили, усмотрели в этом попытку увековечить негодяев. Доказывать им, что такой намек есть в литературе Толстого, было бесполезно. В то время уже выпал снег – мне не вернуться в экспедицию. И Наумов с Аловым подсказали, что в Подмосковье есть котлован. Мы нашли это место. Женя Черняев что-то набросал на землю, сымитировал пепелище. Маленький костерок разожгли, Ртищев с Тепловым сидят-дрожат. Пожарной машиной мы смывали снег, поливали этот обрыв. И вот по этой грязи, как паук, полз обгоревший Невзоров. Но полз вверх – все равно я эту мысль в фильме оставил.
Когда Павленок запретил и этот финал, я пришел в гости к Андрону Кончаловскому на Малую Грузинскую и говорю:
– Выпьем, Андрон.
Он не пьет. Мы пошли к Лене Кореневой, она жила этажом выше. Лена с мамой выставили шампанское, приготовили нам какую-то закуску. Я сел на табуреточку. Андрон слева от меня сидел в креслице. Напротив Леночка сидела. Женя Гладышев тоже пришел. И вдруг я поплыл и упал, потерял сознание. Очнулся уже на кровати. У Лены Кореневой сосед был кандидатом медицинских наук, какой-то укол мне сделал, привел меня в чувства. В больницу я не поехал, только через неделю пошел проверяться. Мне говорят:
– Александр Васильевич, у вас был инфаркт.
После этого я уже не пошел в Госкино на сдачу. Думаю, делайте, что хотите. Может быть, Наумов с Аловым за фильм заступились – я не знаю, но все-таки добились, чтобы напечатали несколько копий.
Павленок потом на Пленуме Союза кинематографистов скажет, что Панкратов-Черный из подворотни посмотрел на Октябрьскую революцию. А у меня была одна идея: сказать человечеству о том, что когда происходят какие-то исторические катаклизмы, то на поверхность выскакивают или недоросли, негодяи, такие как Невзоров, или гении. Например, после революции к власти пришли мерзавцы, такие как Берия, Троцкий, Ленин, Ягода и прочие, которые погубили стольких людей, но наряду с ними выдвинулись и талантливые люди, которые в чудовищных обстоятельствах вдруг делали гениальные открытия – взять того же Жукова, который после Гражданской войны стал великим полководцем.
Приглашение без ответа
Фильм «Похождения графа Невзорова» на кинорынке в Каннах очень широко продавался. Летом шел Московский кинофестиваль, где Кончаловский познакомил меня с Робертом Де Ниро, председателем жюри. Показали фильм Де Ниро. Он хорошо отозвался о фильме и добавил:
– Надо же, какой странный фильм о революции.
Он думал, что наш фильм – о революции.
На том же фестивале подошла ко мне одна дама и сказала, что фильм посмотрел Алекс Залкин. Это был голливудский кинопродюсер российского происхождения, которого еще мальчиком из Одессы вывезли в Турцию, потом в Америку. Дама спросила:
– Александр, вы читали повесть «Эмигранты» Алексея Толстого?
Я ответил утвердительно.
– Алексу Залкину очень понравился ваш фильм, и у него есть к вам предложение. Он хочет снять фильм по повести «Эмигранты». Русских эмигрантов будут играть русские звезды, а иностранцев – западные. Вас он хочет пригласить в картину в качестве режиссера.
Я обещал, что перечитаю роман, и предложил держаться на связи.
– Хорошо, – ответила дама, – но вам нужно будет выехать в Париж на встречу с Алексом Залкиным.
А я же невыездной, и звонить мне некуда: я без квартиры.
Проходит год – ничего. На следующем кинофестивале в Москве ко мне опять подходит эта дама:
– Александр, почему вы не ответили на приглашение?
– Какое приглашение?
– Алекс Залкин прислал в Госкино официальное приглашение в Париж на ваше имя для переговоров по поводу съемок фильма по повести Алексея Толстого «Эмигранты».
Я впервые об этом услышал. Я думаю, не без участия Бориса Владимировича Павленка письмо было положено в стол. Алексу Залкину сказали, что я был очень занят, а я в это время сидел без работы и подумывал уходить из кино. Вот такая перипетия.
Глава 6
Бить чечетку, как в битве сгореть, Свой последний удар, будто выстрел, Встретить радостно и умереть… Отбивая чечетку… Короче И прерывистей выдох и вдох… Бьются дни мои, бьются ночи, Сердце бьется… И кровь в висок.«Мы из джаза»
Следующей после «Сибириады» актерской работой для меня была картина «Мы из джаза». Мне повезло встретить на своем пути удивительных людей. Я немного рассказал об Андроне Кончаловском. Со вгиковской скамьи мы дружили с Кареном Шахназаровым. Я учился в мастерской у Е. Л. Дзигана, он – у И. В. Таланкина. Карен тоже снял диплом по В. Шукшину. Меня потрясло, что городской мальчик из семьи высокопоставленного партийного деятеля – и вдруг заинтересовался Шукшиным. Потом я узнал, что его мама Анна Григорьевна выросла в деревне. Он снял диплом по рассказу Шукшина «Шире шаг, Маэстро» – хороший диплом, причем неожиданный взгляд на Шукшина, очень тихая была картина по настроению. Любовь к творчеству Шукшина нас сблизила, и мы с Кареном общались на протяжении всей учебы во ВГИКе.
Когда я три года сидел без работы после «Сибириады», он мне сопереживал. Тогда я принял решение уйти из кинематографа. У меня были хорошие отношения с Анатолием Васильевичем Эфросом. Нас еще до ВГИКа познакомил Рубен Вартапетов, а после «Похождений графа Невзорова» я понял, что в кино мне делать нечего. Кинорежиссурой после «Невзорова» я смог заняться только спустя пять лет. Все сценарии, которые я предлагал, мне запрещали. Я поделился с режиссером своими невзгодами. Анатолий Васильевич хотел взять меня в штат Театра на Малой Бронной как актера, ну и, учитывая, что я с режиссерским образованием, планировал помогать мне, чтобы я запускался еще и как режиссер.
Однажды вечером мы с Кареном Шахназаровым сидели в ресторане Дома кино, и я Карену исповедался, рассказал о своем намерении уйти из кинематографа. Тогда Карен (я считаю это проявлением настоящей человеческой дружбы) сказал:
– Зачем тебе уходить? Ты способный режиссер и актер.
И Карен пошел, как мне кажется, на большой риск (это было с его стороны просто безумием), чтобы меня оставить в кинематографе – он спросил:
– А сыграешь у меня? Я сейчас запустился с фильмом «Мы из джаза».
Это был второй фильм Карена. Я переживал, потому что его первый фильм по пьесе Л. Зорина «Добряки» холодно встретило руководство, хотя, на мой взгляд, фильм был очень интересный. Карен тоже волновался, получится ли второй фильм – да еще и музыкальный. Тогда после «Веселых ребят» музыкальных фильмов вообще не снимали. Уже после Карена мюзиклы снова вошли в моду. Карен очень рисковал, и я это понимал, поэтому отказался от его предложения:
– Карен, извини, я совсем не музыкальный человек. В моей деревне с джазом и по сей день напряженка – так что я отказываюсь.
И Карен пошел на хитрость:
– Саш, приехал твой друг Боря Брондуков из Киева на кинопробы, а партнеров нет – подыграй ему.
Я потом уже узнал от Бори Брондукова, что его утвердили без кинопроб. На пробах мы играли этюд не по сценарию. Мы с Борей хулиганили: он изображал игру на саксофоне, а я, держась за его плечи, подтанцовывал, ходил вокруг него, какие-то хохмы бросал. Карен хохотал, сидя за камерой. Оказывается, мы импровизировали, а Карен тихонько оператору Владимиру Карловичу Шевцику дал указание снимать только меня, потому что Брондуков-то уже был утвержден. Такой заговор был «против», то есть «за» меня.
Карен эти кинопробы показал художественному совету, меня утвердили. Он звонит и назначает встречу. Мы опять встречаемся в Доме кино, и Карен говорит:
– Саш, тебя утвердили, и я не знаю, что делать. Если ты откажешься, то меня перед худсоветом выставишь в нехорошем свете. Зархи скажет, что молодая режиссура утверждает одного, а снимает другого. Ты меня не подводи.
(Тогда на всех худсоветах присутствовал режиссер Александр Григорьевич Зархи, который почему-то был настроен категорически против молодых режиссеров.)
Я говорю:
– Карен, да ты с ума сошел, у меня же нет музыкального слуха! Я никогда не играл ни на банджо, ни на трубе. Степ в жизни не станцую. Мне, как говорится, медведь на ухо наступил.
– Саш, не подведи. Я тебе дам хороших учителей.
Я согласился. И действительно, учителей он мне дал прекрасных.
Ковырялочка
Алексей Андреевич Быстров, преподаватель эстрадно-циркового училища, обучал меня степу, а именно – чечетке. Когда мы познакомились, я Быстрову сразу сказал, что у меня нет слуха. Он спросил:
– А ковырялочку в пионерском лагере ты танцевал?
– Да я и в пионерском лагере-то никогда не был.
Тогда он стал показывать мне самые элементарные движения и добился, что я научился их повторять. Потом у него из этих вот «ковырялочек» получился рисунок степа, его он со мной и изучал. Мы с ним работали месяца два, с самого начала подготовительного периода. Это был удивительный педагог – именно педагог.
Уроки музыки
На банджо меня учил играть Алексей Кузнецов – замечательный гитарист, гениальный музыкант, лауреат многих международных конкурсов. Он играл, кажется, на всех струнных инструментах.
Видимо, ни Карен Шахназаров, ни Александр Бородянский, автор сценария, не знали, что такое банджо 1920-х годов, потому что в сценарии была такая ремарка: «Степа Грушко, жонглируя банджо, выходит на сцену, лихо отбивая степ». Когда Кузнецов дал мне в руки банджо 20-х годов – это оказался тяжеленный инструмент. Как выяснилось, в его деревянной деке находится мраморная плитка. Как этой гирей жонглировать? Я потом подшучивал над Кареном, когда просил его подержать этот инструмент. Он, видимо, когда писал сценарий, думал о современном банджо из пластика.
Вот Алексей Кузнецов дает мне банджо. Я говорю:
– Что-то оно уж больно тяжелое!
– Почему «оно»?
Ну ведь это «банджо» – значит, «оно».
– Нет, – возражает Алексей. – Банджо – это «он», ритмический инструмент.
Он показал первые азы, какие-то аккорды. Я попытался повторить, у меня, естественно, ничего не получилось. Леша плюнул и ушел. Потом я узнал, что он позвонил Карену и сказал:
– Карен, ты с ума сошел. Во-первых, у него нет музыкального слуха. Во-вторых, он ни одного аккорда нормально взять не может. Он же не справится с инструментом. А там по музыке Анатолия Кролла триоли надо исполнять – и все это на банджо.
Часа полтора они по телефону разговаривали, и Карен прочитал ему лекцию о том, кто такие сибиряки:
– Панкратов же сибиряк.
– Ну и что?
– А кто немцев под Москвой остановил? Сибиряки. Они же настырные. Он добьется, у него получится. Ты постарайся, Леша.
В общем, уговорил он Кузнецова. На следующее занятие тот пришел, поигрывая барабанными палочками, и говорит: ну, повтори, что я тебе вчера показывал. Я опять беру эту гирю в руки, начинаю играть – при первой же ошибке он начинает бить меня палочками по пальцам.
– Ты что делаешь?!
Мне захотелось его треснуть в ответ, но я сдержался.
– Аппликатуру соблюдай в аккордах, как я тебя учил, – сказал Кузнецов.
Очень жестко преподавал, и в результате я все освоил. Нас, конечно, под фонограмму снимали, но аппликатуру мы все соблюдали очень точно.
Для других актеров это не было такой большой проблемой. Игорь Скляр – очень музыкальный человек, как и Петр Иванович Щербаков, но ему тоже пришлось осваивать саксофон. Барабанщика нашего, Николая Аверушкина, привел композитор фильма Анатолий Кролл. Он учился у Кролла в музыкальном училище. Карен попросил Кролла найти на роль барабанщика парня с комичной внешностью. Тот ответил, что у него есть такой на курсе, учится по классу гитары и поет неплохо. И приводит Аверушкина. Действительно, парень со своеобразной внешностью. На барабанах он тоже не умел играть, но освоил, научился.
Я среди них единственный был «глухой» и нерасторопный. Напряжение было страшным, потому что боялся подвести Карена: он рисковал, утвердив меня на роль. И Карен за меня очень переживал, но при этом следил, чтобы меня никто не обижал. Но коллектив был сплоченный, все друг другу помогали. Если смеялись надо мной, то по-дружески:
– Сань, ну ты дал!
А поет за меня в фильме наш кинооператор Владимир Карлович Шевцик. В картине есть сцена, где я, уходя, говорю швейцару: «Прощай, Карлыч». Это подарок нашему оператору Владимиру Карловичу. Я во многих фильмах, где у меня есть возможность поимпровизировать, говорю: «Карлыч, ну а ты как себя чувствуешь?» Карлыч – гениальный человек и очень музыкальный. Он пел моим голосом «Прости-прощай, Одесса-мама» и песню про чемоданчик.
А кстати, Карен и сам не музыкальный человек. И когда я жаловался, как мне не повезло играть музыканта, не имея слуха, он отвечал:
– Саш, мы с тобой братья. Представь, как мне тяжело, тоже не музыкальному человеку, снимать мюзиклы.
Не знаю, почему он решился. Мне кажется, потому что он очень любил джаз. У него дома всегда были уникальные записи джаза – записи, которые в Москве мало кто слышал. Его отец часто бывал за границей, привозил ему. Видимо, джаз вдохновил его на съемки этого фильма.
Одессит
Фильм «Мы из джаза» частично снимали в Одессе, там начиналось действие фильма. Тогда я впервые побывал на море. Сначала я не понимал, как сыграть одессита. Я уже был знаком с Ромой Карцевым и Мишей Жванецким и думал, что одесситы – вот такие же, постоянно хохмят. Карен даже придумывал какие-то хохмы, но потом понял, что это бездарно и ненужно, и просто дал задание: понаблюдай за одесситами. Одесситы – это необычный народ. Несмотря на распространенное мнение, они никогда не шутят, ко всему относятся серьезно. И вот этот серьез становится элементом юмора. Поэтому мой герой тоже ко всему относится серьезно и нервно. То есть дело-то пустячное, а он очень серьезен. Когда, например, происходит первая встреча с героем Скляра, который нам объясняет, что такое джаз, и грезит о создании собственного джаз-банда, я на него смотрю как на больного – на полном серьезе. Мы с Колей Аверушкиным выходим от героя Скляра, который только что уговаривал нас присоединиться к его будущему ансамблю. Герой Аверушкина спрашивает:
– Ну, что скажешь, Степа?
– Больной! Больной!.. – резюмируя, произносит мой герой.
И это вызывает у зрителей смех, потому что очень серьезно я это говорю. Можно сказать: «Больной!» и похохотать – и шутка пролетит мимо ушей. А вот когда то же самое говоришь на полном серьезе, то становится смешно. И персонаж получается, и характер получается.
Интересно, что когда мы устроили премьеру в Одессе, то местные одесситы написали отзыв (премьера прошла с колоссальным успехом). Они написали, что Панкратов-Черный сыграл Леонида Осиповича Утесова в молодости. Для меня это был великий комплимент.
Убедительные жулики
На премьере фильма в Доме композиторов в Москве мы очень волновались. Зал был переполнен. Собрались музыканты со всей страны, люди стояли в проходах. Мы переживали, как профессионалы примут картину. После окончания фильма – аплодисменты. Мы поклонились. Кролл был счастлив, коллеги его поздравляли. И больше всего, конечно, радовался я.
На фуршете ко мне подходит какой-то лохматый человек – оказывается, член Секретариата Союза композиторов из Вятки. Он говорит:
– Саша, как здорово вы на банджо… Молодым учиться надо!
Я чуть не прослезился, а он продолжает:
– Саша, а не могла бы ваша джазовая четверка к нам в Киров с концертом приехать? Мы хорошо заплатим.
Я говорю:
– Голубчик, вы понимаете, мы все играли «под фанеру». Мы же не профессионалы.
– В каком смысле?
– Ну, мы аппликатуру соблюдаем, но сыграть живьем не сможем.
Пауза, во время которой он долго на меня смотрел… Наконец он грустно-грустно произнес:
– Да… я всегда подозревал, что в кино работают сплошные жулики.
Но для меня все равно было очень лестно, что профессионалы нас приняли, поверили, что мы музыканты. Потом, после «Мы из джаза», мне повалились предложения играть в фильмах музыкантов. Я отказывался. А когда сняли «Зимний вечер в Гаграх», количество предложений только увеличилось – теперь приглашали и как танцора.
Джаз и я
До съемок в фильме «Мы из джаза» я вообще ничего не понимал в этом музыкальном жанре. Сейчас я очень люблю джаз. Помню, в середине 1980-х мне звонят из Донецка:
– Александр Васильевич, мы вас включили в жюри Международного фестиваля джаза, который будет проходить в нашем городе. Много, конечно, заплатить не сможем…
Я говорю:
– Я же не музыкальный человек!
Они отвечают:
– Ладно, не надо скромничать. Все видели фильм «Мы из джаза» …
Что делать! Я в это время как раз без работы сидел и решил поехать. Оценивать музыкантов на международный фестиваль приехали джазмены из США, Англии, Испании, Италии. И я очень солидно восседал в этом именитом жюри. Все профессионалы высказываются – я молчу.
– А вы что скажете, Александр Васильевич?
Последнее слово, получается, за мной.
– Я, безусловно, поддерживаю своих коллег, – начинаю я. – Кое-какие сомнения возникали, но я о них промолчу…
В общем, изобразил эдакого знатока джаза. Но, честно признаться, к тому времени я уже многое знал о джазе. О нем мне рассказали Володя Кирсанов и Леша Кузнецов, я и сам много читал. Карен тоже, когда писал сценарий, изучал, что такое джаз, что такое импровизация. Всесторонне изучить тему своего фильма прежде, чем взяться за работу, – это кредо и Карена Шахназарова тоже.
«Зимний вечер в Гаграх»
Сниматься в фильме «Зимний вечер в Гаграх» было уже легче. Мы с Кареном лучше понимали друг друга. Когда снимали «Мы из джаза», Алексей Андреевич Быстров все время Карена спрашивал:
– Как там Сашка?
За Скляра он не волновался. Тот профессионально станцевал с Леночкой Цыплаковой чечеточку, потому что оба они очень музыкальные артисты. И Карен отвечал:
– Спасибо, Алексей Андреевич, Сашка справляется.
Это его очень радовало и успокаивало. Если вспомнить наш проход по платформе в фильме, то я до сих пор, когда на Рижском вокзале появляюсь, захожу на эту первую платформу. Там стоит железный электрощитовой ящик, за которым в кадре прятался Алексей Андреевич Быстров, на мокром асфальте сидел и мне отсчитывал:
– Раз и, два и…
И я шагал вместе со Скляром и остальными. Я не должен был в кадре смотреть ни на их ноги, ни на свои. Поэтому я шел такой весь из себя, а слушал только «раз и, два и…»
Алексей Андреевич Быстров скончался неожиданно. Он так и не увидел фильма «Мы из джаза», умер незадолго до премьеры. Поминая его, Карен Шахназаров с Бородянским подумали, почему бы не посвятить ему фильм? Так вот «Зимний вечер в Гаграх» – это фильм памяти Алексея Андреевича Быстрова. Он стал прототипом главного героя. Изменили лишь имя персонажа на Алексея Ивановича Беглова.
Интересно, как в сценарии возникла сюжетная линия дочки главного героя. В компании, когда мы собирались, Быстров все время рассказывал, что у него жена была оперной примой Большого театра, что дочка – замужем за дипломатом и прочее. Мы их никогда не видели, а когда Быстров скончался, узнали, что жил он один в коммуналке. Холодильник в коридоре стоял, а алкаши-соседи у него оттуда продукты воровали, поэтому на холодильник он повесил замок. Получается, что Быстров фантазировал о своей жизни, о том, что якобы у него все хорошо. Хотя мы обращали внимание, что он все время ходил в одном и том же пиджачке. Правда, всегда чистенький, опрятный – но пиджачок все равно потертый, старенький. В эстрадно-цирковом училище он был на очень хорошем счету, вырастил прекрасных учеников. Потом один из них, Володя Кирсанов, обучал меня степу на съемках фильма «Зимний вечер в Гаграх». Он был лучшим учеником Быстрова, который возлагал на него большие надежды. И надежды оправдались. Сейчас Володя – доцент ГИТИСа, он действительно прекрасный педагог и замечательный артист. В «Зимнем вечере в Гаграх» Беглова в молодости играет профессиональный степист Аркадий Насыров. Он уже ученик Кирсанова, можно сказать, «внук» Быстрова.
Трудно мне работалось на съемках фильма «Мы из джаза», потому что напряжение было колоссальным: я боялся провалиться как актер, боялся подвести своего друга Карена Шахназарова. Но на «Зимнем вечере в Гаграх» я был уже увереннее, даже самоувереннее, я бы сказал. Легко было и потому, что и Петр Иванович Щербаков, и Сергей Никоненко, и Евгений Евстигнеев, и Наташа Гундарева создали удивительно слаженный актерский коллектив. На съемки мы приходили с улыбкой.
Директором обеих картин был Владимир Клименко. У него не было экономического образования, но Карен приглашал его на все свои фильмы до конца его дней – именно за человеческие качества. Это был директор, который делал все для фильма, для актеров, для режиссера. Когда на съемках «Мы из джаза» в Одессе со мной случился еще один инфаркт, то он каждый день приезжал на площадку, когда я играл, сидел рядом с медсестрой и беспокоился: не дай бог с Панкратовым что-то стрясется. Если я не снимался, он доверял площадку своим администраторам, но сидел в гостинице, дежурил возле меня, как нянька. За это я его вспоминаю с благодарностью. Царствие ему небесное!..
Карен Шахназаров
Карен – очень мудрый режиссер. Он не любит показывать актерам, что делать, почти не встает с кресла – лишь иногда, чтобы уточнить мизансцену. Но Шахназаров в основном снимает по своим сценариям, поэтому он отвечает за каждое слово, за каждое предложение в фильме. Карен знает точно, что хотел сказать той или иной сценой, поэтому он так подробно все это раскрывает актеру, и актер четко понимает, что от него требуется – ему остается только уточнить нюансы мизансцены. Еще Карен очень серьезно относится к кинопробам. Кинопробы у него – это экзамен для актера. На кинопробах он просит актера что-то сделать и смотрит, справится тот или нет. Потом, уже на площадке, он добьется, доведет актера. Но на пробах Карен должен четко понимать его или ее потенциал.
Я думаю, что когда он меня утверждал на все роли, в которых я в его фильмах снимался, он уже знал, что я справлюсь. Мы знакомы со вгиковских ступенек, поэтому он мне доверял. Хотя Скляр сказал в одном из интервью, что в «Зимнем вечере в Гаграх» Карен хотел сначала снимать его, а не меня, но Карен мне об этом никогда не говорил. Причем еще на стадии сценария мы с Кареном обсуждали главного персонажа фильма. Помню, я тогда спросил у сценариста Александра Бородянского:
– Почему мой персонаж не из Алтайского края, как я, а из Воркуты?
Бородянский ответил:
– Ну, могу я хоть какую-то свою биографическую черточку вписать?
Дело в том, что сам Бородянский из Воркуты, из шахтерского края.
В общении с группой Карен всегда держал дистанцию. Я думаю, это потому что он был молод (в отличие, например, от мэтра Андрона Кончаловского) и понимал, что, если слишком сблизиться, его не будут воспринимать серьезно и это пойдет во вред работе.
Для Карена также очень важна административная группа, важна работа второго режиссера, который должен обеспечивать тишину и порядок на площадке.
Я помню, однажды на съемках «Сибириады» все почувствовали, что Андрон – мягкий интеллигентный человек, и стали этим пользоваться. Началась некоторая расхлябанность на площадке. Тогда Андрон собрал всю группу на улице деревни, сел на поваленное бревно и заплакал. Он сказал:
– Ребята, так нельзя. Если не хотите работать – не работайте.
Группа все поняла, и больше этот вопрос никогда не поднимался.
Карен же контролирует такие моменты с первого шага, даже с подготовительного периода. Уже от художников-декораторов он требует досконально выполнять все требования. Вот такие разные подходы у двух гениальных режиссеров.
Случается, что режиссер удачно срабатывается с какими-то актерами и продолжает их снимать на протяжении всей творческой жизни. У Карена Шахназарова тоже были такие актеры – это, например, Евгений Евстигнеев, Петр Щербаков, Борислав Брондуков, Николай Аверушкин и другие. Мне тоже посчастливилось сняться в четырех его картинах.
Карен всех нас, актеров, очень любил. Когда Евстигнеев согласился сыграть эпизод в фильме «Мы из джаза», Шахназаров очень обрадовался. Для него это значило, что мэтр признает и уважает его как режиссера и, самое главное, доверяет ему. Если Карен что-то требовал – Евстигнеев все исполнял от и до. Когда Шахназаров запустился с фильмом «Зимний вечер в Гаграх», тут уже Евстигнеев не отставал от него. Он узнал про сценарий, тихонечко его прочитал и просил Карена его утвердить. Карен многих пробовал, но в итоге взял Евстигнеева. Плюсом послужило и то, что Евстигнеев в молодости играл в заводском джазовом оркестре на ударных инструментах. Но Карен также знал, что у актера на тот момент было уже три инфаркта – это могло стать причиной, почему Шахназаров не сразу его утвердил. Евстигнеев был ударником, поэтому научиться чечетке ему было нетрудно: у него прекрасное чувство ритма. Почти каждый дубль, когда мы снимали, он импровизировал, делал разный ритмический рисунок.
С Евстигнеевым было легче – муки были со мной, но однажды труд моих учителей был вознагражден. В фильме есть кадр в финале, где оператор крупным планом снял мои ноги. Когда мы репетировали с Володей Кирсановым, он показал мне какой-то ритмический рисунок и попросил повторить. Я сделал что-то свое, то есть сымпровизировал. Все это снималось на пленку. Мы сначала показали Карену отснятый огромный этюд: в нем был и степ, и что-то из испанского, по-моему, фламенко. Карен посмотрел, хлопнул дверью и ушел. А время истекало, тогда мы по кусочкам смонтировали мой финальный танец-импровизацию. Карен его одобрил, и сцена последнего урока с героем Евстигнеева – это уже была моя импровизация на ходу.
Я очень жалел, что из фильма «Мы из джаза» вырезали сцену скандала в ресторане между моим героем и Катькой, героиней Лены Цыплаковой. Она заказывала для нас шампанское в ресторане. Изначально было снято, как после нашего ухода я возвращаюсь и из кармана всю мелочь до копеечки ей отдаю: «На!» Это было моим ответом на испытанное унижение. В итоге Карен эту сцену не взял. Я думаю, он не хотел, чтобы наши герои выглядели озлобленными. В фильме была еще одна замечательная сцена, когда мы сидим в полуразрушенном здании и поздравляем с днем рождения героя Петра Щербакова – эта сцена пропитана добротой, а в сцене в ресторане все же чувствовалась агрессивность. Шахназаров хотел показать зрителю, что наши герои не агрессивны, агрессивен окружающий мир и люди, которые их не принимают. Я думаю, что, хотя та сцена мне и нравилась, Карен был прав, что вырезал ее.
Евгений Евстигнеев
Это золотой человек, это был мой друг настоящий. Я знаю Евгения Евстигнеева с 1964 года, когда я учился на первом курсе театрального. Он окончил то же училище, что и я, которое сейчас носит его имя – Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева. Я сейчас являюсь в этом училище председателем Попечительского совета.
С нашим знакомством связана одна забавная история. Евгений Александрович приехал навестить маму в Горький, а В. А. Лебский, директор училища, узнал о его приезде. Он Евстигнеева разыскал и пригласил встретиться со студентами. Встреча длилась более трех часов. Евгений Александрович рассказывал о «Современнике» (театр тогда гремел на всю страну), о друзьях-актерах, вспоминал, как учился в Горьком. Но меня на этой встрече в зале не было, потому что меня выгнали. А произошло вот что. Тогда все увлекались «Битлз». Я, деревенский парень, посмотрел, что городские отращивают волосы, и тоже отрастил. Пришел на встречу с легендарным актером в актовый зал заранее, сел в первом ряду. Как же – живой артист из театра «Современник» приехал! Однако директор Виталий Александрович Лебский был строгих правил. Он подошел ко мне:
– Мальчик, ты кто?
– Шура Панкратов.
– Вон из зала! Подстрижешься, тогда приходи.
И я всю встречу, три часа, простоял за дверью, в щелочку подсматривал и слушал, что рассказывал мастер. Когда встреча закончилась, я подошел к Евгению Александровичу и сказал:
– Евгений Александрович, простите меня, Христа ради! Я подстригусь завтра же.
Это, конечно же, рассмешило Евстигнеева. Он отвел меня в уголок и говорит:
– Знаешь, почему он тебя выгнал?
– Потому что волосы длинные?
– Да нет! Ваш директор терпеть не может контрасты. Вон у тебя космы какие длинные, а посмотри на меня – я же лысый, как бильярдный шар. Он меня представил и сел в первый ряд, а рядом ты сидишь с длинными волосами, а я лысый на сцене.
В общем, Евгений Александрович меня тогда успокоил. Мы потом подружились, и он мне сказал:
– Будешь в Москве, приходи в «Современник».
И когда на зимних каникулах я приезжал в Москву, то обязательно шел в «Современник», а Евгений Александрович пропускал меня на спектакли.
На съемках фильма «Мы из джаза» мы еще более сплотились, а работая над «Зимним вечером в Гаграх», мы даже после съемок не расставались: ездили в кафе, рестораны, веселились, откровенничали друг с другом. Он был удивительным человеком с потрясающим чувством юмора. Он всегда мне говорил:
– Сашка, не забывай, мы с тобой из одного гнезда.
То есть из Горьковского театрального училища. Однажды мы с Евстигнеевым что-то импровизировали, а Карен Шахназаров нас увидел и попросил показать ему эту сцену. Ну, мы показали. Он сидел скучающий, грустный:
– Ничего не понимаю. Что вы тут изображаете?
Евстигнеев мне подмигнул и сказал:
– Карен Георгиевич, поезжайте в Горький, поступите в Горьковское театральное училище и будете понимать, что мы играем.
Глава 7
«Салон красоты»
После того как Б. В. Павленок на Пленуме Союза кинематографистов заявил, что в фильме «Похождения графа Невзорова» я из подворотни посмотрел на Октябрьскую революцию, мне еще три года не давали снимать свои фильмы. Чтобы содержать семью, я брался за любую работу: мыл машины в таксопарках, трамваи в трамвайных депо. Однажды меня вызвал к себе Николай Трофимович Сизов, генеральный директор «Мосфильма»:
– Ну что, Панкратов, долго будешь без работы ходить? Вот сценарий, почитай. Запущу сразу, если согласишься.
Я беру сценарий, читаю – «Салон красоты», про женскую парикмахерскую. Тема для меня абсолютно незнакомая, чужая: я никогда не заглядывал в женские парикмахерские. Для меня это была исключительно женская история о том, как одна из героинь отбивает мужа у своей подруги. Сам сценарий слабый. Посоветовался с Юлей, моей женой. Она мне сказала:
– Саш, ну сколько можно сидеть без работы. Ты все-таки числишься в штате «Мосфильма», ты режиссер, тебе нужно снимать.
Мои редакторы Нинель Боярова и Нина Скуйбина посоветовали:
– Ты согласись на сценарий, а потом снимешь фильм, как ты его видишь.
Я знал, что Андрей Тарковский использовал в свое время такой трюк: в сценарий фильма добавлял, например, описание: «…собака с голубыми глазами сидела на углу дома». Руководство возмущалось:
– Не бывает собак с голубыми глазами.
На что Тарковский отвечал:
– Хорошо. Подчиняясь вашей цензуре, я убираю собаку с голубыми глазами.
Делалось это для того, чтобы отвлечь редакторов от других, более важных для режиссера, аспектов сценария, которые он хотел оставить в фильме.
Я решил воспользоваться этим опытом. Снова прихожу к Сизову. Опередив меня, он говорит:
– Только не матерись.
Сизов понимал, что сценарий был слабый, поэтому даже редакторам не давал его читать – тут же забракуют. Я ему на стол бросаю этот сценарий:
– Николай Трофимович, это снимать нельзя.
А он мне отвечает (Сизов, бывший комиссар милиции, говорил со мной резко, как генерал с солдатом):
– Ну что ты ломаешься? Ведь сидишь без работы. Ну, наполучал ты призов за свои учебные фильмы, а кто ты сейчас? Да никто. Тебе дают работу – так бери.
– Николай Трофимович, а почему вы мне это предлагаете?
Он улыбнулся:
– Саша, да потому что это больше никому не нужно.
– Хорошо, возьму я этот сценарий, но с одним условием: буду снимать тех, кого сам решу.
Сизов разрешил. Так я добился права самому выбирать актеров для фильма.
В то время грозой всех актеров был Адольф Михайлович Гуревич – начальник актерского отдела «Мосфильма». Он категорически настаивал, чтобы снимались только артисты из Государственного театра киноактера, потому что в этом случае некоторый процент от контрактов этих актеров перечислялся на содержание театра – не в ущерб окладу актера. Например, если актер зарабатывал 1000 рублей, то к этой сумме добавлялся определенный процент, который уходил на содержание театра. Поэтому, если на роль в фильме рассматривался актер, который не состоял ни в штате «Мосфильма», ни в штате Театра киноактера, Адольф Михайлович отвергал эту кандидатуру.
Когда Сизов предоставил мне свободу выбора в отношении актеров, то я взял в фильм Жору Буркова, Татьяну Иванову из Ленинграда, Татьяну Васильеву, Владимира Владимировича Кенигсона («моего гения», как я его называл), Марию Виноградову, Женю Леонова-Гладышева – в общем, пригласил всех, кто нуждался в работе и киносъемках. Никаких кинопроб я не устраивал, сразу утвердил актеров. Гуревич, естественно, возмутился:
– Почему Панкратов не предоставил никаких кинопроб? Понаутверждал актеров из разных театров!
А Сизов ответил:
– Это госзаказ.
И Гуревич притих. А никакого госзаказа, конечно, не было. Только потом я узнал об истинных причинах, почему Сизов продвигал этот сценарий: отчим сценаристки Елены Зыковой оказал серьезную услугу его родственнику. Вот так делалось искусство.
Итак, я собрал своих друзей-актеров, мы сели кружком, и я искренне сказал:
– Ребята, сценарий слабый, но помогите мне. Больше ничего не дают снимать, кроме этого. Давайте похулиганим, будем играть этюды.
Кенигсон полушутя-полусерьезно прокомментировал:
– Мальчик мой, в моем возрасте играть этюды – прескверно.
А Жора Бурков меня поддержал:
– Сань, так это же интересно!
Бурков, с которым я имел счастье быть дружен, среди нашей актерской братии – личность уникальная. О Георгии Ивановиче еще, может быть, напишут. Стоит прочесть книгу «Бурков Георгий. Хроника сердца», которую опубликовала его вдова Татьяна, и вы узнаете, какой глубины был Бурков. Жора говорил мне:
– Саша, нам, наверное, всю жизнь придется дурачками прикидываться, потому что умных не любят, гнобят и уничтожают. Поэтому мы хорошо справляемся с комедийными ролями: просто скоморошничать приучила действительность. А вот когда заявишь о себе, что ты что-то знаешь, в чем-то разбираешься, и глубоко разбираешься, тебя начинают топтать, гнобить; ты становишься неудобоваримым, ты начинаешь мешать…
В итоге на протяжении съемок фильма «Салон красоты» мы играли этюды на заданную тему. Я ставил перед актерами задачу, но предоставлял им полную свободу действий в отношении того, что говорить. Диалоги в парикмахерской, разговоры парикмахера с клиентами я брал из сценария – эти сцены были удачными, и здесь я не мог ничего добавить.
В небольшой роли снялась у меня и Ирина Алферова. Я ей благодарен еще и потому, что она меня очень выручила со съемками. Изначально ее роль должна была играть Вера Сотникова, но уехала в Петербург на какие-то кинопробы и не вернулась. Я был в панике, надо было работать – у нас тогда были жесткие планы. Хорошо, что я уговорил вместо нее Ирину. Правда, половину ее сцен вырезали еще в Госкино. Она играла Лялю, подругу директора рынка. Директор рынка (Володя Сошальский) был представлен эдаким мафиози, и его роль заставили убрать полностью. В Госкино сказали, что в Советском Союзе жуликов не бывает. То есть в 80-е годы не могло быть и речи о мафии на советских торговых точках. Роль Иры, соответственно, тоже существенно сократили, потому что у нее почти все сцены были с Сошальским. Нам было очень обидно.
Во время работы над фильмом меня познакомили с композитором Юрием Антоновым, который был на пике популярности. Он написал музыку к фильму и настоял, чтобы в фильме прозвучали все сорок две минуты его музыкального сопровождения. Я это рассматривал, конечно, как избыток музыки, однако сумел извлечь из этого пользу для фильма. Убрав из сценария неудачные диалоги героев, я наложил некоторые сымпровизированные актерами сцены на музыку. То есть зритель не знал, о чем точно говорят герои, но, благодаря блестящей актерской игре, без труда понимал, что происходит в сцене. Тогда я пришел к интересной мысли, что музыкальность в кинематографе иногда может заменять словесность.
Глава 8
«Жестокий романс». Эльдар Рязанов
Мы с Эльдаром Рязановым работали на «Мосфильме» в одном объединении Алова и Наумова. Часто виделись в коридоре, здоровались. Я всегда хохмил, рассказывал анекдоты, всех смешил. Эльдару Александровичу это нравилось. Иногда встречались, а он спрашивал:
– Саша, новый анекдот-то есть?
– А как же…
Эльдар Александрович всегда был очень добродушным. Когда я Дзигану рассказал об этой черте его характера, тот засмеялся и ответил:
– Да это потому, что он толстый, а все толстяки очень добродушные.
Рязанов делал фотопробы для нового фильма «Жестокий романс». Изначально он видел в роли Сергея Паратова Никиту Михалкова, но тот готовился снимать «Очи черные» с Марчелло Мастроянни. Поэтому Паратова должен был играть Шакуров, однако тот получил в театре роль Сирано де Бержерака и отказался сниматься, потому что сыграть Сирано – было мечтой всей его жизни. И кто-то предложил Рязанову снять меня в роли Паратова из-за нашего с Никитой внешнего сходства. Рязанов сделал фотопробы, разложил пасьянс из фотографий. Вызывает меня:
– Саш, не будет никаких кинопроб.
А я так готовился к ним, спрашиваю:
– Почему?
– Вот, смотри, – показывает мне фотографии. – Выглядишь мальчишкой, и черт какой-то у тебя в глазах – особенно рядом с Алисой Бруновной Фрейндлих, Алексеем Васильевичем Петренко. Даже Витя Проскурин, самый молодой из вас, и тот выглядит старше.
Рязанов меня не утвердил. К счастью, Никита Михалков согласился на съемки: Марчелло Мастроянни по каким-то причинам попросил перенести работу над фильмом «Очи черные».
Я в то время уехал в Ленинград сниматься в детской картине «И вот пришел Бумбо» к режиссеру Надежде Николаевне Кошеверовой. Там играли Олег Басилашвили, Татьяна Пельтцер, Оля Волкова, Валерий Золотухин, Сергей Филиппов, Зиновий Гердт, Светлана Немоляева, Георгий Штиль – просто потрясающий коллектив собрался! Было счастьем познакомиться с этими мастерами, пообщаться! Хорошая школа была для меня, тогда молодого актера.
Я уже снимался у Кошеверовой, как вдруг помощник режиссера подходит ко мне и говорит:
– До тебя Рязанов не может дозвониться, телефон никак не найдет. Перезвони ему.
И дает мне номер. Я звоню, трубку берет Эльдар Александрович:
– Саша, ты мне нужен, хотя бы на два дня.
– А что такое?
– Роль для тебя написана – драгуна, офицера.
– Но в сценарии не было никакого драгуна.
– Ты помнишь место в сценарии, где Лариса Огудалова рассказывает, за что она полюбила Паратова? Так зачем об этом рассказывать! Я сцену придумал, что приезжает из Петербурга ее родственник, этот драгун, и Паратов с ним затевает стреляться.
– Хорошо, приеду.
Я освободил два дня. В поезде в Кострому мы ехали с А. Б. Фрейндлих. Она меня спрашивает:
– А ты что едешь, Саш?
– Да вот, Эльдар Александрович какого-то драгуна придумал.
И она мне рассказала, что Рязанов – очень суеверный человек. Если он сделал приглашение актеру, а фотопробы были, то обязательно должен его снять, пусть даже в эпизоде, массовке – иначе что-нибудь произойдет с фильмом. Вот такое у него было поверье.
В Костроме я вместе со всей группой поселился в гостинице «Турист». Мне дали учить сцены. Костюм для меня уже сшили: мои размеры были в актерском отделе. Причем мой драгунский мундир из английского зеленого сукна, воротничок стоечка, шили в ателье, где шьют мундиры для генералов и маршалов. Золотом шитые эполеты взяли у реставраторов костюмов. Я надел мундир, посмотрел на себя в зеркало, подумал: «Ну, хорош, подлец!»
По вечерам вся творческая группа собиралась в номере люкс Никиты Михалкова. Вот туда я и заявился в новом мундире:
– Ну, мужики, как? Красавец?
А Никита улыбнулся и сказал:
– Саш, а откуда зритель догадается, что ты драгун, а не пехотинец?
– Ну так мундир же драгунский?
– А кто из зрителей помнит, в каких мундирах ходили драгуны в XIX веке? – смеется он. – Надо что-то придумать, чтобы зритель догадался, что ты кавалерист. Вот, например, все кавалеристы, которых я видел, были кривоногие. Это от постоянной езды на лошади.
Остальные актеры его поддержали. Ну, я согнул ноги колесом, прошелся. А чтобы кривизна была больше видна, мы решили, что мне нужно заправить брюки в сапоги, хотя изначально планировалось, что я буду носить брюки навыпуск.
Тогда высказался Алексей Васильевич Петренко:
– Тебе бы еще волосы поднять, сделать такой начес гребнем.
– Зачем?
– Ну а как же? Драгун скачет, ветер все время в лицо, вот волосы и летят назад.
– А усы твои лицо по горизонтали растаскивают, – вмешался Витя Проскурин. – Поуже оно должно быть: с такой широкой физиономией против ветра не поскачешь.
– А что же делать?
– Бакенбарды надо наклеить.
Тут вступил Андрей Мягков:
– Видел на репетициях парада конной милиции, у всех наездников грудь колесом.
– Это еще почему?
– Ну, против ветра же скачут, сопротивляются ветру.
Подложили мне подушки под одежду, сделали грудь колесом.
– Шуряка, одну существенную деталь упустили, – вставил слово Жора Бурков. – Кавалерист всю жизнь в седле скачет, значит, «пятая точка» у него должна быть в форме седловины, потому что бьется все время о седло.
В общем, в соответствии с этими замечаниями меня преобразили. Я в зеркало на себя глянул: грудь колесом, «пятая точка» в форме седловины, ноги кривые, волосы зачесаны – и сам дальше мысль развиваю: «Раз он всю жизнь с лошадьми, то у него не смех должен быть, а лошадиное ржание».
У меня был день на подготовку, а Рязанову показаться не было возможности: он был очень занят на репетициях. Утром в день съемок я ему показываюсь: иду весь такой из себя. Эльдар Александрович минут пять молчал, оцепенел просто, а потом подошел и прошептал мне, как врач больному:
– Санечка, ты что с собой сделал?
– Эльдар Александрович, все логично…
И я начал ему все объяснять. Он хохочет. Надо отдать должное, Эльдар Александрович очень доверчиво относился к тому, что предлагали актеры.
– Саш, по сценарию, твой герой все же дворянин, из Петербурга в гости к Огудаловым приехал, а дворяне в XIX веке почти все знали французский. Но раз нашего драгуна так жизнь в конюшнях изувечила, то можно предположить, что общение с лошадьми вышибло у него память, поэтому он французский забыл. Когда ты будешь считать шаги в сцене, где вы стреляетесь – ты до трех посчитай по-французски, а дальше продолжи по-русски, потому что французский не помнишь…
И вот я считал:
– Un, deux, trois …[2] четыре, пять, шесть… – этот ход уже Рязанов придумал.
Еще Эльдару Александровичу на съемках понравилось мое ржание, но во время озвучания повторить его у меня никак не получалось. Алиса Бруновна Фрейндлих с абсолютным музыкальным слухом послушала черновую фонограмму и дала мне несколько советов о том, как набрать дыхание, как заржать, и сама мне показала, а потом добавила:
– Только у меня ржание дамское, кобылиное, а у тебя должно быть мужское, жеребячье.
И когда мы снова стали озвучивать, я заржал.
– Это замечательно, – сказал Эльдар Александрович. – На всякий случай запишите ржание еще раз.
Я не сразу понял, зачем ему это. Но когда озвучивали другую сцену, за кадром я услышал мое ржание. Я спросил:
– Эльдар Александрович, зачем вы даете мое ржание за кадром? Меня же нет в этой сцене.
– Зато зрители догадаются, что рядом конюшня.
Вот так весело мы снимались. Хотя сцена со стрельбой по стакану могла закончиться трагично.
Поставили стакан Никите Михалкову на цилиндр. В цилиндр подложили картонку, и пиротехники заряд сделали, чтобы стакан взорвался. Первый дубль – бах! – у Никиты глаза на лбу: что случилось?! Оказалось, пиротехник перепутал, и заряд этот в обратную сторону установил. Хорошо, что все обошлось.
Второй дубль сняли. Эльдар Александрович всегда приглашал актеров посмотреть дубль и спрашивал, все ли их устраивало, вдруг кто-то недоволен чем… Тогда только-только появились мониторы. Вот все мы сгрудились, смотрим в монитор. А в этой сцене далеко на общем плане Алексей Васильевич Петренко сидит на веранде, щелкает орешки щипчиками и наблюдает за дуэлью. Алексей Васильевич взял и пошутил:
– Эльдар, хочу еще дубль.
– Почему, Алексей Васильевич?
– Мне кажется, я переиграл, пережал…
– Так, еще дубль, – тут же распорядился Рязанов.
– Эй, я же пошутил… – начал объяснять Петренко.
– Нет, – отрезал Рязанов. – Раз артист просит еще дубль, значит, будем снимать.
Вот такой принципиальный человек был Эльдар Александрович.
Помню, из-за ограниченного метража картины был сокращен один забавный эпизод с моим участием. У нас была сцена с Сергеем Арцибашевым, который играл бухгалтера, одного из воздыхателей Ларисы. Я в доме Огудаловых музицировал на фортепиано, а над инструментом висел портрет, на котором был изображен мужчина, в точности похожий на меня. Я играю, ко мне подходит герой Арцибашева. Я встаю перед ним, подпрыгиваю, как кавалерист, и вытягиваюсь на цыпочках. А за мной – портрет. Герой Арцибашева смотрит на меня, потом на этот портрет, потом опять на меня: мол, откуда такое сходство? А я отвечаю:
– Батюшка покойный. Расскакался на лошади – и насмерть о дерево.
Смешная сцена была, но в итоге она не вошла в фильм.
Даже если я не был занят в съемках, я приходил в павильон и смотрел, как работают Петренко, Фрейндлих и другие актеры. Для меня это была и школа, и большое удовольствие – понаблюдать за мастерами в процессе съемок.
Алексей Васильевич Петренко – потрясающий актер. Помню, он все время ходил, бормотал что-то про себя. Я его спросил:
– Алексей Васильевич, вы что, текст учите?
А он ответил:
– Нет, я придумываю внутренний монолог героя. Например, в этой сцене я молчу, но я же думаю. Вот я и сочиняю, о чем бы мог в это время размышлять мой персонаж.
То есть он наполнял изнутри свой образ, который должен был жить и играть в этой сцене, несмотря на то, что его герой молчал.
Алиса Бруновна Фрейндлих в перерывах между сценами улыбнется кому-то, а сама все время ходит сосредоточенная, вся в образе.
Для Ларисы Гузеевой это была первая роль в кино. Мне рассказали, что когда Шакуров пробовался на роль Паратова, он предложил ее Рязанову, сказал, что хотел бы играть с этой актрисой. И Эльдар утвердил Ларису. Потом Шакуров ушел, а Лариса осталась, потому что уже была утверждена. Я считаю, это была самая звездная роль в ее артистической карьере. Я помню, там была сцена в павильоне, где героиня Гузеевой должна была плясать и при этом смеяться и плакать одновременно, а у нее не получалось. Это был единственный раз, когда я слышал, чтобы Рязанов кричал на артиста:
– Смеяться! Плакать! – кричал он ей.
Но зато с помощью этого приема Эльдар Александрович добился от Ларисы нужного эффекта, проявления необходимых эмоций.
Эльдар Александрович на актеров обычно не повышал голоса, но очень любил порядок и тишину на съемочной площадке, поэтому на администраторов, техников он мог рвать и метать. Не дай бог, идет репетиция, актеры работают, а за спиной кто-то шепчется или разговаривает – он возмущался страшно. Или когда артисты были на местах, а к съемкам что-то не готово – мог быть скандал. Работу актеров он очень ценил.
«Где находится нофелет?»
1988 год, преддверие 90-х – время было еще относительно спокойное, во всяком случае, на «Мосфильме». Анатолий Эйрамджан написал сценарий комедии «Где находится нофелет?», Геральд Бежанов, его друг-режиссер, запустился с этим фильмом.
Изначально пробы проводили с Андрюшей Мироновым. Причем я должен был играть роль, которую впоследствии сыграл Владимир Меньшов, а Андрей Миронов – мою роль. Сделали пробы, потом Андрей мне говорит:
– Давай поменяемся ролями. Я ловеласов уже играл, хочу попробовать сыграть такого вот скромнягу, забитого, тихого. Мне это интереснее.
Я согласился. Мы попробовали оба варианта. Геральд вынес пробы на худсовет. Генеральный директор «Мосфильма» Николай Трофимович Сизов утвердил актеров, а решать, как распределить роли между Мироновым и мною, Сизов предложил самому режиссеру: и те и другие пробы ему понравились. В итоге Андрея утвердили на роль Павла, которую потом сыграет Владимир Меньшов, а меня – на роль Гены.
Костюмы примерили, оставался небольшой подготовительный период. Миронов перед съемками уехал в Прибалтику на гастроли, а потом мы узнали страшную весть о том, что он скончался прямо на сцене. Для всех нас это было, конечно, шоком.
Вспоминаю последнюю нашу встречу с Андреем. Я опаздывал на примерку костюма, бежал, запыхавшись, с троллейбуса через проходную «Мосфильма». Вдруг слышу сигнал автомобиля – за рулем Андрей Миронов, он примерил костюм и уже выезжал со студии. Андрей мне крикнул:
– Саня, я костюм примерил, режиссер утвердил – все нормально. До встречи на съемочной площадке. Завтра уезжаю на гастроли.
– Хорошо. Удачи.
Я помахал ему рукой…
После смерти Миронова нужно было искать другого актера на роль Павла. Геральд утвердил Владимира Меньшова. Мы с Володей уже вместе хоронили Андрея, присутствовали на панихиде, прощались с ним в Театре сатиры. Не скрою – я плакал, потому что Андрей был и актером, и человеком очень живым, а я актера и человека не разделяю, для меня это единое.
Попрощались с Андрюшей и стали сниматься. С Володей мы сразу нашли общий язык. До этого мы с ним уже пересекались на съемочной площадке, друг друга знали хорошо.
Вот только у нас были конфликты с режиссером. Геральд – очень дотошный человек, требовал от актера все реплики произносить слово в слово, как написано в сценарии, импровизаций не разрешал – держал нас в ежовых рукавицах. Только Николаю Ивановичу Парфенову, который играл отца Паши, так как тот был уже в возрасте, позволялось отходить от сценарного текста. Лялечка Шагалова слово в слово знала свои реплики – старая актерская школа.
Нам с Володей было трудно, к тому же мы оба режиссеры. Сняли дубль, говорим:
– Гера, ну, нормально получилось?
– Нет, еще дубль.
– А что не так сыграли?
– Да вот в этом месте слова местами поменяли.
– Ерунда. Смысл-то не меняется…
Но Геральд заставлял играть еще дубль. И Володя, и я нервничали.
Во время съемок фильма произошло грандиозное событие – начался Международный Московский кинофестиваль. А у нас – плотный график, то есть ни фильмов посмотреть, ни со звездами западными познакомиться. Особенно досадно было, оттого что на фестиваль приехали Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Однажды вечером Феллини и Мазина должны были ужинать в гостинице «Россия», там собирались все кинематографисты. И мы с Володей тоже были в числе официальных участников фестиваля. Мы просим Бежанова:
– Гера, перенеси съемку.
Он наотрез отказался. Что делать? Мы подумали, что пока просмотр фильма пройдет, они поздно придут на ужин, и решили быстренько отсняться (сценка была небольшая, проезд в троллейбусе) – и в ресторан. Приезжаем на то место на Ленинских горах, где должна была происходить съемка – а съемочной группы нет. Володя Меньшов говорит:
– Ну вот, у нас есть оправдание.
И мы поехали в гостиницу «Россия». Подошли поклониться великому режиссеру, я поцеловал ручку Джульетте Мазине. Володя Меньшов протянул свой билет члена Союза кинематографистов Феллини и взял у него автограф прямо в союзный билет. Получилось: внизу страницы подпись Монахова, председателя приемной комиссии Союза, а Феллини расписался вверху. Володя до сих пор хранит тот союзный билет. Я ему завидую, жалею, что у меня в тот момент не было билета – но я тогда еще не был членом Союза кинематографистов.
На следующий день – скандал: Панкратов-Черный и Меньшов сорвали смену. Оказалось, что накануне режиссеру не понравилось место, которое изначально выбрали для съемок, и с Ленинских гор съемочная группа переехала на Ленинский проспект. Я тут же вспомнил случай, который мне рассказывал актер Евгений Весник. Снимались они где-то в Белоруссии, загуляли с другом, сорвали смену, и директор группы стоимость съемочного дня повесил на артистов – в итоге они чуть ли не год выплачивали этот долг, потому что съемки стоили дорого. Я испугался: я тогда берег каждую копейку, и ставка у меня была не очень высокая.
Мы с Меньшовым обратились к Данелии, потому что фильм снимали в его объединении. Объяснили ему, как все произошло, на что он ответил:
– Ну и правильно сделали. Даже если бы группа была на месте, я бы тоже поехал с Феллини поздороваться.
На этом, слава богу, конфликт был исчерпан.
Еще вспоминаю один случай на съемках. В фильме есть сцена, когда я выбрасываю сверток с костюмом в Москву-реку, а потом вспоминаю, что у меня в нем паспорт, и ныряю за свертком. Снимали только один дубль, потому что дело шло к осени, вода была холодная. Я ныряю, выхожу на берег, и Геральд говорит:
– Ну а снимать то, как ты одеваешься, будем завтра.
Оказывается, я был весь в мазуте – река была настолько грязная. Потом на следующий день мне пришлось еще раз вылезать из воды, чтобы снять сцену до конца. Как говорится, снимаешь комедию – мало смешного. Зритель смеется, а процесс-то рабочий иногда бывает очень напряженный.
Мою финальную сцену в фильме с Ирочкой Розановой снимали долго. Помню, Геральд нервничал. Тогда каждый метр пленки стоил дорого, и мы старались делать меньше дублей. Проблема была в том, что Ира боялась меня ударить. Я говорю:
– Ира, ну дай мне по физиономии как следует.
А она мимо лица машет – это же в камеру видно. Еще дубль. Она все боится бить. Гера уже начинает злиться:
– Что это такое! Вмажь хорошенько!
И она мне как вмазала, а она дама дюжая – там и играть ничего не надо было, зритель все понимал. Гера говорит:
– Очень хорошо! Еще дубль…
Я возмущаюсь:
– Не надо больше!
Лялечка Шагалова за сердце схватилась:
– Ты же его могла убить.
Потом Ира ко мне со слезами на глазах подошла:
– Санечка, прости, пожалуйста…
– Ничего, главное, что дублей больше не будет, – успокоил ее я.
С Николаем Парфеновым я снимался несколько раз, в том числе в «Фитилях». Лялечка Шагалова снималась в моей первой картине «Взрослый сын». Замечательная актриса и потрясающий человек. Она была членом приемной комиссии Союза кинематографистов, и, когда узнала, что я до сих пор не член Союза, ходатайствовала за меня на всех заседаниях приемной комиссии, и добилась своего – меня приняли в члены Союза кинематографистов. Членство мне было необходимо, потому что тогда я имел право обратиться в руководство Союза, чтобы мне дали какую-то жилую площадь. (Мы с Юлей много лет жили на съемных квартирах в Москве.)
Все же мы с Геральдом сильно поссорились после этого фильма, много лет не разговаривали. А случилось это на озвучании. У меня в фильме монологи колоссальные. Был там один монолог, который разрезать нельзя, пауз нет – надо писать целиком. Я много репетировал, чтобы синхронно попасть. Геральд следил за каждым словом – если оговорился, снова пишем. Записали одиннадцать дублей. У меня в горле пересохло, и я попросил помощника режиссера принести мне пятьдесят граммов коньячку, чтобы как-то связки освежить. Выпил. Двенадцатый дубль, наконец записали удачно. Звукорежиссер говорит:
– Сашка, ну ты просто превзошел себя – слово в слово попал!
А Геральд сидит мрачный:
– Еще пишем.
Я в шоке:
– Чем ты не доволен? Звукорежиссер говорит, что я попал, все синхронно.
– Ты сказал «прекрасней», а в тексте написано «прекраснее».
– Но это же не заметно, – возмутился я. Звукорежиссер тоже в недоумении.
– Нет, пишем еще.
Тогда я схватил стул и начал гонять Геральда по студии. Он выскочил из студии – и к Сизову. Сказал, что я пришел пьяным на озвучание и не попадаю в текст. Сизов вызвал меня в кабинет. Захожу, волнуюсь.
– Рассказывай, что за конфликт у вас вышел.
Я все объяснил. Он говорит:
– Я смотрю, ты трезвый.
Я объяснил, что выпил только пятьдесят граммов коньяку, чтобы освежить горло.
– И из-за этого конфликт?
– Да.
– Ладно, свободен. Иди работать.
Тут же секретарша при мне вызывает Владимира Досталя, который тогда был заместителем Сизова. Сизов ему говорит в шутку:
– Бери машину и Геральда – в Кащенко, проверить, не больной ли.
Конфликт был неприятный. Я обиделся на Геру и был уверен, что больше мы с ним не снимем ни одной картины. Но прошло лет пять, и вдруг Гера как-то поздно ночью мне звонит:
– Саша, ты меня прости, что беспокою так поздно, но я пришел к мысли, что в моей новой картине «Вход через окно» главного героя должен сыграть ты. Завтра пришлю сценарий.
И бросает трубку, чтобы не слышать моего отказа. Я тут же набираю Геральда, а он, хитрый, не отвечает.
На следующий день мне привозят сценарий четырехсерийного фильма. Мне он очень понравился. Я посоветовался с женой:
– Ну что, примириться с Геральдом?
– Примирись, если тебе роль нравится.
Я позвонил Бежанову, он взял трубку.
– Я прочитал сценарий.
– Ну и что?
– Я согласен, но при одном условии: ты не будешь требовать повторения до запятой текста сценария.
– Ладно, разрешаю, – согласился Геральд.
Так мы помирились. Наша с Геральдом дружба и по сей день продолжается.
Моими партнершами по фильму «Вход через окно» были Оля Кабо и Амалия Мордвинова – замечательные актрисы. Работали легко, и Геральд, уже зная мой характер, шел мне навстречу. Фильм получился очень трогательный.
Вообще, Геральд Бежанов – режиссер, который очень тонко чувствует зрителя.
Когда мы с ним поругались на озвучивании фильма «Где находится нофелет?», я невзлюбил этот фильм.
– А зря, Панкратов, – сказал мне Геральд. – До конца дней твоих зрители будут подходить и спрашивать, где находится нофелет.
– Как же! – не поверил я.
Но он оказался прав. Сколько лет прошло со дня выхода фильма на экраны, но до сих пор на улицах, вокзалах, в аэропортах подходят люди и с улыбкой спрашивают:
– Где находится нофелет?
И по поводу фильма «Вход через окно» он сказал, что зрители будут спрашивать, почему я не заплакал. В финале фильма есть сцена, когда приезжает моя бывшая жена, которую блистательно играет Оля Кабо. Много лет назад героиня Оли уехала за границу с ребенком, бросила моего героя. Между нами разыгрывается трогательная сцена, и Геральд мне говорит:
– Хорошо бы, если бы слеза у тебя была…
– Ну, мой герой ведь мужик, он не должен плакать, – возражаю я.
А Оля плачет. И понятно, что ее героиня любит меня, но ради благополучия ребенка уехала, потому что нищий художник не мог обеспечить им достойного будущего. Геральд долго добивался, чтобы я пустил слезу – бесполезно. Сняли дубля два-три – я так и не заплакал. Я грустный, но без слезы. Геральд сказал:
– Зря не заплакал. Зрители будут спрашивать почему.
И потом действительно меня часто спрашивали, почему в такой трогательной сцене с Кабо я даже слезы не пустил.
Потом уже с Толей Эйрамджаном мы работали над другими комедиями, такими как «За прекрасных дам!», «Бабник», «Импотент», «День святого Валентина», «Любовница из Москвы»… Он очень талантливый комедиограф. Как правильно сказал Юлий Гусман об Эйрамджане и Бежанове, это режиссер и драматург, которые создают фильмы для народа. Там не надо искать каких-то эстетических изысков, это хорошие народные комедии.
Роль в фильме «Где находится нофелет?» для меня была чисто комедийной. Хотя «Мы из джаза» – тоже комедия, да и «Зимний вечер в Гаграх» отчасти, но там все же в моих героях присутствует драматизм. А я вообще люблю жанр – комедия. Я люблю, когда зрители смеются, потому что жизнь у нашего народа очень грустная, и сниматься в комедиях, я считаю, – это благородный поступок и уважение к зрителю: ты через эти фильмы как бы выражаешь свою любовь к людям.
Глава 9
«Система «Ниппель»
Это был мой последний режиссерский бросок, мой поиск. В Госкино создали комиссию – мне думается, благодаря Армену Медведеву. Армен Николаевич тогда был первым заместителем председателя Госкино СССР, и чтобы как-то помочь безработным режиссерам, он придумал такую систему: сценарии молодых драматургов, поступающие в Госкино, давал нам на прочтение и на рецензию. Наверное, это и для него было интересно – знать мнение действующих режиссеров о современной молодой драматургии, тем более Армен преподавал на кафедре драматургии во ВГИКе. Согласно этой системе, сценарий молодого драматурга давали опытному режиссеру, и тот писал на сценарий рецензию, давал оценку: годится этот сценарий для экранизации или нет. За это нам платили деньги. Мы писали коротенькую рецензию, чем интересен или не интересен сценарий – часто приукрашивали, чтобы дать работу сценаристам, чтобы сценарий пошел в производство. Мы знали, что сценаристы тоже сидят без работы, а им надо на что-то жить. Правда, помню, я написал положительную рецензию на какой-то сценарий, а потом увидел этот фильм на экране и содрогнулся – подумал, господи, я же этот сценарий благословил, как стыдно. Да, были такие случаи.
Но вот однажды мне попался сценарий комедии Володи Зайкина. Он назывался «Идиот-90». Я подумал, Леониду Иовичу Гайдаю бы этот сценарий – он бы из него создал шедевр. Я узнал, что Володя Зайкин был еще студентом, учился на третьем курсе сценарного факультета ВГИКа и писал сценарии для детских «Ералашей». Мне очень понравилась идея сценария, но я в этой легкой развлекательной комедии вдруг увидел трагифарс. Мы познакомились с Володей, и я его спросил:
– Володя, можно я рискну снять фильм по твоему сценарию?
Он мне разрешил. Я предложил сценарий «Мосфильму», но мне отказали: тогда, в 90-е, уже начался финансовый кризис, и денег на кинематограф выделяли очень мало.
В это время я узнаю, что наш бывший «дзигановец» Валера Лонской и детский писатель Владимир Железников создали на базе Киностудии им. Горького Творческое объединение «Глобус». Они работали там художественными руководителями, а директором был Михаил Литвак. Я предложил объединению этот сценарий. Они ответили:
– Запускайся. Но денег много дать не сможем.
Я согласился. Числился я в штате «Мосфильма», поэтому Киностудия им. Горького была мне чужой. Причем у меня обида была на эту студию, потому что оттуда была вынуждена уйти моя жена Юля, дочь великого кинооператора Владимира Монахова. Она много лет проработала в качестве редактора с Татьяной Михайловной Лиозновой в объединении С. А. Герасимова, а когда С. А. Герасимов скончался и Т. М. Лиознова покинула студию, Юлю стали третировать, и она вынуждена была уйти.
Когда режиссер приходит на другую киностудию, перед ним стоит важная задача: создать свой коллектив, свою команду, собрать единомышленников. На Киностудии им. Горького у меня никого не было. Тогда мой друг актер Валя Смирнитский, которого я пригласил в фильм на одну из ключевых ролей, подсказал:
– Режиссер Мишка Богин сейчас живет в Америке, но он очень дружит с кинооператором Сережей Филипповым, который как раз работает на Киностудии им. Горького. Попробуй к нему обратиться.
Я видел работы Сергея Филиппова и считал его ведущим кинооператором на этой студии. Я опасался, что он может ко мне не пойти, потому что он меня не знает. Но я познакомился с Сергеем Петровичем Филипповым, поговорил, и он согласился. Мне повезло работать с Сергеем Филипповым. Будучи еще и художником, он помогал мне придумывать нестандартные декорации для фильма.
В картине со мной работали удивительные актеры. Боря Романов – тонкий интеллигентнейший артист, невероятно послушный режиссерской установке. Я считаю, что Боря – это идеал артиста, который осознает, что раз режиссер взялся за конкретную тему, значит, он за нее ответственен. И он верит в режиссера. Он ни разу не возмущался, когда я ставил перед ним какую-то задачу, не задавался вопросом: а прав ли ты, господин режиссер? Я вот иногда своим коллегам режиссерам задаю вопросы: а нужно ли это? а логично ли это? У Бори Романова никогда таких вопросов не было. Он только спрашивал совета, как это лучше сделать.
Танечка Лаврова, наоборот, возмущалась:
– Почему меня сейчас не снимают и я должна сидеть спиной к камере?
Я отвечал:
– Потому что свет стоит таким образом, что надо снимать Валю Смирнитского, а потом обратная точка будет, и нужно будет свет переставлять.
Она этого не понимала. Она считала, что ее обижают, если ее не снимают первой или она должна сидеть спиной. Мне приходилось ей долго доказывать, что Валентин Смирнитский и Борис Романов – не ниже уровнем актеры, и, при необходимости, их можно снимать первыми, а ее – второй, или наоборот, в зависимости от задачи конкретной сцены. В конце концов она поняла.
При этом Таня Лаврова – актриса очень опытная, талантливая, с большим чувством. Я познакомился с ней на похоронах Володи Высоцкого. Тогда я почувствовал, сколько в Тане глубины человеческой, страдания и сострадания. Поэтому я и предложил ей сыграть эту роль в «Системе «Ниппель», роль, где она отправляет мужа в принципе на распятье.
Персонаж Вали Смирнитского был своеобразным «мозгом» коммуналки, поэтому он должен был быть лысым. (Хотя красавца Смирнитского долго пришлось на это уговаривать.)
В фильме очень много метафор. Жена провожает мужа на заклание, как мать сына. Образ главного героя – это образ Христа, который жертвует собой ради благополучия всех людей. Боря в одной из сцен даже встает на фоне стены в образе Христа, а за его спиной большевики решают человеческие судьбы. Коммуналка – собирательный образ России 90-х. В ней дружно живут люди разных национальностей, но при этом она напоминает проходной двор, по территории которого свободно перемещаются (и даже ездят на мотоцикле) все, кто захочет.
Я благодарен сотрудникам Киностудии им. Горького, что они все ко мне отнеслись с уважением: монтажный, декорационный цеха, работники-постановщики. Декорацию коммунальной квартиры мы с Сережей Филипповым задумали таким образом, чтобы стены ее раздвигались и катались. Так как мотоцикл в павильоне разогнаться не может, открыли двери и поставили настоящие ветродуи – ничего этого изначально на студии не было. Мне все цеха пошли навстречу. Вот эта атмосфера доброты, понимания меня очень трогала и вдохновляла. Мы всей творческой группой собирались и ночами сидели, что-то придумывали. Утром актеры приезжали на съемку, мы с ними делились идеями… это был какой-то праздник! Вот почему я верил, что фильм должен был получиться, должен был выйти.
Но картину положили на полку по политическим соображениям. Спасибо Марку Рудинштейну. Он, как президент «Кинотавра», выкупил фильм у «Глобуса» за какие-то копейки и повез на Международный фестиваль кинокритиков в Лагов. Помню, мы приехали в Лагов, красивый город на границе Польши и Германии. Я очень нервничал, потому что фильм был необычным, рассказывал о состоянии нынешней России: как примут? Я вышел представлять фильм. Двух слов не мог связать – так волновался. Помню, последними словами, которые я произнес, были:
– Посмотрите, как я вижу свою Россию в будущем.
Эта фраза у меня как-то вдруг родилась. Я тогда не мог предвидеть, но в фильме мы предсказали, что произойдет с Россией уже через три года, предсказали августовский путч.
Я поклонился и ушел, потому что волновался, что в зрительном зале будет плохая реакция. Но картину приняли прекрасно. Она получила Гран-при фестиваля.
Теперь я думал, что фильм увидит вся Россия. Но он так и остался на полке, где пролежал восемь лет. Его люди увидели, только когда президентом страны стал В. В. Путин. Фильм стали продавать на кинорынке. Помню, у меня был день рождения, мой сын с Горбушки принес видеокассету и объявил:
– Папа, тебе подарок! Твой фильм «Система «Ниппель».
Однако после этого фильма я ушел из режиссуры. Я разочаровался в атмосфере, царившей тогда в кинематографе – в атмосфере, в которой художник не может существовать и творить. Раньше царила цензура, а теперь – деньги! Кто нашел их – тот и снимает. Мне как режиссеру до сих пор предлагают сценарии, но я отказываюсь: мне не нравится то, что сейчас в большинстве своем пишут, – мелко! Думаю, что ниже того, что я уже сделал как режиссер, мне опускаться не стоит. Теперь я бы, наверное, обратился к каким-то библейским сюжетам, как Андрон Кончаловский к фильму «Рай».
После фильма «Система «Ниппель» я ушел в актерство, и сейчас актерствую, и получаю от этого большое удовольствие.
«10 лет без права переписки»
Это один из моих любимых фильмов. Сценарий к нему режиссер Владимир Наумов написал вместе с писателем Александром Кабаковым.
Для меня было полной неожиданностью, когда Наумов предложил мне роль в этом фильме. Помню, он вызвал меня к себе. Я обрадовался, примчался к Наумову в кабинет – думал, наконец-то меня запустят как режиссера. Спрашиваю:
– Ну, что нового в Госкино?
– Что нового… сниматься будешь.
Я, разочарованно:
– Как сниматься? Я снимать хочу. Неужели опять запретили?
– Конечно, запретили. Вот, снимешься у меня…
И он дал мне сценарий. Я прочитал. Нужно было играть Кольку «Татарина», дворника в правительственном доме. Да еще без ноги, бывшего морского пехотинца.
Я снова прихожу к Наумову:
– Владимир Наумович, роль какая-то необычная. И почему меня называют «Татарином»? Там нигде не упоминается, что мой герой – татарин по национальности.
– Ну, впрямую не хочется намекать, особенно московскому зрителю, что это за дом, где происходят события фильма.
Речь шла о правительственном «Доме на набережной», из которого стольких людей уводили на расстрел, отправляли в лагеря. И причем не простых смертных, а жили там в основном чиновники из центрального аппарата. Кстати, съемки фильма в итоге проходили в том самом доме на Берсеневской набережной, и зритель, понимавший, о чем шла речь в фильме, мог легко его узнать.
Оказывается, в те годы все дворники в этом доме были татарами. Татары считались очень трудолюбивыми и чистоплотными. Вот и я должен был играть такого дворника-«татарина», но прошедшего войну в морской пехоте.
Наумов меня утвердил без кинопроб. С Наташей Белохвостиковой и Борей Щербаковым мы сыграли какие-то сценки – но больше в качестве репетиций. Камера нас не снимала.
Я начал работать над ролью. И уже на этом этапе проявилась безудержная фантазия режиссера Владимира Наумова. В сценарии были строчки о том, что я свысока посмотрел на героя, на своего друга детства Михаила. А его играет Борька Щербаков, который на голову выше меня. Я озадачился, а Наумов улыбнулся:
– Я все придумал. На заводе тебе уже делают котурны. Оденешь их под брюки клеш – на них ты будешь на голову выше Бори. Всех зрителей ошеломим. Они знают, какого роста Панкратов-Черный, а тут ты появишься – такой богатырь. Эти котурны делают из титана, они стоят безумных денег.
– А почему из титана?
– Потому что это легкий металл.
Клеш мне сшили сантиметров на 15–20 длиннее моих ног. Примерили эти котурны – очень тяжело было с ними справляться. Но где-то дня через два, пока я учился на них ходить, они сломались – отвалились. А новый заказ – это опять деньги.
– Ладно, – решил Наумов, – будешь на Борьку свысока смотреть, когда он сядет на стул или на диван.
Так же как в «Сибириаде» у Кончаловского, Наумов промолчал, что я должен быть наголо бритым. Поставил ме-ня, можно сказать, перед фактом. Кабаков разрешал Наумову отходить от сценария, предоставил ему карт-бланш. Мне кажется, Кабаков сомневался в успехе этого фильма.
И Наумов придумал сцену, когда герой Бори Щербакова начинает меня стричь наголо. Мы отрепетировали и снимали одним дублем, потому что стригли прямо в кадре.
Показали мне машинку. Я посмотрел: хорошая новая машинка. Попробовал – стрижет замечательно. Начали снимать – как эта машинка вцепилась мне в волосы! Слезы катятся, боль дикая, а камера-то работает, снимают, остановить нельзя. Наумов сидит, закрыл лицо руками. Я чувствую, он смеется, негодяй, а у меня слезы текут:
– Полегче, полегче! – кричу я Щербакову.
– Ничего-ничего, – отвечает он по сценарию.
И стрижет меня, я чувствую, с таким усилием.
Я все на свете проклял. Сижу, плачу по-настоящему: боль дикая. Сняли мы этот дубль, который и вошел в картину.
Я спрашиваю:
– Почему же так больно? Вроде нормальная была машинка?
И Наумов показывает мне машинку, которой меня стригли:
– На, посмотри.
И хохочет, счастливый. Я смотрю, оказывается, он специально машинку подменил. Ржавая какая-то, старая:
– Почему эта? – возмущаюсь я.
– По правде жизни. Шла война. Почти пять лет машинкой никто не пользовался – она и заржавела.
Но если не считать этого момента, снимали весело и с каким-то подъемом. Наумов фонтанировал идеями прямо на площадке.
В фойе лежал портрет Сталина.
– Санька, ты оттуда сверху прыгнешь на портрет.
– Так ведь высоко.
– Ничего-ничего, ты же в морской пехоте служил.
– Но я же с протезом хожу. Может, хоть маты подстелим под портрет?
– Ну, так это на «Мосфильм» надо машину гнать. Пока привезут – уйдет солнечное время.
И вот так он, можно сказать, «мучил» меня. Но мне было очень интересно, что в итоге получится. Да и коллектив подобрался замечательный.
Удивительной нежности актриса Наташа Белохвостикова. Хохотушка. Все время смеялась. Как только анекдот какой-то мы с Борькой Щербаковым расскажем, она прямо закатывалась до слез. А Наумов, мне кажется, немножко ревновал ее к нам. Все время кричал:
– Наташа, соберись! У тебя сейчас серьезная сцена.
А потом сам к нам подходил:
– Что вы ей рассказали?
Мы ему повторяли тот анекдот. Он хохотал.
Теперь уже Наташа спрашивала:
– Что ты смеешься, Володь?
– Неважно, репетируем!
С Верой Сотниковой мы на съемках помирились, хотя я с ней был до этого в конфликте, потому что она ранее сорвала съемки в моем фильме «Салон красоты».
В фильме снялся и Евгений Александрович Евстигнеев. Снова мы с ним встретились на съемочной площадке. Его герой прятался от ареста в московском метро.
Наумов утверждал, что это был исторический факт: после войны многие москвичи, скрываясь от арестов, прятались в метро. И добрые люди знали, что в тоннелях живут люди, помогали им, приносили еду и все необходимое. Там были площадки, на которых можно было существовать, можно было передвигаться под землей, выйти в город на любой станции метро.
Я слышал, например, что после войны Сталин приказал выселить из Москвы всех инвалидов. Их, коренных москвичей, которые на фронте потеряли ноги, руки, вывозили за 101-й километр. Якобы Сталин отдал этот приказ, чтобы Москва не видела изувеченных войной людей: надо забывать войну, думать о мире, продолжать строить социализм. И их убирали. И многие из тех инвалидов тоже прятались в метро, чтобы их не выселили.
Рудольф Тюрин даже написал сценарий на эту тему – «Матросская тишина». Сценарий ему запретили, но его, насколько мне известно, купил Голливуд. И для советских людей тогда – за очень большие деньги. Рудольф оставшиеся годы жил на деньги, вырученные от продажи того сценария.
Была в нашем фильме «10 лет без права переписки» еще одна потрясающая сцена, тоже придуманная Наумовым на ходу. Ее видел Роберт де Ниро и даже спросил меня, как я сыграл ее. Ему по актерской задаче было непонятно, как актер может сыграть одним дублем такую сложную сцену.
Когда в фильме мы находим мою Файку, похищенную Берией, то привозим в подвал. Мы снимали в этих казематах под Старой площадью. Я и не знал, что под Москвой столько подвалов находится. А сцена была следующая. Я начинаю орать на Файку, которую играла Вера Сотникова (а на ней коньки надеты, ведь похитили ее с ледового катка), Наташа Белохвостикова стоит с красным флагом, потому что она до этого была на демонстрации. Я Файке что-то выговариваю, начинаю ей хамить, и Белохвостикова меня бьёт сзади древком флага. У меня наступают косоглазие и столбняк, потому что я на фронте был контужен. Это мне Наумов потом объяснял, почему у меня косоглазие должно наступить. В итоге я теряю память, но не сознание, и падаю поперек кровати, которая подо мной. На ней уже лежит инвалид без ноги. У него нет левой ноги, у меня – правой. Я ему тут же дарю свой левый ботинок. Файка меня пытается поднять с кровати, я ее заваливаю под себя, начинаю раздевать, чтобы заняться с ней любовью:
– Фаинька, ну, пришла, милая.
То есть у меня уже совершенно другое эмоциональное состояние. Наконец она меня сбрасывает, я прихожу в себя. Файка кричит:
– Да снимите с меня эти проклятые коньки!
На этих словах ко мне возвращается память, и я опять начинаю с того, на чем прервался:
– Я тебе так сниму – всю жизнь снимать будешь!
То есть одним куском была сыграна вот такая сумасшедшая сцена, несколько состояний: и потеря памяти, и потом, сама доброта, дарю инвалиду свой ботинок, тут же лезу на Файку, чтобы заняться любовью, потом прихожу в себя и возвращаюсь, с чего начал. Сложнейшая сцена.
Репетиций, кстати, было немного. Сколько бы Наумов на ходу ни придумывал (оператор просто не успевал свет переставлять), он всегда контролировал график и старался не затягивать съемки. Поэтому приходилось импровизировать и выполнять какие-то фантасмагоричные, я бы сказал, задачи, поставленные режиссером Наумовым.
Когда фильм вышел, я очень волновался. После всевозможных ролей эта казалась очень необычной. Фильм прошел с большим успехом, даже номинировался на «Оскара», но по каким-то причинам не пошло, сняли с конкурса.
Вообще, я очень благодарен и Наумову, и Кабакову за то, что они в своем фильме подняли такую острую тему. Напрямую с моей судьбой она не перекликается, но тема культа личности и репрессий мне была, конечно, внутренне близка. Причем раскрывали они эту тему под необычным углом. Они пытались сказать, что не столько система была виновата в арестах, сколько сами люди, которые, тупые, необразованные, завистливые, пробивались к власти и могли просто из мести, из ревности сгубить человека. Я знаю, например, одну страшную историю, когда чекист влюбился в купеческую дочку. Наступила советская власть, он пришел делать ей предложение и пригрозил, что если она не вый-дет за него замуж, то он всю семью расстреляет или сошлет в лагеря. Вот так насильно он женился на красавице. Или на людей доносили из-за выгоды, как в нашем фильме. Человек, который сдал отца главного героя, потом поселился в его квартире. Вероятно, он его из-за этой квартиры и сдал. И Наумов с Кабаковым эту тему подняли.
Потом я снялся еще в нескольких работах Владимира Наумова, и даже бесплатно, потому что мне с ним всегда интересно работалось. И всегда он удивлял своими выдумками и находками.
Сквозь витраж современного кинематографа
Подводя итоги моей творческой биографии, хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о современном российском кино. Сейчас в кино пришло очень много талантливой молодежи. Но, к сожалению, я вижу обилие подражаний. Думаю, причина в том, что мы очень долго жили за «железным занавесом». Российский кинопрокат потерял бразды правления, и, когда к нам хлынул поток зарубежного кино, многие молодые кинематографисты увидели новаторство в том, чтобы ему подражать – в отличие от таких советских режиссеров, как Бондарчук, Тарковский, Шукшин, Кончаловский, Михалков, Данелия, Наумов и другие, каждый из которых индивидуален. Такие режиссеры задавали тенденции кинематографа, у них были свои подражатели. И все это родилось здесь, в России. Все это было нашим национальным достоянием. А сейчас даже талантливые молодые режиссеры создают то, что уже было снято где-то в Америке, в Европе – то, что далеко от русского характера, от русской ментальности.
У нас в советское время существовал и республиканский кинематограф. Каждая республика снимала свое самобытное кино. И мы узнавали эти фильмы.
Я помню, как защищал Сашу Сокурова на Пленуме молодых кинематографистов, когда тот показал одну из первых своих картин и тут же Б. В. Павленок на него набросился с критикой. Я тогда сравнил отечественный кинематограф с большим витражом, в который каждый режиссер своим творчеством привносит собственное стеклышко. Можно задушить и выбросить фильм Сокурова – но он станет выбитым из общего витража стеклышком. Значит, нарушится общая композиция, общая картина нашего киноискусства.
Сейчас, мне так кажется, витраж у нас, даже если взять фильмы о России, состоит из стеклышек, завезенных откуда-то. Они не создают общей картины российского кино.
И республиканского кино уже не видно. Пока развивается казахский кинематограф, хотя тоже уже испытывает сильное влияние Запада.
На мой взгляд, нельзя пренебрежительно относиться к классической школе кинематографа, ее надо уважать. К. Малевич, известный художник-авангардист, советовал молодым коллегам научиться сначала писать классические полотна, а потом экспериментировать. Так же и в кино. А сейчас начинают экспериментировать, привносить, как им кажется, что-то свое – а классику не знают. И отсутствие этой классической платформы очень сильно чувствуется. Получается: создали бюст, а постамента нет – вот он и болтается в воздухе.
Я был художественным руководителем у одного режиссера на Одесской киностудии, и он мне показал свой материал. В одной сцене актер идет к торшеру, источнику света, а тень – впереди него. Я ему объяснил, что тень должна падать сзади. Он поразился:
– Разве?
То есть многие не знают даже азов операторского мастерства. Хорошо, что тот режиссер меня послушался и исправился, взял другого кинооператора.
Многие современные российские кинематографисты говорят, что любят кино. А это любовь горькая, она с трудом связана, с сердцем. Это когда режиссер сопереживает своим героям, и то, что в его душе, передает актерам. Он и утверждает на роли тех актеров, которые сумеют передать то, что режиссер переживает. А сейчас, к сожалению, очень много пустоты, бездуховности, безграмотности. Малоначитанности. У нас было правило: если человек не читал «Войну и мир», ему не надо идти в кинорежиссуру. А сейчас сплошь и рядом студенты кинематографических институтов не читали ни Толстого, ни Тургенева, ни Достоевского. Как можно без этой интеллектуальной базы идти и нести драматургию? Что может написать сценарист, не зная, что до его рождения в мире уже жили и творили такие драматурги, как Чехов, Горький, Сухово-Кобылин? Поэтому сейчас и школа стала такой, что преподавателями актерского мастерства оказываются люди, не сыгравшие ни одной роли: ни в театре, ни в кино – «теоретики». Часто у преподавателей режиссуры в подмастерьях люди, не снявшие ни одной картины.
В советском кинематографе присутствовала духовность – от слова «душа». Если взять фильм «Летят журавли», то в свое время это была очень смелая, даже экспериментальная картина, в которой многие традиции кинематографической классики были расколоты. Но какое внимание к глазам человеческим! Оператор Сергей Урусевский на протяжении всего фильма пристально вглядывается в глаза героев – Алексея Баталова и Татьяны Самойловой. Андрей Рублев А. Тарковского смотрит чуть поверх камеры, и ты понимаешь, что он слушает окружающий мир и пытается понять его, и этот мир в нем живет – то есть вот эту глубину человеческого духа режиссеры выносили на экран. Эти традиции, к сожалению, утрачены современными кинематографистами, у них часто крупный план непонятно для чего показывается.
Сегодня очень актуально выражение «говорящие головы», особенно на телеэкране. Современные актеры говорят текст, а глаза пустые: нет чувств, нет переживаний. Они не знают, что такое пауза. Текст проговорили, еще и через губу. Им неважно, обратили ли зрители внимание на ту фразу, которую они сказали. Я вижу в этом некоторое легкомыслие. Хотя есть и замечательные молодые актеры, например, Катя Климова. За ней интересно смотреть, за ее глазами, за ее взглядом.
Сейчас кино во многом стало компьютерным. Поэтому я вернулся к театру и с удовольствием играю антрепризы. На сцене ты каждый раз играешь по-разному, привносишь разные краски, чувствуешь дыхание зрительного зала. Я знаю, что вот этот спектакль зрители приняли так, а другой – иначе. В театре партнеры особенно важны: мы отталкиваемся друг от друга на сцене – как говорил Станиславский: петелька-крючочек-петелька-крючочек – и мы чувствуем, что у нас сегодня кружево было такое, а завтра – другое. Это приносит удовлетворение и радость. А это должно быть и в кинематографе. Я помню, как Андрон Кончаловский часами при монтаже сидел над сценой и не мог остановиться на конкретном дубле – выбирал и не мог принять решение, где точнее передана та или иная эмоция. Он искал: что оставить, что сказать этой сценой зрителю. А сейчас все стараются уложиться в сроки, берут первый попавшийся дубль.
Я знаю режиссеров, которые плакали, когда чиновники вырезали фрагменты их фильмов: для них это было как вырезать кусок жизни – не столько жизни на экране, но твоей жизни.
Раньше была жесткая цензура, сейчас ее нет, но пришла распущенность. Тебя никто не ограничивает, а ограничения иногда нужны – ну хотя бы в тебе самом. Ты должен знать, что это плохо, это безвкусно. В некоторых спектаклях на сцене ругаются матом. И говорят: зато правда. Правда, она есть правда. Но если ты говоришь о правде жизни, то она должна быть чистой, чтобы зрителя вела к добру и к свету. А не к похабщине и матерщине, помойке и грязи. Это зависит, мне думается, от воспитания, от школы. Поэтому главные вопросы, которые режиссер должен задать себе: для чего он идет в искусство? Что он хочет сказать миру?
Глава 10
В детстве – с радостью повстречаться, С грустью – в юности, а потом… Неожиданно обвенчаться И построить для внуков дом. Вот и все, что могло быть счастьем…Встреча с Юлей
Я свою будущую жену Юлю Монахову впервые увидел, когда она оканчивала школу. Ее старшая сестра Леночка уже училась на киноведческом факультете во ВГИКе. Я тогда был студентом второго курса ВГИКа. Леночка была очень общительной. Она дружила с мастерской В. В. Белокурова. Это была украинская мастерская, где учились Ирочка Шевчук, Галя Логинова (мать Миллы Йовович), Витя Демерташ – талантливейший курс. Ребята часто встречались у нас, в общежитии ВГИКа.
Помню, Лена отмечала свой день рождения и пригласила нескольких студентов (в эту компанию попал и я). Праздник она устраивала дома. Из Днепропетровска приехала бабушка Муся, как мы все ее называли, – не только потрясающая кулинарка, но и народный художник Украины, занималась художественной вышивкой и даже вышивала портреты вождей.
Муся наготовила, накрыли на стол, и мы, человек, наверное, пятнадцать, пришли на день рождения. Там я впервые увидел Юлечку, десятиклассницу, которая была просто королевой этой компании: красивая, обаятельная, хохотушка, игрунья – в общем, завлекла. Начали танцевать, а я, выходец из провинции, стеснялся пригласить ее, тем более она была дочерью великого оператора Владимира Васильевича Монахова.
В компании приглашенных был один студент-африканец, который учился с Леной на киноведческом факультете. И он пригласил мою Юлю.
А я, сидя в одиночестве, уже изрядно выпил. И приревновал, полез на него драться. Юлька попыталась меня остановить:
– Как тебе не стыдно!.. – сказала она.
С досады я замахнулся на нее (казацкая кровь взыграла), она от ужаса закрыла голову руками и присела на пол. В это время бабуля Муся с тортом зашла:
– Сашко, ти шо – сказився, на внучку мою руку поднял?
А потом, разобравшись, что к чему, встала на мою сторону:
– Правильно, Сашко, нечего нашим девкам с иностранцами якшаться.
Вот такая была история.
Кстати, потом мы с тем африканцем помирились. Я знаю, что, окончив ВГИК, он вернулся к себе на родину и стал известным хореографом. Приезжал много лет спустя в Москву со своим танцевальным коллективом, мы встречались. Кстати, интересно, но спустя годы он даже лучше разговаривал по-русски, чем когда учился в Москве.
После той истории на дне рождения мы долго-долго с Юлей не разговаривали. Меня почти выгнали из той компании, потому что я подрался с иностранцем. Нас, кстати, в то время исключали за драку с иностранцами. У меня, помню, произошел один конфликт с греком. Кто-то рассказал руководству ВГИКа, и меня хотели исключать, но тот взял вину на себя и защитил меня. Сейчас мы с ним дружим, встречаемся, когда я приезжаю в Афины.
Юлю я с тех пор не видел до окончания второго курса. Однажды в конце учебного года смотрю, она по коридорам ВГИКа бегает. Оказывается, Юля тоже поступила на киноведческий факультет. Ну, тут уже я с нее глаз не спускал. Помирился, начал ухаживать. Стал наведываться к Монаховым домой.
Владимир Васильевич был очень строг, особенно когда у дочки появлялись какие-то ухажеры. А мама Юлина, напротив, очень нежно ко мне относилась.
Любовь Михайловна была очень хлебосольная, радушная. Она понимала, что я – бедный студент, живу на одну стипендию. Приду к ним домой – она меня всегда чем-то угощает. И я со временем немножко обнаглел. Если какой-то праздничный день, надо идти к Юле, а у меня денег ни копейки, я звонил Любови Михайловне на работу (она мне дала свой телефон). Работала она на проспекте Мира, недалеко от ВГИКа, можно было доехать на троллейбусе. И вот я звонил Любови Михайловне:
– Любовь Михайловна, одолжите десяточку до стипендии?
– Санечка, конечно, приезжай ко мне на работу, с проходной мне позвонишь.
Я приезжал, она выходила из здания, давала мне десятку. И я, наглец, на эту десятку покупал коробку конфет, шампанское или какое-нибудь хорошее вино, букет цветов – и вечером заявлялся к ним домой. Любовь Михайловна не знала, как удивляться. Днем я у нее просил взаймы, а вечером приходил к ним с шампанским и цветами. Я ей подмигивал, она подмигивала мне в ответ.
А Монахов возмущался:
– Из обеспеченной семьи, что ли, студент?
А я отвечал:
– Так работаем.
Но я тогда на самом деле подрабатывал где мог. А когда я на третьем курсе учился, мне вообще повезло: устроился на Рижском вокзале разливать из цистерн по бочкам вино. Тогда молдавские вина приходили почему-то на Рижский вокзал. И бешеные деньги, кстати, получал – по 10 рублей за ночь. Ночь, правда, не спал, на следующий день пропускал занятия в институте – но зато зарабатывал. Плюс еще вино приносил в общежитие – поэтому в мои смены однокашники обычно тоже ночь не спали – меня ждали.
Еще во ВГИКе я подружился с художником-постановщиком Петром Исидоровичем Пашкевичем, который работал с С. А. Герасимовым. Сын его Андрюша учился во ВГИКе на операторском факультете. Он жил отдельно от родителей в двухкомнатной квартирке недалеко от Киностудии им. Горького. Я мыкался без жилья (из общежития мне пришлось съехать), и Андрей предложил мне перебраться к нему. Я чуть ли не полтора года жил у него на квартире. Он мне еще и давал возможность подработать. Андрей был молодым оператором на Киностудии им. Горького (там же, где работал его отец), но постановки ему еще не давали. Петр Исидорович не старался продвигать сына, хотел, чтобы тот сам пробивался в жизни. Потом Андрюша будет успешно снимать фильмы с моим однокурсником Колей Лырчиковым. А до этого он работал и ассистентом, и вторым оператором. А еще он снимал ролики по заказу МВД (была такая киностудия, сейчас не знаю, существует ли она) и пожарной службы (у них тоже была своя киностудия). На таких студиях снимались обучающие короткометражки, что-то вроде наглядных учебных пособий. Андрей уговорил режиссеров взять меня сниматься в этих роликах. Таким образом я подрабатывал. На этих роликах я познакомился с Зоей Федоровой, лауреаткой двух Сталинских премий, матерью актрисы Виктории Федоровой. Она в последние годы перед гибелью тоже не стеснялась сниматься в таких вот работах.
Все это время я продолжал ухаживать за Юлей. Потом мы с ней расстались. Она вышла замуж, жила за границей. Я тоже был женат. Потом я развелся, развелась и Юля. Мы снова встретились, возобновили наши отношения и стали жить вместе. Я уже к тому времени отслужил в армии, снялся в «Сибириаде». Мне было лет 29–30.
Я пришел к Монахову просить руки его дочери:
– Владимир Васильевич, мы решили пожениться.
Он на меня посмотрел очень строго и сказал:
– Да, казачок, хорошо начинаешь карьеру.
Он имел в виду, что я, студент-провинциал, намеревался жениться на дочке ведущего кинооператора страны, лауреата Ленинской премии – значит, хочу за счет его пробиться в люди. В общем, я хлопнул дверью и ушел. Тогда Юля собрала вещи и ушла со мной. Помирились мы с Владимиром Васильевичем только через несколько лет, когда у нас с Юлей родился сын.
Монаховы
Любовь Михайловна Монахова, Юлина мама, хоть и была замужем за одним из самых известных кинооператоров страны, сама не принадлежала к кинематографической среде. Она работала инженером-проектировщиком, была в своем деле высококвалифицированным специалистом. Любовь Михайловна много лет возглавляла секретный отдел «Гипромеза», где проектировали доменные печи. Ей принадлежит авторство многих проектов доменных печей в Египте, Северной Корее и по всему Советскому Союзу. Кажется, в Новокузнецке на воротах комбината висит мемориальная доска в ее честь. На ней написано, что там трудилась инженер-проектировщик Любовь Михайловна Монахова. В журнале «Советская женщина» про Любовь Михайловну даже вышла статья под заголовком «Металл и нежность».
Молодость Владимира Васильевича Монахова пришлась на военные годы. Он ушел на фронт еще подростком, служил танкистом. Фронтовая дружба связывала Монахова с Юрием Николаевичем Озеровым, впоследствии знаменитым советским режиссером, у которого я имел счастье сниматься в фильме «Битва за Москву». Когда Монахов и Озеров вспоминали войну, столько смешного было в их рассказах. Помню, я даже неосторожно заметил:
– Вас послушаешь, это не война была, а сплошной юмор.
– Да, – говорит Юрий Николаевич, – юмора было много. Но те, кто прошел войну, знают, что в ней нет ничего веселого. Юмор же помогал нам поддерживать дух.
Озеров был тяжело ранен под Кенигсбергом и вынужден был вернуться домой, в чине майора закончил войну. Монахов участвовал в битвах на Курской дуге и под Сталинградом и, кажется, страшим лейтенантом дошел до Вены. Владимир Васильевич вспоминал, что когда они уже перешли границу СССР, он в какой-то разгромленной фирме или магазине нашел фотоаппарат, «лейку»[3] обычную – он, кстати, до сих пор в семье хранится. Попросил ребят научить, как фотографировать, и стал фотографировать в Европе.
После войны Монахов приехал в Москву поступать… в Консерваторию им. П. И. Чайковского. Он играл почти на всех музыкальных инструментах, а до войны, будучи мальчишкой, руководил оркестром народных инструментов в Днепропетровске. Поступал он по классу скрипки. Общежития ему не предоставили, поэтому ночевал он на Киевском вокзале и простудился ночью. В день последнего экзамена у Монахова вскочил фурункул на шее, и он не мог держать скрипку – в итоге не поступил.
Но пришел на вступительные экзамены во ВГИК – как раз с теми фронтовыми фотографиями, которые сделал в Европе в последние месяцы войны. И поступил, а через семь лет после окончания ВГИКа стал лауреатом Ленинской премии за великий, как я считаю, фильм всех времен и народов «Судьба человека».
Во ВГИКе Монахов был старостой курса. Однокурсники называли его Дядя Володя. А однокурсниками были: Игорь Михайлович Слабневич, который с Озеровым снял великий фильм «Освобождение»; Сергей Аркадьевич Вронский, летчик-фронтовик, который работал с Иваном Пырьевым («Братья Карамазовы») и с Георгием Данелией («Афоня»); Александр Васильевич Харитонов, работавший над картиной «Ко мне, Мухтар!». Это были удивительные люди, фронтовики, которые знали, что сказать о войне, потому что они ее прошли, прочувствовали, пропустили через себя. И, кстати, воспитали потом талантливейших учеников: Гошу Рерберга, Пашу Лебешева и многих других.
А поступили они изначально к Эдуарду Казимировичу Тиссе – гениальному кинооператору, но, к сожалению, снимавшему только немое кино, поэтому всей компанией перешли к Анатолию Дмитриевичу Головне.
После окончания ВГИКа Монахов работал с оператором Марком Павловичем Магидсоном. Однако во время съемок фильма «Верные друзья» Магидсон попал в страшную аварию и, лежа в больнице, доверил завершить съемки фильма Владимиру Монахову.
С Сергеем Федоровичем Бондарчуком Монахов познакомился, кажется, на съемках фильма «Попрыгунья». Вместе они решили экранизировать рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». За этот фильм Монахов был признан одним из лучших операторов года в Европе, стал членом Ассоциации кинооператоров Европы. Летал в Лондон с лекциями об операторском мастерстве. Его признание в Европе было более чем заслуженным. Оказывается, он впервые в художественном кино применил съемку с вертолета и, более того, при помощи технических средств сделал так, чтобы кадр фильма передавал внутреннее состояние героя. Это была сцена, в которой герой Бондарчука падает в поле пшеницы. Вертолет, с которого ведется съемка, лопастями колышет эту пшеницу. И лежит Сергей Федорович, обхватывает эту пшеницу руками, рвет ее, а она вся волнуется. Герой лежит спиной к камере, а его внутреннее состояние вот этой волной передается. Это отметили в Европе.
Европейских кинематографистов в фильме ждала еще одна загадка операторского мастерства. Речь о сцене в машине, где мальчик обнимает отца и произносит: «Папа». Тогда трансфокаторов еще не было, и Монахов придумал: вдоль дороги проложили рельсы, на эти рельсы поставили тележку, на эту тележку – еще рельсы. Одна камера едет по нижним рельсам параллельно с машиной – одним кадром снимает, а по верхним рельсам лежащая на тележке вторая камера въезжает в кабину. А как подсветить внутри движущейся машины? И Монахов придумал покрасить интерьер кабины в белый цвет, который работает как подсветка. А зритель не обращает внимания, что все стены в кабине белые. В итоге камера въезжает объективом прямо в кабину – лица и мальчика, и Бондарчука освещены. В Европе все удивлялись, как смогли осветить кабину, когда сцена снята одним кадром с переходом от общего плана на крупный. Гениально и просто.
Работая над фильмом «Судьба человека», Монахов подружился с писателем Михаилом Шолоховым. У нас даже есть фотографии, на которых все вместе сидят: Бондарчук, Монахов и Шолохов. Есть в архиве и снятое на любительскую камеру небольшое кино, к сожалению, без звука, на котором они втроем обсуждают будущий фильм «Судьба человека». Когда фильм вышел, Шолохов сказал:
– Володя Монахов не смазал, а проявил моих героев.
Монахов очень гордился этим комплиментом писателя.
Не менее творческим был подход Монахова к съемкам фильма «Оптимистическая трагедия» режиссера Самсона Иосифовича Самсонова. Правда, по поводу одной сцены споры разразились нешуточные – дошли до Госкино. Но Монахов настоял на своем и оказался прав. В фильме есть сцена, когда матросов выстраивают на палубе и ищут, кто украл у старушки кошелек. Монахов настоял на том, чтобы снимали в павильоне, потому что, во-первых, на корабле все качается; во-вторых, трудно освещать. Если осветишь стандартным способом, будет чувствоваться фальшь. Лица будут освещены, но возникнет вопрос: кто светит на палубе корабля?
Монахов перенес съемки на зимнее время. Построили в павильоне декорацию палубы корабля и в самый страшный мороз собрали съемочную группу и актеров. По его указанию, палубу полили водой (потому что палуба всегда мокрая) и открыли все ворота павильона. В павильоне сразу сделалось холодно, у актеров-матросов изо рта пошел пар, что выглядело очень реалистично, потому что действие фильма происходило на Балтийском флоте, в Кронштадте. Фильм в Каннах получил Гран-при за операторскую работу. В Европе в очередной раз удивились: если у матросов идет пар, значит, снимали на корабле. А как тогда освещали?
После «Судьбы человека» Монахов и Бондарчук, став лауреатами Ленинской премии, были введены в секретари Союза кинематографистов. Монахов был избран депутатом Моссовета, Бондарчук – Верховного Совета РСФСР. У нас в архиве есть фотография, где на одном из заседаний ЦК КПСС они сидят рядом – Бондарчук и Монахов – как два брата-близнеца: они внешне были очень похожи. Они были очень дружны.
Однако такая слава неизбежно провоцирует зависть окружающих. Их долго пытались поссорить. Бондарчук предложил Монахову взяться за «Войну и мир». Монахов даже отснял 270 полезных метров этого фильма. А картина была под патронажем Политбюро ЦК КПСС, главной задачей которого было – переплюнуть американцев, их экранизацию знаменитого романа Л. Н. Толстого с Одри Хепберн и Генри Фондой в главных ролях. Сергей Федорович сказал Монахову:
– На картину дают неограниченный бюджет, пленку, технику, армию, но главное, чтобы мы любыми способами переплюнули голливудскую версию фильма. Например, там, где их герои едут на тройке лошадей, у нас должна быть шестерка.
И Монахов отказался. Он не хотел искажать факты романа в погоне за первенством над Голливудом. В этом Монахов был принципиален. Здесь разошлись творческие пути двух великих советских кинематографистов.
Монахов был наделен какими-то, мне кажется, инопланетными способностями. Например, он говорил мне:
– Бери любую газетную статью, читай.
Я читал абзац статьи. И он называл количество букв в абзаце. Я не верил, пересчитывал – все точно.
Владимир Васильевич был очень увлеченным человеком. Кроме работы в кино он собирал марки, а из-за любви к музыке создал дома потрясающую фонотеку. Из всех стран мира привозил пластинки. Были там и джаз, и классическая музыка, и романсы в исполнении разных певцов – колоссальная коллекция.
Монахов великолепно разбирался в музыке. Бывает, сидит в кабинете пишет, а по телевизору играет симфонический оркестр. Я захожу, он просит:
– Саша, погромче звук сделай, пожалуйста. Моцарта играют, Сороковую симфонию…
– Откуда вы знаете?
– Да слышу.
Еще Владимир Васильевич коллекционировал кактусы. Привозил их ото всюду: из Мексики, с Кубы – весь дом был заставлен кактусами. У него и у писателя Леонида Леонова, тоже коллекционера кактусов, были самые большие коллекции в Европе. Монахов очень тщательно ухаживал за своими кактусами: какие-то протирал тряпочками, над какими-то настольные лампочки ставил на ночь, освещал – в общем, это была целая наука. А незадолго до кончины он указал мне на некоторые кактусы и сказал:
– Саш, когда я умру, они погибнут.
– Не может быть.
– Да, они ко мне привыкли, как к отцу родному, и будут жить, пока я живу. И тополь видишь под окном? Мы въехали, его посадили. И все годы, пока я живу в этой квартире, он растет, уже выше восьмиэтажного дома вырос. Он тоже погибнет.
И действительно, не стало Владимира Васильевича, и как Любовь Михайловна ни ухаживала за кактусами, поднимет стволик – а под ними уже труха одна. Погибли все кактусы, и тополь тот рухнул.
Семейная жизнь
Когда я окончил ВГИК, то получил серьезное приглашение на работу в «Ленфильм», в Объединение Глеба Панфилова. Им понравился мой дипломный фильм по мотивам рассказа Шукшина «Штрихи к портрету». Как-то Элем Климов мне даже сказал:
– Зря ты не поехал к Глебу в Петербург, уже снимал бы давно. Потому что Глеб поддерживает своих ребят. А на «Мосфильме» тебе все запрещают.
«Ленфильм» был для меня студией неизвестной, а на «Мосфильме» я уже во время учебы в рамках практики исполнял обязанности второго режиссера на картине «Принимаю на себя» про Серго Орджоникидзе режиссера Александра Орлова. Кроме того, после окончания ВГИКа я был направлен на «Мосфильм» в объединение С. Ф. Бондарчука сразу от двух мастерских: Столперовской и Дзигановской.
И я выбрал «Мосфильм». Но на самом деле мне просто не хотелось из Москвы убегать, потому что я все-таки не терял надежды, что мы с Юлей будем вместе.
Желание иметь семью у меня было всегда. С одной стороны, я люблю одиночество, потому что в одиночестве я и над собой работаю, и над стихами, и над творческими замыслами. Мне это нравится, поговорить с тишиной, тишину послушать. Но я считаю, что у человека должна быть семья, свой очаг. Все-таки это разные вещи – жить одному или жить с одиночеством. К тому времени у меня уже и сердце стало прихватывать – и мне нужен был постоянный человек рядом. Поэтому я всегда старался быть в компаниях, желательно шумных. И чтобы скрыть свое внутреннее состояние, я старался шутить, хохмить, что-то придумывать.
Поэтому когда я пришел делать Юле предложение, я был готов к созданию семьи. Но у меня возник конфликт с Монаховым, и мы с Юлей вынуждены были уйти. Мы с ней больше шестнадцати лет болтались по Москве без жилья, снимали квартиры, где придется. А мне не давали работать как режиссеру.
Юля сама независимая по своему характеру. Она после окончания ВГИКа не хотела идти на «Мосфильм», потому что папа там был царь и бог. Он к тому времени работал не только как оператор, но и как режиссер. И Юля, чтобы не говорили, что она по блату отца пришла на «Мосфильм», ушла на Киностудию им. Горького в объединение С. А. Герасимова и проработала там более десяти лет на очень серьезных картинах. Она очень органично вошла в тот коллектив. У нее появились друзья и подруги. Например, Марк Волоцкий, директор Музея киностудии, стал другом семьи. Я от него очень многое узнал об истории нашего кинематографа – то, о чем не печатали и не писали.
Однако в своей работе я не обращался к Юле за советами. Она просила меня почитать ей что-то из сценариев, над которыми я работал – я отказывался. Я всегда считал, что мужик должен быть самостоятельным, у жены помощи не просить – поэтому в работе мы храним дистанцию. Она не вникает в мои дела, а я – в ее. Хотя украдкой, может быть, она и читала мои сценарии. Я, например, украдкой читал то, над чем она работала на студии Горького. Во всяком случае, я ни разу не застал ее за чтением моих работ, но она и так понимала, что я подаю какие-то сценарии, которые не проходят, не устраивают.
Был, например, сценарий «Маляры». Спустя годы по нему вышел фильм, но уже под названием «Трам-тарарам, или Бухты-барахты», где я сыграл главного героя. Эльдор Уразбаев снял эту комедию сценариста Рудольфа Тюрина, всю искромсанную и переписанную, а первый вариант «Маляров» я пробивал лет пять – так и не пропустили. Вроде бы и комедийная история, но все-таки грустная, как «Афоня» у Данелии. И Рудольф Тюрин был недоволен, что Эльдор многое переписал, чтобы угодить цензуре. Но в этом фильме впервые прозвучала песня «Вальс маляра» на мои стихи. Еще никто не знал, что я поэт, но Эльдору понравилось мое стихотворение, и композитор Женя Крылатов написал замечательную музыку. Этот вальс звучит в финале фильма:
Кружится, кружится, вертится, вертится Солнце мое и Земля. И почему-то мне верится, верится, Что это все – для меня. А за окном, за окном в белой церкови У алтаря, алтаря, Жизнь моя богом, я знаю, проверится – Жил я зазря иль не зря.Слова вроде бы грустные, а музыка веселая такая. И это совпадало с характером персонажа, которого я сыграл. Картина очень понравилась зрителям, но сейчас почему-то ее не показывают.
В том фильме, кажется, дебютировала Катя Двигубская, дочь Наташи Аринбасаровой. Она играла мою дочку. И Наташа там прекрасно исполнила роль преподавательницы музыки. Женечку Стычкина я порекомендовал Эльдору. Это был и его дебют в кино.
И, конечно, за период ухаживаний и за годы нашей совместной жизни я множество стихов посвятил Юле. Юля, безусловно, считает, что все стихи, обращенные к женщинам в моей поэзии, посвящаются ей. Но есть стихи, непосредственно к ней обращенные.
Вот такое стихотворение я написал, когда Юльке исполнилось 17 лет[4].
Ю.М.
Семнадцать лет приходят в осень, Чтоб желтым пламенем аллей Сгорала грусть, светлела просинь Небес и глаз твоих… Смелей! Не бойся мучиться и плакать, Девчонка добрая, живи… И жди, когда в дожди и в слякоть Нагрянет таинство любви. И будет солнечность рассветов В твоих глазах искать приют, И, как росинки с тонких веток, С ресниц слезинки упадут. Янтарно вспыхивая, ночью, Как звезды яркие, тебе Расскажут слезы многоточьем Про одиночество в судьбе, В которой дети громким смехом Взорвут затишье… Из окна, Увидев сад, где белым снегом Придет на землю тишина, Тебе захочется смеяться, Чтоб одиночество души На части стало разбиваться, От счастья чувствовать и жить… Но вдруг припомнится та осень, Где желтым пламенем аллей Сгорала грусть, светлела просинь Небес и глаз твоих… Смелей! Налей В бокал прохладного вина! Ты никогда среди людей Не будешь плакать… у окна… Одна… До дна!..На самом деле Юле я огромное множество стихов написал, но стесняюсь ей об этом говорить. Боюсь, в следующий раз будем о чем-то спорить, а она скажет:
– Это что же, стихи писал, а теперь конфликтуешь?!
Поэтому я хитрый, утаиваю все. Иногда я даю ей рукописи что-то поправить, а она говорит:
– Ну, это стихотворение точно мне посвящено.
Я отвечаю:
– Как же, размечталась.
Хотя она права. Она всегда безошибочно угадывает стихи, которые для нее написаны.
Рождение Владьки
Беременность Юли стала для всех нас желанной новостью. Бабуля прилетела из Днепропетровска. Я сходил к Николаю-угоднику в церковь, поставил свечку и попросил сына у господа бога. Я подумал: «Ну, родится девчонка, что я с ней буду делать?»
И в один…прекрасный, я считаю, день Юля пошла в консультацию к гинекологу сдавать кровь. Приходит и рыдает.
– Юлечка, что случилось?
Я подумал, что-то с ребенком. Она говорит:
– Саша, завтра же иди ко врачу, сдавай кровь. Ты представляешь, у меня вторая группа отрицательный резус. И врачи сказали, что если группа и резус не совпадут, то ребенок может родиться неполноценным.
Я ночь не спал, мучился. Юля плакала, я никак не мог ее успокоить. На следующее утро побежал в эту же женскую консультацию. Они взяли кровь. На второй день я пришел за результатом после очередной бессонной ночи. Они говорят:
– Поставьте свечку господу богу. У вас тоже вторая группа и тоже отрицательный резус. Такое прекрасное совпадение бывает один раз на миллиард.
Как я загулял! Забыл, что Юлька дома сидит, ждет результатов. Пьяненький прихожу домой. Юля увидела, что я нетрезвый, подумала, что все плохо, и испуганно спрашивает:
– Что с тобой?
– Юлька, целуй мужика! Нашел тебя одну из миллиарда…
Обнялись. Поцеловались. Отпраздновали с соседями. А в соседней квартире жил офицер, жена которого тоже была беременна.
У меня тогда еще не было московской прописки, а надо было Юльку прикрепить к какому-то роддому. У Любови Михайловны была подруга, доктор медицинских наук, врач-гинеколог. И мы пристроили Юлю в 25-й роддом на Ленинском проспекте за универмагом «Москва». Прошло почти девять месяцев. Мы спокойны, беременность проходит нормально, за спиной – доктор медицинских наук. Схватки начались в 2:30 ночи. Юля кричит, рвет простыни – первые роды на моих глазах. Я в панике. Звоню той докторше, а она говорит:
– Успокойся, дай ей снотворное и пусть спит. Еще неделю минимум ей ходить.
А я смотрю, какая там неделя: постель мокрая – значит, воды отходят. А меня уже предупредили, что таксисты отказываются возить рожениц в роддом. Я выбегаю, останавливаю таксиста:
– Старик, срочно одну бабу нужно отвезти, перебрала… – разыгрываю из себя такого лоха. – Десятку тебе дам.
А доехать от нас до роддома тогда стоило рубля два.
– Ну, давай отвезу.
Юлю быстренько одеваю. Хорошо, что лето было. Надел на нее широкую свободную кофту, чтобы живота не было видно, и повел ее, будто пьяную. А она все стонет.
Сели в такси, я говорю водителю:
– Гони!
– Куда гнать?
– Куда-куда, в 25-й роддом за универмагом «Москва». Быстро!
– А ну выходи!
– Я тебе выйду! Давай, гони!
Он как дал по газам. Минут за десять мы доехали. Таксист доставил нас прямо к подъезду приемного отделения. Я там уже со всеми работниками познакомился, потому что мы знали, что Юля будет там рожать. Я ее завел. Выбежала бабушка-медсестра. Я принес одежду, которую мы заранее приготовили, и дал медсестре еще денег на всякий случай и домашний номер телефона.
Меня отослали домой. И вот хожу я по комнате, как зверь в клетке, не отхожу от телефона, нервничаю. Прошло минут сорок, не больше. Вдруг звонок. Беру трубку. Бабулька-медсестра:
– Ой, сынок, поздравляем. У тебя мальчик.
Я на радостях – к соседу. У него чуть раньше тоже сын родился. Мы с ним сидим, празднуем, а сосед меня и спрашивает:
– А ты тестю с тещей сообщил, что внук у них?
– Ой, совсем забыл. Надо позвонить.
– Может, рано? Еще 6 часов только.
– Ничего-ничего, разбудим.
А Монахов терпеть не мог, когда его будили раньше 10–11 утра, потому что он по ночам готовился к лекциям.
Он был прекрасным педагогом. Даже мы, студенты-режиссеры, присутствовали на его лекциях и заслушивались ими: настолько хорошо он знал кинопроизводство, какие могут быть ситуации во время съемок – до мелочей все рассказывал. Для нас, режиссеров, это было очень важно. К лекциям он готовился по ночам. К каждой лекции писал конспекты, как студент. И будить его можно было только после 10 утра, так как уже к часу дня он ехал на работу во ВГИК.
Я звоню, слышу в трубку голос Владимира Васильевича:
– Алло!
Чувствую по голосу – злой. Я говорю:
– Владимир Васильевич, это я, зять ваш, Панкратов.
– Ты что, с ума сошел – будить меня в такое время!..
Начал кричать. Я говорю:
– Да помолчи ты, дедом стал. У тебя внук родился!
И бросил трубку. Расстроенный, говорю соседу:
– Давай, Лень, наливай!
– Да успокойся. Разбудил старика. Я же говорил, звонить надо позже…
Телефонный звонок.
Я беру трубку, на нервах:
– Да?!
– Саша, ты что сказал? – вдруг услышал я ангельский голос Владимира Васильевича.
– Что-что, внук у вас родился сегодня в 3:15 в 25-м роддоме.
– Быстро одевайся – и ко мне. Жду!
Повесил трубку. Оказывается, когда Юля родилась, он ждал сына, и был уверен, что мальчик будет. Та же докторша, друг семьи, уверяла его, что родится сын. А когда он в роддом пришел, ему сказали – опять девочка. Так он потом в дом эту докторшу перестал пускать. И всю свою отцовскую любовь Владимир Васильевич перебросил на старшую дочь Лену, а Юлю держал как-то в стороне. Поэтому Леночка была папина дочка, а Юлечка – мамина.
Ну, я с соседом попрощался. Заехал в роддом, передал Юле цветы, принес букеты доктору, которая принимала роды, акушеркам, медсестрам. И поехал к тестю.
Теща тут же позвонила на работу, взяла выходной. Я приехал. Смотрю, тесть – неодетый, в майке и трусах, сам над плитой стоит, что-то готовит. Я таким его никогда не видел. Прямо со сковородки – шипящие котлеты, закусочка, из холодильника бутылочку водочки достал, весь волнуется, слезы смахивает – настолько для него это было событием, что внук родился.
Потом я захотел закурить. Мы вышли на балкон (Монахов некурящий был), и он так тихо говорит:
– Саш, ну ты меня прости. Я был не прав. Я думал, ты несерьезный человек.
И я его отчасти понимаю, потому что весь ВГИК легенды рассказывал про мои похождения. Но когда родился сын, Монахов поверил, что у нас с Юлей серьезные отношения. И последние годы до его кончины мы с Монаховым замечательно ладили.
Монахов и Бондарчук
Хоть Монахов после той размолвки по поводу экранизации «Войны и мира» больше не работал с Бондарчуком, но они поддерживали связь. Однако Владимир Васильевич всегда держался своих принципов. Помню, Бондарчук пригласил его на премьеру своего фильма «Они сражались за родину». Когда Монахов вернулся с премьеры в Доме кино, я был у них дома. И он, человек непьющий, говорит:
– Саш, есть выпить?
– Нет.
– Сгоняй куда-нибудь, найди.
Я купил, вернулся. Вижу, он расстроенный сидит, потерянный.
Я его спросил, что случилось. И он ответил:
– Знаешь, я к Сереже не подошел поздравить его с премьерой.
Я не понял:
– Почему?
– Не знаю, смятение в душе. Сережа тоже войну знает. Фильм-то неплохой, народ будет принимать. Но ведь это неправда. У Шолохова-то правда, а у Сережи – ложь. Мы же двадцатилетними воевали все, мы мальчишки были, дети – а у него… Сколько лет Сереже Бондарчуку, Славе Тихонову, Юре Никулину, Васе Шукшину? У Шолохова-то это молодые все ребята. И подвиг их в том, что они сражались за родину – мальчишками.
Да, в основном молодежь войну выиграла – это верно. Хотя мы об этом не задумываемся, когда смотрим фильм. Ведь стилистика фильма такая эпическая, как фреска античная, что неважно, какого возраста персонажи. Главное – характер. А Монахова это задело. Это шло вразрез с его принципами, с его пониманием правды на экране.
Потом Сергей Федорович снова протянул руку дружбы и Озерову, и Монахову. У Бондарчука был юбилей, к которому приурочили вручение ему звания Героя Социалистического Труда. Сергей Федорович пригласил Монахова и Озерова на банкет по этому случаю. Владимир Васильевич и Любовь Михайловна тщательно готовились. За ними заехал Озеров с женой, и все вчетвером поехали в ресторан.
А мы с Юлей, воспользовавшись их отсутствием, пригласили в гости компанию друзей. Сидели в Монаховской квартире (тогда мы еще снимали жилье), накрыли на стол. И вдруг звонок в дверь. Я обрадовался:
– Ну вот, кто-то еще подъехал…
Открываю дверь… стоит Монахов. И грустная Любовь Михайловна. А за их спиной Озеров со своей супругой – улыбается. Монахов, мрачный, смотрит на нас на всех. Озеров взглянул на друга и все понял: Монахов хотел один остаться, с Юрой посидеть, а в квартире – чужие люди. Тогда Озеров Монахова в бок толкает:
– Вовка, молодежь. Нас ждут, фронтовиков – заходи!
И заталкивает его в квартиру, садится за стол, берет всю инициативу на себя:
– Ребята, наливайте! За нас, фронтовиков, за наших жен!
Таким образом он снял все царившее напряжение. И мы сидели весь вечер. Монахов достал старый немецкий аккордеон, хранившийся у него со времен войны, заиграл.
Когда гости стали расходиться, мы с Озеровым вышли в коридор и я его спросил, почему Владимир Васильевич такой мрачный и почему так быстро они вернулись с банкета.
– Санечка, мы надели свои фронтовые орденские планки, Ленинские медали. Приходим – а оказывается, для всех нас а-ля фуршет, стоять нам за круглыми столиками, а члены ЦК и Политбюро с Сергеем Федоровичем и Ириной Константиновной – сидят. Я и сказал Володьке: «Мы – фронтовики и должны стоять? Как-то неправильно это…» Мы встали и тихо ушли…
И Монахова, и Озерова обидело такое обращение. Оба они четко понимали разницу между службой властям и службой Отечеству.
Кстати, именно Юрий Николаевич Озеров открыл мне поездки за границу. Он пригласил меня сниматься в фильме «Битва за Москву» в роли капитана Кияшко, а съемки проходили в Словакии. Озеров добился через министра обороны, чтобы мне открыли выезд за границу. Это была моя первая поездка за рубеж, и после этого я стал ездить по всему миру.
Лена Монахова
Старшая сестра Юли Лена после ВГИКа устроилась редактором в Госкино, она курировала ряд региональных киностудий документального кино.
Мы все переживали за Ленку: старшая сестра, а замуж никак не выходит. Все ждет своего мужчину. Как-то приехала к нам в гости из Твери двоюродная сестра Владимира Васильевича Кэт, как мы ее называли, кандидат медицинских наук. Она – участница ВОВ, бывшая партизанка. Очень веселая женщина, но одинокая. У нее не было ни мужа, ни детей.
Вот мы сидим, накрыли на стол, ждем Лену, которая должна была вернуться из Пицунды, куда ездила в отпуск. Входит Лена с молодым человеком: высокий симпатичный парень вносит ее чемоданы – провожает. Мы пригласили его за стол, познакомились – звали парня Слава Волков, был он из Петербурга. Мы с Кэт переглянулись.
Мать и отец Лены ушли. И мы с Кэт набросились на Славу с расспросами. Все про него разузнали. Оказалось, что родом он был из Башкирии. Мама – педагог, отчим был вроде военным. А Слава окончил железнодорожный институт и занимал должность декана в Институте путей сообщения в Петербурге. В Пицунде Слава познакомился с Леночкой, у них завязался роман. И мы с Кэт взяли с него слово, что он съездит в Петербург, уладит свои дела и приедет просить руки и сердца Леночки. Потом мы месяца два-три ждали: приедет не приедет, человек ли слова? И приехал.
Лена и Слава поженились. У них родился сын Степан, прекрасный парень. Но родился уже позже моего Володи. Степа окончил институт, а в итоге выбрал профессию диджея. Он ездит по всему миру, работает на дискотеках.
А Кэт, милая Кэт, была прекрасным доктором. Когда на химическом заводе в Стерлитамаке произошла колоссальная авария, туда потребовались медицинские работники. Она поехала добровольцем, спасала людей, но отравилась ядовитыми веществами и умерла. В Стерлитамаке она и похоронена с почестями. Ей посмертно присвоено звание почетного жителя этого города.
Дед и внук
Мы сына должны были назвать Колей в честь Николая Угодника: и я, и Юля так хотели. Крестить сына планировали в августе, после Олимпиады-80, но 25 июля умер Володя Высоцкий, который должен был стать его крестным. И мы назвали сына Володей: и в честь Высоцкого, и в честь деда. Монахов очень этим гордился, и до конца дней своих, к сожалению, недолго, дед проявлял к внуку любовь невероятную. Отмахивался ото всех своих общественных дел, чтобы заниматься Володей. Мне, Юле, старшей дочери он не позволял приближаться к своему проигрывателю. Но как только Владька ходить научился, он смело опускал головку проигрывателя на пластинку – Монахов не препятствовал, а только говорил:
– Вот, к музыке привыкший товарищ вырастет.
И сын в отличие от меня вырос супермузыкальным, с абсолютным слухом. Когда ему было годика два, ему очень понравился Луи Армстронг. И вот малыш голосом изображал Армстронга – мы падали со смеху. И дед удовольствие получал неимоверное.
Помню, мы все вместе ездили на дачу, которую Владимир Васильевич снял специально, чтобы Любовь Михайловна летом отдыхала на природе с внуком. И Владимир Васильевич тогда очень жалел, что ему много лет предлагали обзавестись своей дачей: казенной или купить – а он все отказывался (да ну, комарье!), не любил эти загородные дома. А тут он как-то с грустинкой сказал:
– Эх, была бы своя дача, а то у людей снимаем.
Монахов умер от инфаркта через три с половиной года после рождения Володи. Любовь Михайловна хотела, чтобы прощание с ним прошло в квартире. Сказала, что Владимир Васильевич не любил официальных панихид. Но панихида все же была в Доме кино. С. Ф. Бондарчук упал без сознания, стоя в почетном карауле – сердце. Все-таки «Судьба человека» их связывала крепко. Потом гроб с телом привезли в квартиру. Его ученики на руках подняли гроб с телом Монахова на 6-й этаж (в лифт гроб не помещался), поставили в гостиной. Мы с Любовью Михайловной всю ночь просидели у гроба, не спали.
Первая квартира
Когда на свет появился Володька, я стал активно заниматься поиском жилья. Пытался получить хотя бы коммунальную квартиру, но нам не везло: встаю в очередь – а квартиры отдают другим. Много лет меня не принимали в Союз кинематографистов, хотя я уже был лауреатом международных кинофестивалей за свои короткометражные работы, а своим членам Союз кинематографистов помогал в получении жилплощади. И только когда прошел 5-й Съезд кинематографистов и Элем Климов стал Председателем Союза, с его помощью, будучи уже членом Союза, я получил квартиру, бывшую «дворницкую» на улице Горького (ныне Тверской).
Но этому предшествовало одно почти мистическое событие. Когда я демобилизовался из армии и приехал в Москву из своей части, то позвонил Боре Хмельницкому:
– Бориска, я демобилизован.
– Сашка, это дело надо отметить. Иди в ресторан ВТО, заказывай стол человек на десять. Мы после спектакля приедем.
Они отыграли спектакль и приехали: Володя Высоцкий, Ваня Бортник, Борька Хмельницкий, Валерка Золотухин… – набралось человек десять, гуляли допоздна.
В половине второго ночи мы вышли из ресторана, настроение хорошее. Мы идем по Тверской (тогда улица Горького), пересекли улицу и направляемся в сторону телеграфа к гостинице «Интурист». Высоцкий сказал, что там всегда стоят такси. А уже холодно было. Прошли здание Моссовета и у 1-го подъезда дома № 9 останавливаемся, а Высоцкий меня спрашивает:
– А куда тебе ехать-то?
– В городок Моссовета.
– Ого, куда тебя занесло!
– Ну, там общежитие ВГИКа…
Так как жить было негде, я уговорил комендантшу нашего вгиковского общежития, чтобы она мне по старой памяти выделила коечку хотя бы на время.
– А у тебя что, своего жилья нет?
– Нету…
Володя посмотрел мрачным взглядом на этот дом, на все его мемориальные доски: там и Сергей Федорович Бондарчук жил, и Олег Ефремов, и Вячеслав Невинный, и Владимир Андреев… – и говорит:
– Шуряка, придет время, и ты будешь жить в этом доме. Поверь мне.
Все засмеялись.
– Да-да, не смейтесь… и будешь жить в этом подъезде.
И показывает на 1-й подъезд. Ну, мы сели в такси и уехали.
Как говорится, прошли годы, мы похоронили Володю… И я после долгих мытарств получаю наконец квартиру, бывшую «дворницкую», но в том же доме и в том же подъезде, на которые указывал Высоцкий.
Борька Хмельницкий все время вспоминал:
– Ну надо же, Володька-то вещун какой был. А мы смеялись – накаркаешь… Ну вот и накаркал.
Ну, у меня та квартира, можно сказать, намолена. Я в ней обнаружил пустоту в двенадцать метров высотой и сделал три уровня. На первом этаже стоит диван Даниэля Ольбрыхского. Когда он приезжал в город, иногда оставался у меня ночевать. И мы его укладывали на этот диван.
Эдик Володарский частенько у меня ночевал на втором этаже. Там располагалась такая маленькая, с выносом в комнату, антресоль, а еще библиотека и мой кабинетик. Эдик там спал.
А на третьем этажике – 6–8 кв. метров – была спальня с большим круглым окном. Всегда холодная – потому что окно огромное, на Брюсов переулок выходило (тогда улица Нежданова), прямо на храм Воскресения Словущего. Там спальня наша с Юлей была. А вторая ступенечка на лестнице, ведшей на второй этаж, была ступенькой Юры Демича. Он когда в гости приходил, все время там садился. У подоконника пуфик стоял, на него присаживались Лева Борисов, Володя Сошальский или Евгений Александрович Евстигнеев. Иногда захаживали Олег Ефремов, Слава Невинный, Гоша Рерберг, Коля Караченцов и другие.
И вот так мы жили в нашей квартире. Я счастлив был. Это была моя первая жилплощадь в Москве – как говорится, завоевал Москву.
Кто редактирует мою жизнь
После десяти с лишним лет работы на Киностудии им. Горького Юле пришлось уйти.
Когда скончался ее папа Владимир Васильевич Монахов, Юлю начали травить на студии, но за нее заступился С. А. Герасимов, в объединении которого Юля работала. После смерти Герасимова рядом оказалась Татьяна Михайловна Лиознова, которая Юлю очень уважала и ценила. Они как-то подружись за годы работы. У Татьяны Михайловны не было своих детей, и Юлю она как бы считала своей дочкой. А Юля очень ласково и нежно делала какие-то свои редакторские замечания. И Татьяна Михайловна всегда ее слушала.
Последняя моя встреча с Лиозновой состоялась, когда Татьяна Михайловна уже была тяжело больна. Она пришла в «Дом Ханжонкова», который был на Маяковке. Меня попросили вручить медаль Ханжонкова Татьяне Михайловне Лиозновой и Татьяне Окуневской. Я съюморил, сказал что-то вроде:
– Двум Таням-матаням дарю, Не дарю, а вручаю, Вручаю медали…Юля не смогла тогда быть на вручении, но она просила меня Татьяне Михайловне передать какую-то куколку (Татьяна Михайловна собирала игрушки). Я вручил медали, прочитал стихотворение, воспевающее женщин в кинематографе, и Татьяне Михайловне на ухо шепчу:
– Это от Юли…
И даю тихонько ей игрушку. А Лиознова берет ее и на весь зал говорит:
– Друзья мои, это Юлечка Монахова мне подарила.
И начала рассказывать про мою жену: какая она славная, какая хорошая… А я стоял у микрофона и комментировал:
– Это Татьяна Михайловна говорит так, чтобы я свою жену не обижал. Она пытается мне доказать, что моя жена – ангел… Хотя это мне лучше всех известно.
Вот такое шоу мы устроили.
Когда Татьяна Михайловна ушла из кино, Юлю стали перебрасывать на какие-то рекламные ролики – это после работы на полнометражных картинах. Она приходила домой и плакала:
– Ну что я буду на рекламных роликах сидеть? Я даже не знаю, как их редактировать.
Она привыкла к полнометражным фильмам, к сценарной работе. Тогда я ей сказал:
– Все, уходи.
Она ушла, и сейчас меня редактирует, мою жизнь, мое здоровье. И мне кажется, счастлива. Если нет – я подумаю, что сделать, чтобы она была счастлива.
Сын
Мне очень повезло, что с самого рождения сына его воспитанием занимался мой тесть. Все музыкальные способности у Владьки – от него. К сожалению, у сына мой характер: ни перед кем не гнуться, не заискивать – быть самим собой во всем. Но это и черта его деда. Теща Любовь Михайловна много лет Володю воспитывала, души в нем не чаяла.
Я жалею, что не так много времени проводил с сыном, когда он рос, потому что приходилось много работать, надо было обеспечивать семью. Юля уже ушла с Киностудии им. Горького. У моей сестры в Сибири погиб муж-шахтер, а у нее двое дочерей и внучка – тоже на моем содержании. Поэтому я соглашался даже на предложения, которые мне не нравились. Мне стыдно было, когда Юлька приезжала ко мне в экспедицию на съемки и ей не во что было переодеться. Я уже был популярным артистом – а денег нет. Стыдно было, что у нее не было вечернего платья, чтобы пройти на фестивале по красной дорожке. Но Юля относилась к этому с юмором. Она мне говорила:
– Пойду в том, что есть. Давай схулиганим.
Вот я иду в парадной одежде, а сам возьму и одну брючину засучу – то есть с голой ногой иду, но в смокинге. Так мы хулиганили, оправдывая свое нищенство.
А сыном не было достаточно времени заниматься, потому что я часто был в экспедициях. Владьку я только пару раз брал с собой. Первый раз, когда сыну исполнилось 9 лет, мы с ним поехали в Дагомыс недалеко от Сочи. Я участвовал в съемках фильма «Отель «Эдем» Володи Любомудрова. Думаю, море рядом, Володя отдохнет, покупается, загорит. Как раз шли школьные каникулы. Поручил ассистентке по актерам присматривать за ребенком. А сын взял и влюбился в Таню Догилеву, которая с нами снималась, и стал писать стихи. Юля, когда мы приехали, нашла у него тетрадку. А в ней – грустные-грустные стихи моего сына:
А я к тебе приехал, Стою на мостовой. Ты, грусть, моя утеха, Уведи меня домой.Это он посвятил Тане Догилевой. Такие трогательные детские стихи. Он и сейчас пишет, даже на английском, но мне не показывает.
Второй раз я взял Владьку в экспедицию в Пензенскую область, где мы снимали фильм «Русские братья». Это была последняя роль Володи Ивашева. Снимал мой друг Коля Фомин, с которым мы вместе учились в Горьковском театральном училище. И я Колю попросил, чтобы он Володю Ивашева утвердил на роль офицера Белой гвардии: он в то время сидел без работы. Снималась и Нина Русланова, замечательная актриса. Витя Павлов тоже по моей рекомендации пришел в фильм. И в эту экспедицию я взял сына. Ему там исполнилось 10 лет. Витя Павлов подарил Володе детские настенные часы в форме мухомора, которые до сих пор у него хранятся – вот это было первое прикосновение моего сына к кинематографу. До этого бабушка, Любовь Михайловна («бриллиантовая», как я ее называл), оберегала моего сына от кинематографа. Она прожила с Владимиром Васильевичем всю свою жизнь и понимала, как страшно и мучительно дается это кино.
Я не мечтал ни о какой конкретной профессии для сына, я предоставил ему выбирать самому. И сделал я так, исходя из собственного опыта. Моя мама мечтала, чтобы я стал военным, как все мужчины в ее роду, а я не хотел, но я честно отслужил в Таманской дивизии и не жалею. Теперь я точно знаю, что я был бы плохим военным, потому что я не умею кричать на людей. Командовать. Я могу прикрикнуть как режиссер, но военный должен это делать постоянно – чтобы держать сотни людей в кулаке. Если бы я пошел в военные, я обязательно стал бы офицером. Но я пошел туда, куда хотел, и очень этому рад. И у Владимира Васильевича в кинематографе жизнь была прекрасная. Его признавали. Обычно операторов не знают, но когда Монахова представляли как оператора фильма «Судьба человека», люди стоя ему аплодировали. И он был счастлив, что он что-то сделал для людей. И я счастлив, когда люди мне аплодируют. Значит, я не зря жил. Значит, что-то сделал.
Володя сам выбрал профессию: поступил на журналистику.
Музыкального образования у сына нет, но он самостоятельно освоил несколько музыкальных инструментов. Он играет на клавишных, на гитаре, на ударных, прекрасно поет. Владька исполняет репертуар Элвиса Пресли, Чака Берри, делает пародии на Кобзона, Магомаева, Розенбаума, имитирует голосом музыкальные инструменты: виолончель, гитару, трубу… птичьи голоса, шумы – он удивительно музыкален. Владька выступал на концерте в Концертном зале им. Чайковского: на рояле сыграл собственную композицию, спародировал Кобзона, Розенбаума. И тот и другой за кулисами слышали пародию и сделали мне комплимент о том, какой у меня талантливый сын.
Моими близкими старшими друзьями были Юрий Борисович Никулин и Борис Сергеевич Брунов – удивительные, волшебные люди. Помню, они регулярно проводили заседания международного детектив-клуба, где собирались артисты, писатели – все, кто были как-то связаны с детективами. Идею создания клуба предложили братья Вайнеры, первым президентом стал Борис Кошелев. Сейчас его возглавляет Виктор Дудинов. Я тоже был членом этого клуба. И на одном из заседаний этого детектив-клуба вышел мой сын и показал пародии на Никулина, Этуша и Брунова. Они обхохотались. Мы сидим, и Никулин говорит Володе:
– Бросай щелкоперство, иди в эстрадно-цирковое училище.
Никулин зазывал его в цирк, а Брунов возражал:
– Не слушай Юру, иди ко мне на эстрадно-театральный в ГИТИС.
Он в то время возглавлял эстрадно-театральный факультет в ГИТИСе.
Мой сын тогда уже полгода учился на журналистике. Но вот умирает Юрий Никулин, а через пять дней – Борис Брунов. Брунов из больницы убежал на похороны друга, а через пять дней скончался сам. Возможно, это на Владьку как-то повлияло, но помню, я возвращаюсь из очередной экспедиции и интересуюсь, как у сына дела в университете, а он отвечает:
– Пап, да я бросил журналистику.
– Что случилось? – я занервничал.
– Так я учусь, ты не волнуйся…
– Где?
– В эстрадно-цирковом училище.
Я ему ничего не запретил. Когда Владька окончил училище, я ему сказал:
– Ну все, давай я поговорю с Максимом Никулиным… (Это сын Юрия Владимировича.)
– Пап, но я же учусь…
– Как так?
– Учусь в ГИТИСе. Театрально-эстрадный факультет. Возглавляет твой друг Валерий Гаркалин.
Гаркалин тогда свой первый набор сделал. Я опять не стал мешать.
Мне сын запрещал ходить на просмотры. Моя жена ходила, тихонько снимала для меня. Гаркалин был им доволен. Владька окончил ГИТИС.
В тот период он выступал с концертами в Канаде. А в Вашингтонском университете на моей творческой встрече со студентами, на которой присутствовал и Владька, меня спросили, чем занимается мой сын.
– Да вот, ГИТИС окончил, эстрадно-театральный факультет.
– А что он умеет?
Володя улыбнулся:
– Дайте гитару.
И исполнил песни из репертуара Элвиса Пресли и Чака Берри. И такой был успех! Его просто вынесли на руках.
Когда мы праздновали мой 65-летний юбилей, мне спонсоры устроили роскошный вечер. Открыли ресторан таким образом, чтобы люди с улицы могли заходить, проходить сквозь него и угощаться.
Пришли мои друзья, известные актеры, а мой сын просто сел за рояль и создал музыкальное сопровождение вечера, играя свои импровизации. Я его никому не представлял. Владька меня чувствует, знает мое настроение, поэтому играл то, что мне ложилось на душу. После вечера он меня спросил:
– Пап, тебе понравилось?
– Да.
– Ну, значит, я играл не зря.
После окончания ГИТИСа, я сыну говорю:
– Ну, молодец, сынок. Давай работать.
– Папа, но я же учусь.
– Где теперь? – поразился я.
– В твоем и дедушкином институте. Во ВГИКе.
Владька поступил на кинорежиссуру. У него была мечта – снять мюзикл, так как сейчас у нас в стране мюзиклы почти не снимают.
Через полгода учебы во ВГИКе в мастерской одного моего друга, тоже дзигановца, он ушел. И я узнал, что Владька поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Владимира Хотиненко.
– Почему же ты из ВГИКа ушел? – спросил я.
– Ну, про тебя твой друг на занятиях киношные анекдоты травит. Взятые на платное обучение дети олигархов сидят, слушают с упоением его анекдоты, а мастерства никакого. Нужно готовить этюд на площадке, а собрать студентов мастерской не могу, потому что все они в разъездах – отдыхают на курортах: в Европах, на островах с родителями.
Вот сын и ушел к Хотиненко, окончил. Снял диплом. Сейчас озвучание закончил, выровнял цвет и свет в студии у Леши Лебешева – сына Паши Лебешева, моего покойного друга. Но платим за диплом мы сами. Хоть мы и ругали советскую власть, но нам давали какие-то деньги на диплом. Жаль, но сейчас уже такие Саши Панкратовы и Васи Шукшины никогда не поступят в институт. Откуда у рабочей семьи такие деньги, чтобы оплатить образование детей?
О чем сейчас диплом, я точно не знаю. Сын мне не показывает. Жена посмотрела, ей фильм понравился. До этого Владька приносил мне один дипломный сценарий – я считаю, гениальный – о том, что мы потеряли голос и не можем предупредить человечество о мировой катастрофе. Немой ребенок пытается что-то объяснить взрослым, но все развлекаются, живут своей жизнью, и им наплевать на проблемы. Я, дурак, сделал два замечания по сценарию. Владька порвал его на моих глазах и выбросил. Сказал:
– С твоими дополнениями это уже будет не мой сценарий.
Написал новый сценарий, по которому и снял диплом.
Еще сын ставил прекрасный моноспектакль. Для меня Юля репетицию тихонько записала на видео. Весь моноспектакль построен на пантомиме и на имитации голосом различных звуков и шумов. И то Владька очень обиделся, когда узнал, что мы посмотрели репетицию, потому что спектакль еще не был готов.
У него мой характер. Вот и я сейчас спектакль новый играю с Таней Кравченко. Юля все рвется посмотреть, а я не пускаю пока. По моему мнению, спектакль не доведен до ума. Вот и сын так же: считает, что все еще сыровато.
Мой сын унаследовал от меня еще одно качество, я считаю, очень важное для мужчины – независимость, надежда и расчет только на свои силы. Сейчас, работая, он старается нигде не прикрываться моим авторитетом, не спекулировать моим именем. Он женатый человек, и даже в семейной жизни старается свой бюджет верстать сам, не обращаться ко мне за помощью, и этим вызывает у меня глубокое уважение.
Семья – это «я» семь раз
Говорят, что двум творческим людям сложнее строить семейную жизнь, чем людям других, нетворческих, профессий. Для меня это не так однозначно, поэтому я могу говорить только о своем жизненном опыте. По-моему, у нас в семье все так же, как у других. Моя жена Юля, дочь известного кинооператора, которая к тому же более десяти лет проработала с такими мастерами, как С. А. Герасимов, Т. М. Лиознова, прекрасно понимает, какой он, творческий человек. Она по своему жизненному опыту знает, как он раним, как ему необходима своевременная тактичная поддержка. Мне кажется, она меня чувствует каким-то внутренним чутьем – чувством. Она хорошо знает, когда мне надо побыть одному. Например, если я в комнате и закрыл стеклянную дверь – значит, входить нельзя, я работаю. И в чем особенность семьи, одно из ее главных свойств – там люди, в результате многолетней совместной жизни, начинают чувствовать друг друга на каком-то ином, уже не бытовом уровне. Я постоянно ощущаю Юлину поддержку. Я чувствую, что она хочет, чтобы я жил творческой жизнью, продолжал творить. Другими словами, она вселяет в меня веру, что я талантлив.
Однажды меня потряс один случай. У Юли была однокурсница, работала главным редактором «Союзмультфильма». Потом вышла замуж за иностранца, уехала за границу. И там заболела раком. Она наказала в той стране себя усыпить и только Юле написала предсмертное письмо. Я приехал из командировки, а Юля сидит и плачет. Я спросил, что случилось, она не ответила. И только потом, через несколько дней, сказала:
– Давай сходим в церковь.
Мы сходили в храм, и она мне рассказала о кончине своей подруги. И эта ее подруга, хотя дружили они всем курсом, только Юле прислала свою исповедь и свои дневники – то есть она ее выбрала в последние дни своей жизни своим духовником, доверяя ей свое самое сокровенное. Для меня это был очень важный знак. Знак того, что Юля готова принимать исповедь как священнослужитель.
Как я уже говорил, число «семь» для меня – счастливая цифра. Вот и сын у меня родился 7 июля. Для меня семья – это «я» семь раз. У одинокого человека нет семьи. Он живет по формуле: я есмь я. Если бы я был сильным, я бы ушел в монахи. Но я слаб, я подвержен земным слабостям. Поэтому семья мне необходима. Для меня семья – это ограничитель греховности. Юля прощает мне мои слабости, потому что она верит – это всего лишь слабости, а крепость – она в семье.
Я также замечаю, что когда к моим друзьям-актерам подходят поклонницы, то их жены начинают нервничать, ревновать, потому что подходят такие красавицы – глаз не оторвать. Поэтому я всегда восхищался Ирой Алферовой. Около Саши Абдулова всегда вилось много женщин, а Ирочка просто улыбалась и проходила мимо. Вот моя Юля тоже улыбается, когда ко мне кто-то подходит. Я ее подначиваю:
– Что ты улыбаешься, смотри, какая стерва красивая подошла, так ко мне и жмется, и зовет куда-то.
А она отвечает с улыбкой:
– Санечка, значит, ты кому-то нужен, значит, ты необходим.
То есть она радуется моему успеху.
Но потом я начинаю думать, может, я ей безразличен? И сам себе отвечаю – конечно же нет. Просто моя Юля верит мне. Ведь мы же семья! А семьи без веры быть не может.
Вместо заключения
Наша жизнь есть постоянное движение. А когда мы двигаемся, мы вынуждены смотреть вперед, чтобы не налететь на препятствия; под ноги, чтобы никуда не провалиться, ни обо что не споткнуться – то есть мы смотрим вовне. У нас часто не хватает времени заглянуть внутрь себя. Но наступают в жизни мгновения, когда мы вынуждены остановиться. Моя остановка была вызвана тем, что писалась книга. В процессе работы над ней восстанавливались в памяти фрагменты жизни, складывалось из них единое целое. И поневоле сложилась жизнь заново. Я ее как бы заново пережил.
Я осознал, что на протяжении своего пути потерял многих друзей, с которыми вместе учился, работал. С кем-то разошелся по разным причинам, по несовпадению взглядов, что в жизни нередко. И сейчас, в эти моменты тишины и осмысления жизни, думаешь: что же останется после тебя? Да, безусловно, наше продолжение – это дети. Я счастливый человек, потому что судьба мне подарила чуткую и понимающую жену и замечательного талантливого сына.
Но у меня есть и другие «дети» – это мои фильмы. Больно: все инвалиды не по моей вине. Но каждый фильм – это прожитая жизнь. Моя жизнь, прожитая по сценарию другого человека. Счастлив ли я, что судьбой мне было дано прожить не только свою жизнь, но и жизни других людей, играя роли – больные роли, вымученные, вытащенные из нутра, как чека из гранаты?..
Пока писалась эта книга, я заметил, что какие-то детали стерлись из памяти, а что-то, напротив, помнится очень хорошо. Много я недосказал, много подзабыл. Но я ничего не хочу менять. Зачем? Глупо. Я сложил из этих кусочков историю жизни и выношу на Ваш суд, читатель. Здесь не все искренне. Здесь много показного – защищаюсь. Но я всегда уважал честность – наверное, потому что мне довелось родиться в тех местах, где жил уважаемый мною человек Василий Макарович Шукшин, у которого правда была самым главным мерилом жизни. Ему принадлежит фраза: «Нравственность есть Правда».
Надеюсь, в моей книге ты найдешь для себя что-то поучительное. Может быть, мой опыт поможет тебе избежать некоторых ошибок. Главное, я ничего не приукрасил, ничего не утаил. Я был честен перед тобой, читатель.
Не ищите меня в поднебесье, Не теряйте меня на земле. Я слова собираю для песни, Все слова о добре и тепле. Я любовь поселил в своем сердце, Выгнал ненависть вон из души, Православные чтоб с иноверцами Стали в дружбе и мыслить, и жить. А еще я хочу, чтобы рядом В ожиданьи добра и тепла, Вся земля моя, вся, перед взглядом Не заката, рассвета ждала. Чтобы солнце росинки, как слезы, Вытирало с земного лица, Чтоб шумели в Алтае березы Возле окон и возле крыльца. Чтоб смеялись смешные мальчишки, В чистых водах купая коня, А Россию хранил чтоб Всевышний Во вселенной для всех и меня. С уважением,Ваш Александр Панкратов-ЧерныйСноски
1
В качестве эпиграфов к книге здесь и далее использованы стихи А. В. Панкратова-Чёрного из сборника «Хочу сказать…», С-П, StandART, 2009.
(обратно)2
Один, два, три… (фр.)
(обратно)3
Фотоаппарат немецкой фирмы Leica Camera AG.
(обратно)4
А. В. Панкратов-Черный «Хочу сказать…» // С-П, StandART, 2009, стр. 410.
(обратно)


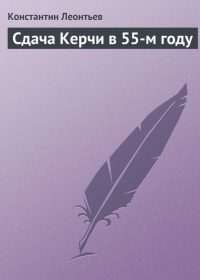


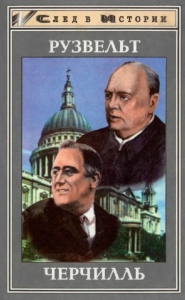
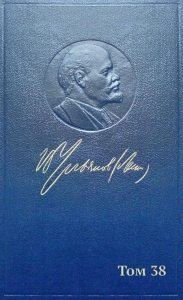
Комментарии к книге «Судьба-злодейка», Александр Васильевич Панкратов-Чёрный
Всего 0 комментариев