А. А. Кизеветтер ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭУПЫ Протопоп Аввакум * Екатерина I * Меншиков Толстой * Ягужинский * Дм. Голицын Волынский * Екатерина II * Потёмкин Ф. В. Ростопчин * Александр I * Аракчеев
*
Серия «ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ»
Примечания С. М. Маркедонова
© Составление О. В. Будницкого
© Вступительная статья О. В. Будницкого, 1997
© Оформление, изд-во «Феникс», 1997
НАСЛЕДНИК КЛЮЧЕВСКОГО
«Честь имеем рекомендовать историко-филологическому факультету приват-доцента А. А. Кизеветтера для замещения экстраординатуры по кафедре русской истории», — писал 8 февраля 1910 года Василий Осипович Ключевский. Охарактеризовав далее научную и преподавательскую деятельность Кизеветтера, самый популярный лектор в истории русской высшей школы писал: «Факультет, хорошо зная г-на Кизеветтера как прекрасно образованного, опытного и талантливого преподавателя, в минувшем академическом году поручил ему обязательный курс по новейшей русской истории. Два капитальные исследования по русской истории и 21 год преподавательской деятельности, из коих 11 лет посвящены Московскому университету, смеем думать, достаточно ручаются за то, что в г-не Кизеветтере факультет приобретет испытанного и вполне надежного сотрудника»1[1].
Однако Кизеветтеру не довелось занять кафедру своего учителя. Он не был утвержден в должности профессора Министерством народного просвещения по политическим мотивам — кадет Кизеветтер оказался чересчур левым для министерства. А в следующем году Кизеветтер и вовсе покинул университет вместе с большой группой профессоров, таким образом выразившей протест против политики Министерства просвещения, возглавлявшегося ЛАКассо; политики, направленной на фактическую ликвидацию университетской автономии.
Почему Ключевский предпочел кандидатуру Кизеветтера другому своему ученику, не менее крупному исследователю, М. М. Богословскому? Точнее, почему Кизеветтер оказался, как пишет автор статьи о Ключевском и его учениках Т. Эммонс, «видимо, самым любимым» из них? Очевидно, разгадка этой не очень сложной задачи заключается в том, что «среди учеников Ключевского Кизеветтер лучше всех владел литературным стилем и лекторским искусством». Даже сдержанный Милюков, другой учитель Кизеветтера, а затем лидер партии, в которую он входил, «признавал, что Кизеветтер обладал особым талантом»2.
Кизеветтер «унаследовал» литературное и лекторское мастерство учителя; полагаю даже, что «портретная галерея» деятелей русской истории, им созданная, не уступает аналогичной «галерее» Ключевского по литературному блеску, а по количеству «портретов», несомненно, превосходит. Кстати, библиография (по-видимому, не исчерпывающая) работ Кизеветтера насчитывает 1003 названия! И это без учета нескольких сотен политико-публицистических статей3. К сожалению, работы Кизеветтера при советской власти, выславшей его в 1922 году за границу, не переиздавались и до сих пор недоступны широким кругам читателей; в наибольшей степени это относится к его произведениям эмигрантского периода. Между тем в библиографии его работ они занимают несколько менее половины.
Однако вернемся к теме «Кизеветтер и Ключевский». Я не ставлю своей задачей сколь-нибудь подробный анализ личных и творческих взаимоотношений двух историков; остановлюсь лишь на одном аспекте — литературном мастерстве учителя и ученика, т. е. на том, что обеспечило их работам популярность, далеко выходящую за рамки круга профессионалов.
Зять Кизеветтера Е. Ф. Максимович писал во введении к составленной им библиографии работ своего знаменитого родственника: «Радость научного творчества была открыта А. А. всего полнее и обаятельнее В. О. Ключевским. К памяти своего блестящего учителя А.А. всю свою жизнь относился благоговейно. В публикуемом списке около 30 номеров посвящены Ключевскому и его работам…. В России, на столбцах «Русских ведомостей», А. А. с неуклонным постоянством, ежегодно, не исключая и бурного 1917 и страшного 1918 г., отмечал своими статьями годовщину смерти своего учителя…. По высылке из Советской России, вновь обретя так высоко ценимую им свободу печатного слова, А.А. первую же свою статью, опубликованную в эмиграции, посвятил воспоминаниям о Ключевском»4.
Т. Эммонс справедливо называет Кизеветтера «самым горячим поклонником» Ключевского. «Для Кизеветтера Ключевский был олицетворением ученого и поэта, сочетания, необходимого для действительно великого историка»5. Чтобы убедиться в точности этого утверждения, достаточно привести несколько выдержек из статьи Кизеветтера памяти Ключевского: «Было бы недостаточно сказать, что Ключевский двинул вперед или реформировал науку русской истории, — писал Кизеветтер. — Мы будем гораздо ближе к истине, сказав, что он эту науку создал. <…> Ученый и поэт, великий систематик-схематизатор и чуткий изобразитель конкретных явлений жизни, первоклассный мастер широких обобщений и несравненный аналитик, ценивший и любивший детальные и микроскопические наблюдения, таким был Ключевский, как историк»6.
Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что именно изобразительный дар Кизеветтер более всего ценил в своем учителе: «Нельзя быть историком, не умея мысленно представить себе и воссоздать словом перед другими явления прошлого во всей их конкретности, во всем их индивидуальном своеобразии, во всей сочности присущих им жизненных красок. Без этого дара конкретного воссоздания былой жизни не будет историка, — будет только резонирующий диалектик, играющий словесными формулами»7.
Даром конкретного воссоздания былой жизни — в особенности характеров людей былого времени — Кизеветтер обладал вполне. В этом отношении, как и во многих других, он был подлинным наследником Ключевского. Этот дар обеспечил ему широкую популярность среди людей, мало-мальски интересующихся историей. Уверен, что книга «исторических силуэтов» «кисти» Кизеветтера, знаменующая возвращение широкой читательской аудитории трудов еще одного блистательного историка, вызовет интерес не меньший, чем при первом появлении включенных в нее очерков.
Теперь — более подробно о «трудах и днях» А. А. Кизеветтера и немного — о его «исторических силуэтах». Моя задача облегчается тем, что, во-первых, сам Кизеветтер оставил книгу мемуаров — «На рубеже двух столетий» (Прага, 1929), в которой, правда, довел рассказ о своей жизни и в еще большей степени о своей эпохе до 1914 года, и, во-вторых, наличием двух достаточно подробных работ о Кизеветтере — биографического очерка А. В. Флоровского(1937) и книги М. Г. Вандалковской о П. Н. Милюкове и А. А. Кизеветтере как политических деятелях и историках8.
Александр Александрович Кизеветтер родился 10 мая 1866 года в Петербурге; однако семья будущего историка вплоть до 1884 года, когда он поступил в Московский университет, жила в Оренбурге. Отец Александра Александровича, Александр Иванович, служил в Оренбурге представителем военного министерства при генерал-губернаторе. По отцовской линии Кизеветтер происходил из обрусевших немцев; мать историка, Александра Николаевна Турчанинова, была внучкой известного церковного композитора, протоиерея Петра Ивановича Турчанинова и дочерью преподавателя истории, автора книги о церковных соборах в России.
Еще в гимназии Кизеветтер прочел вышедшую в 1881 году «Боярскую Думу Древней Руси» Ключевского. Книга произвела на него сильное впечатление и во многом повлияла на выбор профессии. В 1884 году Кизеветтер поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Среди его учителей, кроме Ключевского, были П. Г. Виноградов, В. И. Терье, молодой приват-доцент П. Н. Милюков, историк литературы Н. С. Тихонравов, искусствовед Й. В. Цветаев и др. Кроме «положенных» занятий Кизеветтер имел возможность слушать лекции популярных преподавателей других факультетов, в том числе юриста С. А. Муромцева, будущего председателя I Государственной Думы.
В 1888 году Кизеветтер окончил Московский университет и был оставлен Ключевским при кафедре русской истории для подготовки к магистерскому званию. После окончания университета Кизеветтер преподавал историю в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, в гимназии Л. Ф. Ржевской, на так называемых коллективных уроках для учащихся женщин, на Высших женских курсах В. И. Герье. С 1897 года Кизеветтер начал читать специальные курсы в Московском университете по внутренней политике России в первой половине XIX века и др., а в следующем году стал приват-доцентом. Профессором Московского университета ему удалось стать только двадцать лет спустя, в марте 1917 года. Правда, «для этого» в России должна была случиться революция.
Преподавал Кизеветтер также в разное время в школе Малого театра, Народном университете А. Л. Шанявского, Коммерческом институте. Разнообразный преподавательский опыт, «чувство аудитории», несомненно, способствовали развитию не только лекторского мастерства, но и литературной «популяризаторской жилки» Кизеветтера.
В 1894 году Кизеветтер женился на вдове своего близкого друга А. А. Кудрявцева, Екатерине Яковлевне Кудрявцевой, урожденной Фраузенфельдер, и принял на себя воспитание ее двоих детей — Всеволода и Натальи; год спустя у них родилась дочь Екатерина, вышедшая впоследствии замуж за Е. Ф. Максимовича.
«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли», — писал в статье памяти С. М. Соловьева Ключевский9. Главными фактами научной биографии Кизеветтера, если следовать отточенной формуле Ключевского, были две его диссертации: магистерская — «Посадская община в России XVIII столетия» (М., 1903) и докторская — «Городовое положение Екатерины II 1785 года» (М.,1909). П. Н. Милюков считал, что Кизеветтер как историк был «подавлен готовой схемой русской истории в блестящем синтезе Ключевского»10, что вызвало его обращение к локальным проблемам. Вероятно, это так: Соловьевы и Ключевские рождаются не каждый день. Однако с решением поставленных «локальных» проблем Кизеветтер справился блестяще.
Наиболее основательно исследовавшая научное творчество Кизеветтера М. Г. Вандалковская пишет, что его работа о посадской общине «имела новаторский характер. Он изучил общественный организм (посадскую общину) с точки зрения социального состава и доказал на основе впервые введенного в научный оборот нового документального материала тесную связь различных социальных категорий населения с их экономическим положением, а также обусловленность правового статуса населения уровнем их социально-экономического развития»11. Семь лет работы в архивах позволили Кизеветтеру в деталях нарисовать «бытовую социальную физиономию» посадской общины.
Кроме сугубо исторических, работа Кизеветтера имела и некую политическую «сверхзадачу». Убежденный конституционалист, он искал элементы самоуправления, представительства в истории русского общества. «Кизеветтер поставил своей целью, — справедливо отмечает М. Раев, — выявить те автономные элементы в русском обществе, которые представляли собой как бы альтернативу централизации и бюрократизации самодержавия»12.
Книга Кизеветтера не только принесла ему искомую магистерскую степень, но и премию имени Г. Ф. Карпова, присужденную Обществом истории и древностей российских.
Вторая диссертация Кизеветтера хронологически продолжала первую; скрупулезный анализ источников привел его к новым выводам относительно политики Екатерины II. Ки-зеветтер опровергал принятое в российской историографии мнение, что Екатерина, вдохновляемая идеями Просвещения, стремилась к ликвидации деспотизма и крепостничества и лишь со временем стала выражать прежде всего интересы дворянства. Он утверждал, что Екатерина II «с самого начала своего правления защищала интересы дворянства и никогда не помышляла об отмене крепостного права»13. В результате законодательство Екатерины оказалось направленным на то, чтобы «подновить и перекрасить фасад государственного здания»14.
Кроме указанных капитальных сочинений Кизеветтер опубликовал сотни менее объемистых научных, популярных и публицистических работ; как уже упоминалось, общее число его публикаций еще в дореволюционный период превысило 500. Первой его публикацией была сугубо специальная работа «Значение «перехожих четвертей» при мене поместий в XVIII веке» в «Юридическом вестнике» в 1890 году. Затем, после пятилетней паузы — «Иван Грозный и его оппоненты», исследование, вполне научное, но написанное достаточно живым языком, явно предназначавшееся не только для профессионалов и появившееся на страницах едва ли не самого популярного среди интеллигентной публики толстого журнала — «Русской мысли». Время и личность Ивана Грозного, отношение к которым стало «знаковым» для русского общества, и далее привлекали внимание Кизеветтера. Хотя он специализировался на истории России XVIII — первой половины XIX веков, новые книги об эпохе Ивана Грозного неизменно вызывали его отклики. Так, он выступил впоследствии с рецензиями на известные книги об Иване IV Р. Ю. Виппера и С. Ф. Платонова15.
Со второй половины 1890-х годов «толстые» литературные и научно-популярные журналы регулярно публикуют статьи и рецензии Кизеветтера. Он стал постоянным автором «Русского богатства», «Образования», «Журнала для всех»; с 1903 г. Кизеветтер — помощник В. А. Гольцева по изданию «Русской мысли», в 1907–1911 годах он редактировал этот журнал совместно с П. Б. Струве. С 1906 года Кизеветтер — постоянный сотрудник «Русских ведомостей», с 1912 года — член Товарищества по изданию «Русских ведомостей».
Значительную часть кизеветтеровских публикаций составляли биографические очерки: уже в 1898 году этюд об Артемии Петровиче Волынском, опубликованный в «Журнале для всех», сопровождался подзаголовком «Исторические силуэты». Впоследствии Кизеветтер назовет так одну из своих книг. Наиболее серьезные журнальные публикации Кизеветтер собирал в книги. В 1912 году вышел солидный том его «Исторических очерков», в 1915 — «Исторические отклики». Кроме того, Кизеветтер издал целый ряд популярных брошюр, многие из которых выдержали несколько изданий. Особенно охотно печатала его «Донская речь», одно из самых мощных демократических издательств России.
«Девятнадцатый век в истории России», «Протопоп Аввакум», «Петр Великий за границей», «День царя Алексея Михайловича» и другие тексты Кизеветтера, написанные «для публики», пользовались успехом и быстро расходились; некоторые выдержали не одно издание.
Неизменным увлечением Кизеветтера был театр. Он был лично знаком со многими выдающимися театральными актерами, в том числе с такими звездами, как М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, А. И. Сумбатов-Южин. На страницах газет и журналов регулярно появлялись его театральные рецензии, исследования по истории русского театра. Впоследствии некоторые из них составили книгу «Театр. Очерки, размышления, заметки» (М., 1922). Кизеветтер написал также биографию великого актера М. С. Щепкина, которая после публикации в «Русской мысли» выдержала еще и два книжных издания.
Общественный темперамент и либеральные убеждения Кизеветтера обусловили его активное участие в освободительном движении. От просветительской, лекторской деятельности он постепенно переходит к политической. Кизеветтер принимает участие в банкетной кампании конца 1904 года, когда земцы и либеральная интеллигенция открыто выступают с требованием введения народного представительства и ограничения самодержавия. Вполне логичным было вступление Кизеветтера в «профессорскую партию» — партию кадетов, конституировавшуюся осенью 1905 года. С января 1906 года по 1918-й он был членом ее ЦК.
Кизеветтер, блестящий оратор, принял самое активное участие в избирательных кампаниях в I и II Государственные Думы. Он был «ударной силой» партии и в созвездии кадетских златоустов по праву претендовал на одно из первых мест (первое место в этом негласном соревновании принадлежало, по мнению большинства современников, московскому адвокату В. А. Маклакову). Кстати, совместно с Маклаковым Кизеветтер написал своеобразное руководство для кадетских ораторов — «Нападки на партию народной свободы (официальное название партии. — О.Б.) и ответы на них». Это пособие было более известно под названием «кизеветтеровского катехизиса».
С горечью встретил Кизеветтер известие о роспуске I Думы. Много лет спустя, уже в эмиграции, он писал, что «если когда-нибудь будет написана беспристрастная история первой Государственной Думы, тогда с полной ясностью будет установлено, что страна послала в первый русский парламент в наибольшем числе людей, одушевленных высоким представлением о предстоявшей им задаче политического возрождения родины. Их работа была насильственно оборвана в самом начале и это обстоятельство имело неисчислимые роковые последствия»16.
Во II Думу Кизеветтер был избран от Москвы; однако ее тоже постигла участь первой. Власть и общество так и не сумели найти общий язык друг с другом. Это стало одной из предпосылок катастрофы 1917 года.
После бурного «романа» с политикой Кизеветтер вернулся к письменному столу, хотя, разумеется, продолжал быть деятельным членом московской организации партии кадетов. Однако такого накала, как в 1905–1906 годах, его партийная работа уже не достигала.
Кизеветтер восторженно встретил Февральскую революцию. Много писал в «Русских ведомостях» по различным политическим вопросам; читал лекции на курсах агитаторов при Московском отделении партии кадетов. В статье «Большевизм», опубликованной в «Русских ведомостях» еще 28 марта 1917 года, Кизеветтер выступил против классовой диктатуры. Его реакция на Октябрьскую революцию была вполне предсказуемой.
В статье «Враги народа», опубликованной 8 ноября 1917 года, Кизеветтер писал: «…все это губительное и дикое изуверство обрушено на Москву и Россию кучкой русских граждан, не остановившихся перед этими неслыханными злодеяниями против своего народа, лишь бы захватить во что бы то ни стало власть в свои руки, надругавшись с таким беспредельным бесстыдством над теми самыми принципами свободы и братства, которыми они кощунственно прикрываются»17. 28 января 1918 г. в статье «Буржуазная природа большевистского движения» он оценил большевистское движение как «опыт сотворить из пролетариата новую буржуазию со всеми минусами и без всяких плюсов буржуазного жизненного уклада. Что же касается социализма, то он остается этикеткой, механически прикрепленной к этому глубоко антисоциалистическому движению»18.
В конце мая 1918 года Кизеветтер выступил с докладом на кадетской конференции в Москве. По его докладу была принята резолюция о верности союзникам и усилении борьбы против советской власти. В то же время весьма любопытна позиция Кизеветтера и некоторых участников конференции относительно работы в организациях, контролируемых большевиками. Кадеты, эти «враги народа», как их квалифицировала советская власть, с ужасом наблюдали развал страны, надвигающуюся гибель экономики и культуры. Поэтому многие из них считали, что необходимо во многих случаях перейти от бойкота советских учреждений к работе в них, если это пойдет на пользу России; поезда все-таки должны ходить, кто бы ни находился у власти, — приблизительно в таком духе высказался один из участников, вскоре арестованный ВЧК. Однако, идя на службу в большевистские учреждения, необходимо четко обозначить свою политическую позицию, ни в коем случае не допускать идейных компромиссов. Цитируя Священное писание, Кизеветтер подчеркнул, что члены партии должны быть чисты как голуби и мудры как змеи19.
Однако никакая мудрость не могла уберечь члена ЦК партии кадетов, легально проживающего в Москве и не собирающегося менять своих убеждений, от внимания ВЧК. 29 сентября 1918 года Кизеветтер был арестован и доставлен на Лубянку; затем его перевели в Бутырскую тюрьму, где он провел около трех месяцев, так и не дождавшись предъявления обвинения. Помогли студенты. 4 января 1919 года совет старост Московского университета направил В. И. Ленину телеграмму следующего содержания:
«Председателю Совнаркома Ленину.
Совет старост 2 Московского государственного университета ходатайствует перед Вами об освобождении арестованного и уже 3 месяца находящегося без предъявления обвинений в Бутырской тюрьме профессора Кизеветтера, так как его дальнейшее пребывание в тюрьме, ввиду его болезни склероза и диабета, грозит самыми роковыми последствиями его здоровью и жизни; между тем он давно отошел от политической деятельности и всецело посвятил себя научной и преподавательской работе, к которой мы просим Вас возвратить его.
Председательница Румянцева. Секретарь Леонтьев»20.Вождь мирового пролетариата наложил резолюцию: «Лацису и Петерсу на заключение и сообщение мне»21. Знаменитый чекист М. Я. Лацис, незадолго до описываемых событий рекомендовавший своим коллегам определять виновность подозреваемых, исходя из их происхождения, на этот раз, к счастью, не стал следовать собственным принципам и 13 января по его распоряжению Кизеветтер был освобожден. Возможно, с освобождением Кизеветтера было не все так просто, поскольку накануне в телефонном разговоре с женой историка М. Н. Покровский, учившийся в свое время у Ключевского и некогда поздравлявший Кизеветтера с успешной защитой магистерской диссертации, советовал ей «успокоиться на мысли, что все хлопоты напрасны» и что ее мужа не выпустят22. Впрочем, не исключено, что главу «историков-марксистов» чекисты просто не сочли нужным своевременно проинформировать.
Кизеветтер, чтобы как-то просуществовать и содержать семью, был вынужден подрабатывать, где только мог. Он пошел служить в архив бывшего Министерства иностранных дел, преподавал, кроме Московского университета, на Драматических курсах Малого театра, ездил с лекциями по стране от культурно-просветительского отдела Союза кооперативных объединений; как правило, лекторам платили на местах «натурой» — в одном из своих мемуарных очерков Кизеветтер с юмором описывал, каких трудов стоило доставить заработанные продукты в Москву. Власть, борясь со «спекуляцией», запрещала провозить продовольствие в голодный город!
Кроме того, Кизеветтер сотрудничал в кооперативном издательстве «Задруга» и даже торговал, вместе с некоторыми другими известными литераторами и учеными, в книжной лавке издательства. Возможности литературных заработков он практически лишился — за отсутствием органов печати, закрытых советской властью. В 1919 году он выпустил единственную работу — брошюру «Русский Север. Роль Северного края Европейской России в истории русского государства» в Вологде, в 1920-м у едва ли не самого плодовитого русского историка публикаций не было вообще; в 1921-м вышли две небольшие статьи в журнале «Голос минувшего». В 1920-м году Кизеветтеру, а также М. М. Богословскому и Р. Ю. Випперу было запрещено чтение лекций в высших учебных заведениях как «проводникам старой буржуазной культуры»23.
Не оставляла Кизеветтера, как и других «буржуазных» интеллигентов, своим вниманием ВЧК. В сентябре 1919 года он вновь был арестован (шли массовые аресты по делу так называемого «Национального центра»; среди арестованных были историки М. М. Богословский, С. Б. Веселовский, Д. М. Петрушевский и др. Кизеветтера выпустили через две с лишним недели. Его имя, хотя и упоминалось в показаниях некоторых из арестованных, но лишь как члена партии кадетов, что и так было всем известно; многим из его знакомых и однопартийцев повезло гораздо меньше. 67 человек были расстреляны, в том числе член ЦК партии кадетов Н. Н. Щепкин, внук великого артиста24.
Третий раз Кизеветтера арестовали в 1921 году в Иваново-Вознесенске, где он читал лекции в эвакуированном туда Рижском политехникуме. Историка доставили в Москву и через месяц, так и не предъявив обвинения, выпустили.
В августе 1922 года Кизеветтер был подвергнут краткому домашнему аресту. «Придержать» его дома властям нужно было для того, чтобы он находился под рукой для предъявления постановления о высылке из пределов Советской России. Кизеветтера включили в большую группу известных интеллектуалов, которых большевистское руководство не хотело по внешнеполитическим соображениям подвергать более суровым репрессиям, но и терпеть их свободомыслие не собиралось. 28 сентября 1922 года Кизеветтер с семьей отплыл из Петрограда на немецком пароходе в Германию.
В Россию ему уже не было суждено вернуться.
Впрочем, в такую Россию Киэеветтер и не хотел возвращаться. Несколько месяцев спустя после высылки он писал своему старому товарищу по партии В. А. Маклакову, занимавшему в то время пост российского посла в Париже (Франция еще не признала СССР и особняк на улице Гренелль, где помещалось посольство, занимал представитель уже не существующего государства): «Шлю Вам из Праги сердечный привет. Нежданно-негаданно выпорхнул из большевистской клетки, за что и благословляю судьбу»25. В другом письме к Маклакову Кизеветтер высказывал предположение, что тот недооценивает «преимуществ нахождения за пределами Совдепии», поскольку ему не пришлось видеть «большевистского властвования» воочию. «Могу сказать одно, — писал Киэеветтер, — я испытывал чувство тоски по родине, когда сидел в своей квартире в Москве и кругом себя не видел своей родины. Здесь же я тоски по родине не чувствую, ибо имею возможность свободно и по-человечески жить с русскими людьми. И, читая лекции, помогать русской молодежи хранить в себе русскую душу для лучших времен»26.
Возможность профессионально реализоваться и «помогать русской молодежи» Кизеветтер получил в Праге, куда прибыл 1 января 1923 года. Прага в 1920-е — первой половине 1930-х годов была признанным академическим центром Русского зарубежья. В 1922 году президент Чехословакии Томаш Масарик и чешское правительство предприняли так называемую Русскую акцию. Суть ее заключалась, во-первых, в том, чтобы помочь ученым-беженцам, во-вторых, обеспечить подготовку специалистов для будущей, очищенной от большевизма, России. В рамках Русской акции был создан Русский университет с двумя факультетами — юридическим и гуманитарным; существовал также Народный университет для тех, кто не мог посещать лекции в дневное время; Русский научный институт в Праге фактически выполнял функции Академии наук Русского зарубежья; действовал также ряд других научных учреждений — Экономический кабинет, Семинар византиниста Н. П. Кондакова и др. При чехословацком министерстве иностранных дел был создан Русский заграничный исторический архив.
Кизеветтер преподавал практически во всех русских учебных заведениях в Праге, читал также курс истории на философском факультете чешского Карлова университета; выезжал с лекционными турне в Берлин, Белград, в Прибалтику. Он стал одним из основателей в 1925 году Русского исторического общества в Праге; был товарищем его председателя (известного историка Е. Ф. Шмурло), а затем председателем. Кизеветтер возглавил Совет и учено-административную комиссию Русского заграничного исторического архива.
В этой своей многообразной деятельности Кизеветтер видел не только источник добывания средств к существованию — а положение его семьи было достаточно трудным — тяжело болели жена и падчерица, да и сам Кизеветтер страдал от диабета, но и некую миссию. Он не верил в скорый крах большевизма, так же как в способность эмиграции реально повлиять на процессы, происходящие в СССР. Что же делать «русским зарубежникам»? На этот вопрос, едва ли не главный для эмигрантов, Кизеветтер попытался ответить в очередном послании к В. А. Маклакову: «Сейчас картина получается такая: в политическом отношении мы, русские, шлепнулись как нельзя хуже. А к русской культуре всюду в Европе обнаруживается большой интерес. Этой культурой заинтригованы, ее ценят, в ее будущности не сомневаются, никто не допускает мысли о том, что большевистское измывательство над этой культурой окончательно ее погубит… Вот мне и думается, что эмиграция со своей стороны должна была бы сделать все возможное, чтобы своею деятельностью закрепить в европейском обществе это признание силы и ценности русского человека как культурного деятеля. Согласитесь, что это было бы дело в высшей степени важное с точки зрения интересов именно грядущей России»27.
В эмиграции Кизеветтер много писал. Как уже говорилось выше, число его публикаций зарубежного периода немногим уступало напечатанному в России и приближалось к пятистам. Правда, Кизеветтер не создал в эмиграции крупных исследований. Архивы остались в России; много приходилось писать для заработка. Однако он опубликовал книгу, которая, по нашему мнению, переживет его специальные исследования, вышедшие в России, — воспоминания «На рубеже двух столетий». Маклаков, заметно расходившийся с Кизеветтером в оценке недавнего прошлого, писал ему вскоре после выхода книги: «Не собираюсь Вам писать ни комплиментов, ни критики. Прочел ее с громадным интересом и думаю, что подобные книги самое полезное дело, которое мы можем пока делать… Люди, которые вспоминают прошлое, как Вы, без предвзятости, хотя бы им, как и всем нам, и было далеко до объективной правды, все-таки дают… материал, без которого этой правды узнать будет нельзя»28.
Кизеветтер был постоянным сотрудником лучшего журнала Русского зарубежья — парижских «Современных записок», исторического журнала, издававшегося С. П. Мельгуновым сначала под названием «На чужой стороне», а затем «Голос минувшего на чужой стороне», печатался в других эмигрантских журналах, исторических сборниках, много публиковался в газетках — особенно часто в рижской «Сегодня» и берлинском «Руле». Среди его публикаций — статьи, рецензии, историографические обзоры. Как всегда, много «исторических портретов» (среди них — Екатерина II, гр. Д. А. Толстой, И. Д. Делянов, А. С. Суворин, Г. А. Гапон, Франтишек Палацкий и др.). Значительная, пожалуй, большая, часть публикаций была рассчитана на массового читателя и носила популярный характер.
В последние годы жизни судьба не жаловала Кизеветтера. Болезни свели в могилу его жену и падчерицу. Тяжелый диабет лишил его возможности дальних поездок. 9 января 1933 Кизеветтер скоропостижно скончался в своей квартире в Праге.
Последний городской голова Москвы, видный кадет Н. И. Астров писал Маклакову вскоре после смерти Кизеветтера: «А.А. хворал давно. У него была, сахарная болезнь. Но лечение инсулином, казалось, поддерживало его в равновесии. Я был у него утром. Мы вели разговоры о разных делах, вспоминали Москву, Университет Шанявского. Он хотел зайти к нам днем, а на следующий день отвезти лежавшему в больнице деньги. Вечером у него сделался сердечный припадок. А к утру его не стало. Смерть была, по-видимому, тихая, без особенных страданий. Он говорил даже, что хорошо было бы так умереть… Его смерть — большое горе для нас всех. Уходит наше поколение. Уходит печально, пережив разрушение того, что строило… Помогите нам поставить памятник на его могиле. Ведь скоро от нашего поколения не останется и следа»29.
Кизеветтера похоронили 11 января 1933 года на Ольшанском кладбище в Праге. На его могиле стоит памятник, воздвигнутый на средства русских эмигрантов30.
Однако главный «памятник» Кизеветтер воздвиг себе сам — более тысячи созданных им текстов, посвященных русской истории и культуре, увековечили его память лучше любого гранита.
• • •
Так называемый «массовый» читатель был надолго разлучен с творчеством Кизеветтера; а ведь большая часть созданных им текстов предназначалась именно для него. Разумеется, речь идет не о человеке «с улицы», берущемся за книгу только в поезде или на пляже; чтение текстов Кизеветтера предполагает интерес к истории и (или) наличие элементарных знаний о прошлом своей страны. Тексты, собранные в этой книге, писались в основном не для профессионалов (хотя некоторые из них представляют собой не популяризацию, а вполне оригинальные исследования), а для обычных интеллигентных людей, для которых «толстый» журнал — традиционный предмет домашнего обихода. Почти все они и были первоначально опубликованы в «Русской мысли», которая была для интеллигентов начала века приблизительно тем же, чем «Новый мир» для «шестидесятников».
А. В. Флоровский, характеризуя творчество Кизеветтера, писал, что «историк-исследователь сочетался в научно-литературном делании А. А. с историком-художником и прежде всего с портретистом-психологом. Отдавая много внимания архивным изысканиям и изучению законодательного материала и правовых и социальных явлений прошлого, А.А. питал в то же время в себе острое чувство интереса к живой человеческой личности, поскольку она действовала на исторической сцене… Портретная галерея, созданная А.А., и многосоставна, и многообразна. А.А. оставил и опыты портретов во весь рост, и легко начертанные силуэты, и работы в реалистическом духе, и нежные зарисовки пастелевыми красками. А.А. выступает здесь и с опытами портретов-анализов и портретов обобщающего характера»31.
Составитель данного сборника стремился представить разные типы «портретов», написанных Кизеветтером: читатель без труда отличит «легко начертанные силуэты» от «портретов-анализов». В 1931 году в Берлине Кизеветтер издал книгу под названием «Исторические силуэты: Люди и события». Это был сборник очерков, включающих как собственно «портреты», так и исследования о пугачевщине, литературоведческие статьи о «Войне и мире» Л. Н. Толстого и «Горе от ума» А. С. Грибоедова и др. Сборник носил популярный характер и Кизеветтер даже не счел необходимым снабжать включенные в него статьи научным аппаратом.
Предлагаемая вниманию читателей книга не является повторением берлинского сборника. Составитель сохранил изящное кизеветтеровское название, но включил в данное издание только собственно биографические очерки, опубликованные Кизеветтером в разное время как в России, так и за границей. За исключением очерка о протопопе Аввакуме, все они посвящены деятелям XVIII — первой половины XIX веков. Из берлинского сборника в книгу вошли только «портреты» Екатерины II и Потёмкина.
Читатель сможет оценить сочетание краткости, отточенности стиля и строгой научности, свойственное «силуэтам» «кисти» Кизеветтера. Историка отличал жадный интерес к человеческой личности; его биографические очерки с блеском опровергают мнение, что «русская… история скучна и однообразна, что в ней не найти ничего, чем осмысливается и красится жизнь: ни сильных и энергичных людей, ни широких общественных движений, ни яркой драматической борьбы партий за свои интересы и идеалы»32. Среди популярных очерков, включенных в эту книгу, выделяются объемистые исследования, посвященные оригинальной личности Федора Ростопчина, известного большинству современных читателей лишь благодаря «Войне и миру» Толстого, а также «двойной портрет» Александра I и его всесильного фаворита, «без лести преданного» А. А. Аракчеева.
Исследование Кизеветтера о знаменитом московском градоначальнике остается, по-видимому, до сих пор «последним словом» исторической науки. Психологически убедительным и исторически точным представляется мне кизеветтеровский анализ взаимоотношений Александра и Аракчеева: не фаворит оказывал дурное влияние на императора; он лишь чутко улавливал настроения своего сюзерена.
Читая Кизеветтера, надо иметь в виду, что его схема русской истории и, соответственно, оценка ее деятелей — последовательно либеральная. Этот последовательный либерализм Кизеветтера нередко вызывал раздражение оппонентов справа. Так, бывший пражский студент Кизеветтера, известный медиевист Н. Е. Андреев передает мнение другого «пражского» историка, эмигранта Н. П. Толля, что Кизеветтер был «прежде всего кадетским оратором, а уже потом историком». Самому Андрееву «всегда казалась несправедливой оценка им ряда явлений, в частности, в московском периоде отечественной истории, и его чрезмерная суровость в оценке мероприятий правительства, которая иногда представлялась странной. Получалось так, словно бы правительство России вовсе не заботилось об интересах страны»33.
Андреев, в частности, имел в виду резкую и, как ему представлялось, несправедливую рецензию Кизеветтера на книгу Р. Ю. Виппера «Иван Грозный», опубликованную в 1922 году. В данном случае лучше предоставить слово самому Кизеветтеру. В рецензии на книгу Виппера он писал: «Придавленные самодержавием идеализировали революцию. Обжегшись на революции, начинают идеализировать самодержавие. И, как всегда и во всем, тотчас же доходят до крайнего предела… Уж коли начал человек вздыхать по самодержавию, то подавай ему самодержавие по всей форме, не самодержавие Александра II, даже не Петра I, а, по крайней мере, самодержавие Ивана Грозного… Вот эту-то крайнюю форму самодержавия и начинают избирать предметом своих сердечных вздохов некоторые деятели, обжегшиеся на революционных мечтаниях»34.
Напомнив свидетельства современника о «людодерстве» Ивана Грозного, а также о других деяниях грозного царя, приведших Россию к смуте начала XVII века, Кизеветтер с иронией заключал: «Виппер хочет отдохнуть от тяжелых переживаний текущей действительности на светлых картинах исторического прошлого. Мы эту потребность понимаем. Но удовлетворять эту потребность нужно с большой осмотрительностью. Иначе можно попасть в неожиданное положение. Виппер избрал эпоху Ивана IV за образец мощи и славы России в противоположность ее теперешнему развалу. А на поверку выходит, что режим Ивана IV многими чертами живо напоминает приемы управления в России наших дней»35.
Кизеветтер как в воду глядел. В 1942 и 1944 годах книга Виппера была переиздана в СССР с включением цитат из работы И. В. Сталина, видевшего в Иване Грозном не худший образец для подражания, а оказавшийся вместе с Латвией в составе Советского Союза Р. Ю. Виппер стал академиком Академии Наук СССР.
Кизеветтер, действительно, не жаловал российскую «историческую власть». Революция 1917 года не заставила его, как многих других эмигрантов, изменить свою оценку самодержавия. Успех большевиков он объяснял прежде всего тем, что «односторонне направленная социальная политика старой власти во второй половине 19-го столетия и первого десятилетия 20-го вызвала в… низах наклонность оказывать доверие тем, кто прикроет свои замыслы наиболее резким осуждением этой старой власти»36.
Кизеветтер точно подметил, что «большевики под другими терминами воскрешают многие приемы старого порядка». Однако существенную разницу между ними он видел в том, что если «старый порядок вел Россию к бездне из-за политической слепоты», то «большевики сознательно и умышленно толкнули Россию в бездну, ибо в этом и состояла их задача». «…Умерший на днях в Москве дурак, — писал Маклакову вскоре после смерти В. И. Ленина Кизеветтер, — с самого начала своего эксперимента так и заявлял в печатной брошюре, что коммунизм в России невозможен, но Россия есть та охапка сухого сена, которую всего легче подпалить для начатия мирового социального пожара. Россия при этом сгорит; ну и черт с ней, зато мир вступит в рай коммунизма. Не надо меня убеждать в том, что у нашего старого порядка была куча смертных грехов. Но все же в подобной постановке вопроса о бытии России он повинен не был. Это — привилегия большевиков»37.
Впрочем, политика, несмотря на то, что Кизеветтер был в нее глубоко вовлечен, все-таки не занимала главного места в его жизни. Сам он считал себя прежде всего ученым и писателем38. Термин «писатель», который употребил Кизеветтер в своей автохарактеристике, очень уместен. Он был именно историком-писателем, а способность писать «просто и ярко», по словам одного из редакторов «Современных записок» М. В. Вишняка39, неизменно обеспечивала ему читательский успех. Стремление положить в основу «исторических характеристик и оценок… не гадание, а факты»40, безупречный вкус и чувство меры, свойственные Кизеветтеру, по праву принесли ему одно из первых мест в блестящем созвездии российских историков начала XX века.
Примечания
1 Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 457–458.
2 Эммонс Т. Ключевский и его ученики//Вопросы истории. 1990. № 10. С. 52–53.
3 См.: Максимович Е. Ф. Материалы для библиографии печатных работ А. А. Кизеветтера//Записки Русского института в Праге. Прага, 1937. Кн. 3. С. 225–284.
4 Максимович Е. Ф. Материалы для библиографии печатных работ… С. 227.
5 Эммонс Т. Ключевский и его ученики. С. 52–53.
6 Кизеветтер А. А. Памяти В. О. Ключевского//Русская мысль. 1911. № 6. С. 135, 139.
7 Циг. по: Флоровский А. В. Биографический очерк (А. А. Кизеветтера. — О.Б.)// Записки Русского института в Праге. Прага, 1937. Кн. 3. С. 186.
8 Вандалковская М. Г. П. Н. Милюков; А. А. Кизеветтер: история и политика. М., 1992. См. также: ЧанцевА.В. Кизеветтер А. А.// Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 531; Демина Л. И. Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. М., 1993. С. 149–150.
9 Ключевский В. О. Сергей Михайлович Соловьев//Соч. в 8-и томах. T. VII. М., 1959. С. 143.
10 Милюков П. Н. Два русских историка (С. Ф. Платонов и А. А Кизеветтер)// Современные записки. 1933. № 51. С. 315.
11 Вандалковская М. Г. Указ. соч. С. 84.
12 Письма А. А. Кизеветтера Н.И Астрову, В. И. Вернадскому, М. В. Вишняку/ Публ. М. Раева// Новый журнал (Нью-Йорк). 1988. Кн. 172–173. С. 462.
13 Вандалковская М. Г. Указ. соч. С. 92. О диссертациях Кизеветтера см. также: Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. М., 1993. С. 585–588.
14 Кизеветтер А. А. Императрица Екатерина II как законодательница: Речь перед докторским диспутом// Исторические очерки. М., 1912. С. 283.
15 Кизеветтер А. А. Панегирист Ивана Грозного// Сегодня (Рига), 4 августа 1923, № 167; Кизеветтер А. А. Рец. на кн: Платонов С. Ф. Иван Грозный. Пб.,1923// Современные записки. 1924. № 18. С. 444–447.
16 Кизеветтер А. А. Ораторы первой Государственной Думы//Сегодня (Рига), 1 августа 1931, № 210.
17 Цит. по: Политические деятели России. 1917. С. 150.
18 Там же.
19 Красная книга ВЧК. М., 1990. T. 1. С. 75–76.
20 В. И. Ленин и ВЧК. М, 1987. С. 112.
21 Там же.
22 Флоровский А. В. Указ. соч. С. 191.
23 Вандалковская М. Г. Указ. соч. С. 99.
24 Политические деятели России… С. 366.
25 А. А. Кизеветтер — В. А. Маклакову. 13. VII. 1923 — «Большевизм есть несчастье, но несчастье заслуженное»: Переписка В. А. Маклакова и А. А. Кизеветтера/ Публ. О. Будницкого и Т. Эммонса// Источник. 1996. № 2. С.5.
26 А. А. Кизеветтер — В. А. Маклакову. 18.VIII.1923 — «Большевизм есть несчастье…». С. 6.
27 А. А. Кизеветтер — В. А. Маклакову. 1.XII. 1923//Там же. С.10.
28 В. А. Маклаков — А. А. Кизеветтеру, 13 сентября 1929//Там же. С. 20–21.
29 Н. И. Астров — В. А. Маклакову, 7 февраля 1933//Там же. С. 21.
30 Вандалковская М. Г. Указ. соч. С. 109.
31 Флоровский А. В. Указ. соч. С. 186.
32 Кизеветтер А. А. Протопоп Аввакум. Ростов н/Д., 1904. С. 4.
33 Андреев Николай. Пражские годы// Новый мир. 1994. № 11. С. 176.
34 Кизеветтер А. А. Панегирист Ивана Грозного// Сегодня (Рига). 4 августа 1923. № 167.
35 Там же.
36 Статья Кизеветтера «Общие построения русской истории в современной литературе» (Современные записки. 1928. № 37) цит. по: Вишняк М. В. «Современные записки»: Воспоминания редактора. Спб. — Дюссельдорф.1993. С.127.
37 А. А. Кизеветтер — В А. Маклакову. 6.02.1924 — «Большевизм есть несчастье…». С. 16.
38 Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. Прага, 1929. С. 466.
39 Вишняк М. В. Указ. соч. С. 126. Приведу характерный отзыв Кизеветтера на одну из статей, опубликованных в «Современных записках». Соглашаясь с автором статьи по существу, он восклицал: «Но Боже, как плохо написана его статья! Какой вымученный по изощренности стиль! Какие изысканнейшие словесные сплетения наполняют каждую фразу! Отчего писать стараются так, как никто не стал бы изъясняться в устной речи? Это дурной тон. Слова должны быть просты, метки и точны. И простыми, меткими и точными словами можно выражать весьма сложные и замысловатые мысли. А вот когда на несложную мысль напяливают бесконечные словесные завитушки, то получается дурной тон». — Письмо А. А. Кизеветтера М. В. Вишняку, 22 марта 1928// Новый журнал. 1988. Кн.172–173. С. 493.
40 Кизеветтер А. А. Литературные отражения эпохи Александра I. «Горе от ума». Цит. по: Вандалковская М. Г. Указ. соч. С. 276.
О. В. БудницкийПРОТОПОП АВВАКУМ
Печатается по изданию:
Кизеветтер А. Протопоп Аввакум.
Ростов н/Д: Донская речь, 1904.
Нередко приходится слышать, что русская и особенно древнерусская история скучна и однообразна, что в ней нельзя найти ничего, чем осмысливается и красится жизнь: ни сильных и энергичных людей, ни широких общественных движений, ни яркой драматической борьбы партий за свои интересы и идеалы. Как будто древнерусские люди и не жили настоящею жизнью, а полусонно тянули какую-то никому ненужную канитель. Возьмем, например, старую Москву. Что прежде всего приходит нам на мысль при этих словах: «старая Москва»? В обычном представлении это — бояре в громадных шапках и длинных кафтанах с безбрежными рукавами, бесконечными поклонами почти перед каждым словом, обеды с десятками кушаний и однообразно утомительные церемонии по различным внешним поводам. И не кажется ли нам нередко, что такими поклонами, обедами, церемониями и исчерпывалась вся жизнь наших медлительных предков в высоких шапках и длинных кафтанах? что за бесконечной обрядностью, наполнявшей их обычный день, не оставалось уже никакого места для истинно человеческой жизни умом и сердцем, для тревожных дум над мучительными загадками жизни, для тех идейных порывов и волнений, которые бы делали из этих размеренно двигающихся и разряженных кукол подлинных людей?
Мне кажется, что такое мнение о древнерусском обществе, как о собрании каких-то полуавтоматов, превративших все свое существование в сплошной, однажды навсегда заученный обряд и неспособных ни беспокойно мыслить, ни страстно чувствовать, — мне кажется, что такое мнение пользуется значительным распространением. А между тем это распространенное мнение совершенно ложно. Стоит прислушаться повнимательнее к тому, что говорят нам старинные литературные памятники, эти уцелевшие свидетели давно угасшей жизни, — и до нашего слуха долетят любопытные отголоски стремлений, дум, скорбей, которыми жила и болела душа древнерусского человека; тогда ближе, понятнее станет для нас эта старина, на первый взгляд столь скудная внутренним духовным содержанием.
Мы увидим, что и эти странные люди в неудобных и неуклюжих костюмах имели свои отвлеченные интересы и умели пламенно волноваться, бороться и даже погибать ради служения своим идеалам. Пусть сами эти идеалы для нас уже совершенно чужды, пусть то, что некогда казалось истиною и зажигало сердца, представится нам теперь или грубым заблуждением, или пустым призраком воображения. Это понятно и естественно: у каждой эпохи свой умственный кругозор, свой уровень понятий. Было бы на лицо бескорыстное стремление к истине, способность отстаивать свои убеждения, и если человек проявил эти свойства, мы признаем в нем брата, как бы ни были далеки его мысли и стремления от наших собственных понятий.
Чтобы доказать справедливость этих замечаний, я попрошу читателя мысленно перенестись вслед за мною лет за 200 с небольшим назад, в старую Москву времен царя Алексея Михайловича. Мы встретим там людей, во многом нам чуждых. Странен их язык. Далеки от нас их интересы. Но это не манекены, а живые люди, притом живущие весьма повышенною духовною жизнью, глубоко взволнованные идейной борьбой, в развитии которой, вопреки общераспространенному взгляду, не было недостатка ни в ярко драматических эпизодах, ни в сильных духом героях.
Мы очень бы ошиблись, если бы представили себе жизнь московского общества при царе Алексее[2] замурованной в неподатливых рамках старинного обычая. Как раз наоборот. Во всех областях жизни шло резкое раздвоение. Обычай утрачивал свое обаяние, общественное поведение было выбито из давнишней колеи. На каждом шагу попадались резкие новшества. Москва кишела иноземцами. Тогда уже существовала Немецкая слобода[3], в которой позднее Петр[4]получал первые впечатления от иноземного уклада жизни. Кроме немцев Москва была переполнена поляками. Польское влияние решительно господствовало, заметно отражаясь на общественных нравах и умственных интересах и самого русского населения. Опытный глаз при первом взгляде на уличную толпу мог определить, какую силу успела забрать иноземная мода. Всюду пестрели костюмы, экипажи, вызывавшие недоумение у старозаветных людей. Заветнейшей мечтой всякого молодого франта было теперь одеться в польский кафтан и сбрить бороду. Напрасно думают, что Петр Великий первый святотатственно приложил бритву к русской бороде. Еще патриарх Иоаким[5]в 70-х годах XVII столетия находил нужным издавать особые запретительные указы против распространения брадобрития. Соблазн новой моды охватывал людей, высоко поставленных в обществе, близких к самому царю. Прежде бояре ездили по Москве или верхом, или в тяжелых колымагах. Теперь можно было встретить на улицах Москвы боярина в польской карете с лакеями в иностранных ливреях на запятках. Ближний боярин, популярный Никита Иванович Романов[6] выезжал на охоту не иначе, как в польском или немецком платье, и всех своих слуг в доме одел в польские ливреи. Даже такой крутой и самовластный человек, как патриарх Никон[7] не решался открыто восстать на этот не нравившийся ему соблазн и прибегнул к наивной стратегической хитрости: выпросил у Романова эти ливреи, как будто на образец для экипировки и своих слуг, да и изрезал их все в куски. Но ни запретительные указы, ни такие своеобразные уловки, как проделка Никона, уже не могли остановить потока иноземных новинок во всем общественном обиходе старой Москвы. Сам царь шел вслед за этим движением. Преобразовалась внутренность самого дворца. Кресла и стулья заменили собою старинные русские скамьи и лавки, кое-где на стенах заблестели зеркала на манер киотов, даже трон царя в 1659 г. переделан был на польский образец и снабжен польской надписью. Иноземное влияние не ограничивалось внешним устройством домашней обстановки столичного общества, оно властно проникало глубже, захватывая круг умственных и эстетических потребностей передовых людей того времени.
В XVII столетии в Московской Руси появляется масса переводных сочинений, преимущественно с польского языка, самого разнообразного содержания: по астрономии, математике, космографии, истории, географии, медицине, и наряду с этим переводятся с того же польского языка различные повести уже не для науки, а просто для занимательного чтения вроде, например, «Утешной повести о купце» или «Истории благоприятной о благородной и прекрасной Мелюзине». Весь этот новый книжный товар находил себе потребителя. Книги покупают и читают. Кое-где в боярских домах появляются значительные по объему библиотеки уже не из одних только божественных и богослужебных книг, а как раз из тех завлекательных новинок передовой литературы, которые открывали перед читателем новый мир светского знания и заманчивых эстетических впечатлений.
В сфере искусства совершался такой же наплыв новых веяний, порожденных иноземным влиянием. Во дворце, в боярских домах стены увешивались картинами «перспективного письма» на светские сюжеты, исторического и бытового содержания и «парсунами с живства», т. е. портретами. В самой церковной живописи, в иконописи художники смело начали применять новую, более жизненную манеру письма, не стесняясь условностями старинных, освященных преданиями образцов, и стены храмов, с которых ранее на молящихся смотрели все темные, однообразные лики угодников, вдруг ожили и заискрились полными правды и человекоподобия изображениями: каждый святой выглядел теперь на этих новых иконах со своей индивидуальной физиономией, со своими характерными чертами.
Так во всех областях жизни — и в домашней обстановке, и в учении, и в литературе, и в искусстве — новости, внушенные западным влиянием, воздействовали все в одном и том же направлении: они расширяли свободу и непринужденность действий человека, разнообразили его интересы, сбрасывали с жизни цепи старинной рутины.
Но в то время, как одна часть общества с жадностью набрасывалась на эти новинки, в других общественных слоях, где еще властно царило обаяние старины, поднимался злобный ропот против измены родному преданию.
Почитатели старины чувствовали, что кругом творится нечто небывалое, что над Русью повеяло новым духом, который оскорблял их привычные понятия и чувства. И в мыслях огорченных стародумов уже шевелился приговор над новым движением: это — зловредное поветрие, это — дьявольское наваждение.
Представьте себе теперь, какая жизнь должна была начаться в Москве с тех пор, как московское общество раскололось на два враждебных лагеря! Тут не до степенной скуки, не до сонного спокойствия. На каждом шагу вспыхивали столкновения, резкие, волнующие споры. Все могло подать повод к таким спорам. Новый костюм, новая книжка, новая икона тотчас поднимали с обеих сторон целую вереницу мятежных вопросов: как жить, во что верить, чего держаться?
И не только предположительно, а опираясь на точные исторические свидетельства, мы можем сказать, что вторая половина XVII столетия была на Москве временем усиленного развития раздраженных идейных споров. Они поднимались всюду: и в доме боярина, и в школьной аудитории, и в мастерской живописца. Весь воздух Москвы был пропитан атмосферой идейной борьбы противоположных миросозерцаний.
Так, любимым местом общественных собраний для обсуждения волнующих общество вопросов был гостеприимный дом боярина Федора Михайловича Ртищева[8], человека просвещенного, затронутого новыми веяниями, но терпимого ко всякому чужому мнению и потому объединявшего в своем доме представителей различных направлений. У Ртищева происходили, как сказали бы мы теперь, оживленные журфиксы для московской интеллигенции, куда ходили вести и слушать ученые и богословские споры, или, как выражались в то время, ходили «грызться» о новых обычаях и церковных исправлениях. Здесь бояре, подбитые новой польской образованностью, встречались с будущими вождями и мучениками раскола. Здесь, по словам современников, бывал «многий шум» о вере и законе.
Если из боярского дома перейдем в школьную комнату XVII столетия, мы и там найдем то же раздвоение, те же споры. Уже упомянутый Ртищев основал при Андреевском монастыре училище, куда пригласил преподавателями малороссийских монахов. Приезжие монахи преподавали «новые» науки: латинский язык, риторику, философию. Сам Ртищев страшно увлекся школой и, будучи занят весь день служебными обязанностями, проводил ночи, «презирая сладостный сон», в любезном собеседовании с учеными мужами. Но пока основатель школы беззаветно предавался учебным подвигам, в среде учеников шло глухое брожение. В то время как одни пленялись новой наукой и даже решались на поездки в Киев для довершения образования, другие втайне от Ртищева шептали по углам: «Кто по-латыни учился, тот правого пути совратился». Такие колебания в среде учащегося поколения были вполне естественны в то время, когда в самом обществе шла умственная смута: с одной стороны, светские науки, преподаваемые заезжими учителями, привлекали к себе любознательные и пытливые умы, а с другой стороны, сердце русского человека все еще сжималось благоговейным трепетом перед старинными поучениями, в которых занятия светской наукой приравнивались кощунству. «Богомерзостен пред Богом всяк, любяй геометрию», «душе вреден грех учитися астрономии», «проклинаю мудрость тех, иже зрят на круг небесный». Вот, что твердилось в этих поучениях. «Если тебя спросят, — говорилось в этих поучениях, — знаешь ли ты философию, рци смело: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, ни с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех, учусь книгам благодатного закона, чтобы очистить душу от грех». Пытливость ума считалась гордыней ума, дерзновенным и потому греховным стремлением проникнуть в божественные тайны. Древние поучения предписывали любить «паче мудрости — простыню», т. е. простоту ума и сердца.
Если в сфере науки шла борьба между свободой умственной деятельности и господством авторитета старинных поучений, то и мастерские московских художников все чаще оглашались спорами о новых направлениях в искусстве. Как писать изображения святых: рабски копировать так называемый подлинник, т. е. еще в XVI в. составленный сборник схематических образцов для изображения каждого святого, или давать волю личному вдохновению, писать «самомышленно», отступая от подлинника во имя требований эстетического чувства и художественной правды?
Вот характерная сценка, показывающая, при какой обстановке разыгрывались споры о подобных вопросах. Сидел раз в мастерской царского живописца Симона Ушакова[9] другой художник, Иосиф Владимиров. Между художниками шла беседа о новых течениях в живописи, которым оба собеседника глубоко сочувствовали и сами следовали. Вдруг входит в мастерскую сербский архидьякон Плешкович. Вслушавшись в беседу, он тотчас же начал спорить и, увидав в студии прекрасное изображение Марии Магдалины, плюнул и сказал:
— Таких световидных образов мы не принимаем.
Иосиф ответил на эту выходку целым трактатом о живописи, где, в противовес рутине, отстаивал права художественного реализма.
— Где указано, — спрашивает он, — писать лики святых не иначе, как смугло и темновидно? Разве все люди созданы на одно обличье? Разве все святые были тощи и смуглы? Когда великий во пророках Моисей принес народу с вершины Синая скрижаль, начертанную перстом Божиим, сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисеево от осиявшего его света. Так неужели и лицо Моисеево писать мрачно и смугло? И кто не посмеется юродству, будто темноту и мрак паче света предпочитать следует?
Но почитатели старины не трогались мыслями, вложенными в эти вопросы, и смотря на иконы нового типа, на светловидные лики, трепетавшие жизнью, сердито протестовали:
— Пишут ныне Спасов образ, лицо одутловато, уста черноватые, власы кудрявые, бедра толстые, весь, яко немчин, толст учинен, только что сабли при бедре не написано. Умыслили по-фряжскому, сиречь по-немецкому, будто живых писать.
Мертвенный, темный лик старинной иконы больше говорил чувству стародума, чем художественное создание новой живописи.
Довольно этих примеров, чтобы показать, как широко захватывались все стороны жизни этой идейной борьбой, занимавшей московское общество со второй половины XVII столетия. Я описал, в каких формах проявлялись эти новые веяния. Мы можем теперь определить, почему они встретили себе такой злобный прием у ревнителей старины. Эти новшества шли вразрез с целым рядом старозаветных идеалов русского общества: 1) новые формы общественных развлечений и новые черты житейского комфорта оскорбляли аскетический идеал жизни, о котором твердили древние поучения, 2) новая наука и передовая литература противоречили исключительно церковному характеру древнерусской образованности, основанному на боязни всякого светского знания, наконец, 3) иноземное происхождение занесенных на Русь новых веяний претило националистическим идеалам того времени: Москва подобно Древнему Риму — центр вселенной, на Руси — истинная мудрость и истинная вера и потому у иноземцев нам ничему учиться не пригоже, — вот что впитывали в свой ум с детства люди, выросшие на старозаветных преданиях.
Во имя этих-то начал они негодовали на перемены, происходившие в разных областях тогдашней жизни. Но их негодование превратилось в ужас и их недовольство перешло в открытую борьбу, когда новые веяния коснулись того, что представлялось самой незыблемой святыней, — порядков богослужения и текста священных книг, когда Никон при помощи киевских монахов и на основании греческих образцов и рукописей начал исправлять испорченные переписчиками богослужебные книги и богослужебные обряды.
Правда, все эти исправления совершенно не касались религиозных догматов; они только восстанавливали первоначальное начертание искаженных переписчиками слов, например, вместо «Исус» восстанавливали правильную форму «Иисус», или отменяли утвердившиеся в русской церкви неправильные обряды вроде употребления при крестном знамении двоеперстия, а не троеперстия, или повторения подряд дважды, а не трижды священного возгласа «аллилуия». Но в глазах стародумов того времени буква писания и обряд церковный составляли самую сущность религии — именно букве и обряду приписывалась таинственная, божественная сила, управляющая судьбою человека. Обсуждая вопрос, как следует говорить в Символе веры «рожденна не сотворенна» или «рожденна, а не сотворена», с частицей «а» или без нее, — ревнители благочестия говорили:
— Нам всем подобает умирати за единый аз. Великая зело сила в сем аз сокровенна.
От правильности буквы и обряда зависит спасение души человека, а правильными могут быть лишь те обряды и книги, которые исстари употреблялись на Руси, ибо одной лишь русской земле дано от Бога хранить истину. Так рассуждали старозаветные люди, и церковная реформа Никона представилась им таким же дьявольским наваждением, как новые костюмы, новые книжки и новые иконы.
Тогда-то началась борьба за старую веру и за старые обычаи. Мы можем сожалеть о тех заблуждениях, о том умственном ослеплении, которыми руководились эти борцы; но мы не может не отдать им дани уважения за проявленное ими нравственное мужество при отстаивании своих, хотя и неосновательных убеждений. А борьба была действительно исполнена мужества. Для многих она окончилась огненною смертью.
Мы всего лучше войдем в самый центр этой борьбы, бросив взгляд на судьбу ее главного вдохновителя. То был протопоп Аввакум, одна из замечательнейших личностей на Руси того времени. Со страстным темпераментом, с огненным словом, с непреклонно суровой, железной волей — Аввакум был прирожденным общественным вождем. Судьбе было угодно поставить его в ряды поборников старины, и он повел дело этой партии со всем пылом своей одаренной натуры.
Аввакум родился в глуши Нижегородской области, в селе Григорьеве. Отец его сельский священник, «прилежал пития хмельного». Зато мать Аввакума была строгая молитвенница и постница. Даровитый мальчик рано обнаружил удивительную душевную чуткость и страстную восприимчивость к жизненным впечатлениям. Как-то раз ему пришлось видеть, как околевала корова. Эта картина страшно поразила Аввакума. Призрак смерти встал перед мыслями отрока. Ночью он вскочил с постели и стал горячо молиться о своей душе, поминая смерть. С тех пор он постоянно придерживался обычая ночной молитвы. Подрастая, Аввакум с жаром набросился на чтение Св. Писания, отцов церкви, различных поучительных сборников, впечатления, выносимые из чтения, западали в его думу так же глубоко, как и те, которые он получал из окружающей действительности. Оба ряда впечатлений складывались в его душе в одном направлении. Аввакум все более утверждался во взгляде на жизнь как на суровый религиозный подвиг. Борьба с искушениями плоти, с царящим в мире грехом, с нравственною распущенностью — таким представлялось ему содержание этого подвига. 22-х лет он был посвящен в священники в селе Лопатицы, незадолго перед тем женившись на сироте-односельчанке, девушке набожной, самоотверженной и искренне полюбившей Аввакума. Мы еще увидим, какого верного спутника в своей нелегкой жизни нашел он в этой девушке.
Незаурядного пастыря получило село Лопатицы в лице Аввакума. Молодой священник высоко ставил задачу своего сана. Строгий к себе, он был строг и к своей пастве. Он не взирал на чины и лица. Сильный сознанием долга, он смело бросал вызов всем, кто не подходил под мерку его нравственного идеала. Началась борьба. Прихожане роптали, что священник строг, морит народ долгой службой по уставу. Сильные, власть имущие люди, не знавшие в то время никакой сдержки своему произволу, приходили в ярость от смелых обличений Аввакума. После одного острого столкновения с местным начальником Аввакуму пришлось с женой, с только что появившимся на свет ребенком, без хлебного запаса отправиться в Москву искать себе там управы. В Москве его приютили царский духовник Стефан Вонифатьев[10] и протопоп Казанского собора Иван Неронов[11]. Они выхлопотали для Аввакума царскую грамоту, утверждавшую его священником в Лопатицах. Снова появляется он в родном селе, но не надолго. Он ни на йоту не отступил от своей программы, и по-прежнему раздалось грозное слово его обличений. Пришли на село странствующие скоморохи с масками, бубнами, ручными медведями. Народ высыпал навстречу веселым странникам. Вдруг среди толпы появился разгневанный Аввакум и начал обличать бесовские игрища. Властною рукою изломал он бубны и маски, выпустил в поле медведей и самих скоморохов выгнал из села. После этого народ на селе пришел в такое волнение, что оставаться далее в Лопатицах для Аввакума оказалось невозможным, и, снова побывав в Москве, он получил перевод в город Юрьевец-Повольский. Но и на новом месте Аввакум в короткое время поставил на ноги весь город своим бесстрашным нападением на мирские слабости общества. И вот однажды полуторатысячная толпа мужчин и женщин с батогами и рычагами атаковала избу, где Аввакум занимался соборными делами, Аввакум был вытащен на улицу и избит чуть не до смерти.
Еле-еле отбил его от разъяренной толпы отряд пушкарей, присланный воеводой. Двое суток лежал Аввакум без движения, охраняемый воеводской стражей, и все это время по городу ходили возбужденные толпы с криком:
— Убить его да и тело собакам в ров кинуть!..
Снова пришлось Аввакуму спасать жизнь ночным бегством. Оправившись от побоев, он бежал в Москву, где его ожидала более широкая и громкая, но и еще более тернистая деятельность.
В это время вокруг московских покровителей Аввакума, царского духовника Вонифатьева и протопопа Казанского собора Ивана Неронова, сгруппировался целый кружок протопопов, собравшихся в Москву все больше из разных мест Нижегородской области. Этот кружок, объединенный общими стремлениями, начал играть заметную роль в общественной жизни Москвы. Он стремился к воспитательному воздействию на общество в духе строгого аскетизма и преданности национальным преданиям. Это было как раз то самое направление, за которое ратовал и Аввакум в героических схватках со своими прихожанами. И Аввакум вошел в состав этого кружка, внеся в его деятельность ту острую страстность, которая вытекала из его боевой натуры. Кружок воздействовал на правительство посредством личного влияния на царя, а на общество — посредством церковной проповеди. Казанский собор не мог вместить всех желающих туда проникнуть, когда там говорил поучительное слово Иван Неронов. Вся церковь замирала во внимательном молчании, и у самого проповедника речь не раз прерывалась слезами.
Аввакум, устроившись на Москве, стал помогать Неронову в церковнослужении и проповедничестве в соборе, и с этих пор с соборной кафедры зазвучали новые — суровые и мужественные ноты. Если Неронов умилял сердца слушателей трогательностью своей речи, то Аввакум, истинный народный оратор, доводил их до настоящего экстаза напряженностью своего одушевления. Он говорил простым, но в высшей степени энергичным и властным языком. Его слово было трубным гласом, зовущим на борьбу, на духовный подвиг во имя идеала.
— Ну-ка! Воспрянь и исповедуй Христа Сына Божия громко предо всеми. Полно таиться. Само царство небесное в рот валится, а мы все ждем и время теряем. Таким приблизительно языком говорил Аввакум со своей паствой. Появление Аввакума в кружке Неронова как раз совпало с таким моментом, когда кружку пришлось занять боевое положение.
Начались церковные исправления Никона, которые в глазах кружка были изменой национальной правде, вторжением антихристова духа в церковную святыню, потому что дело этих исправлений было отдано в руки иноземцев, приезжих греческих монахов, в правоверии которых так сильно сомневались русские люди того времени.
В 1653 г. вышло распоряжение Никона креститься в церквах тремя, а не двумя перстами.
— И мы, — рассказывает Аввакум, — сошедшись между собою, увидели, что зима хощет быти. Сердце наше озябло и ноги задрожали.
Сам Неронов был посещен видением. Во время молитвы он услышал голос:
— Время приспе страданию, — подобает вам неослабно страдати!
И страдания не заставили себя ждать. В ответ на резкие протесты кружка против распоряжений Никона Иван Неронов был отправлен в ссылку в Вологду, в Спасокаменный монастырь. В кружке начались колебания. Выделилась умеренная партия из священников Казанского собора, которые не хотели открытого разрыва с духовными властями.
Тогда восстал на брань Аввакум. Собрав вокруг себя непримиримых членов кружка, он порвал связь с Казанским собором и, водворившись в опустелом доме Неронова, стал отправлять там церковные службы по старому тану. Патриарх не мог стерпеть такого соблазна. И вот, в субботу 13 августа 1653 г., лишь только Аввакум собрался с братнею в сушиле нероновского дома на всенощное бдение, явился патриарший боярин со стрельцами, сковал Аввакума, надел ему на шею цепь и в таком виде отвез его в Андрониев монастырь, бросив его там в темный погреб. Четыре недели провел Аввакум в заточении, твердо выдерживая и уговоры отказаться от ереси, и мучительные истязания, которыми хотели сломить его упрямство. Весь кружок Неронова был разгромлен. Одних разослали по монастырским тюрьмам, другие не выдержали грозы и отступили от своих убеждений. Наконец вышло от патриарха решение и относительно Аввакума: лишить священства и отправить в ссылку.
15 сентября в Успенском соборе назначен был обряд расстрижения. Уже в самой церкви перед решительным моментом царь Алексей Михайлович не вытерпел, вдруг сошел со своего места и при всех начал просить патриарха остановить расстрижение. Мягкий царь любил в душе учительное слово сурового протопопа. Никон уважил просьбу царя, и Аввакум с сохранением духовного сана был отправлен в далекий Тобольск.
Тяжело было это невольное путешествие для Аввакума и еще тяжелее досталось оно его жене, неизменной спутнице своего мужа. В дороге родился у них ребенок, и жене Аввакума приходилось больной ехать в телеге в бесконечную даль Сибири. Через 13 недель добрались-таки до Тобольска.
Противники Аввакума напрасно думали чего-нибудь достигнуть его ссылкой. Он ехал в Сибирь, весь пылая ревностью о «старой вере», громко обличая на всем пространстве своего пути действия Никона Личные страдания и лишения не имели власти над его сильной волей, а проезд по всей России вплоть до Сибири только давал ему случай разнести семена своей злобы на церковные новшества по всему лицу русской земли. И толпы народа слушали его резкое, возбужденное слово, видели в нем мученика, страдающего за правую веру, и расходились по домам с готовым решением, что на Руси воцарился дух антихристов, вселившийся и в царя, и в патриарха.
— По изволению государеву, — говорил Аввакум, — осквернилось Московское царство. Никониане отметут все, Богом преданное… Как Никон царя причастил антидором, так возьми да понеси, да ломай все старое, давай новую веру римскую и прочая ереси клади в книги.
Обличая Никоновы новшества, Аввакум не забывал выставлять перед народом тот мученический венец, который уже покрывал головы многих противников Никона и который должен был так поднять их в глазах народа, как страдальцев за свои убеждения.
Аввакум ехал по России не как побежденный и сломленный боец, а как воинствующий пророк, собирающий народную рать под свое знамя. И несомненно, ссылка Аввакума способствовала успешности распространения, раскольничьего движения в широких слоях населения.
В Тобольске положение Аввакума неожиданно оказалось весьма благоприятным. Тобольский архиепископ сам был в душе противником Никоновых новшеств. Он принял Аввакума с полным радушием и дал ему церковный приход. Но Тобольск оказался лишь кратковременною пристанью среди житейских скитаний Аввакума. Аввакум не умел и не хотел ни от кого прятать своих убеждений, наоборот, он властно и резко требовал для них общего признания. У таких людей никогда не бывает недостатка ни в жарких поклонниках, ни в заклятых врагах. Врагов у Аввакума было немало, и они не дремали. Скоро пришел из Москвы приказ причислить Аввакума в качестве священника к военному отряду, отправлявшемуся на далекий Амур для изыскания там удобных к поселению мест и для основания на таких местах русских крепостей. И вот началось для протопопа исполненное ужасных лишений плавание по рекам Восточной Сибири. Ехали на первобытных дощаниках, плоскодонных барках, среди дикой природы. Реки были бурные, то и дело встречались пороги, на которых путникам не раз приходилось подвергать опасности самую жизнь. А вдоль рек стояли мрачные скалы и изредка показывались всегда готовые напасть на отряд туземцы. «О, горе стало, — описывал позднее Аввакум это путешествие, — горы высокие, дебри непроходимые, тес каменный, яко стена стоит, и поглядеть — так заломи голову». Трудности пути увеличивались еще тем, что отряд был недостаточно снаряжен провиантом. Бывали моменты, когда люди прямо мерли с голоду или кое-как питались травами, сосновой корой и даже встреченной на дороге падалью. Все эти лишения отрада приходилось делить и Аввакуму с семьей. «Что волк не доест, то мы доедим, — вспоминал он позднее, — и стал я волею-неволею причастен к кобыльим и мертвечьим звериным мясам».
И вот среди такой-то и без того тяжелой обстановки Аввакум вступил еще в неравную борьбу с начальником отрада, воеводой Пашковым. Пашков оказался грубым и жестоким самодуром. Он был из тех воевод доброго старого времени, которые, пользуясь отдаленностью управляемых ими областей от столицы и помня пословицу «До Бога высоко, до царя далеко», не знали удержу властолюбивым замашкам и привыкли играть подвластными им людьми, как пешками. Запасшись лично для себя всем нужным, Пашков не облегчал бедственного положения руководимого им отрада, а только старался разгонять усталость людей взысканиями и побоями.
«Река мелкая, — писал Аввакум, — плоты тяжелые, люди голодные, а тут — пристава немилостивые, батоги суковатые, пытки жестокие. Иного станут мучить — ан и умрет».
Аввакум не мог остаться спокойным свидетелем такого угнетения и, хотя он вполне зависел сам от Пашкова, как от начальника отрада, он не замедлил возвысить свой обличительный голос против действий воеводы. Когда самодурство Пашкова дошло до крайних пределов — он хотел насильно отдать в замужество двух 60-летних стариц из встретившегося с отрядом каравана — Аввакум написал ему резкое, укорительное послание. Пашков вскипел гневом. Произошла дикая сцена. Аввакума избили, бросили связанным в воеводский дощаник, а при остановке отрада на зимовку, не доезжая Байкала, засадили в холодную тюрьму. Когда с наступлением весны экспедиция снова двинулась в путь и, переплыв Байкал, потянулась к верховьям Амура, Пашков не дал Аввакуму подводы, и, кое-как пристроив детей на телеги, протопоп с женою должен был брести за отрядом пешком. Трогательно описывает Аввакум, как шли они рука об руку с женою, когда уже миновало лето и опять в лицо путников дохнула суровая сибирская зима.
«Страна варварская, иноземцы немирные. Отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми не поспеем, голодные, томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет да и повалится, — скользко гораздо!.. На меня, бедная, пеняет: «Долго ли мука сея, протопоп, будет?». И я говорю:
— Марковна, до самыя смерти.
Она же, вздыхая, отвещала:
— Добро, Петрович, ино еще побредем.
В чем черпали эти люди силы для перенесения всех этих лишений? Они черпали их в сознании важности и необходимости своего подвига, в вере в правоту того дела, за которое страдали. Морально победителем был не воевода, а Аввакум, и угнетаемые воеводой люди льнули к мужественному протопопу, впивали в себя его слова, делались ревностными последователями его учения. И у Аввакума не угасала надежда на то, что его дело не погибнет, что сердце народа устоит против Никоновых соблазнов. Неожиданная весть из столицы еще более окрылила эту надежду. Вскоре по водворении отряда на конечном пункте путешествия пришел указ с повелением вернуть Аввакума в Москву. Что означал этот указ? Для Аввакума не было сомнения в том, что это было знаком полной победы его партии: если его зовут обратно в столицу, это значит, что «воссияла чистая старая вера, низложен антихрист, спасена от дьявола Россия». И Аввакум с торопливой поспешностью собрался в обратный путь. Он спешил на Москву, как торжествующий победитель.
Но первые же впечатления при вступлении в Европейскую Россию тяжело упали на его душу. Он увидел, «яко ничтоже успевает». Новшества Никона не отменены. Старые книги и старый чин церковный по-прежнему под опалой. Тогда зачем же его вернули в Москву? Неужели на новые страдания? В душе Аввакума началась борьба. Его мучила мысль об участи жены и детей; ему стало казаться, что он не в праве навлекать на их головы новые бедствия своим мятежным поведением. В эту тяжелую минуту душовной слабости он нашел нравственную поддержку в своей жене. Мы уже видели, как мужественно делила эта замечательная женщина лишения Аввакума во время скитаний по Сибири. Но во всем блеске выказалось ее душевное мужество теперь, когда на тревожный вопрос протопопа: «Жена! Что сотворю? Зима еретическая на дворе: говорить мне или молчать? Связали вы меня!» — она спокойно ответила:
— Господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь! Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи. Дондеже Бог изволит, живем вместе, а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай! Поди, поди в церковь, Петрович, обличай ересь!
И Аввакум отбросил колебания и с новым приливом вдохновенного «дерзновения» поехал дальше, к Москве, громко призывая народ во всех городах по пути ополчиться за старую веру против Никоновых новшеств.
Истинною причиною возвращения Аввакума явилась ссора царя Алексея с патриархом Никоном, окончившаяся уходом Никона с патриаршего престола. Но эта ссора разыгралась совершенно независимо от вопроса о церковных исправлениях. Уход Никона дал возможность смягчить участь Аввакума, но правительство нисколько не отказывалось при этом от проведенных Никоном церковных преобразований. И перед Аввакумом опять открылось широкое поприще общественной борьбы во имя его старозаветных идеалов.
Старый нероновский кружок уже распался. Сам Неронов принес повинную, устрашившись того, что меры Никона были одобрены вселенскими патриархами. Но идейное брожение на Москве шло большое, переплетаясь с борьбою дворцовых и боярских партий. Приезд Аввакума составил крупное событие в общественной жизни тогдашней Москвы. Сибирские скитания осенили Аввакума ореолом мученичества в глазах всех, кто тяготел к церковной старине. С другой стороны, приезду Аввакума очень обрадовались враждовавшие с Никоном бояре в надежде на то, что бритвенный язык протопопа поможет им доконать гордого патриарха. И Аввакум, поселившись в Москве, начинает играть видную роль в московском обществе. Он часто появляется на знакомых уже нам собраниях у Ртищева, вступая там в жаркие споры с «никонианами». Он приобретает себе новых ревностных последователей и почитателей среди энтузиастов разраставшегося раскольничьего движения. К этому времени он приобретает, например, сильное влияние на известную мученицу раскола боярыню Морозову[12], молодую, богатую вдову, отказавшуюся от радостей жизни ради подвигов благотворения и отдавшую блеск своего знатного имени и все свое богатство на служение делу раскола.
Осмотревшись на Москве, Аввакум опять поднял знамя борьбы. Прирожденный вождь, он привык идти впереди, перед своей паствой. Он не мирился на половине, он не понимал смысла своего освобождения без окончательного торжества своего дела. И он решил потребовать у царя восстановления нарушенной церковной старины. В нескольких челобитьях, поданных царю, он убеждал царя отменить Никоновы затейки, восстановить двоеперстие и другие прежние обряды, присоединяя к этому энергичное заступничество за тех ревнителей старины, которые еще томились, отбывая наказания.
Результат этих челобитий не заставил себя ждать. Аввакуму было сказано через боярина Салтыкова:
— Власти на тебя жалуются: церкви-де ты запустошил. Поедь в ссылку опять.
Так окончилось кратковременное пребывание в Москве на свободе. Вопрос о церковных исправлениях решено было отдать на рассмотрение вселенским патриархам, которые ехали в Москву судить Никона, и впредь до прибытия их в Москву Аввакума заточили в далекую Мезень. Напрасно духовные власти увещевали Аввакума отступиться от своих еретических заблуждений. Он твердо стоял за «старую веру» и 17 июля 1667 г. предстал на соборе, чтобы дать ответ патриархам. Объяснение было короткое, но в высшей степени знаменательное. Патриархи указали Аввакуму на то, что все христианские страны: и Палестина, и сербы, и римляне, и ляхи крестятся тремя, а не двумя перстами. И на это услышали в ответ от Аввакума характерную отповедь, в которой выразилась основная, принципиальная подкладка раскольничьего движения. В немногих словах Аввакум со свойственным ему талантом очертил самую сущность вопроса.
— Вселенские учители! — сказал он. — Рим давно упал… Ляхи с ними же погибли А у вас православие пестро стало от насилия турского Махмета… И впредь приезжайте к нам учиться… До Никона-отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и неророчно и церковь не мятежна.
Иначе говоря: вы нам не указ, не у вас, а у нас на Руси источник религиозной истины, русская старина и есть настоящая вселенская правда.
Высказав эту мысль, Аввакум считал совершенно излишними всякие дальнейшие прения, и действительно, в чем могли его убедить вселенские патриархи, после того, как он поставил национальное предание выше правил вселенских? И видя, что патриархи продолжают убеждать его долгими речами, Аввакум преспокойно заметил:
— Ну, вы посидите, а я полежу, — отошел к двери да и лег на пол.
Собор патриархов предал Аввакума проклятию, а царь постановил сослать его в Пустозерск.
Из этой ссылки Аввакуму уже не суждено было возвратиться. Там его заключили в сруб, вкопанный в землю, в котором он пробыл безвыходно 15 лет. Но и из глубины своей земляной тюрьмы Аввакум не перестал духовно руководить раскольничьим движением. Он наполнял свое одиночество молитвой и писательством. В своих молитвенных подвигах он доходил до истинного экстаза. Он творил молитвы до полного изнеможения, до галлюцинаций. При этом он еще истязал себя холодом, совершенно отказавшись от всякой одежды, и голодом, не принимая пищи по нескольку дней подряд. Слухи об этих изумительных подвигах пустозерского страдальца через стражников, приставленных к его тюрьме, шли в народ и высоко поднимали в народном сознании духовный авторитет Аввакума.
А в промежутках между аскетическими подвигами Аввакум набрасывал на разных клочках свои послания, то сердито-обличительные, то наставительные, но всегда одинаково своеобразные по языку, дышащие страстью, бьющие по нервам. И эти листки, проникавшие через стражников за стены тюрьмы, подхватывались жадными руками и в тысячах списков расходились по всей русской земле.
Так прошло 15 лет. К 1681 г. Аввакум вдруг надумал обратиться к царю — на царском престоле сидел уже сын Алексея Михайловича, Феодор[13], с длинным посланием, опять с призывом вернуться к церковной старине и порвать всякие связи с иноземцами. Послание было получено на Москве как раз в самый разгар польского влияния при дворе. Это послание и решило судьбу Аввакума. Решено было подвергнуть его огненной казни. 14 апреля 1682 г. страдалец успокоился: его сожгли на костре на площади Пустозерска.
Рассказанный эпизод из истории общественных движений в Московской Руси XVII столетия может послужить ответом на поспешные заключения о томительной однотонности исторического прошлого нашей родины. Костер Аввакума — этого, по выражению Соловьева[14], богатыря-протопопа, — освещает зловещим, но ярким светом глубоко драматическое движение, наполнявшее жизнь московского общества в ее предреформенный период. Зрелище этого движения навевает на нас теперь двоякого рода чувства.
Жалостью сжимается сердце, когда подумаешь, сколько богатых, поистине богатырских душевных сил целиком было растрачено на борьбу за пустые формы и обряды, в которых видели какой-то таинственный оплот национальной самостоятельности. Но это сожаление соединяется с почтительным удивлением перед мужественною стойкостью и страстным одушевлением людей, которые умели превращать жизнь в сплошной идейный подвиг и смело идти на смерть за свои убеждения.
ЕКАТЕРИНА I[15] Меншиков[16]. Толстой[17] Ягужинский[18]. Дм. Голицын[19]
Глава из неопубликованного курса лекций по новой русской истории, посвященная характеристике Екатерины I и ее окружения,
печатается по изданию: Записки Русского института в Праге.
Прага, 1937. С. 214–224.
Двухлетнее с лишним царствование Екатерины I было наполнено сложными маневрами партий, имевшими важное влияние на дальнейший ход общественной борьбы. Воцарение Екатерины повлекло за собой диктатуру Меншикова. Но при всей широте своего самовластия Меншиков все же не занял своей фигурой всей политической сцены. Там были и другие борцы, представлявшие иные группы или интересы. Бросим взгляд на главнейших из них.
Всего менее внимания заслуживает сама Екатерина, волею судьбы попавшая в центр этой людской галереи. Эта женщина, родившаяся ливонской крестьянкой и умершая всероссийской императрицей, имела все данные для того, чтобы быть удобной спутницей Петра Великого на его бурном жизненном поприще, и не имела ни одного нужного свойства, чтобы стать его достойной преемницей. Петр Великий высоко ценил подругу своего сердца и с каждым годом все сильнее к ней привязывался. В страшные минуты исступленного гнева только ей одной отдавался он в руки доверчиво и покорно; затихал, положив ей голову на колени, и погружался в освежительный сон, пока она гладила его голову. Екатерина была для Петра незаменимой походной женой; она весело переносила все неудобства и лишения страннической жизни Петра, была вынослива, беззаботна, одинаково чувствовала себя в своей тарелке и в походной палатке военного лагеря, и в тесных комнатках царского домика на Неве, и среди какой-нибудь исступленной оргии всенощного придворного пира. Самое ценное для Петра было то, что она хорошо знала свое место: усердно рожала Петру детей и до брака и после брака и не позволяла себе ни малейшего намека на обиду или жалобу по поводу увлечений Петра разными «метресками». До нас дошли письма Екатерины Петру, в которых она говорит об этих «метресках» тоном самой беззаботной шутки. Мы не встречаем также ни одного случая, когда бы она позволила себе попытку вмешаться в государственную деятельность Петра. Даже в деле царевича Алексея[20]она держится с тактом и не высовывается вперед. Правда, иногда ей случалось заступаться за Меншикова и спасать его от петровской дубинки. Но это были уже не столько государственные, сколько домашние дела; у всех троих были свои интимные счеты: ведь Петр получил Екатерину в свой гарем из рук того же Меншикова.
Екатерина стала подругой сердца Петра только потому, что она умела быть его покорной и преданной рабой. Но в отличие от преданности духа, преданность раба почти всегда имеет свою оборотную сторону. Там, где-то в глубине души преданного раба таится интимнейший уголок, который, как призрак свободы, тщательно оберегается от господина, и в этом уголке нередко зреют зародыши измены. И Екатерина изменяла Петру в разнообразных видах. Сердечная измена Петром была открыта. Незадолго до своей кончины он узнал про связь Екатерины с Монсом[21], и это было для него нравственным ударом, от которого он уже не оправился. Петр отомстил по-петровски: казнил Монса и заспиртованную в банке голову казненного поставил на ночном столике Екатерины. Измены другого рода остались Петру неизвестными. Он так и не узнал, что, когда Екатерина заступалась перед Петром за Меншикова, обличаемого во взятках, она сама бывала в доле.
Кажется, Екатерина не чувствовала себя счастливой в браке за гениальным мужем. Саксонский резидент Лефорт[22]сообщает, что со времени замужества Екатерина носила в душе какое-то тайное горе и иногда по ночам громко жаловалась на судьбу. Эти жалобы и эта печаль не покинули ее и тогда, когда она стала самодержицей. Может быть, ее неудовлетворенность еще усиливалась от сознания полной своей непригодности к занятию этого нового положения. Она ничего не понимала в государственных делах. Она, как была, так и осталась неглупой, сообразительной, но совершенно невежественной ливонской крестьянкой. Она не умела ни читать, ни писать. С величайшим трудом выводила она какие-то каракули вместо своей подписи и чаще всего за нее подписывалась ее дочь Елизавета[23]. Скоро ей начали изменять и физические силы. Жизнь с Петром, тревожная и бурная, полная ужасов и оргий, мучительные потрясения, пережитые в связи с делом Монса, наконец, неприятная болезнь, полученная от сожительства с Петром, — все это превратило ее почти в развалину. Что оставалось ей делать под мантией самодержицы? Кое-как дотягивать земное существование, превратив конец его в сплошной пьяный пир. Петр перемежал свои оргии с напряженной государственной работой. Екатерина ничего не смыслила в государственной работе, и дворец превратился при ней целиком в роскошный трактир, где вино лилось рекою каждую ночь до утренней зари. Упомянутый выше Лефорт сообщал своему правительству, что «русский двор каждую ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится самое раннее в 5 или 7 часов утра. О делах нет и помину». Датский посол, Вестфален[24], вычислил, что за два года еженощные кутежи во дворце поглотили венгерского вина и данцигской водки не менее, как на миллион рублей (около 9 миллионов на наши деньги). На торжественных публичных церемониях придворные дамы были теперь избавлены от обязанности наравне с мужчинами осушать гигантские кубки. Но на более интимных пирах во дворце все шло по-прежнему. В приходо-расходной книге комнатных денег Екатерины встречаем записи вроде следующих: «Княгине Голицыной пожаловано 10 червонных за то, что она выпила при столе Ея Величества два кубка пива английского», через несколько дней ей же пожаловано 15 червонных «за то, что выпила большой кубок виноградного вина» и т. д. в том же роде.
Культ Бахуса[25] наполнял весь строй придворной жизни. Но не был забыт и культ Венеры[26]. Больная, обремененная полнотой, с вечными опухолями на ногах от начинавшейся водянки, Екатерина тем не менее с увлечением предавалась утехам любви. Надо же было вознаградить себя за Монса, погибшего на плахе! Левенвольд[27], Ягужинский, Девьер[28], Сапега[29] сменили друг друга в качестве ближайших утешителей вдовы Петра. В редкие минуты среди этой сплошной оргии Екатерина вспоминала, что за пределами ее дворца находится Россия и что у нее должны быть какие-то отношения к обитателям этой страны. Способы поддержания нравственной связи с подданными Екатерина избирала весьма оригинальные. 1 апрели 1725 г. жители Петербурга были насмерть перепуганы пальбой, внезапно раздавшейся с Петропавловской крепости. Думали уже, что на Петербург идет английский флот или шведская армия, и готовились к смерти. Напугав так сильно жителей столицы, Екатерина приказала затем милостиво объявить во всеобщее сведение, что она хотела пошутить со своими верноподданными по случаю 1-го апреля.
Сказанного достаточно, чтобы прийти к заключению, что среди деятелей этого краткого царствования наименьшая доля влияния на ход политических событий принадлежала императрице. Кто же держал тогда в руках весы, на которых взвешивались судьбы русской политики? У нас есть оригинальное, но надежное средство найти ответ на этот вопрос.
В Петербурге проживал тогда дипломатический представитель Франции Кампредон[30]. Он усердно, хотя и безуспешно хлопотал о заключении союза между Францией и Россией. В одной депеше к своему правительству он сообщил список русских вельмож, которым необходимо дать взятку для успешного окончания дела о союзе. Кого же он назвал? На первом плане Меншиков, затем Толстой, Апраксин[31] и Остерман[32], за ними — Голицын и Долгорукий[33], далее Макаров[34] и Ягужинский. Это — список для тайных наград. В списке открытых наград к этим именам присоединено еще имя канцлера Головкина[35]. Вот почти все вельможи, действующие на первом плане политики при Екатерине I. Сортируя по группам, мы расположим их в таком порядке: Меншиков, Толстой и Ягужинский — ближайшие к Преобразователю «птенцы Петра», хотя и смертельно враждующие между собою. Дмитрий Михайлович Голицын — самая крупная фигура на противоположном полюсе общественной группировки, борец за идеалы родовитой знати или «боярской партии». Апраксин и Головкин — фигуры более бледные — занимают благоразумную середину между двумя названными выше группами. Особо держится Остерман, это искуснейший пловец по волнам политики, но его роль еще впереди, пока он только готовится — осторожно и хитроумно — пустить свой челнок в открытое море политической борьбы. Однако перечень еще не полон.
Есть еще целая группа, притязательная, суетливая шумная. Она совершенно чужда русскому обществу, но ее беспокойные стремления и маневры всего более приводят в движение все вышеупомянутые элементы и дают им побудительный толчок для взаимных столкновений. Я разумею группу голштинцев во главе с герцогом Фридрихом[36], супругом дочери Петра, Анны[37]. Эти голштинцы расположились в Петербурге совсем по-хозяйски и открыто ставили на очередь вопрос о том, чтобы по смерти Екатерины российская корона увенчала главу их герцога. Сам герцог не блистал способностями, необходимыми для достижения столь смело поставленной цели. Но при нем был его министр, Бассевич[38], — деятельный и довольно нахальный интриган, мечтавший о том, чтобы из мутной воды ссор и столкновений русских вельмож выловить для своего герцога русскую корону.
Познакомимся поближе с главными действующими лицами всей этой борьбы.
На первом плане стоит Меншиков. Вглядываясь в эту историческую фигуру, всего труднее ответить себе на вопрос, почему Петр вознес этого человека на такую высоту, на которой он не сумел ни оправдать своего возвышения, ни сколько-нибудь прочно укрепиться. В эпоху своего самовластья Меншиков не выдвинул ни одной серьезной политической идеи, не обнаружил ни одного истинно государственного таланта. Он проявил широкий размах энергии, но лишь для одной цели — для удовлетворения личного честолюбия и алчной корысти. Как будто вся громадная власть, доставшаяся в его руки, имела для него цену только потому, что давала ему возможность довести до безграничных размеров его и ранее грандиозные хищения. Обобрать казну — вот, казалось, единственный девиз, руководивший в это время Меншиковым. И он расхищал народные деньги, все увеличивая куши, делал это жадно, торопливо, словно предвидя, что нужно спешить, пока счастье внезапно не отвернется. Низменность своего корыстолюбия он прикрывал величайшей надменностью. Недаром его звали «прегордым Голиафом». Однако не забудем, что после своего падения этот невежественный хищник и честолюбец, притязаниям которого не было предела, сумел вдруг переродиться в простого, крепкого духом, чернорабочего русского человека. Ни одной жалобы, ни одной унизительной просьбы не слетело с его уст в сибирской ссылке. С гордой мужественностью он зажил жизнью крестьянина в построенном собственноручно домике, не согнувшись и не сломавшись под налетевшим на него жизненным вихрем. Несметные сокровища были у него отняты, честолюбивые мечты разлетелись прахом, а он выпрямился во весь рост подлинной нравственной силы. Под надменностью царедворца вдруг обнаружилась та истинная гордость сильного духом человека, при которой самый могущественный враг может разбить человеку жизнь, но не в состоянии довести его до нравственного унижения.
Однако для такого перерождения потребовалась страшная катастрофа. В чем же, кроме корыстолюбия и заносчивости, проявлялись силы его души до этой катастрофы, чем он пленил в свое время Петра Великого?
Надо сказать, что талантливость била ключом в этом выходце из простонародной массы. Он мог быстро найтись во всяком деле, мог сразу поставить себя на равной ноге со всякой средой, куда бы его ни кинула судьба. Разнося по Москве пирожки на лотке, он пленил Лефорта[39] живым взглядом веселых глаз и остроумным балагурством. Замеченный у Лефорта Петром и став постельником царя, он пленил Петра замечательной легкостью, с которой он усвоил манеры и ношение костюма на иностранный образец. Поехав с Петром в его первое учебное путешествие по Европе, Меншиков в Голландии работал за четверых и стучал топором так, как будто бы в сухопутной Москве он всю жизнь только и делал, что трудился на корабельных верфях, а тотчас же вслед затем, когда путешественники прибыли в Англию, этот московский пирожник, никогда ничему не учившийся, в совершенстве перенял манеры английской аристократической знати и с полным достоинством держался в придворном обществе Лондона. Усвоение разговорных иностранных языков давалось ему без труда, прямо со слуха. Как же было Петру не оценить такого золотого сотрудника? Одна возможность появления из русской простонародной среды такого человека укрепляла веру Петра в то, что Россия может быть преобразована и может во всем сравняться с остальной Европой. Не потому ли более всего Петр и полюбил так сильно Меншикова, что в его личности он видел как будто воплощение своей мечты о преобразовании России? В государственных делах Петра на долю Меншикова выпала немалая часть. Но важно отметить, что Меншиков употребляется Петром более всего в таких областях, где требовались энергия, смелость, стремительность, распорядительность. Меншиков участвует в военачальствовании при боевых операциях, строит Петербург, управляет Ингерманландией. Но там, где была нужда в умственной изобретательности, знании, в обобщающей работе мысли, — там Меншикова не видно. Он не принял, например, никакого участия в разработке и подготовке административной реформы Петра. Скажу больше: Меншикову как будто осталась чуждой самая основная, центральная идея всей государственной деятельности Петра, идея государственного долга. Меншиков на каждом шагу попирал эту идею самым бесцеремонным образом. Уже при Петре Ментиков опустошал казну своими хищениями при всяком удобном случае. Сколько раз Петр избивал его за это палкою, налагал на него опалу и крупные штрафы. Но ведь другие за такие дела попадали на плаху. А Меншикову и опала сходила с рук, и через некоторое время он уже опять оказывался любимейшим «камрадом» Петра за попойками и его «херцкиндом» в государственной работе. Я хочу сказать, что Меншиков являлся отличным инструментом в руках такого мастера, каким был Петр Великий, но действовать самопроизвольно этот инструмент не мог, потому что самое существо замыслов мастера оставалось недоступным его сознанию и всей его природе.
Вот почему, когда Петра не стало, тогда и от Меншикова остался не более, как надутый честолюбец и беззастенчивый грабитель. И только внезапная катастрофа его жизни вдруг обнаружила в его личности еще другого человека, до тех пор скрытого под корою темных пороков. Низвержение с вершины власти на самое дно позора и лишений вдруг разбудило в этом человеке, честолюбце и грабителе, гордого нравственного героя.
Рядом с Меншиковым мы видим Толстого. Трудно вообразить себе две более несходные фигуры. И от достоинства, и от пороков Меншикова веет первобытной непосредственностью полудикаря. Толстой — европеец не только по названию, но и по тонкой изощренности своих понятий, вкусов и житейских приемов. Меншиков наивен в самых тяжких своих преступлениях против родины. Толстой — настоящий злодей, утонченный, хитроумный, умеющий прятать злодейство под маской любезной приветливости и совмещающий обдумывание коварных преступлений с эстетическим наслаждением лучшими цветами европейской культуры. Он двуличен и неуловим. Меншиков называл его «итальянцем (Толстой был в Италии и всегда ею восхищался), умеющим надевать плащ то на одно, то на другое плечо, смотря по тому, откуда дует ветер», а Кампредон отозвался о нем, как о самом ловком из всех русских министров. Недаром его специальностями были дипломатия и политический сыск. 50 лет от роду он в чине стольника был послан в 1698 г. в Венецию для изучения кораблестроения. Он прожил там год и 4 месяца и остался навсегда поклонником итальянской культуры. По составленному там замечательному дневнику его пребывания в Италии мы видим, как широк был круг его заграничных впечатлений. Он интересуется государственным и общественным строем Италии и восхищается итальянской архитектурой и живописью. В нем пробуждены литературные интересы. Он переводит с итальянского языка «Метаморфозы» Овидия[40]. Лоск культуры чувствуется и на внешних приемах его обращения. Он очень приятный, остроумный, любезный собеседник. Увлечение западными впечатлениями не мешало ему оставаться верным сыном православия, ретивым богомолом в духе древнего благочестия. Убранство его петербургского кабинета характерно обличает эту двойственность его духовного склада. Одна стена этой комнаты была убрана многочисленными иконами, а на другой стене, поближе к темному углу, висела заграничная картина, изображавшая нагую женщину. И вот этот богомол и эстетик, этот приятный и любезный, образованный вельможа был сущим злодеем, жестоким, коварным и вероломным. В 1682 г. он вместе с Милославскими[41] бунтовал стрельцов в пользу Софьи[42]. Петр хорошо помнил это обстоятельство и как-то раз на одном из пиров явственно намекнул на это Толстому. «С ним всегда надо держать камень за пазухой», — говорил про него Петр. И точно, он был способен из-за угла разделаться с человеком. Будучи послом в Константинополе, Толстой получил от турецкого дивана крупную взятку. Об этом узнал один подьячий. Толстой любезно поднес подьячему рюмочку вина. Подьячий выпил и… отдал Богу душу. Свой грех перед Петром Толстой искупил услугой, для совершения которой потребовалось немалое коварство. Когда царевич Алексей бежал от отца в Неаполь и Петр решил обманным обещанием прощения заманить его обратно в Россию, то выполнение этого деликатного поручения было возложено на Толстого. Толстой был тут в своей сфере. Он быстро обернул царевича вокруг пальца, привезя его в Петербург, и был главным руководителем розыска. Ходили слухи, что Алексей от руки самого Толстого и погиб в застенках. Вот это-то обстоятельство и заставило затем Толстого всеми силами противиться воцарению юного Петра Алексеевича. Он боялся мести со стороны сына царевича. По этой причине Толстой, принадлежавший к довольно старинному, хотя и не крупному дворянскому роду, всецело примкнул к группе худородных «петровских птенцов» и вместе с Меншиковым провел на престол Екатерину. И по той же самой причине пути Толстого и Меншикова скоро разошлись в разные стороны. Каждый важный жизненный шаг Толстого был обусловлен каким-нибудь предшествовавшим его злодейством. Передавали, что Петр говорил про Толстого: «Голова, голова, кабы не была ты так умна, давно бы не быть тебе на плечах». Плаха Толстого миновала. Но все же ему пришлось кончить жизнь на 84-м году от рождения в каземате Соловецкого монастыря политическим арестантом.
Меншиков и Толстой были двумя главными фигурами в группе «петровских птенцов». О второстепенных я говорить не буду и упомяну только еще об одном человеке, который стремительностью своего темперамента и своими резкими выходками то и дело смешивал все карты политической игры. Я разумею Ягужинского. Сын органиста немецкой кирки, он был замечен, как очень красивый мальчик, Головкиным и взят последним к себе в услужение. Говорили даже, что это «услужение» носило весьма предосудительный характер. От Головкина его взял к себе Петр. Ягужинский вырос в статного, высокого красавца с неправильными, но очень живыми и выразительными чертами лица. Его наружность и небрежная, но очень изящная щеголеватость производили большой беспорядок в сердцах дамской половины петербургского высшего общества. А его неуживчивость и бешеная вспыльчивость не раз ставили вверх дном дела мужской половины этого общества. Создав должность генерал-прокурора, этого «ока государева», Петр назначил на эту ответственную должность Ягужинского. И Петр имел к тому веские основания. Ягужинский резко выделятся из тогдашней вельможной среды двумя качествами: неподкупностью (только Ровдо набрасывает тень на Ягужинского в этом отношении, показания всех других современников дружным хором свидетельствуют о честности Ягужинского) и независимостью характера. Он всегда шел напролом против наиболее сильного в данное время человека. Не уставая, смертельно враждовал с Меншиковым и обличал его злоупотребления, открыто пошел против учреждения Верховного Тайного Совета[43] и перед гробом Петра Великого громко жаловался на то, что слуги великого царя, еще не похоронив Петра, ниспровергают все его учреждения; резко разошелся с верховниками в 1730 г. и вместе с Остерманом помог Анне[44] восстановить самодержавие; а позднее отваживался вступать в перепалки с самим Бироном[45]. В своих обличительных порывах он был неукротим, а когда он находился под влиянием винных паров, — что бывало сплошь и рядом, — его шумные выходки принимали форму настоящего скандала. Он всегда врезался клином во всякую налаженную комбинацию и стремительно спутывал и опрокидывал многие из них.
Теперь взглянем на самого крупного представителя совершенно противоположной среды. Среди так называемой «боярской партии» не было человека крупнее князя Дмитрия Михайловича Голицына Этот властный, надменный и хмурый старик олицетворял в своей личности целый этап общественного развития. В его лице старая Русь делала последнюю попытку воспользоваться средствами западной европейской культуры для вящего закрепления и утверждения своей прадедовской старомосковской сущности. Дмитрий Голицын являлся строгим, истовым хранителем старинного обычного «чина» жизни. Дедовские предания были величайшей святыней его души. Ничто не могло бы заставить его отступить от них, хотя бы на йоту. Даже сам Петр Великий должен был считаться с этой чертой своенравного князя. Голицын неизменно начинал свой день с отправления молитвенного правила. И если в то время, когда он стоял перед иконами, к нему в дом заходил Петр, то о приходе царя князю не докладывали, и Петр покорно садился дожидаться, посылая время от времени только посмотреть, когда «старик кончит свои дела». Все братья князя Дмитрия — он был из них старший — хотя и сами уже имели и почтенный возраст и высокие чины, непременно должны были вставать при появлении князя и целовать ему руку.
И вот этот-то истовый хранитель заветов старины с жадностью набрасывался на западную науку и пристально всматривался в западные государственные порядки — все с одной целью: найти там что-нибудь такое, чем можно было бы воспользоваться для того, чтобы подпереть и освежить на будущее время любезную его сердцу разрушающуюся родную старину. Будучи губернатором в Киеве при Петре Великом, Голицын завел сношения со студентами Киевской духовной академии и получал через них из академической библиотеки книги и рукописи по интересовавшим его вопросам. А затем в своем подмосковном селе он собрал и собственную библиотеку более, чем из 6000 томов. Здесь находились многочисленные рукописные переводы сочинений таких политических мыслителей, как Макиавелли[46], Томазий[47], Гуго Гроций[48], Локк[49], Пуффендорф[50] и др.
Наряду с такими трактатами Голицын внимательно изучал и государственное устройство таких стран, как Польша и Швеция, в которых монархическая власть была сильно ограничиваема властной аристократией. Руководителем Голицына в этом занятии являлся Фик[51], иноземец, сыгравший такую видную роль в подготовке реформы Петра Великого. Фик нередко далеко за полночь засиживался в кабинете Дмитрия Голицына, и по указанию Фика Голицын переводил для себя шведские узаконения. Изучая законы Польши, Швеции и Англии, Голицын неотступно думал о России. Замечу здесь же, что не одного Дмитрия Голицына интересовали политические теории и политическая действительность Западной Европы. Недаром переводная политическая литература получила тогда в нашем обществе заметное распространение. Недаром и Феофан Прокопович[52], составляя по заказу Петра свой трактат «Правда воли монаршей», старался там обосновать неограниченность монархической власти двумя рядами доказательств. Во-первых, он представлял доказательства от «Священного писания». Но затем он прямо заявлял, что в России появились «прекословием свербящие сердца», которые «сеют мятежей плевелы» и которых доводы от Писания удовлетворить уже не могут. И потому Феофан переходит к аргументам, заимствованным из таких источников, которые могли получить авторитетную убедительность в глазах и такого рода людей. Какие же авторитеты он выдвигает? Гуго Гроция и Гоббса[53]. И особенно характерно, что к этой иноземной философско-политической литературе прибегали тогда не только любители новизны, но и такие поклонники старины, каким был Дмитрий Голицын. Как умный человек, Голицын понимал, что полная реставрация старины невозможна, и он озирался кругом и отыскивал в современной ему действительности какие-нибудь элементы, которые могли бы оказаться подходящими к его наследственным политическим идеалам, почерпнутым из родной старины.
Меншиков и Толстой, с одной стороны, и Дмитрий Голицын, с другой, стояли на двух противоположных полюсах политической оси.
Артемий Петрович ВОЛЫНСКИЙ
Печатается по изданию:
Журнал для всех. 1899. № 1. С. 113–114; № 2. С. 187–204; № 3. С. 325–336; № 4. С. 447–460.
Суетливой оживленностью отмечена жизнь верхних слоев столичного русского общества в первую половину прошлого столетия. В то время, как русская провинция еще не просыпалась от своего векового исторического сна, на поверхности столичной жизни непрерывно разыгрывалась шумная и ожесточенная борьба между лицами и партиями. Вглядываясь в эту борьбу, прежде всего поражаешься стремительной быстротой ее неожиданных поворотов. Какая пестрая масса лиц! Какая внезапная смена необычайных жизненных удач и столь же громких падений! Судьба многих деятелей, вынесенных потоком этих событий на авансцену истории, — настоящая сказка, ряд самых фантастических сюрпризов… Мальчишка-пирожник[54] превращается в «полудержавного властелина» для того, чтобы кончить свою блестящую карьеру ссыльным поселенцем в глухом углу Сибири. В безвестном немецком городишке живет в пасторском семействе бедная служанка. Вспыхивает война. Русский царь является в город во главе войска — и пасторская служанка становится первой русской императрицей[55]. Невежественный, но ловкий и красивый конюх[56] тщетно старается пристроиться на русскую службу. Ему хочется получить место в придворном штате жены царевича Алексея Петровича, сына Петра Великого; но план не удается: ему отказано, как человеку слишком низкого происхождения. Проходит несколько лет, и мы встречаем того же конюха первым вельможей русского государства; а спустя еще немного времени, он уже — государственный регент. Младенец, увенчанный императорской короной[57], не может стеснить его своеволия, и он чувствует себя неограниченным властелином. Но вот однажды ночью под окнами регента раздается бой барабанов, и в спальне появляется какая-то мрачная фигура. Это фельдмаршал[58]… Он пришел арестовать регента. Все решается в несколько минут. Фельдмаршал делается первым министром, а вчерашний регент отправляется в далекое путешествие, отнюдь не входившее в его политические планы: его везут в Сибирь, в город Пелым. Однако через пять лет эти два человека снова встречаются уже не в темной дворцовой спальне, а при дневном свете и на чистом воздухе: бывший регент возвращается из своей ссылки в столицу, а бывшего фельдмаршала везут в Пелым, в ту самую казарму, которую он не так давно велел выстроить для своего врага.
Неужели все это не сказки? Нет, это подлинные исторические факты.
Необычайность всех этих жизненных катастроф, из которых слагалось развитие упомянутой выше партийной борьбы, долго закрывала от глаз исследователей истинное значение этой борьбы, и в ней видели долгое время одно причудливое сцепление всевозможных случайностей, какую-то любопытную, но малопонятную шахеразаду. А так как общим побуждением, заставлявшим всех действующих лиц этих дворцовых переворотов бросаться во взаимную борьбу, было стремление к власти, то отсюда и привыкали смотреть на все эти общественные движения первой половины XVIII века исключительно как на игру единичных ненасытных честолюбий и личных интриг. В настоящее время этот старый взгляд начинает изменяться. Более внимательное изучение эпохи вскрывает и более глубокие корни занимающих нас событий. Шумная борьба отдельных деятелей из-за личных интересов была лишь отражением более глухой, но зато и более глубокой борьбы между различными группами общества из-за интересов сословных. В личной судьбе отдельных борцов было много неожиданного и случайного, но не случайны были те общие жизненные условия, которые открыли им доступ на арену борьбы. И вот, когда мы обратим внимание на эти общие условия, мы перестанем глядеть на историю дворцовых интриг и переворотов прошлого столетия только как на собрание занимательных анекдотов об отдельных лицах; мы увидим в ней одну из поучительных страниц из жизни русского общества.
Предполагая познакомить читателей с судьбою одного из тех людей, которые были выкинуты на поверхность русской жизни поворотами этой борьбы, я и считаю необходимым поэтому бросить сначала взгляд на состав и взаимные отношения различных общественных групп, в среде которых разыгралась его жизненная драма.
Русское общество первой половины прошлого столетия только что пережило знаменательную эпоху реформ. Эти реформы, начавшиеся еще в конце XVII века и завершившиеся в царствование Петра, внесли в течение русской жизни разнообразные изменения. В ряду этих изменений не последнее место занимала перестройка самого состава высшего общественного слоя, русского дворянства. Русское дворянство и после преобразовательной эпохи осталось служилым классом, прикрепленным к вечной обязательной государевой службе, ратной и гражданской. Но если политическое значение этого класса, его отношение к государственной власти оставалось неизменным вплоть до 60-х годов прошлого века, вплоть до издания манифеста о вольности дворянской, то его социальный состав уже к началу второй четверти прошлого века существенно освежился и осложнился. Он отличался весьма значительной пестротой и разнообразием вошедших в него элементов. То были: 1) обломки старинной, еще допетровской боярской знати, 2) пожалованное дворянство, составившееся из лиц, связанных непосредственною личною близостью к царствующим особам или вообще волею счастливого случая включенных по особой царской милости в состав дворянства, 3) заезжие иностранцы, присосавшиеся к русской службе при помощи различных политических и придворных интриг и, наконец, 4) так называемое рядовое шляхетство, создание петровской «Табели о рангах», предоставившей возможность каждому достигать дворянства последовательным прохождением различных чиновных степеней.
Достаточно перечислить названные слои дворянского класса, чтобы тотчас понять, как мало солидарности и как много розни могло быть порождено от их взаимного соприкосновения. Что общего могло быть у этих групп? Разве только то, что как раз и помешало им мирно игнорировать друг друга: стремление к власти. Все остальное: социальные интересы, политические идеалы, мотивы и средства борьбы во имя этих интересов и идеалов — все должно было явиться различным. В самом деле, на что опирались притязания каждой из этих групп? Потомки допетровской аристократии опирались на исконную традицию русского боярства, которое привыкло делить со своим верховным вождем труды государственного строения.
Рядовое шляхетство, детище «Табели о рангах»[59], опиралось на личную выслугу; пожалованные дворяне как русские, так и заезжие иностранцы, одинаково не были связаны ни историческими преданиями, ни медленной трудовой служебной карьерой; это были люди без прошлого, люди «случая», как говорили в прошлом веке, люди быстрых и блестящих карьер и столь же внезапных паданий. Их притязания опирались просто на веру в личным талант и личную удачу.
Познакомимся поближе с указанными общественными слоями и общим характером их взаимных отношений.
Родовитые потомки допетровского боярства, все эта Долгорукие[60], Голицыны[61] и т. п., испытав на себе влияние преобразовательной эпохи, тем не менее, сохранили многие типичные черты поздних потомков старинной наследственной аристократии. Они являлись бережливыми хранителями исконных преданий. Они готовы были приспособить эти предания к требованиям нового века. Но они не могли поступиться их сущностью, их основным содержанием. Старая боярская знать издавна привыкла делить с носителем верховной власти труды государственного управления в форме участия в государевой Думе, в форме так называемого думного сидения. Что отворяло перед служилым человеком Древней Руси двери государевой Думы? Во-первых, порода, во-вторых, государево назначенье. Думный чин жаловали или, как говорилось тогда, «думу сказывали» по постановлению государя; но государь в своих назначениях сообразовался с местническими отношениями и с родовитостью происхождения. Государь делал выбор, но уже из готового материала, известных родовитых фамилий; а материал для его выбора подготовлялся местническими счетами. Сущность местничества состояла, как известно, в необходимости совпадения служебного старшинства с родовым старшинством служилых фамилий. Местнические правила не ограничивали формально свободу государевых назначений. Но, как обычай века, вошедший в плоть и кровь всего тогдашнего общества, они неизбежно подчиняли себе и самого государя, который по своему личному убеждению нашел бы странным и неестественным нарушить местнический распорядок, входивший неизменным элементом в обычное течение московской жизни[62]. И вот почему государь постоянно руководился местническими счетами при своих назначениях, и ют почему в Думе обыкновенно сидели члены только тех знатных фамилий, которым принадлежало старшинство по их породе. Так формировался постепенно наследственный, замкнутый слой думных фамилий, тех, «которые в Думе живут». Плотной стеной они окружали трон. Непосредственное участие в верховном руководительстве государственною жизнью сделалось их фамильным преданием, основной чертой их политического существования. Не стоять у кормила власти значило в их глазах умереть политическою смертью. С легкой руки подьячего Котошихина, писателя XVII века, описавшего состояние России в царствование Алексея Михайловича[63], утвердился несколько пренебрежительный, иронический взгляд на политическое значение боярской Думы в системе управления Московским государством. При слове «думные дворяне» нам тотчас рисуются описанные Котошнхиным молчаливые фигуры бородатых думцев, которые неподвижно сидят, «брады свои уставя». Однако, как доказано проф. Ключевским[64] в его специальном труде о боярской Думе Древней Руси, названному месту котошихинского описания посчастливилось совершенно незаслуженно. Нарисованная им картина думского заседания — злая сатирическая выходка, а не точное воспроизведение нормального хода деятельности Думы. Мы знаем из других источников, что в Думе бывали оживленные прения, шумные споры. Сам коронованный председатель Думы должен был иногда выносить от своих советников «встречу», т. е. возражения. Исторические документы характеризуют подчас ход думных заседаний, как «брань велию, и крик и шум велик, и речи многие во всех боярах, и слова многие бранные»; бояре возражали энергично, «с великим шумом, невежеством и возношением».
Мы поймем этот оживленный характер деятельности Думы, если припомним, в чем заключалась эта деятельность. Арена ее была весьма обширна, значение ее весьма высоко. «Боярская дума, — говорит проф. Ключевский, — была учреждением, привыкшим действовать только при государе и с ним вместе. Действительно, давний обычай неразрывно связал обе эти политические силы, и они не умели действовать друг без друга, срослись одна с другой, как части одного органического целого… Пространство деятельности Думы совпадало с пределами государственной верховной власти, потому что последняя действовала вместе с первой и через первую» (Ключевский В. О. «Боярская Дума Древней Руси». Стр. 441–442). На почве этой-то многолетней практики непосредственного участия в верховном руководительстве политической жизнью страны, на почве этих наследственных правительственных навыков и стремлений и выросли притязания высшей служилой аристократии XVII-начала XVIII веков. Начиная с конца XVII века, жизнь готовила этому классу жестокие удары и разочарования. Но его представители не хотели сдаться без боя тем новым общественным элементам, которые, просачиваясь снизу в среду дворянства, все более и более оттесняли их с прежней позиции. Во второй четверти XVIII века они проявили было попытки вернуть себе утраченную руководящую роль. Но этим попыткам не суждено было осуществиться.
С начала XVIII века бок о бок с родовитой знатью начинает вырастать новое дворянство, возникшее без всякого отношения к старинному началу породы, родовитости, дворянство чиновное и дворянство пожалованное. Оба эти слоя не имели ничего общего со старинной боярской знатью, но, в свою очередь, они существенно разнились и друг от друга. Чиновное дворянство, создание табели о рангах, тоже складывалось мало-помалу в определенный слой, объединенный общими преданиями, хотя эти предания имели совершенно иной колорит, отличный от господствующих понятий и притязаний родовитой знати. Напротив того, пожалованное дворянство представляло собой совершенно случайный набор ничем не связанных между собою лиц. Оно составлялось путем отдельных, внезапных и блестящих карьер. Человек делался дворянином экспромтом, из вчерашнего конюха. Творение прихотливого и разнообразного случая, — эти разнокалиберные выходцы из недр низшей массы не могли сплотиться в сомкнутый общественный слой, создать в своей среде корпоративные объединительные связи, подобные тем, какие в среде старинной знати составляла порода, а в среде нового чиновного дворянства — продолжительная школа личной выслуги.
Было и другое различие между чиновным и пожалованным дворянством. Чиновное дворянство исподволь подтачивало руководящую позицию старинной знати, напирая на нее снизу постепенным ростом своей численности и постепенным расширением своих служебных успехов. Напротив того, внезапное возвышение представителей пожалованного дворянства сразу расстраивало сомкнутые ряды старинной знати, оттесняя их на задний план от старых, насиженных мест у ступеней трона. В самом деле, кто попадал в дворянство путем пожалования? Лучше спросить, кто только не попадал туда этим путем! Петровские птенцы были первообразом этих внезапно выдвигавшихся к трону детей случайного счастья. Кого же мы здесь встречаем? Бывшего пирожника Меншикова, безвестного раньше еврея Шафирова[65], сына лютеранского кистера Ягужинского, бывшего юнгу португальского купеческого корабля Девьера и т. п. Единственный мотив их возвышения на первостепенные государственные посты — личная связь с царем; а при Петре единственною личною связью с царем могли быть служебная годность и личный талант. При преемниках и особенно преемницах Петра демократизация высших слоев общества, освежение их состава новыми элементами получает еще более широкое развитие. Особенно много случаев пожалования дворянством наблюдается в женские царствования прошлого века. Пожалование дворянством было узаконено еще петровской табелью о рангах (§ 16); но первый случай практического применения этого параграфа табели происходит при Екатерине I в 1726 г., когда тульский крестьянин Акинфий Никитич Демидов[66] получил диплом на потомственное дворянство. При Елизавете и Екатерине II такие пожалования становятся заурядным явлением. В 1741 г. Елизавета вписала в дворянскую книгу всех унтер-офицеров, капралов и рядовых Преображенской роты гренадерского полка. Это была отплата за корону, которую Елизавета получила, как известно, при помощи гвардии. На следующий год встречаем другой типичный пример подобных пожалований. Новый потомственный дворянин назывался Никита Андрианович Возжинский. Это был конюх императрицы Анны Иоанновны, служивший при дворе Елизаветы, когда она была еще великой княжной. Он и фамилию получил вместе с дворянством от вожжей, так как он правил лошадьми придворных экипажей. Екатерина II как-то в разговоре со своим секретарем Храповицким[67] подтрунила над худородностью Елизаветинского двора. «Что это был за придворный штат? — говорила она. — Разумовский[68] был из певчих, Сивере[69] из лакеев»… Но сама Екатерина поступала совершенно так же. Позднее она как-то сказала тому же Храповицкому: «Больше ли я разжаловала, нежели пожаловала в дворяне?» Чтобы ярче представить, с какой легкостью и какими неожиданными путям расширялась сфера пожалованного дворянства, приведу еще один мелкий, но характерный факт. Екатерина пожаловала дворянством семилетнего младенца Александра Маркова по поводу того, что для прививки оспы императрице оспа была взята от этого младенца. Так этот новоявленный дворянин и пошел гулять по свету с прозванием «Оспенный».
Разрастание пожалованного дворянства осадило много горечи на душе разных Голицыных и Долгоруких. Люди, вынесенные случаем на общественную поверхность, действительно, сильно осложнили своим появлением течение жизни в высших слоях общества. Свободные от каких бы то ни было корпоративных связей, каждый из них тем настойчивее отстаивал свое личное возвышение, карабкаясь на вершину общественной лестницы, самостоятельно ткал паутину своих интриг, не щадя никого и ничего, что встречалось на пути его успехов. Если обломки родовитой знати представляли печальное зрелище людей, переживших самих себя, то толпа этих детей фавора нередко была способна произвести удручительное впечатление авантюристов, самозванно выдававших себя за государственных деятелей. Те и другие занимали высшие ступени общественной лестницы. Разумеется, то не было мирное соседство. Напротив, между ними Развивались обостреннейшие отношения. И родовая знать, как остаток уже отжившего строя, должна была переносить в разгару этой вражды много тяжелых разочарований.
Красноречивым выразителем ее заветные идеалов в половине столетия явился известный историк прошлого века кн. Щербатов[70]. На его долю выпала неблагодарная роль проповедовать среди обновляющегося общества воскрешение давно разрушенной старины. Любопытно следить, какою горечью звучат его слова, как только он касается возвышения новых дворян из среды плебеев. Вот что он пишет, например, в своем известном памфлете «О повреждении нравов в России» о временах военной диктатуры Меншикова: «Упала древняя гордость дворянская, видя себя управляемая мужем, из подлости происшедшим, а место ея — раболепство к сему вельможе, могущему все». И действительно, люди «случая» не думали щадить угасавшей аристократии. Они проявляли свое фактическое превосходство без всякой сдержки. Недаром любимица Елизаветы Петровны графиня Шувалова служила, бывало, благодарственные молебны, когда ее муж, знаменитый граф Петр Иванович Шувалов[71], возвращался с охоты Разумовского не высеченный батожьем. Престиж родовой знати быстро разрушался. Тот же Щербатов в упомянутом уже памфлете с негодованием отмечает, что в числе шести шутов императрицы Анны Иоанновны были между прочим князья Голицын[72] и Волконский[73] и граф Апраксин[74].
Все это факты, свидетельствующие одновременно о торжестве новой случайной знати и об упадке родовой старой знати. Обломки последней частью постепенно вымерли, частью постепенно растворились в сменившей их новой аристократии и слились с ней в один общий слой. Но такой результат был достигнут лишь в конце острой и ожесточенной борьбы, которая и проходит красной нитью в истории вершин нашего общества первой половины прошлого столетия.
В стороне от обоих этих слоев стояло чиновное дворянство, исключительно опиравшееся в своем возвышении на служебную заслугу. Дворянство, опиравшееся на породу, и дворянство, опиравшееся на фавор, смертельно враждуя между собой, в то же время одинаково противопоставляли себя этому второстепенному слою скромного рядового дворянства. По отношению к этому рядовому дворянству оба высших слоя объединяли себя под общим наименованием «знатного шляхетства». Со своей стороны, рядовое дворянство противопоставляло себя этому «знатному шляхетству» под скромным именем «шляхетства подлого». Хотя рост государственного значения этого второстепенного слоя подвигался с меньшей быстротой и меньшим шумом, чем отдельные карьеры вельможных авантюристов, тем не менее рядовое, чиновное дворянство являлось в глазах родовитой знати не менее опасным конкурентом в борьбе за руководящую роль в политической жизни страны. Тот же самый Щербатов, поклонник древнего боярства, ведя литературную войну со слоем фаворитов, являлся страстным противником и дворянства чиновного. Он говорил, что приобретение дворянства через получение чина «уподляет дворянские роды, затмевает их преимущества». Взаимная рознь родовитого и чиновного дворянства в весьма любопытной форме вскрылась и в занятиях знаменитой комиссии, созванной в 1767 г. Екатериной II из выбранных от всего общества представителей для обсуждения проекта нового государственного уложения[75]. В числе прочих предметов в этой комиссии был поднят и вопрос о приобретении дворянства чином. Этот вопрос вызвал продолжительные и горячие прения. Многочисленные ораторы той и другой партий выставили в защиту своих воззрений целый ряд разнообразных доводов, скрывая под их обилием свои истинные мотивы. Так, представители родовитого дворянства, отстаивая родовитость, как единственный законный источник дворянской чести, ссылались и на историю — старались доказать, что Петр установил получение дворянства чином лишь временно, по случаю шведской войны, — и на соображения практического свойства — одни потомственные дворяне, говорили они, могут быть хорошо обучены для пользы службы, — и даже на своеобразно понятую теорию наследственности — чин, утверждали они, свидетельствует лишь об исправности человека, но добродетель обеспечивается одним благородным происхождением. Все это было высказываемо с большой горячностью и апломбом. Но, как только вожак партии кн. Щербатов в эффектной речи попытался подвести итог всем доводам своей партии, тотчас всплыл наружу главный и основной мотив полемики — мотив сословной исключительности. Кн. Щербатов начал с принципа общественной справедливости, утверждая, что дворянская честь должна увенчивать всякие истинные заслуги, где бы они ни проявились; но тотчас же вслед за тем начал доказывать, что практически только в среде людей древней благородной крови могут проявиться такие заслуги. Представители чиновного дворянства, отражая удар таким же длинным рядом доводов, в свою очередь, с особенным рвением нападали именно на понятие о какой-то «особой родовитой дворянской чести». «В отечестве подлого не должно быть никого», — вот что отвечали они на красноречие кн. Щербатова.
Итак, пестрота социального состава высшего класса тогдашнего общества — вот что было коренным источником, основной почвой наблюдаемых нами в первую половину прошлого века общественных брожений. Благодаря различию своего исторического прошлого, различные слои, из которых слагался этот класс, представляли собой три совершенно разнородных мира понятий и интересов. Поставленные бок о бок на поверхности общества эти три разнородных мира превратились скоро в три враждебных лагеря. Вот почему мы глубоко ошибемся, если будем смотреть на события столичной жизни прошлого века только как на борьбу отдельных честолюбцев; в то же время это была социальная борьба между различными общественными слоями. Одно обстоятельство еще более осложнило эту и без того весьма запутанную борьбу. В состав знакомого уже нам слоя пожалованного дворянства, людей «случая» и «фавора», наряду с лицами русского происхождения проникло немало и заезжих иностранцев. Были периоды, когда иностранцы выступали даже на первый план, захватывали исключительное, первенствующее положение в государственном управлении и ознаменовывали свой успех жестоким гонением выдающихся представителей других партий. Так было в царствование Анны Иоанновны, в период господства Бирона. Это придавало социальной борьбе национальную окраску и сообщало еще более жгучий характер взаимным столкновениям.
Такова была та вулканическая почва, на которой разыгрался знаменательный ряд отдельных жизненных драм. Борьба различных общественных слоев требовала своих героев и своих жертв. Нам предстоит познакомиться в дальнейшем изложении с судьбою человека, которому последовательно пришлось сделаться как ее героем, так и ее жертвой.
I «ПТЕНЕЦ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Главным пособием для биографических сведений о Волынском при составлении настоящего очерка послужило исследование проф. Корсакова[76] «Артемий Петрович Волынский». Древняя и Новая Россия. 1876–1877 гг.
Шло последнее десятилетие XVII века. Россия вступала в новый период своей истории. Старина отживала. Важные преобразования, давно уже стучавшиеся в двери русской жизни, все настойчивее выступали на первый план. Лучшие люди эпохи, ясно понимавшие главные государственные недуги современной им России, громко твердили о необходимости поучиться уму-разуму у западноевропейских народов, пересадить на Русь достойные подражания образцы иноземных порядков и учреждений. Эти речи не проходили бесследно. На каждом шагу, во всех областях жизни кипела острая борьба старого с новым. Уже со второй половины царствования Алексея Михайловича ряд важных нововведений проникает и в порядки государственного управления, и в строй общественной жизни. Мало-помалу преобразовывается русское войско. Иноземные офицеры обучают русских солдат усовершенствованным хитростям военного искусства: ко второй половине XVII века в составе русского войска насчитывается уже 4 иноземных генерала, до сотни иноземных полковников и множество иноземных офицеров. Перестраивается податная система, начинается усиленное распространение казенных горных и иных заводов с целью разработки естественных богатств страны. Все эти нововведения вызывались все более и более оживленными связями с образованным Западом. Влияние этих связей шло затем и еще дальше, начало налагать свою печать на весь жизненный склад, на всю житейскую обстановку захваченных ими кругов общества. В патриархальный церемонно-чинный обиход старого русского дома врывались новые, свежие струи, пред напором которых начинала понемногу тускнеть живая сила прадедовского предания. Намечались новые интересы, вкусы и запросы. Царь и ближайшие к царской особе придворные круги шли впереди этого нового движения. Сам внешний вид дворцовых хором заметно менялся.
Дворец прифрантился и разукрасился. Стенная живопись царских покоев оживилась рядом совершенно новых сюжетов. Среди старинных библейских и исторических изображений появились на стенах дворца портреты с натуры: «парсуны с живства», пейзажи — «ленчафгы и проспективные картины» и бытовые сцены. Помимо художественных изображений дворец украсился и еще более неслыханной новинкой: в простенках появились зеркала в виде нынешних киотов. Впрочем, даже такие любители западных новинок, как царь Алексей Михайлович, не без внутреннего смущения решались украшать зеркалами свои комнаты: повешенное на стену зеркало стыдливо задергивалось тафтой. Вперемежку с дедовскими скамейками во дворце виднелась уже и новая мебель: стулья и кресла. При царских выездах пускались в ход новомодные экипажи: немецкие бархатные кареты и полукареты с хрустальными дверцами.
От дворца не отставали и некоторые частные дома. Так, например, дом князя Василия Голицына[77] был поставлен совершенно на иноземную ногу. Великолепное убранство его внутренних покоев свидетельствовало о сильно развитых умственных интересах и художественных вкусах хозяина. Потолок главного покоя был изукрашен астрономическими изображениями: в середине блестело вызолоченное сусальным золотом солнце с лучами, вокруг которого виднелись «писанные живописью беги небесные с зодиями и с планеты», с другой стороны потолка на посетителей смотрел посеребренный месяц. Грузное паникадило из белой кости свешивалось с потолка на трех железных прутах. Стены во всех комнатах были увешаны зеркалами в черепаховых рамах, портретами царей Ивана Грозного, Федора[78], Михаила[79], Алексея[80], «немецкими печатными землемерными чертежами», множеством часов в разнообразных футлярах из черепахи, ножи и китового уса. Бархатные стулья и кресла, громадная ореховая кровать, вся убранная зеркальцами, резными фигурами людей и птиц, составляли комнатную обмеблировку; столы были уставлены затейливыми шкатулками, янтарными чернильницами, замысловатыми статуэтками; на одном из них, например, стояли «три фигуры немецкие ореховые, у них в срединах трубки стеклянные, на них по мишени медной, на мишенях вырезаны немецкие слова, а под трубками в стеклянных чашках ртуть». Не только любовь к комфорту и внешнему блеску сквозила во всем этом пышном убранстве голицынских хором; в изукрашенных хоромах помещалась объемистая библиотека, нередко слышалась изощренная латинская речь. В библиотеке Голицына мы встречаем весьма разнообразный подбор книг, свидетельствующий о разносторонности интересов хозяина: здесь, наряду со старинными русскими летописцами, с каким-то конским лечебником, находились польские и латинские грамматики, иностранные календари, немецкие и голландские сочинения о воинском деле, о строении комедии, о землемерах, об иноземных правах и законах, описание рыб и зверей, исторические сочинения и т. д. Один иностранный посланник так передает свои впечатления от первого визита в дом князя Голицына: «Я думал, что нахожусь при дворе какого-нибудь итальянского государя. Разговор шел на латинском языке обо всем, что происходило важного тогда в Европе. Голицын хотел знать мое мнение о войне, которую император и столько других государей вели против Франции, особенно об английской революции». Князь Голицын не был для своего времени единичным явлением. Нам известен ряд других московских бояр, вступивших на тот же путь увлечения новинками западной культуры. Боярин Никита Иванович Романов был такой охотник до иноземных обычаев, что даже возбудил этим против себя гнев патриарха Никона. Однажды Никита Иванович вздумал одеть всех своих слуг в ливреи иностранного покроя. Патриарх не вытерпел, попросил у боярина прислать ему иноземные ливреи якобы на образец для верхнего платья патриарших служек, да и изрезал их все в куски. Боярин Матвеев[81] подобно Голицыну любил украшать свои комнаты картинами иностранного письма и деятельно занимался собиранием книг светского, преимущественно исторического, содержания. Наконец, ярым западником, неустанно проповедовавшим необходимость «выучки у иноземцев», является и такой выдающийся дипломат и государственный деятель времен Алексея Михайловича, каким был Ордин-Нащокин[82]. Царь Алексей Михайлович часто говаривал в похвалу Ордину-Нащокину: «Он немецкое дело и немецкие нравы знает». А сами иностранцы, посещавшие Москву, называли его не иначе, как «умным подражателем наших обычаев». И действительно, ссылка на «чужие, иноземные страны» служила в его глазах самым сильным доводом всякий раз, когда он настаивал на каком-нибудь важном государственном нововведении. Заключая в качестве посла договор с Швецией, он не преминул выговорить в числе других статей и свободный проезд в Московское государство докторов и мастеровых всякого рода. В домашнем обиходе он смело отбрасывал в сторону слепое соблюдение обременительных старых обычаев. Один из иностранных посетителей его дома с признательностью упоминает в своих записках о том, как Нащокину уволил его и его спутников от местного обычая непременно за каждым званым обедом напиваться допьяна. Конечно, все эти люди представляли собой образованное, передовое меньшинство, но это меньшинство отнюдь уже не тонуло бесследно в общей массе. Старый жизненный строй успел обветшать и подгнить. Он еще держался кое-как по привычке, по преданию, по недостатку смелого почина; но дни его безусловного господства были сочтены. Новые побеги зеленелись на его поверхности.
Начавшаяся при Алексее Михайловиче частичная перестройка и государственных учреждений, и общественных обычаев безостановочно подвигалась вперед. Этого движения уже не могли остановить личные вкусы отдельных деятелей. Преемник Алексея, царь Федор Алексеевич[83], слабый и болезненный, не был в состоянии поддерживать личным содействием горячей преобразовательной работы, а между тем его кратковременное царствование полно важных преобразований, подготовлявших будущие реформы Петра. Преобразования напрашивались сами собой, неизбежно вытекали из назревших жизненных потребностей. Как неотразимо сильна была власть обстоятельств, толкавших Русь на новую, неизведанную дорогу, особенно ярко видно на примере одного из самых крупных преобразований в царствование Федора Алексеевича. В 1681 году созвано было совещание служилых людей под председательством известного уже нам кн. В. Голицына для того, чтобы обдумать возможные меры «как прежнее воинское устроение переменить на лучшее, чтобы иметь против неприятелей пристойную осторожность и охранение». Начали обсуждать предложенный вопрос и — чем же кончили? Кончили знаменитым решением истребить, уничтожить «богоненавистное, братоненавистное, любовь отгоняющее местничество», как главное зло, сеющее рознь и вражду в ратных рядах и отнимающее у русских войск счастье победы. Созывая совещание, правительство и не думало проводить такой важной меры. Предполагали просто-напросто улучшить технику военного строя. Но лишь только открылись совещания, возбужденный вопрос тотчас же принял более широкую постановку, и в результате как бы само собой рухнуло одно из самых характерных, старинных учреждений древнерусской жизни. В передних дворцовых сенях наложили целую гору старых «разрядных книг», в которых были записаны местнические дела, и громадный костер быстро пожрал эти любопытнейшие памятники древнерусского быта.
В это-то знаменательное время, когда лучшие люди переживали неотразимые порывы к новому знанию, к животворному обновлению старого быта, подрастал будущий Преобразователь. Мы только что видели, что преобразования, в сущности, начались еще задолго до выступления Петра на сцену истории. Петру предстояло лишь дать новый могучий толчок пробуждавшимся в обществе запросам. К началу 90-х годов XVII века семнадцатилетний Петр, покинув забавы детства, быстро расчистил себе путь к власти. Препятствия, вставшие перед Петром, были свержены в два-три удара. Правда, Петр не остановился при этом перед жестокостями и насилиями. К 1689 году главные враги были устранены: властная соперница Петра, его сестра Софья, сидела под замком в монастырской келье[84], ее ближайшие пособники Голицыны томились в ссылке, Шакловитый был казнен[85]. Петр взял в свои руки бразды правления. Теперь открывался широкий простор развитию преобразовательных начинаний. Молодой царь горел нетерпением, жаждой знания и работы. Отец Петра, Алексей Михайлович, все время осторожно балансировал между старыми заветами и заманчивыми новшествами; вешал у себя во дворце заморскую новинку, но не прочь был прикрыть ее тафтой от нескромного взгляда. Петр круто и смело повернул на новый путь, вложил в преобразовательную работу все силы своей властолюбивой, страстной, не терпящей противоречий натуры. В 1697 году царь уехал за границу, а через два года, по его возвращении, Москву облетела молва, передававшаяся из уст в уста с волнением, негодованием и ужасом: на первом же приеме после заграничной поездки царь изрезал ножницами пушистые боярские бороды. Борода была символом патриархальной старины. Этой старине теперь объявлялась с высоты трона открытая, беспощадная борьба. Как взволновалось общество! Какие гневные споры поднялись повсюду: и в боярских хоромах, и на торговой площади, и на какой-нибудь грязной портомойне!
В это горячее время среди общего возбуждения в одной богатой, родовитой московской семье — Салтыковых[86] — подрастал мальчик, которому судьба назначила в будущем сыграть громкую роль в борьбе сторонников старого и нового направления. Звали его Артемий Волынский[87]. Нам известно очень немногое о детской жизни героя нашего очерка. Отец его, Петр Артемьевич, служилый человек средней руки, подобно всем людям своего звания, проводил всю жизнь в постоянных служебных посылках и переездах. Походное существование не благоприятствовало правильному воспитанию ребенка, а семейная обстановка еще более отягчала положение маленького Артемия. Петр Артемьевич был женат дважды, и вторая жена его оказалась для Артемия сварливой и капризной мачехой. Волынский впоследствии отзывался о ней, как о женщине «непотребного состояния». Все эти обстоятельства заставили отца Волынского подумать о том, как бы пристроить сына где-нибудь на стороне, и Артемий рано был оторван от родительского крова. Искать покровительства сильных и богатых родственников было распространенным обычаем того времени, в каждом знатном доме ютилась тогда масса «домочадцев», приживальщиков, составлявших как бы свиту видного, родовитого боярина. Артемий был отдан в дом дальних родственников Петра Артемьевича — Салтыковых. Так, с самых ранних лет жизни судьба бросила Волынского в такую среду, где скрещивались два противоположных направления века: дом Салтыковых хранил еще чванливый боярский склад жизни XVII столетия, но все же новые преобразовательные веяния коснулись и этого старинного боярского гнезда. Недаром сам глава дома Семен Андреевич Салтыков[88] ездил по приказу Петра в Голландию для обучения морскому делу. И кто знает, не послужили ли вынесенные из дома Салтыковых далекие впечатления детства главной основой будущего миросозерцания Волынского? Не им ли обязан Волынский своим стремлением к здравой, разумной середине между крайностями подражания западным новинкам и слепой любви к бородатой старине? Как увидим, Волынский не чуждался западной науки, западной культуры, напротив, пытливо стремился проникнуть в ее тайны; но он умел мирить в своем сознании высокую оценку преимуществ Запада с чувством уважения к тем национальным преданиям, которые он считал разумными и плодотворными.
С достижением 15-летнего возраста началась служебная карьера Волынского. В 1704 г. его записали солдатом в драгунский полк, а через семь лет мы уже находим его в настоящем вихре всевозможных ответственных поручений. Начиналось горячее время. Вернувшись из заграничной поездки и приступив к внутренним преобразованиям, Петр не мирился с последовательной, постепенной разработкой отдельных вопросов. Поспешно, лихорадочно хватался он сразу за все, что подворачивалось под руку. Правда, сами обстоятельства слагались так, что не оставляли возможности для мирной работы. Грозные тучи заволокли политический горизонт. Тянулась великая Северная война. Внутренние преобразования приходилось проводить впопыхах, под постоянной опасностью неприятельского вторжения. Между тем дела было много, людей было мало. А Петр не хотел упустить из виду ни одного вопроса, ни одного начинания, которое сулило в будущем добрые плоды. Закипела напряженная деятельность. Как из рога изобилия, сыпятся всевозможные царские указы, иногда в двух-трех строчках ребром ставящие важнейшие государственные вопросы. Царь неудержимо носится по всему государству, вечно скачет то туда, то сюда, не брезгует никакой работой, все сам осматривает и направляет, всех торопит, ободряет, бранит, быстро чередуя царскую ласку с внезапным угощением знаменитой дубинкой. Случайные встречи добавляют ему ближайших сотрудников. Правильно и равномерно распределяет работу между отдельными лицами сообразно их личным наклонностям — нет времени, да и людей для того не хватает. Быстро заметив на ходу, между делом, способного человека, царь тотчас втягивает его в водоворот своей рабочей горячки. «Птенцы Петра» должны были трудиться по его образу и подобию. Каждый из них ежеминутно должен был быть готов к самым неожиданным поручениям. Кто отважнее бросался на какую угодно работу, тот ближе был сердцу царя. Волынскому не пришлось встать в первые ряды царских сотрудников. Но все петровское царствование он прожил жизнью настоящего петровского птенца: в краткое время изведал неожиданнейшие повороты судьбы, быстрыми перелетами исколесил Россию от Петербурга до дальней Персии, испытал царскую милость и в заключение не избегнул-таки и собственноручной царской «науки».
В начале 1711 г. Волынский выехал из Петербурга в Киев со скромным поручением от Меншикова передать киевскому губернатору князю Д. М. Голицыну указ о переменах в обмундировании некоторой части войск. На юге Волынского ждали важные события. То был год несчастного Прутского[89] похода, повергшего в страшную опасность и самого Петра, и Россию. Во время мирных переговоров с Турцией на долю Волынского выпадает тревожная обязанность курьера. Крадучись, хоронясь от шведских разъездов, переезжает Волынский взад и вперед турецкую границу, перевозя из русской военной квартиры в турецкий обоз письма и крупные денежные суммы. То была первая ответственная служба, и Волынский сумел обратить на себя внимание ее удачным выполнением. Волынского заметили, и с этих пор его служебная карьера быстро идет в гору. Опасности и почести растут друг за другом. Как испытанный, надежный курьер, Волынский съездил затем уже к самому царю в Карлсбад, где тогда лечился Петр, для словесного доклада о ходе переговоров. Из Карлсбада через Киев Волынский отправляется в Константинополь, и скоро мы застаем его там узником Семибашенного замка. Турция не признавала неприкосновенности иноземных послов, и не один русский дипломат изведал прелесть уединения в турецкой тюрьме. Пришлось и Волынскому включить этот опыт в разнообразный репертуар своих приключений. Он протомился в турецкой неволе до окончательного заключения мира России с Турцией в 1713 году. Зато теперь ему выпало на долю доставить царю мирный трактат. Дипломатическая служба в Турции создала Волынскому репутацию человека, опытного в обращении с восточными министрами, и Петр не преминул использовать эту способность нового слуги. За радостную весть о мире Волынский получил от царя чин подполковника, а вскоре вслед затем и новое важное дипломатическое поручение в Персию. На этот раз Волынский выезжал из Петербурга при другой обстановке, не скромным курьером, а полномочным послом от русского императора к одному из могущественнейших государей азиатского востока. Громадная свита сопровождала Волынского: несколько ученых иностранцев — француз, немец и англичанин в качестве секретарей посольства, священник, множество офицеров, чиновников и служителей. В Москве к посольству примкнули пять «молодых робят» латинской школы, которых взяли в Персию для изучения языков турецкого, арабского и персидского. Посольство направилось к Казани, чтобы спуститься потом к Каспийскому морю вниз по Волге.
4 июня 1716 г. восемь гребных судов отвалило от казанской пристани с посольством Волынского в сопровождении солдат Казанского полка. В Самаре переменили гребцов и через месяц с небольшим — 13 июля прибыли в Астрахань. Оттуда началось долгое плавание по Каспийскому морю. Лишь в конце августа три больших парусных судна, вооруженные пушками, доставили Волынского и его свиту к персидскому берегу. Здесь предстояла новая пересадка. Впереди оставалась самая продолжительная и тяжелая часть путешествия. Длинный караван лошадей, верблюдов, мулов медленно понес путников в глубь Персии. Около полугода длилось это странствование от Каспийского побережья до столицы шаха — Испагани. Не всем удалось добраться до окончательной цели. Зимние стужи, невыносимые летние жары, болезни, порождаемые непривычным климатом, унесли в могилу многих спутников Волынского.
Каких только превращений не доводилось испытать на своем веку государственному деятелю петровской школы! Скромный курьер превращался в ответственного дипломата, а дипломат неожиданно попадал в положение исследователя малоизвестных внеевропейских стран. Действительно, дипломатическая поездка Волынского явилась настоящей географической экспедицией. Волынский хорошо воспользовался обильным досугом во время медленного движения каравана и продолжительных остановок в важнейших городах, лежавших на пути. Ничто не ускользало от его пристального наблюдения. Результаты наблюдений заносились в походный журнал, который должен был послужить материалом для составления обстоятельных донесений государю. Подробное изучение Персии в торговом и политическом отношениях и составляло, в сущности, главную цель посольства Волынского. В инструкции, которую он получил от царя перед отправлением из Петербурга, на первом плане стояло требование — рассмотреть неприметно для персиян географическое положение Персии применительно к торговым выгодам, расположение ее внутренних водных путей, определить численность армянских христиан, живущих в Персии, и стараться расположить их в пользу России, наконец, выяснить характер политических отношений Персии и Турции. Во всех этих предписаниях ясно сквозила конечная, отдаленная цель, рисовавшаяся царю: Персия интересовала Петра как возможный в будущем опорный пункт торгового и политического влияния России на азиатском востоке. Неторопливо подвигаясь в глубь персидских провинций, Волынский заводил связи с местным населением и все накапливал запас наблюдений по заданной Петром программе.
Так, медлительность пути не только не вредила успеху его служебного поручения, но напротив, как раз входила в его планы. Наконец, перед путешественниками открылись стены Испагани, столицы шаха. 14 марта 1717 г. посольство торжественно въехало в Испагань, с трудом прокладывая себе путь среди густой толпы любопытствующего народа. Принимая послов, шах старался ослепить их сказочной роскошью своего двора. Но внешний блеск не обманул наблюдательного Волынского. Он вывез из Персии крайне неблагоприятные для персидского могущества впечатления. «Бог ведет к падению сию корону», — таково было его общее заключение. В управлении царит хаос, шах служит слепой игрушкой в руках приближенных, ежеминутно готовы вспыхнуть внутренние смуты. Все это, по мнению Волынского, открывает заманчивые перспективы для русского влияния на востоке и начнись война с Персией, можно было бы — мечтает он — «великую ее часть к России присовокупить без труда». Переговоры Волынского с персидским правительством увенчались блистательным успехом: с Персией был заключен договор, по которому русские купцы получали право свободной торговли во всех персидских провинциях. Первого сентября 1717 г. Волынский двинулся в обратный путь и через десять месяцев достиг Астрахани. Здесь он остановился на продолжительное время для составления доклада царю о положении Астраханского края. Этому докладу суждено было сыграть, как увидим, немаловажную роль в дальнейшей судьбе Волынского. Ровно через год после выезда из Испагани в начале сентября 1718 г. Волынский покинул Астрахань, до Саратова дотянулся по Волге бечевником, в Саратове пересел в сани и стрелой помчался в Петербург, куда и прискакал 30 декабря 1718 года, по пути жестоко избив палками и истоптав ногами коменданта города Петровска за поставку недостаточного количества подвод. До последней черты остался верен птенец Петра Великого заветам своего учителя…
С жадным вниманием выслушал Петр донесения Волынского. Аудиенция имела важные результаты как для русской политики на восточной окраине империи, так и для самого Волынского. Каспийское море привлекло к себе внимание царя, как торговая дорога в Персию и еще более далекую Индию; из Петербурга были посланы офицеры для изучения и описания моря; а Волынский, награжденный чином генерал-адъютанта, был назначен губернатором вновь образованной Астраханской губернии.
II ВОЕВОДЫ И ГУБЕРНАТОРЫ
До Петра I в Московском государстве самым крупным делением являлся уезд, т. е. город с приписанным к нему округом. Пространство уездов было крайне неравномерно: наряду с уездами обширными встречались совсем маленькие. Главным правителем каждого уезда был воевода, служилый человек, присланный из Москвы. Власть воеводы была широка и неопределенна. Правда, при отправлении на должность воевода получал так называемый «наказ», т. е. инструкцию; но в «наказах» обозначались лишь главнейшие предметы управления, ни объем, ни пределы воеводской власти не были в них точно определены. Правда, воевода должен был давать отчет о своей Деятельности, но гораздо больше на бумаге, чем наделе. Впрочем, даже и эта бумажная отчетность не отличалась правильностью. Обыкновенно действия воеводы проверялись лишь при сдаче им места своему преемнику. Эта проверка не обеспечивала населения от воеводских притеснений. Любопытна следующая подробность, рисующая нам характер тогдашнего управления. При вступлении в должность каждый воевода должен был держать речь собравшемуся населению. В текст этой речи, раз навсегда утвержденный правительством, было включено, между прочим, уверение, что новый воевода не позволит себе тех насилий и обид, какие совершались его предшественником. Так, не будучи в силах придумать надежного средства для обуздания воеводского своеволия, правительство откровенно признало всех своих воевод корыстными притеснителями народа и вдобавок поручило самим же воеводам провозглашать в своих речах эту официальную истину. Этого мало. Не думая уже об искоренении ц предупреждении воеводских злоупотреблений, правительство стремилось лишь к тому, чтобы по возможности сократить незаконные воеводские поборы. В Верхотурье, на границе с Сибирью, была учреждена особая таможня для осмотра воевод, возвращавшихся с должности из сибирских городов. Для того, чтобы воевода не мог проскользнуть мимо этой таможни, ко времени его проезда по всей окрестности ставилась специальная стража. На правительственного чиновника устраивали настоящую облаву из таких же чиновников! И действительно, после таможенного осмотра воеводы продолжали свой путь с весьма облегченной кладью. Таможенный «глава» имел у себя расписание тех законных «окладных» прибылей, которые могли получать сибирские воеводы со своих должностей. Все, что оказывалось при осмотре сверх положенного расписания, подлежало отобранию. Столь чрезвычайные меры лучше всего указывают на полное отсутствие правильного, постоянного и целесообразного контроля за воеводским управлением. Вооруженный внушительною властью, свободный от надзора свыше, воевода чувствовал себя полновластным хозяином на своем воеводстве. Лучшую характеристику этого хозяйничанья можно найти в тех слезных челобитных, с которыми население обращалось к московским властям, когда переполнялась чаша долговременного терпения. «Ныне он, воевода, примешивается к нам, сиротам твоим, беспрестанно для своей корысти, бездельно, всячески хотя нас разорить и разогнать и домишки наши запустошить и убийством своим многих нас хотя в конец погубить…», — так вопияли в своих челобитьях жертвы воеводского произвола.
Описанный характер воеводского управления не изменился во все время существования Московского государства. Мало того, многие мрачные черты этого управления воскресли и в преобразованной России, невредимо пережив реформы конца XVII и начала XVIII века. Потому-то мы и сочли нужным о них напомнить, готовясь перейти к рассмотрению губернаторской деятельности Волынского по управлению обширным и отдаленным Астраханским краем.
Разделение России на губернии, введенное Петром, было вызвано государственной необходимостью и подготовлено исторически. Уже во второй половине XVII века в Московском государстве начинают образовываться наряду со старыми «уездами» новые, более обширные округа, в состав которых входит по нескольку городов. Эти округа, послужившие образцом для Петра при создании губерний, возникают в связи с заботами правительства о правильной военной обороне опасных окраин. С трех сторон нависла военная гроза над Россией XVII века: с северо-запада — со стороны шведов, с юго-запада — со стороны литовско-польского государства и с юга — со стороны крымских татар. На каждой из этих окраин уже при Алексее Михайловиче выставляются постоянные военные корпуса, так называемые «полки», или «разряды». К каждому полку приписывается обширный округ из целого ряда окрестных городов с их уездами. Один из городов становится главным центром своего округа. Такими центрами в XVII веке явились: на северо-западе — Новгород, на юго-западе — Севск, на юге — Белгород. В этих центрах поселяются главные начальники военных корпусов, которым предоставляется пополнять свои корпуса новыми рекрутами из среды населения, приписанного к корпусу округа, собирать на содержание корпусов все доходы с городов своего округа, а вместе с тем ведать и вообще все управление в пределах округа. С воцарением Петра, с началом великой Северной войны, затянувшейся на целых двадцать лет, боевое напряжение России не только не ослабло, но достигло еще более крайней точки. Мало-помалу пришлось поставить на военную ногу уже не одни окраины, но все обширное пространство, на котором раскинулось русское государство. Петр и воспользовался при этом уроками своих предшественников. Создав регулярную армию, он разместил ее отдельными корпусами по различным частям государства, сосредоточив в руках корпусных генералов управление приписанными к корпусам округами.
Текущие события постепенно заставили распространить этот порядок на все части России. Отнятие у Швеции Прибалтийского края повело к образованию обширного округа на северо-западе, который был отдан в ведение главнокомандующего кн. Меншикова. Затем военная опасность перебросилась на южную окраину. Избороздив военными переходами Польшу, Карл XII[90] надвинулся на Малороссию, куда его привлекала, между прочим, вероломная политика Мазепы[91]. В противовес этой новой грозе на юге формируются два военных округа — Смоленский и Киевский. Еще раньше Воронежский край приписывается к Азову для построения флота. Военные задачи не ограничиваются западными и южными окраинами. Большие опасения возбуждает среднее и нижнее Поволжье, где большинство населения состояло из инородческой массы, полудикой, полукочевой, туго привыкавшей к ярму государственного порядка. Беспокойные движения поволжских инородцев, переходящие в открытые бунты, заставляют выставить и на востоке свой военный центр, каковым является Казань с приписанным к ней Приволжским краем. Центральные и северные части государства стояли вдали от непосредственной военной опасности, но и их пришлось расписать на такие же военные округа, так как окраины не могли бы выдержать сами по себе всей тяжести выпавшей на их долю борьбы без необходимых резервных подкреплений. Так возникли «губернии» Петровской эпохи: Ингерманландская, т. е. С.-Петербургская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, Московская, Архангелогородская, Сибирская. Размеры этих губерний были громадны. Ингерманландская губерния заняла собою весь Озерный край вместе с частью верхнего Поволожья. В состав Московской губернии вошло все центральное пространство Европейской России. Губерния Казанская охватила приволжское пространство от Казани до Саратова. Вся Сибирь вместе со значительною частью современных Пермской и Вятской губерний составила одну губернию. Этих примеров достаточно, чтобы видеть, в какие исполинские очертания уложилось введенное Петром административное деление России. Сосредоточив в руках губернаторов власть над такими громадными государственными округами, Петр не создал над деятельностью губернаторов правильного контроля. Контроля не было ни снизу, ни сверху — ни в виде участия самого общества в делах управления, ни в виде постоянной и строгой отчетности губернаторов перед высшими государственными учреждениями. XVIII век вплоть до царствования Екатерины II почти не знал участия выборных представителей общества в провинциальном управлении. Правда, учреждая губернии, Петр сделал было робкую попытку в этом направлении: дворянству каждой губернии было предписано выбирать из своей среды ландратов, управителей, которые должны были заведывать отдельными частями губернии и составлять совет при губернаторе. Но ландраты очень скоро исчезли, а учрежденные впоследствии земские комиссары — тоже выборные из среды местных дворян уездные управители — не получили на практике никакого самостоятельного значения и должны были ограничиться сбором и доставкой в казну государственных податей. Полновластно распоряжались в своих губерниях губернаторы Петровской эпохи. До 1711 г. не существовало никакого высшего государственного учреждения, которому губернаторы были бы непосредственно подчинены. В 1711 г. учреждается сенат, затем вводятся заимствованные от Швеции коллегии, поделившие между собой заведование отдельными отраслями управления на всем пространстве государства. Строй управления начинал принимать более правильные и законченные внешние очертания; возникала постоянная бумажная отчетность. Но как еще далеко было до водворения истинной, строгой законности в управлении! Сенат, коллегии — все это представлялось всесильному губернатору каким-то отдаленным туманным понятием, от которого отделялись время от времени бумажные лепестки в виде указов и предписаний; но как мало тревожила спокойствие губернаторов эта переписка с высшими учреждениями, видно, например, из полного бессилия сената своевременно добыть от губернаторов самые необходимые сведения о получаемых с губерний доходов. Сенат посылает указ за указом. В ответ — глубокое молчание. В 1711 году, например, сибирский и архангелогородский губернаторы до тех пор не высылали приходо-расходных книг по своим губерниям, пока выведенный из терпения сенат не пригрозил им, наконец, штрафом по тысяче рублей с каждого. Наконец, книги прибыли. Но кто мог проверить справедливость тех цифр, которыми были украшены их страницы? Когда учреждены были «фискалы», лица, обязанные выслеживать и раскрывать злоупотребления администрации, в их красноречивых донесениях развернулись картины, возбудившие такой гнев царя, что один из губернаторов (сибирский губернатор Гагарин) попал на виселицу. Необходимость такой чрезвычайной кары всего лучше свидетельствует о полном отсутствии постоянной и правильной ответственности местных администраторов за свои действия. В губернаторе начала XVIII века перед нами воскресает воевода Московской Руси, со всеми его привычками к патриархальному хозяйничанию в своем воеводстве, не стесненному ни чувством страха перед отдаленной высшей властью, ни чувством нравственной ответственности перед управляемым населением. Для возникновения первого чувства не было благоприятной почвы ввиду отсутствия правильных учреждений, ввиду слабости тех средств, которыми располагала тогда государственная власть для водворения порядка и законности; а нарождению второго чувства не пришло еще тогда время: оно пришло после, с дальнейшим развитием образования и общественной самодеятельности. Это чувство было знакомо таким сильным натурам, как Петр, который сумел найти превосходные слова для его выражения: «О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ея!…» Но оно оставалось чуждым общему сознанию тех поколений, которые с молоком матери всасывали взгляд на службу, как на доходное «кормление», отцы и деды которых бивали челом государям о воеводстве, «чтобы им было с чего сытым быта». И вот губернатор чувствовал себя настоящим царьком своих необозримых владений, пока случайно не долетела до него гроза царского гнева.
Приведу одну сценку из провинциальной жизни начала XVIII века; в ней во весь рост встает перед нами типичная фигура русского администратора того времени. В 1711 году казанский губернатор Апраксин должен был отправиться в поход за Кубань. Уезжая, он оставил в Казани своим наместником четырехмесячного сына. К малолетнему правителю были приставлены слуги, которые должны были справлять от его имени всякие дела. Жители Казани были созваны в торжественное собрание, перед которым вынесли под одеялом губернаторского младенца, и здесь был прочтен указ о назначении его заместителем отца. По возвращении из похода, Апраксин устроил новое представление, следующим образом описанное в официальном послужном списке кубанского похода: «Как он (Апраксин) сам в Казань возвратился, так того сына своего приказал маме вынести под одеялом в палату, где множество людей было, и благодарил за мудрые его поступки; а он стал плакать, и ближний боярин Апраксин ко всем людям молвил такое: «Вот-ста, смотрите, какое у меня умное дитя: обрадовался мне, да и плакать стал!», — и люди ему ответствовали: «Весь, государь, в тебя». На то он людям сказал: «Да не в кого же-ста быть, что не в нас, Апраксиных». Как хотите, а подобные сцены могли разыгрываться только в то время, когда под новыми иноземными названиями «губернаторов», «ландратов», «комендантов» продолжали еще сохранять свою силу старые московско-татарские типы провинциальных управителей. Губернией управляет грудной младенец, и дела вершат за него старые челядинцы настоящего губернатора, находящегося в отлучке!
Таковы были нравы той среды провинциальных администраторов, в которую пришлось вступить Артемию Петровичу Волынскому, назначенному губернатором во вновь учрежденную Астраханскую губернию. Прошло всего семь лет после того, как он начал свое общественное поприще скромным военным курьером, и он уже стоял полновластным хозяином во главе обширного края, охватившего все южное Поволжье от Самары до северного побережья Каспийского моря. Летом 1719 года Волынский прибыл в Астрахань.
III В ПРОВИНЦИИ
Среднее и нижнее Поволжье вошло в состав Русского государства еще в XVI столетии, после покорения Казани и Астрахани царем Иваном Васильевичем Грозным. Но и в начале XVIII века эта громадная окраина Европейской России все еще оставалась заброшенным пустырем, где господствовали инородческие племена и орды, где русское население ютилось ничтожными поселками на далеких расстояниях друг от друга, где богатства природы лежали почти нетронутыми, непроизводительно пропадая для экономического развития России. Здесь все еще было в будущем, все еще ожидало энергичных и просвещенных деятелей. От Саратова до Астрахани по двести, по триста верст не встречалось «никакого жила», т. е. никакого признака культурной оседлости; в самой Астрахани, производившей на наблюдателя впечатление пестрого, разноязычного, азиатского торжища, русских «купецких людей» было «зело мало». В таком же зародышном состоянии, как торговля, находилась и добывающая промышленность: рыбный и соляной промыслы оставались в «великом небрежении», не принося казне и сотой доли того дохода, какой можно было бы из них извлечь при разумном и деятельном хозяйстве; хлебопашеством население занималось лишь в одном уголке этого обширного края, близь города Симбирска, так что Симбирск являлся единственным поставщиком хлеба на все южное Поволжье, постоянно страдавшее от бесхлебицы. Волга, эта будущая могучая артерия портово-промышленного движения, служила лишь торной дорогой буйных ватаг «понизовой вольницы», постоянно пополнявшейся беглыми крестьянами, холопами, казаками, всеми, кто бежал на свободный простор далеких окраин от «государева тягла» и господских насилий. Редкие поселки трудового русского населения, не углублявшиеся в степь, жавшиеся к волжскому берегу, попадали между двух огней: с Волги то и дело приходилось ждать в гости «понизовую вольницу», а со стороны степи грозили набеги кочевых инородцев. Там, в степях, начиналась настоящая Азия: башкиры, киргизы, калмыки, признавшие подданство России, продолжали безраздельно владеть степью, жили в ней ордами, управлялись своими ханами и старшинами. Официальное подчинение России нисколько не мешало им грабить и опустошать русские владения, наводя страшную грозу на представителей русской власти, царских воевод, сидевших по городам с малочисленными ратными гарнизонами. Повелитель калмыцкой орды, грозный хан Аюка держал себя настоящим степным царьком; сильный своими успешными набегами на Крым, Прикавказьс и Среднюю Азию, он небрежно играл присягой русскому царю, то возобновляя, то вновь нарушая ее, заставляя русское правительство вступать с собой в дипломатические переговоры как с самостоятельным государем.
Возродить запустелый край к культурной и промышленной жизни, насадить в нем правильную гражданственность, сломить своеволие кочевых варваров — вот какая грандиозная задача открывалась перед астраханским губернатором, вот чего ждал и требовал Петр от Волынского, вторично отпуская его из Петербурга на азиатскую окраину. Не забудем, что сверх всего сказанного Волынскому предстояла не менее важная дипломатическая миссия: он должен был искусными переговорами подготовить окрестных татарских и горских князьков к расширению политического влияния России на востоке; Астрахань должна была сделаться, по мысли Петра, аванпостом русского могущества в передней Азии, так как по окончании великой войны со Швецией[92] уже намечался поход в Персию[93]. Задачи были обширны, но велика была и власть, сосредоточившаяся теперь в руках Волынского. Мы уже знаем, какими полновластными хозяевами являлись в своих губерниях губернаторы прошлого столетия. Требовалось высокоразвитое чувство долга перед собственной родиной, глубоко укоренившаяся привычка уважать в подчиненном человеке его человеческую личность; требовалось, одним словом, просвещенное и зрелое политическое воспитание, чтобы уберечь себя на такой высоте от злоупотреблений собственной властью. Волынскому, как и всем «петровским птенцам», неоткуда было запастись подобными свойствами: ведь эти свойства не родятся в общественной среде внезапно, а нарастают и крепнут постепенно, путем продолжительного политического опыта и разумного просвещения. Волынский был истинный сын той переходной эпохи, когда лучшие люди сознали необходимость двинуть вперед свою родину, пробудить ее дремавшие силы, извлечь на свет Божий ее подспудные богатства; но, принимаясь за это новое дело, они пользовались старыми средствами, думали насильственно выколотить из русского народа позывы к лучшему устройству своего быта, не уважали тех людей, то общество, которое стремились поставить на лучшую ногу, и, не уважая его, позволяли себе вперемежку с преобразовательными опытами корыстные насилия и жестокие утеснения над подвластным населением. Эта своеобразная двойственность, запечатлевшаяся на всех деятелях Петровской эпохи, необыкновенно ярко отразилась на Волынском. В его личности и в его деятельности причудливо переплелись как светлые, так и мрачные типичные черты русских администраторов начала прошлого столетия.
Прибыв в Астрахань, Волынский быстро осваивается с местными условиями и потребностями и сразу впрягается в колесо горячей работы. Скоро он мог уже представить Петру обстоятельный план необходимых мер для всестороннего устройства своей губернии. Петр утвердил все предположения Волынского. Решено было умножить и усилить военные укрепления в Астраханском крае, оживить край притоком новых поселенцев из внутренней России, основательно заняться развитием соляных и рыбных промыслов, привлечь в Астрахань побольше русских и иноземных торговых людей различными льготами и т. п. Дело заспорилось в руках Волынского. Но, работая по образу и подобию своего царственного учителя, предугадывая и выполняя желания Преобразователя, Волынский не забывает и себя. Напротив, он спешит использовать для будущего счастливый поворот своей фортуны. Для этой цели открывались два пути: сверху нужно было постараться обставить себя надежными связями, сильными покровителями, чтобы было на кого опереться на скользком поприще придворных интриг; а снизу открывалась возможность развернуть во всю ширь свою власть, пожить широко и привольно на счет подчиненного населения. И вот Волынский не замедлил ухватиться и за то, и за другое. Наезжая в Петербург для поднесения государю отчетов и проектов по управлению губернией, Волынский подолгу засиживается в столице — там у него много дела: нужно зорко вглядеться в пеструю толпу царедворцев, угадать будущих временщиков и заблаговременно расположить их в свою пользу. Правда, дела не ждут и в Астрахани: калмыки волнуются, в присылке провианта и войск постоянная задержка, на персидской границе неспокойно — все требует присутствия губернатора; но Волынский не может всецело пожертвовать родине своими петербургскими делами: астраханское губернаторство — лишь временная ступень к дальнейшим возвышениям, к которым надо расчистить путь. В Петербурге Волынский превращается из государственного человека в лукавого царедворца. На придворном горизонте всходила новая звезда. То был красивый и ловкий камер-юнкер царицы Екатерины — Виллим Монс. Вторая супруга Петра Екатерина, заменившая ему постылую жену Евдокию Лопухину[94], безраздельно владела в то время сердцем Петра. Петр видел в ней незаменимую помощницу среди житейских испытаний и разочарований.
Бывало, когда на царя находили приступы бешеного гнева, лицо искажалось судорожными конвульсиями, и никто не смел к нему приблизиться, одна Екатерина смело подходила к мужу, и Петр затихал от звука ее голоса; Екатерина сажала его рядом с собою, брала за голову, лаская, почесывала, и Петр, заснув на ее груди часа на два, на три, просыпался освеженным и успокоенным. Тайной этого психического воздействия на царя объяснялась та видная роль, какая выпала на долю Екатерины в придворной жизни того времени. Заручиться милостью тех, кто стоял близко к Екатерине, значило заручиться надежным предстательством перед самим царем на черный день. И вот почему дальновидный Волынский спешит вкрасться в тесную дружбу к Виллиму Монсу, величает его в письмах «другом» и «братом», шлет ему в подарок то турецкий серебряный мундштук, то заводскую лошадь, то пленного горца. Зато у себя, в Астрахани, можно было с лихвою вознаградить себя за низкие поклоны, за льстивые письма, за дорогие подарки, которые приходилось расточать в Петербурге. И вот в Петербург начинают понемногу доходить смутные слухи о своевольных поступках астраханского губернатора. Превосходно составленные отчеты и проекты, в которых светится государственный ум Волынского, начинают чередоваться робкими жалобами на его корыстные действия и возмутительные насилия. На первом плане стояло собирание «безгрешных» доходов. Волынский не стеснялся размерами поборов. Купец Евреинов[95] с некоторыми компаньонами должны были выплатить Волынскому до 20000 рублей; обильная, не предусмотренная договорами контрибуция собиралась Волынским с азиатских князьков и даже с самого шаха. Дело не ограничивалось одними поборами. Никто не был обеспечен пред всесильным губернатором и насчет личной своей неприкосновенности. Нельзя не рассказать здесь о поступке Волынского с мичманом, князем Мещерским, как потому, что это дело не осталось без влияния на дальнейшую судьбу Волынского, так и потому, что оно открывает перед нами яркую страничку из истории русских нравов прошлого столетия. Мичман Мещерский, живший в Астрахани за домашнего шута у генерала Матюшкина[96], позволял себе в нетрезвом виде неосторожные выходки по адресу Волынского. Чем же отомстил ему знатный вельможа, мечтавший о возрождении России и, как увидим, прилежно изучавший иностранные книжки о правах человека и общества? Зазвав к себе Мещерского, Волынский вымазал ему лицо сажей, надел на него вывороченный наизнанку кафтан и в таком виде посадил его с собой за ужин. Здесь Мещерский должен был сразу осушить огромный стакан вина. Это оказалось не под силу Мещерскому, и Волынский заставил слуг бить мичмана по голове. После того Мещерский просидел всю ночь под караулом в том же шутовском наряде. На следующий день его посадили на деревянную кобылу, к каждой ноге привесили по пудовой гире да по живой собаке задними ногами и так продержали два часа; наконец, сняв с кобылы, без панталон, голым телом посадили на целый час на лед, посыпанный солью.
Так хозяйничал Волынский в своей губернии. Обиженные и притесненные не осмеливались громко заявлять о своих обидах, пока Волынский высоко стоял в милости царя. Но час возмездия приближался.
Петр осуществил свою мечту: покончив со шведскою войною, он ехал с Екатериной в Астрахань, чтобы оттуда повести русское войско на Персию. Сам Волынский утверждал Петра в этом намерении, рисуя заманчивые перспективы быстрой и легкой победи. Волынскому очень улыбался план персидской войны. В случае удачи на него должны были посыпаться великие и богатые милости: ведь он был первый и главный советник по персидским делам.
Дело началось благоприятно для Волынского. Петр остался очень доволен осмотром Астраханской губернии, на что посвятил целый месяц, и, отправляясь в поход Каспийским морем, взял Волынского с собой на корабль. У персидского берега Петра ожидала печальная весть: первая встреча сухопутного русского войска с персами кончилась тяжким поражением русских. Петр пришел в ярость. Он требовал указания виновных в этой неудаче. Командир сослался на то, что Волынский снабдил его неточными сведениями о расположении персидских крепостей. Теперь-то все поднялось на Волынского. Все выплыло наружу. Все спешили не упустить минуты царского гнева, чтобы сразу отплатить своевольному губернатору за давно накопившиеся обиды. Астраханских жалобщиков не упустили поддержать находившиеся при Петре петербургские вельможи, которым не нравилось быстрое возвышение Волынского. Петр был подавлен обвинениями, которые посыпались отовсюду на его верного слугу.
Волынский был позван в царскую каюту. Кроме самого царя и Екатерины, там никого не было. Петр схватил дубинку и… Бог знает, как перенес бы Волынский царскую «науку», если бы не вступилась Екатерина. Тем не менее Волынский почти год после этой аудиенции пролежал в постели.
Волынский не потерял своего места, но навсегда потерял прежнее доверие императора. Его полномочия по части сношений с окрестными народами были урезаны. Петр подозрительно приглядывался ко всем его связям, охотно прислушивался к жалобам его врагов. Его положение грозило еще более ухудшиться, когда сама Екатерина, его усердная заступница, подверглась опале после казни Монса и когда Петр в последний год своей жизни, выведенный из терпения непрерывными и повсеместными хищениями, стал готовиться к суровой и беспощадной борьбе против этого зла. Обер-фискал Мякинин, докладывая однажды Петру длинную вереницу дел о хищениях правительственных лиц, кончил доклад вопросом: «Обрубать ли одни сучья или положить топор на самые корни?» — «Руби все дотла», — сказал Петр.
Вряд ли уцелел бы Волынский, если бы действительно началась эта рубка. Смерть императора сразу обратила колесо фортуны вновь в сторону Волынского. Главная покровительница Волынского заступила место Петра на троне. Он мог вздохнуть свободно и смелее глядеть в будущее. Скоро Волынский получил назначение губернатором в Казань с оставлением в его руках главного начальства над калмыками. Но враги Волынского не дремали. Военная коллегия нарядила над ним суд за истязание Мещерского. Он должен был покинуть губернаторское место и ехать в Петербург для допросов. Там прожил он остаток царствования Екатерины и уже по воцарении Петра II[97], благодаря сближению с князьями Долгорукими, фаворитами молодого императора, вновь получил казанское губернаторство. Горький жизненный опыт не исправил Волынского. На новом месте повторяется старая история в астраханском вкусе. Несчастные инородцы Казанской губернии писали впоследствии в челобитьях на действия Волынского: «С начала подданства нашего под Российскую державу ни отцы, ни деды, ни прадеды наши такого разорения не терпели». И действительно, теперь Волынский установил свои негласные поборы на еще более широкую ногу, чем то было в Астрахани.
Волынский жил в Казани настоящим магнатом: дом его был полон дворни, до 80 лошадей стояло на его конюшнях, огромная псарня, которую держал Волынский, размещалась по монастырским дворам. Все слои населения вносили свою немалую лепту на удовлетворение этих прихотей губернатора. Архиерейские крестьяне доставляли сено на губернаторские конюшни, купцы переплачивали ему увесистые суммы «взаймы», разумеется, без отдачи, а инородческое крестьянское население формально было обложено определенными неофициальными окладами сверх государственных податей. Всего за полтора года таких неофициальных сборов собрано было с казанских инородцев 14000 рублей. Поборы по-прежнему сопровождались «мукой и боем». Население начинало прямо разбегаться из Казани от насилий губернатора. Средств для самообороны не было. Здесь, как и в Астрахани, притесняемым оставалось терпеливо дожидаться какой-нибудь благоприятной «оказии», чтобы заодно сквитаться во всем. В Астрахани такой оказией выдался случайный приезд царя.
В Казани дело повернулось иначе. Губернатор столкнулся с митрополитом. Оба одинаково уличали и одинаково ненавидели друг друга. Но митрополит имел сильную руку в Синоде[98], а у Волынского среди петербургских вельмож на каждого сомнительного приятеля приходилось по нескольку заклятых врагов. Борьба была неравная, и исход был естественный: Волынскому пришлось распроститься с казанским губернаторством. Сначала его хотели было отправить опять в Персию, под команду генерала Левашова; потом Персия была заменена назначением в украинский корпус, и в конце концов, вместо всяких назначений над ним нарядили «инквизицию», т. е. судебное следствие по многим воздвигнутым на него жалобам. Но Волынский был уже не новичком в качестве подследственного ответчика. Судебные сети не были для него страшны, и он умел порывать их. Прежде окончательного падения его еще ждала впереди громкая политическая карьера.
IV В СТОЛИЦЕ
Чтобы вполне понять последующие шаги Волынского на политическом поприще, нам придется перенестись теперь мыслью из провинциальной глуши в водоворот столичных событий. За время губернаторства Волынского на далеких окраинах государства в столице происходили знаменательные явления. Трижды корона перешла из рук в руки, и каждая перемена царствования сопровождалась значительным брожением общественных партий. Мы уже знакомы с составом этих партий. Они сложились еще в течение Петровского царствования. Но пока тянулись тяжелые войны, пока Петр железной рукой сдавливал внутренние раздоры, партийная вражда таилась под спудом. Лишь только Петра не стало, она вспыхнула с полной силой. Прежде всего столкнулись друг с другом партия родовитых бояр и партия петровских птенцов. Предлогом для столкновения послужил вопрос о замещении опустевшего трона. Петр, умирая, не успел назначить преемника.
Закона о порядке престолонаследия не существовало. Каждая партия стремилась решить этот вопрос в свою пользу, и решить его предстояло ценою открытой борьбы. Старинная знать сомкнулась около малолетнего внука первого императора Петра Алексеевича. Это было так естественно: все, что восставало против преобразовательной деятельности Петра, все, что облюбовывало убегающую вдаль старину, все это еще при жизни Преобразователя льнуло к опальному потомству первой жены Петра, насильственно заточенной в монастырь Евдокии. Плодом этих сближений явилось известное «дело» царевича Алексея, сына Петра и Евдокии, так трагически окончившееся для царевича. Алексей в этом «деле» был лишь орудием приниженного Петром старинного барства. Теперь сын царевича должен был унаследовать роль своего отца.
С другой стороны, вторая жена Петра, Екатерина являлась естественною союзницей петровских птенцов. Ведь и сама она была всецело созданием Петра, его волею превращенная в Екатерину из никому неведомой Марты. Когда болезнь Петра приняла безнадежный характер, Екатерина призвала к себе Меншикова и Толстого и поручила свою судьбу их преданности. Они знали, что делать. Гвардия, 16 месяцев не получавшая жалованья, вдруг была осыпана щедрыми денежными выдачами. Войскам, находившимся на работах, был дарован отдых. По улицам Петербурга то и дело передвигались солдатские отряды.
В ночь на 28 февраля 1725 г. дворец наполнился народом. Вельможи собрались для обсуждения вопроса об избрании преемника умиравшему императору. Интимное заседание быстро приняло совершенно необычный ход. Боярская партия предложила провозгласить императором Петра Алексеевича и на время его малолетства поручить Екатерине регентство. Толстой в пространной речи отверг это предложение. Регентство, говорил он, грозит смутами и потрясениями государственного порядка, между тем, как Екатерина, неразлучная спутница великого Петра, имеет достаточно самостоятельных прав на корону своего мужа и достаточно опытности в управлении страной. Пока Толстой говорил, в залу один за другим набились гвардейские офицеры, сопровождавшие слова Толстого одобрительным ропотом. Послышались барабаны. Гвардейские полки оцепили дворец. Все это совершенно не входило в программу заседания. Князь Репнин[99], сторонник боярской партии, не выдержал и вспылил: «Кто осмелился привести сюда солдат без моего ведома? Разве я не фельдмаршал?», — генерал Бутурлин[100] ответил: «Я велел прийти им сюда по воле императрицы, которой всякий должен повиноваться, не исключая и тебя!» До четырех часов утра продолжались шумные споры. Оцепленная враждебно настроенными войсками, боярская партия сдалась по всем пунктам. Вошла императрица. Апраксин, бросившись на колени, объявил ей решение вельмож. Зала наполнилась кликами присутствующих, из-за окон донесся барабанный бой ликующей гвардии. Петровские птенцы с помощью гвардии победили боярскую партию. Под аккомпанемент барабанов Екатерина заняла петровский трон. Но, оттеснив врагов от ступеней трона, петровские птенцы не сумели сразу упрочить свое положение. Это была не столько партия, сколько группа лиц. Они держались вместе, пока боролись против общего врага. Но, одержав верх, группа тотчас рассыпалась. Кто же воспользовался плодами победы? Не партия, а отдельное лицо. С воцарением Екатерины I тотчас устанавливается самовластное господство Меншикова. Опираясь на подчиненную ему военную силу, Меншиков правил столицей и Россией. Положение Меншикова не изменилось и в первые годы по воцарении Петра II. Однако потомки старинной знати понемногу поднимают голову. Обе соперничающие стороны решаются поразить друг друга одним и тем же оружием: политическим браком. Бедный Петр II попадает между двух… невест. Меншиков предлагает ему свою дочь, боярская партия выставляет в противовес дочери Меншикова Екатерину Долгорукую[101]. Желая уловить царя в сети своего влияния, каждая партия возлагает надежды на женские силы. Меншиков пал на этой скользкой почве. Несколько мелких стычек молодого императора с временщиком послужили достаточным поводом для ссылки Меншикова в его имение Ораниенбаум, откуда впоследствии ему пришлось отправиться за Урал.
Очевидно, падение временщика было подготовлено влиянием на царя Долгоруких, которые держали себя уже как будущие родственники царя.
Падение Меншикова возбудило всеобщую радость. Все вздохнули свободно. «Прошла и погибла суетная слава прегордого Голиафа[102], которого Бог сильною десницей сокрушил…» «Благодаря Бога тирания разрешилась в дым», — так отзывались о падении Меншикова современники в дошедшей до нас от того времени частной переписке. Господство Меншикова сковывало свободу действия боярской партии. Теперь настал ее час окончательно выйти из-за кулис. В ее среде обнаружились два направления. Долгорукие по-прежнему стремились укрепить возвышение своей партии родственною связью с царскою семьей и непосредственным личным влиянием на молодого императора. Голицыны избрали другой путь. Пока Долгорукие ухаживали за Петром, князь Дм. Голицын[103]погрузился в изучение государственного устройства западных стран, преимущественно Швеции, Англии, Польши. Этот князь представляет собою одну из любопытнейших фигур своей эпохи. Поклонник боярской старины, он свято чтил древнерусские обычаи, не отступая от них даже при самом Петре Великом. Так, например, у него было положено не принимать к себе никого до окончания утренней молитвы, и, бывало, сам Петр, зайдя к нему утром, не решался прерывать его благочестивого уединения. «Узнай, Никол ушка, когда старик кончит свои дела?», — говорил тогда император жившему у Голицына мальчику и терпеливо ждал выхода хозяина. И этот-то строгий ревнитель старинных преданий с жадным вниманием вглядывался в западную жизнь, прислушивался к голосу западной науки. В своем подмосковном селе он собрал громадную библиотеку, в которой значилось более 6000 исторических и политических сочинений. Здесь находились, между прочим, рукописные переводы многих западных мыслителей, разрабатывавших вопросы государственного устройства: Макиавелли, Томазия, Гуго Гроция, Локка, Пуффендорфа и др[104]. Далеко за полночь засиживался Голицын в своем кабинете, изучая при помощи сведущего в этих вопросах иноземца Фика законы иностранных государств.
Размышляя об Англии, Швеции, Польше, Голицын думал о России. Пред ним вставала мечта закрепить власть за своей партией путем преобразования русского государственного устройства. Еще при Екатерине I был учрежден так называемый «Верховный Тайный Совет», в котором, по назначению императрицы, заседали крупные сановники. Совет являлся высшим учреждением в государстве, посредствующим звеном между всеми другими учреждениями и самодержавной властью.
Тотчас после своего возникновения Совет сделался слепым орудием Меншикова. Теперь Голицын возложил на Совет свои надежды. Он мечтал создать из Совета гнездо родовитой знати, наполнить его членами своей партии, расширить его власть.
В ночь с 18 на 19 января 1730 года Петр II умер. Со смертью Петра кончался фавор Долгоруких: он умер обрученный, но еще не обвенчанный с Екатериной Долгорукой. В смятении Долгорукие решились на отчаянное средство: они положили составить от имени Петра подложное завещание, в котором было бы указано о передаче короны его невесте. В этот момент выступил со своим планом Голицын.
По его настоянию Верховный Тайный Совет предложил корону племяннице Петра Великого, Анне. Предложение сопровождалось рядом условий, которые были направлены к усилению власти Совета. В этих условиях Голицын брал за образец государственное устройство тогдашней Швеции — Анна подписала предложенные условия. Голицын спешил ковать горячее железо; казалось, начинали сбываться его кабинетные мечты, его ночные думы. Но, лелея свои планы, Голицын упустил из виду, что за небольшой группой родовитых сановников стояла густая масса среднего служилого дворянства. До сих пор этот слой не выступал на арену партийной борьбы, разыгрывавшейся между птенцами Петра и потомками боярской знати. Теперь он вдруг вмешался в эту борьбу и сразу занял в ней властное положение. В момент смерти Петра II Москва была переполнена съехавшимся отовсюду провинциальным дворянством, которое спешило на предстоявшую свадьбу царя. Приезжие дворяне не отнеслись безучастно к планам Голицына. Во всех углах Москвы шли жаркие разговоры и споры о надвигавшихся событиях. Скоро обнаружилось, что большинство провинциальных дворян неодобрительно думало о предстоящих переменах. Всех пугала мысль, что кучка родовитых вельмож воспользуется этими переменами в своих корыстных целях, причем интересы мелких и средних дворян останутся в полном пренебрежении. При господстве такого настроения Голицыну и его партии становилось все труднее отстаивать задуманное дело. 25 февраля 1730 г. общее напряжение разрешилось. Прибывшая в Москву из Митавы Анна по просьбе дворян уничтожила подписанные ею условия и приняла корону без всяких ограничений своей власти. Так началось царствование Анны.
Как раз в это время судьба забросила Волынского в столицу. Казанские неприятности не мешали ему живо интересоваться московскими событиями. До нас дошли его письма к московским знакомым, в которых сквозит сильное желание узнать все подробности, в которых он высказывает собственные суждения о «затейках» голицынской партии. В общем он не сочувствовал этой партии и не ждал добра от ее замыслов. Но из далекой Казани все это движение представлялось смутным, неопределенным. И вот Волынский попадает в самый центр столичного общества, еще не успевшего вполне остыть от только что пережитых потрясений.
Два направления переплелись друг с другом в политике царствования Анны. С одной стороны, издается ряд узаконений, расширяющих права дворянского класса. Хотя дворянство и высказалось против тех перемен, к которым стремился Голицын, однако оно довольно определенно заявило при этом о некоторых желаниях, давно созревших в его среде. Устранив планы Голицына, правительство Анны пошло навстречу желаниям дворянства. Дворянство страшно тяготилось обязательной службой. По законам Петра, каждый дворянин в течение всей жизни обязан был служить государству в военных или гражданских чинах.
Обязательная служба отрывала дворянина от его имений, от его хозяйства, лишала его свободы в распоряжении своею личностью и деятельностью.
Теперь издается закон, по которому обязательная служба ограничивается 25-летним сроком. По миновании этого срока дворянин получает право, если пожелает, выйти в отставку. Дворянство приветствовало этот закон бурной радостью. Правительство было завалено просьбами об отставке. Поспешно сбрасывая с себя служебную лямку, дворянство массами хлынуло из столиц в свои деревенские усадьбы, где его ожидала привольная жизнь на плечах дарового крепостного труда. Второй важный закон, изданный в царствование Анны, еще более увеличивал для дворянства привлекательность деревенского уединения. Он расширял землевладельческие права дворян. По законам Петра дворянин не имел права ни дробить своих земель между несколькими сонаследниками, ни отчуждать их путем каких-либо сделок в другие руки. Теперь все эти стеснения отпадали. Дворянин-землевладелец получил право свободно, по своему усмотрению, распоряжаться своими имениями. Но, стремясь удовлетворить заветные желания дворянства, правительство Анны развивает в то же время и другое течение в своей политике. Настает эпоха знаменитого «слова и дела». Для прекращения беспокойных партийных движений, которые наполняли жизнь столицы в первую половину XVIII столетия, устанавливается жестокое преследование всех мало-мальски подозрительных лиц. То было время господства печальной памяти Бирона.
Русский историк Болтин[105], живший в царствование Екатерины II и, следовательно, писавший о временах Анны на основании самых свежих, еще не остывших воспоминаний, рисует нам такую картину общественной жизни того времени: «Повсюду разосланы были лазутчики, кои днем и ночью подслушивали разговаривающих между собою, идущих по улице и сидящих в домах. В столицах не смел никто, сошедшись с приятелем своим, остановиться на несколько минут и поговорить, страшась, чтобы не сочли разговор их за подозрительный и не взяли бы обоих под караул. Опасался муж с женою, отец с сыном, мать с дочерью промолвить о бедственном состоянии своем, чтобы из домашних кто, подслушав, не донес. Прощаясь между собою, родственники или приятели, отходя каждый в свой дом, не иначе друг о друге думали, что прощаются на вечность, ибо никто не был уверен, что проснется на той же постели, на которой с вечера лег. Редкая ночь проходила, чтобы кто ни есть из живущих в городе не пропал безвестно, да и не смели спрашивать, куда он девался. На всех лицах изображен был страх, уныние, отчаяние» (Болтин. Примечания на историю России Леклерка. T. II. С. 469–470).
Вот что встретил Волынский, вернувшись в столицу из провинциальной глуши. Время было крутое. Нужно было особое уменье лавировать по волнам житейского моря, чтобы избегнуть внезапного крушения. Волынский быстро осмотрелся и смело поставил свои паруса. Он попал в столицу в самом печальном положении, в качестве опального и даже подследственного отставного губернатора. Астраханское и казанское прошлое громко вопияло против него. Над ним была назначена «инквизиция», т. е. формальное следствие. Волынский противопоставил формальным обвинениям личные знакомства и связи.
Найти могущественного покровителя, верным глазомером определить более надежного заступника и проложить к нему путь среди непрерывной борьбы и интриг сановных честолюбцев — вот та лестница, которая вела в то время на верх благополучия и власти. Все наперерыв карабкались по ее ступеням. За всеми последовал и Волынский. Скоро он стоял уже у самой ее вершины. Сначала он сблизился с Минихом. Это была сильная опора. В результате — «инквизиция» растаяла как воск, а Волынский из подсудимого превратился в главного инспектора российских войск. Но нужно было зорко осматриваться вокруг, чтобы не пропустить момента, когда дружба с Минихом станет опасной, когда созвездия «сильных» временщиков начнут меняться. Волынский уловил момент, как нельзя лучше. Миних пошел на ущерб, всходила звезда Бирона. Волынский спешит перейти на службу по конюшенному ведомству: он знает страсть Бирона к лошадями и прекрасно понимает, как хорошо можно воспользоваться этой его слабостью в своих целях. Конюшенная канцелярия явилась для Волынского преддверием к Кабинету министров, высшему учреждению в государстве, сменившему упраздненный при воцарении Анны Верховный Тайный Совет. Лошади скрепили связь Волынского с Бироном. На Волынского сыпятся ответственные поручения. Через семь лет после крушения планов Голицына над ним был наряжен суд. Верховным судьей назначили Волынского. Предлогами для судебного преследования Голицына были выставлены второстепенные служебные упущения, и все прекрасно знали, что эти предлоги приведены лишь для внешней формы.
Голицын должен был погибнуть, потому что этого хотел Бирон. И каким страшным судьей явился для Голицына Волынский! Мог ли бы он подумать тогда, как скоро ему самому придется сменить судейское кресло на помост эшафота? После голицынского процесса Волынский едет на конгресс для ведения переговоров с Турцией о заключении мира[106], и, наконец… осуществляется заветнейшая мечта его честолюбия: он делается членом Кабинета министров, по его собственному выражению, «перелетает великий порог».
Волынский достиг своего быстрого возвышения обычными средствами своей эпохи: личными связями, интригами, постоянными сделками со строгими предписаниями совести. Он не возвысился в этом случае над уровнем современников и явился верным последователем того самого житейского кодекса, который им же был, как нельзя более метко, охарактеризован одной фразой: «Нам, русским, не надо хлеба: мы друг друга едим и этим сыты бываем». Но выбирая проторенные, обычные пути, Волынский ставил себе не совсем обычные цели. Он не отвертывался от земных благ и при случае умел брать от жизни щедрую дань личных выгод; но этим не ограничивались его стремления. В нем сидело два человека: корыстолюбивый карьерист и государственный деятель с широким взглядом на политические вопросы. Переступив «великий порог» Кабинета, он не почил на лаврах. У него были свои убеждения, во имя которых он готов был начать борьбу.
Немудрено, что вместе со славой у него явились и враги. В Кабинете министров он возбудил против себя опасную вражду Остермана[107]. Для Остермана Волынский был представитель «русской» партии, и этого было достаточно, чтобы падение Волынского сделалось предметом тонко сплетенных происков Остермана. Интрига была родной его стихией. Остерман не любил действовать открыто, на свой страх. Он предпочитал орудовать подставными лицами, незаметно двигая ими, как марионетками, в своих скрытых целях. И теперь он нашел себе подходящего пособника. То был князь Куракин[108], большой барин, сибарит, остряк, «душа общества». Он давно ненавидел Волынского, и Остерману не составило труда приобрести в нем прекрасное орудие для низвержения Волынского. Нельзя было сразу взяться за такое дело. Нужны были факты, предлоги. Враги занялись пока надлежащей подготовкой общественного мнения. Куракин всюду трубил о пороках и проступках Волынского. Прикормленный им стихотворец Третьяковский[109] слагал и пускал в оборот насмешливые вирши о новом кабинет-министре. Гроза подготовлялась. Волынский сам пошел ей навстречу. Враждебные интриги раздражали неукротимый нрав Волынского, а быстрые успехи вскружили ему голову. Он не привык сдерживать себя в минуты гневных порывов. Мы уже видели выше примеры его лютых расправ.
Такая же расправа обрушилась внезапно на верного слугу Куракина, несчастного Третьяковского. В 1740 г. Волынский был назначен председателем «машкерадной комиссии» по устройству знаменитой «потешной» свадьбы шута М. А. Голицына с калмычкой Бужениновой в построенном на льду Невы «ледяном доме»[110]. Внушенная невежественной жестокостью затея была обставлена небывалыми приготовлениями. Для участия в свадебном кортеже было собрано по мужчине и по женщине от всех городов, областей и инородческих племен России: великорусы, малорусы, персиане, абхазцы, остяки, самоеды, якуты, калмыки, татары, чуваши, мордвины и т. д. Все они должны были сопровождать новобрачных в своих национальных одеждах на лошадях, верблюдах, оленях, собаках, волах, даже свиньях. Под новобрачных была приготовлена клетка, которую водрузили на слона. После свадебного пира этот кортеж отвез молодых на ледяное новоселье. Мебель, украшения, брачное ложе — все это было сделано изо льда в их подневольном жилище. Там они были оставлены на всю ночь, и к ледяному домику была приставлена стража, чтобы жильцы не разбежались. Зима в этот год, как нарочно, стояла самая жестокая.
Во время свадебного шествия придворный пиит Третьяковский должен был прочитать стихотворную оду. Дорого обошлась ему эта ода. На время приготовлений к празднику Третьяковский, как участвующее в нем лицо, поступил в распоряжение Волынского, который заведовал всем церемониалом. Волынский не преминул воспользоваться случаем, чтобы по-своему отмстить клеврету своих врагов за его насмешливые вирши. Лишь только Третьяковский впервые представился Волынскому для получения приказаний, последний встретил его градом пощечин и бил до того, что придворный поэт вышел от него «в не-состоянии ума». На следующее утро Волынский, приехав к Бирону, опять столкнулся в передней герцога с Третьяковским. Намерение поэта было очевидно: он приехал с жалобой к герцогу на вчерашнюю расправу. Волынский тотчас снова впал в бешенство. «Рвите его!» — закричал он солдатам, и в одну минуту на Третьяковском разорвали рубаху и избили его палками так неистово, что «спина его, бока и лядвии стали как уголь черны». Такая же экзекуция повторилась и на следующий день после «потешной» свадьбы, во время которой Третьяковский, одетый в «машкерадное» платье, сказал-таки свое стихотворное приветствие новобрачным. Отпуская, наконец, несчастного пиита, Волынский заставил его на прощанье поклониться себе в ноги.
Варварская расправа с безродным пиитом сама по себе никого не возмутила. Человеческое достоинство, неприкосновенность личности — все это были созвучья, еще совершенно незнакомые уху людей XVIII века. Тогда лишь начинали привыкать к понятию сословной чести, могли еще понять, что значит оскорбить честь дворянина; но что значит оскорбить честь человека вообще, каково бы ни было его сословное положение, это оставалось недоступным умственному и нравственному кругозору эпохи. Что значил для вельможных магнатов какой-то Третьяковский? Это просто был необходимый аксессуар различных церемониалов, машина для изготовления виршей на «случаи», почти что шут, на которого было бы смешно и странно смотреть как на человека с правами на какое-то уважение. Он пожаловался в академию. Академический врач освидетельствовал следы истязаний и признал побои, действительно, тяжкими. Тем и кончилось дело о претензиях самого Третьяковского. Но в деле была одна подробность, которая могла получить гораздо большую важность. Не большая беда, что Волынский бил Третьяковского; но побои происходили, между прочим, в апартаментах всесильного герцога, и это уже было весьма серьезно: это можно было выставить при случае как выражение дерзкого непочтения к Бирону! Враги Волынского не упустили этого обстоятельства и приберегли его до надлежащего момента.
Впрочем, в материале для подкопов недостатка не было. Скоро врагам Волынского открылась такая пожива, которая затмила все предшествующее, хотя и носила совсем иной характер. Пригибаясь перед сильными временщиками и самодурствуя над безгласной мелкотой зависимых от него лиц, Волынский платил щедрую дань нравам своей эпохи. Но в его жизни была и другая сторона. Он любил уходить с торной дороги придворных интриг в тесный дружеский круг единомышленников. Туда уносил он лучшую часть своей души. Там в нем просыпался патриот и гражданин. В просторном, роскошном доме на Мойке часто собиралась тесно сплоченная компания. Здесь бывал русский историк Татищев[111], широко образованный президент коммерц-коллегии Мусин-Пушкин[112], чиновники, архиереи, офицеры. Компания была пестрая по общественному положению входивших в нее лиц, но очень дружная по общности интересов, которые всех занимали. Друзья сходились не для праздного провождения времени. Между ними шел живой обмен мнений и впечатлений. Энергичные речи лились рекой. Собеседники разбирались в настоящем положении дел и старались заглянуть в будущее. В настоящем перед ними открывалась безотрадная картина. Столица утопала в сказочной роскоши. Иностранцы, подавленные великолепием столичных празднеств, писали, что эти празднества переносят их в волшебную страну фей. А между тем, на народе лежала недоимка по государственным сборам в 15 миллионов рублей, что равнялось двухгодичному государственному доходу. Из 8 миллионов общей суммы доходов 6 с половиной миллионов поглощалось расходами на армию и флот, и только полтора миллиона оставалось на удовлетворение всех других государственных потребностей. Торговля и промышленность находились в глубоком упадке. В управлении царил хаос. Всеми делами вертели иностранцы с Бироном, Остерманом и Минихом во главе. Свирепствовало ужасное «слово и дело». В доме на Мойке все эти наболевшие общественные язвы вызывали продолжительные обсуждения. Как быть, что делать? Мысль работала. Брались за иностранные книжки. Западные политические мыслители были в большом ходу среди членов кружка Волынского. У каждого из них была прекрасная библиотека, умножавшаяся при всяком удобном случае. Так, Волынский, председательствуя на суде над Голицыным[113] и довершив своим следствием гибель этого замечательного человека, не преминул позаимствоваться книгами из оставшейся после него богатейшей библиотеки. Книги собирались не зря, не по пустому дилетантскому капризу. Содержание этих библиотек ярко рисует умственные интересы их владетелей. Подавляющее большинство книг в них — политические трактаты все тех же авторов, которых мы уже встретили в рабочем кабинете Голицына: Макиавелли, Томазия, Пуффендорфа, Гуго Гроция и пр. Сверх того, Волынский особенно увлекался Юстом Липсием писателем XVI века, особенно тем его сочинением, в котором описывается эпоха упадка Римской империи. Волынский жадно набрасывался на обличительные картины римских нравов и любил применять их к современной ему русской действительности. От иностранных книжек переходили к родной истории, раздумывали над историческим прошлым. Здесь на сцену выступал Татищев со своими историческими разысканиями. Наконец, в результате бесед выяснилась потребность систематически обозреть назревшие нужды России. За это взялся сам Волынский. Он засел за обширную работу под названием «генеральный проект», в которой решил использовать все итоги своей разносторонней житейской и административной опытности. Он вкладывал в эту работу всю душу и придавал ей большое значение. «Сочинение это будет полезнее книги Телемаковой», — любил повторять Волынский. Он вынашивал свой проект, как любимое детище, несколько раз переделывал его различные части, читал его разным лицам, требуя поправок и замечаний.
Здесь был и краткий очерк русской истории, и обозрение деятельности высших государственных учреждений, и соображения об армии, шляхетстве, купечестве, суде, экономии. Конечный идеал, к которому сводились мечты Волынского, это — высвобождение русского народа из-под ига иноземных влияний путем широкого разлива просвещения среди шляхетства и духовенства и подъема торгово-промышленного самостоятельного почина среди купечества. Волынский не видел необходимости в изменении политического строя России — он был сторонником самодержавия; но он стоял за поднятие общественной самодеятельности, за расширение влияния шляхетства на дела государства, за пробуждение национального чувства. Господство Бирона являлось в его глазах страшным тормозом для достижения всех этих целей. И вот в думах Волынского и его друзей начинала мерещиться мысль о перевороте в пользу более национального правительства, чем правительство Анны. По-видимому, у них намечалась кандидатура дочери Петра — Елизаветы. С уст Волынского и его собеседников все чаще срывались желчные, едкие выходки против окружающих их лиц, стоящих у власти, и прежде всего против самого Бирона. Друзья не подозревали, что старый слуга Волынского, Кубанец, вывезенный им еще из Казани, прилежно подслушивает их свободные речи.
V КАТАСТРОФА
На страстной неделе в 1740 г. Волынскому внезапно было объявлено высочайшее повеление — не являться ко двору. Волынский бросился к Бирону и другим вельможам, но его нигде не приняли. Что же случилось? Остерман и Куракин успели убедить Бирона, что Волынский ведет под него подкоп. Доказательств было немного, и все они сбивались на сплетни. Однако Бирон все же возненавидел Волынского. Нужно было во что бы то ни стало немедленно подогреть эту ненависть новыми доводами. И вдруг… как небесная манна в руки врагов Волынского падает донос Кубанца. Кубанец был арестован по поводу взятых через него Волынским казенных сумм из Конюшенного приказа[114]. На допросе вместо показания о суммах следователи услышали от Кубанца неожиданные признания о тайных собраниях и возмутительных беседах в доме его господина. Следователи насторожились: в воздухе запахло лакомой, жирной добычей. В тот же день Волынский был лишен свободы с тем, чтобы получить ее обратно уже в ином мире. Начались заседания следственной комиссии, наряженной над Волынским. Обвинители сплетали всевозможные вины, к чему самым удобным материалом служили беспорядочные, отрывочные показания Кубанца. Кубанец вписывал в свои донесения все фразы и обрывки фраз, которые, бывало, долетали до его уха во время собраний у Волынского. Следователям легко было выдергивать из этого набора наиболее пикантные словечки, сопоставляя их в такую связь, которая раздувала обвинение до чудовищных размеров. Обвинение разрасталось с каждым новым допросом. Теперь уже не довольствовались первоначальными обвинительными пунктами о том, что Волынский подносил императрице разные проекты «якобы в научение и наставление», что он оскорбил Бирона, позволив себе истязать в его апартаментах Третьяковского. Волынский и его друзья теперь выставлялись уже настоящими политическими заговорщиками; обвинители доходили до того, что по поводу составленной Волынским родословной Романовых приписывали ему преступный план посредством государственного переворота самому надеть на себя российскую корону. Все посетители вечеров Волынского были схвачены. Начались пытки. Волынского пытали два раза и, поднимая на дыбу, так повредили правую руку, что он уже не мог подписывать своих показаний. Намерение его произвести переворот не возбуждало уже никаких сомнений. Главное, чего старались добиться у заключенных, это определение срока, когда было решено осуществить замысел. Ничего не добились: Волынский упорно отрекался от намерения сделаться императором.
23 июня 1740 г. Волынскому был подписан смертный приговор. Было постановлено, вырезав язык, отсечь ему правую руку и голову. 27 июня казнь была совершена. Вместе с Волынским на эшафот были выведены шесть его сообщников. Массы народа толпились у эшафота. Сперва был обезглавлен Волынский, потом двое из его друзей, Хрущов[115] и Еропкин[116]. Остальные высечены кнутом и плетьми и обратно уведены в крепость.
Так оборвалась жизнь выдающегося государственного деятеля, вскормленного бурной эпохой Петра и безжалостно скошенного мрачной «бироновщиной». Богато одаренная натура Волынского совместила в себе и выдающиеся пороки своей эпохи, и светлые черты пробуждавшегося общественного сознания. Добросовестный историк не может закрыть глаза на темные факты его жизни; но прав был и поэт, воскликнувший про Волынского: «Он мнил спасти страну родную!»[117] Поэта можно заподозривать в увлечении, в идеализации своего героя. Но вот свидетельство высокого авторитета: вот, что написала о деле Волынского императрица Екатерина II, конечно, имевшая возможность познакомиться с этим делом так полно, как ни один историк: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел… Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменник, но напротив того, добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным поправлениям своего отечества. Итак, смертную казнь терпел, быв невинен».
ЕКАТЕРИНА II
Печатается по изданию:
Кизеветтер А. А.
Исторические силуэты: Люди и события.
Берлин: «Парабола», 1931. С. 7–28.
I
Преобразовывая по западноевропейским образцам русские государственные учреждения, Петр Великий усовершенствовал внешнюю технику русского административного аппарата. Вместе с тем он внес ряд перемен в организацию сословий. Но ни его административные, ни его сословные реформы не видоизменили принципиальных оснований, на которых был построен государственный порядок тогдашней России. Снабженная новыми правительственными учреждениями на шведский манер, переодетая из полуазиатских кафтанов в короткие немецкие камзолы, Россия осталась государством, снизу доверху закрепощенным, осталась самодержавной монархией, утвержденной на системе принудительного прикрепления всех без изъятия слоев населения к государственной службе и государеву тяглу.
После смерти Петра Великого началась глубокая переработка самых оснований государственного порядка. С 1725 по 1762 г. Россия постепенно превращается в сословно-дворянскую монархию. Дворянство из прикрепленного к обязательной службе сословия превращается в сословие свободных от обязательной службы привилегированных земле- и душевладельцев, в то время, как люди посадские остаются по-прежнему на положении закрепощенных тяглецов, а крепостная неволя владельческих крестьян, усиливаясь, обостряясь и расширяясь, принимает такие черты, которые близко подводят ее к настоящему рабству.
К моменту воцарения Екатерины II эта метаморфоза была уже завершена. Манифест Петра III о «вольности дворянской»[118] составил завершенный шаг в ее подготовке.
На долю Екатерины II досталась задача сообщить этому вновь назревшему строю государственно-общественных отношений окончательную юридическую формулировку и установить те новые учреждения, которые соответствовали самой природе сословно-дворянской монархии.
Так, на долю Екатерины II и ее сотрудников выпадала задача собрать жатву на поле, которое было распахано, обсеменено и взращено их предшественниками. Задача ответственная, ибо неуспех в выполнении такой задачи сразу сводит к нулю все предшествующие труды и достижения. Но в то же время эта задача и очень благодарная, ибо собиратель жатвы, если только он выполнит свое дело с успехом, непременно затмит собою и пахаря и сеятеля: ведь радость первоначальных надежд тускнеет перед счастьем достижения окончательной цели.
Блестящий успех, сопровождавший деятельность Екатерины II и окруживший ее имя ореолом славы, всего более объясняется тем, что по условиям исторического момента ее основная задача как раз соответствовала особенностям ее личного характера. Екатерина оказалась не ниже и не выше своей задачи, а как раз вровень с нею. Она была от природы не пахарем и не сеятелем, которые должны создавать условия, благоприятные для успеха будущей жатвы, а именно жнецом, обязанность которого — не испортить этих не им созданных условий, а, наоборот, использовать их наилучшим для дела образом.
На жизненном пути Екатерины не было недостатка в препятствиях, сложных и опасных. Она сумела восторжествовать над ними. Но она достигла этого успеха не столько преодолевая эти препятствия силою непосредственного сопротивления, сколько обходя их искусством гибкой изворотливости.
Вызывать на открытый бой враждебные жизненные стихии, встречать их лицом к лицу, разить их лобовыми ударами, — для этого нужен гений, нужен Петр. Подвигаться к своей цели по линии наименьшего сопротивления, не ниспровергая врагов, а приручая их к себе; не опережать окружающей среды, а стараться идти с ней в ногу — для этого нет необходимости обладать гением, а достаточно и таланта, достаточно быть не Петром, а Екатериной.
Екатерина начинала свою политическую карьеру среди препятствий и опасностей, казалось бы непреодолимых. Она родилась и подрастала в семье мелкого немецкого князька, настолько небогатого, что для снискания пропитания он должен был поступить на службу к прусскому королю и благословлял судьбу, получив место губернатора в Штеттине. Здесь, в тесном и неудобном губернаторском доме, все было в обрез и, когда маленькая Фике (Софи), будущая Екатерина, ездила с матерью гостить к более богатым родственникам, она чувствовала себя там на положении просительницы, которую принимают и кормят из милости.
И вдруг — волшебная перемена судьбы! Из далекого Петербурга приходит неожиданная весть: Фике повезут к блестящему двору русской императрицы Елизаветы, где ей предстоит стать женою наследника русского престола. Дело было устроено Фридрихом II[119], который дальновидно усматривал в этой комбинации немалые выгоды для Пруссии в недалеком будущем.
Будущая русская императрица отправилась в путь, в далекий Петербург, с таким багажом, который показался бы нищенским даже для второстепенной кочующей актрисы. Немного носильного белья, да три — четыре платья, вот все, что она получила в приданое от родителей. Дядя прибавил к этому кусок голубой материи с серебряным шитьем, и это было уже верхом великолепия в гардеробе юной путешественницы. «Принцессою кочующей и бедной» прибыла Екатерина в Петербург, в неведомую страну, где ей — 15-летней девочке — пришлось иметь дело с императрицей Елизаветой, смотревшей на нее с недоверчивой подозрительностью, и — с женихом, который с первых же слов объявил невесте, что не чувствует к ней никакого расположения. Екатерина вступала на обширную сцену, где кишели интриги, где на каждом шагу приходилось опасаться ловушек. Между тем, положение Екатерины в высшей степени осложнялось еще одним обстоятельством. Прибывшая с нею ее мамаша с легкомыслием, равнявшимся только ее умственной ограниченности, тотчас по приезде в Петербург торопливо и бестолково начала выполнять секретное поручение, данное ей прусским королем: во что бы то ни стало свалить канцлера Бестужева[120]. Мать Екатерины повела это деликатное дело так несообразно, натворила при этом столько вопиющих глупостей, что был момент, когда судьба уже решенного брака ее дочери повисла на волоске и все могло окончиться позорным возвращением и матери и дочери в штеттинское захолустье. Мамаша и не избежала этого позора. Но дочь не только удержалась на своем месте, но и сумела восторжествовать над всеми трудностями своего положения. Она стала супругой наследника русского престола, завоевала доверие Елизаветы, благополучно миновав многие испытания, а по смерти Елизаветы, быстро сбросила со своего пути нелепого своего супруга и на целых 34 года стала безраздельной обладательницей самодержавного русского престола, несмотря на то, что в ближайшем ее окружении находились люди, полагавшие, что, надев на себя корону, Екатерина узурпировала права своего сына — Павла Петровича.
Тридцатичетырехлетнее свое царствование Екатерина сумела провести так, что ему было присвоено название «века Екатерины», хотя в государственной своей деятельности Екатерина более следовала за людьми и обстоятельствами, нежели вела их за собою; а сама Екатерина явилась, в представлении своих почитателей, настоящей «русской царицей», несмотря на то, что до конца жизни она продолжала искажать на немецкий лад русскую речь и ее бесчисленные русские писания представляли собой сплошной бунт против русского синтаксиса.
В чем же коренился источник этих победоносных успехов Екатерины? Я усматриваю этот источник в основной особенности ее натуры. Эта особенность заключалась в очень редко встречающемся сочетании двух свойств, обычно исключающих друг друга. То были — страстность желаний и расчетливое самообладание при выборе способов и средств к их достижению.
II
Страстность натуры Екатерины не может возбуждать сомнений. Эта страстность ясно сквозила в блестящем взоре ее глаз. Английский посланник Уильямс, знавший Екатерину молодой наследницей престола, сравнивает ее взгляд с пронзительным взглядом хищного зверька и говорит, что трудно было выдержать этот взгляд, стремительный и насыщенный желанием. Поверхностный наблюдатель мог бы принять эту неукротимую энергию за проявление гениальности. Но это было бы совершенно ошибочное впечатление.
Ненасытная жажда чувственных наслаждений и неиссякаемое честолюбие — вот на что более всего была направлена душевная страсть Екатерины. От юности до глубокой старости она непрерывно предавалась увлечениям любви. По наиболее заверенному счету в ее жизни на 44 года приходится 21 фаворит, т. е. средним счетом по одному фавориту на каждые два года с того момента, когда она отдалась любовным увлечениям[121]. С 1752 по 1758 г., пока была жива Елизавета, это — Салтыков и Понятовский. Екатерине было тогда 23–27 лет. Затем следует ее одиннадцатилетнее сожительство с Григорием Орловым (1761–1772 гг.), падающее на 30-е годы ее возраста.
От 40- до 50-летнего возраста (1772–1780 гг.) Екатерина сменяет не менее девяти фаворитов. То были — Васильчиков, Потёмкин, Завадовский, Зорич, Корсаков, Стахиев, Страхов, Левашов, Ранцов. От 50- до 60-летнего возраста Екатерины у нее сменилось не менее пяти фаворитов — Высотский, Мордвинов, Ланской, Ермолов, Мамонов. Говорю не менее, ибо остаются еще трое — Стоянов, Милорадович и Миклашевский, время связи которых с Екатериной не поддается определению. И, наконец, последнее десятилетие жизни Екатерины с 1786 по 1796 г. в ее уже престарелом сердце царил Платон Зубов.
Эта коллекция поражает не только многочисленностью, но и чрезвычайной пестротой своего личного состава. Неправильно было бы, конечно, сводить всю эту любовную эпопею к одной физиологической чувственности. Все же мы имеем достаточное основание сказать, что чувственность играла здесь большую роль, чем чувство. Правда, любовь Екатерины к Понятовскому носила характер подлинного взрыва страсти. Измена Орлова после 11-летней связи с Екатериной повергла Екатерину в искреннюю печаль и она признавалась, что Орлов в век бы остался ей мил, если бы сам не оттолкнул ее своей изменой. После смерти Ланского Екатерина испытала бурный пароксизм горя, потеряла аппетит и сон, целыми днями заливалась слезами и не могла никого видеть, пока не излечилась многотомным сочинением французского филолога Кур-де-Жабелена, наведшим ее на мысль заняться составлением сравнительного словаря всех языков. Екатерина обложилась словарями, исписала гору бумаги и, хотя и не обогатила филологическую науку ничем примечательным, но зато вылечилась от тяжелых последствий любовной горячки.
Такие эпизоды были бы невозможны, если бы все любовные увлечения Екатерины сводились к элементарной чувственности. И все же только оргией чувственности можно объяснить и бесконечное количество фаворитов Екатерины, и их большею частью быструю смену, и бросающуюся в глаза малую разборчивость в их подборе. В самом деле, что за пестрая коллекция! За утонченно-изнеженным Понятовским следует истый «русак» Григорий Орлов, а на место даровитейшего урода Потёмкина становится через некоторое время бездарный и пустоголовый красавчик Платон Зубов, которого Екатерина сделала своим идеалом уже на закате своей жизни.
Только оргией чувственности можно объяснить то обстоятельство, что с 1776 по 1789 г. фавориты сменялись чуть не ежегодно и определялись в это звание словно на платную должность не иначе, как по усмотрению и утверждению Потёмкина, который, после того, как сам отошел от сердца Екатерины, стал на целых 13 лет чем-то вроде директора этого подвижного мужского ее гарема. Так, на поприще любовных увлечений страстность Екатерины была не высокого полета, имела своим стимулом не столько парение чувства, сколько не укрощавшийся ни летами, ни государственными заботами бунт плоти.
Но и на поприще политического честолюбия страстность Екатерины получила не то направление, какое она принимает у натур творческих, гениальных. Екатерина не умела бросать вызовов судьбе ради удовлетворения своих честолюбивых стремлений. Она всегда предпочитала идти на сделку с жизненными обстоятельствами и ей было всего более привычно пролагать себе путь к успеху приемами искусной актрисы на жизненной сцене.
С истинно виртуозным блеском проявила она эти приемы уже при самом начале своей политической карьеры. Попав ко двору Елизаветы, 15-летняя Екатерина ставит себе целью растопить лед в сердце Елизаветы и отгородить себя в глазах общественного мнения от своего жениха. С чрезвычайной прозорливостью она избирает для этих целей путь усиленной ревности к православной вере. Захворав, она требует священника и пленяет Елизавету благоговением, с которым совершает исповедь. На церковных службах она усердно молится, истово отбивает поклоны, в то время, как ее жених смущает присутствующих ребяческими выходками. Несколько позднее она победоносно выходит из очень опасного положения, искусно разыграв роль оскорбленной невинности в то время, как она почти была уже изобличена в политической интриге, граничившей с государственной изменой. Английский посол Уильямс, прибывший в Россию с целью расстроить австро-русский союз, вовлек при помощи Бестужева и Екатерину в свои интриги. По этой скользкой дороге Екатерина зашла слишком далеко. Она забрала довольно много денег от Уильямса и вела через Бестужева переписку, которая могла ее в высшей степени компрометировать. Интриги Уильямса раскрылись. Бестужев пал жертвой этого раскрытия. Под ногами Екатерины разверзалась бездна. Но достаточно ей было дважды объясниться с Елизаветой и ее дело оказалось выигранным. Эти диалоги с Елизаветой обнаружили в Екатерине глубокое знание человеческого сердца и большое уменье на него воздействовать в своих интересах.
Призывая к себе Екатерину для объяснений, Елизавета хотела разыграть роль грозного, карающего судьи. Екатерина начала с того, что бросилась перед императрицей на колени и просила немедленно отпустить ее на родину, в Германию. А через несколько минут она уже стояла в позе оскорбленной незаслуженным подозрением невинности, а Елизавета целовала ее, обливаясь слезами. Это уменье искусно играть на струнах человеческого сердца не покидало Екатерину в течение всей ее жизни и служило ей главным орудием управления. Она вовремя и в меру необходимости давала почувствовать окружающим свою властность и вовремя и в меру необходимости умела взять с любым собеседником тон открытой доверчивости и непринужденной шутки или вдруг скользнуть по нему лучом царственной милости.
III
Но еще более важную роль в «ремесле правителей» она отводила рекламе. Здесь ее искусство не знало границ. В одинаковой манере она рекламировала сама себя и пользовалась в этом деле другими людьми как своими орудиями. Реклама была ее родная стихия. Здесь каждый ее шаг, каждое движение стояли на верху мастерства.
Читайте ее многочисленные манифесты и указы за первые месяцы ее царствования. Это — почти ежедневное натверживание ни на чем не основанного положения, что она отняла престол у своего супруга по единодушному желанию всех подданных. Когда и как была выражена эта воля народа? Разумеется, на это не делалось никаких указаний в манифестах и указах Екатерины.
Ведь нельзя было сослаться даже на молчаливое согласие всех групп населения на совершившийся переворот, ибо в первые годы правления Екатерины не было недостатка в недовольных голосах, и было вскрыто даже несколько заговоров. Но тем нужнее было рекламировать якобы народный характер переворота, доставившего Екатерине корону. И вот, на все лады и по разным поводам, Екатерина настойчиво рекламировала себя перед подданными в качестве желанной избранницы народного сердца. Она не боится злоупотреблять частым повторением этой мысли. Она знает, что часто повторяемая мысль становится привычной, превращается в шаблон и что ничто не укореняется в сознании масс крепче ходячего шаблона.
В первом манифесте Екатерины, в котором возвещалось о низложении Петра III и воцарении Екатерины (манифест был написан Тепловым[122]), было сказано, что правление Петра III грозило и ниспровержением в России православной веры, и поруганием отечественной славы через заключение мира с Пруссией, над которой только что перед тем победоносное русское оружие одержало верх, и разрушением всех внутренних порядков в государстве. И потому — говорилось далее в манифесте — Екатерина для предотвращения всех таковых опасностей вступила на престол, «положившись на помощь Божию и видя к тому желание всех своих верноподданных». Этот последний мотив и становится затем как бы обязательным припевом к каждому более или менее важному официальному акту.
Через неделю после первого манифеста 5 июля 1762 г. вышел именной указ о сбавке цены на соль на 10 коп. с пуда и в мотивировке к указу было заявлено, что государыня желает этой мерой облегчить положение подданных, ибо она взошла на российский престол «по единодушному желанию верноподданных и истинных сынов России». Через день после того вышел манифест о назначении коронации на сентябрь 1762 г. В первых же строках манифеста снова и снова повторялось, что к принятию престола государыню понудили ревность к благочестию, любовь к своему российскому отечеству и «усердное всех наших верноподданных желание видеть Нас на оном престоле».
Через 11 дней в именном указе о необходимости положить предел развитию лихоимства Екатерина дает новое, более пространное изложение этой идеи. Увещевая подданных воздержаться от лихоимства, Екатерина считает уместным подробно осветить побуждения, приведшие ее к занятию престола. «На наше действие, — читаем мы здесь, — в котором Нам Бог предводительствовал, и на Наше праведное пред Богом намерение, с которым Мы воцарилися, не снискание высокого имени Обладательницы Российской, не приобретение сокровищ…, не властолюбие и не иная какая корысть, но истинная любовь к Отечеству и всего народа, как Мы видели, желание Нас понудило принять сие бремя правительства». На следующий день вышел указ, приглашавший беглецов из России и дезертиров вернуться в Отечество, не опасаясь каких-либо кар. Указ начинался словами: «Как Мы по единодушному искреннему желанию и по неотступному прошению верных наших подданных и отечество свое любящих сынов вступили на всероссийский престол…».
Итак, тут говорится уже не только о желании, но и о неотступном прошении подданных, хотя никто не мог бы указать, когда и в какой форме была заявлена эта общая воля народа. И долго еще этот лейтмотив торжественных манифестов и именных указов не замирает под пером Екатерины. Через два года издан был манифест о предании суду Мировича[123], пытавшегося освободить из крепостного каземата и вновь провозгласить императором сына Анны Леопольдовны[124] Ивана Антоновича[125]. Екатерина II захватила престол через насильственный дворцовый переворот, тогда как Иван Антонович стал некогда на короткое время императором на точном основании закона Петра Великого, согласно коему каждый царствующий монарх сам должен был назначать себе преемника, а Анна Ивановна объявила Ивана Антоновича наследником своей короны. Все это нисколько не помешало Екатерине начать манифест вступлением, в котором на пространстве одной фразы уместились два заявления, явно расходившиеся с истиной: «Вступив на престол по желанию всех подданных, Мы хотели облегчить положение принца Иоанна, сына Антона Брауншвейгского[126] и Анны Мекленбургской, на краткое время незаконно введенного на престол». Так, выдавая свой насильственный захват престола за воцарение по всенародному прошению, Екатерина тут же провозглашала узурпатором несомненно законного государя — Ивана Антоновича.
Тонкий наблюдатель мог бы, конечно, заметить, по поводу этих бесконечных повторений вышеуказанной мысли в манифестах Екатерины, что права несомненные и неоспоримые в столь частых и однообразных подтверждениях не нуждаются и слишком большое усердие в этом направлении может лишь возбудить сомнение в действительности этих прав. Но Екатерина отдавала себе ясный отчет в том, что реклама рассчитывается не на тонких наблюдателей, а на рядовую массу, на людей толпы, которые легко гипнотизируются приемами резкими, смелыми и топорными. И она знала, что делает, когда не уставала повторять ту небылицу, которая от этих повторений превращалась в сознании населения в официально заверенное общее место, в привычное умственное клише, уже не требующее проверки.
Саморекламирование все же составляет низший род рекламного искусства.
Вершина его состоит в умении влагать хвалу себе в уста других. Мы сейчас увидим, с какой виртуозностью Екатерина умела взбираться и на такие высоты.
IV
Верноподданными сынами отечества не ограничивалась та аудитория, на которую рассчитывала Екатерина, сплетая словесный венок своей политической славе. Она считала необходимым воздействовать в этом направлении также и на Западную Европу. Она чрезвычайно дорожила репутацией либеральной и просвещенной государыни и в создании себе такой репутации в общественном мнении Европы она сама принимала наиболее деятельное участие. Бывали случаи, когда в своих официальных заявлениях высшим государственным учреждениям по поводу правительственных мероприятий она явным образом имела в виду общественное мнение Европы. Так, решив провести секуляризацию, она изготовила для Синода обширную речь о том, как недостойно просвещенных архипастырей владеть рабами. В этой речи явно сквозит намерение выдвинуть на первый план либеральный характер реформы. Для убеждения членов Синода аргументы такого рода были, конечно, малопригодны, да Екатерине не было и надобности вступать на путь убеждения и просьб там, где было достаточно одного выражения ее воли. Очевидно, речь предназначалась для заграничных ушей, чтобы выставить в либеральном свете секуляризационную политику. Недаром речь тогда же была напечатана на французском языке и затем особой брошюрой распространилась за границей. Но для обработки западноевропейского общественного мнения одних монологов, в которых Екатерина сама являлась адвокатом своих деяний, было уже недостаточно. В добавление к таким монологам требовался хор усердных и восторженных сторонних хвалителей. Конечно, Екатерине было нетрудно заполучить за границей сколько угодно наемных перьев для составления хвалебных брошюр. Она и не пренебрегала услугами таких перьев. Но она сумела достигнуть и гораздо большего. Первостепенные корифеи передовой философской мысли Западной Европы с самим Вольтером[127] во главе добровольно повергли к ее ногам свои литературные дарования и свои авторитетные имена и стали на все лады славословить «северную Минерву[128] или Семирамиду[129]», не скупясь на лесть, не останавливаясь ни перед какими гиперболами. Это был уже столь могучий рупор для разнесения по всему свету славы Екатерины, для оплаты которого никакие награждения не могли показаться достаточно дорогими, а покладистые на лесть венчанным владыкам «философы» того века к тому же довольствовались такими скромными подачками, которые не могли идти ни в какое сравнение с ценностью их дифирамбов для славолюбия Екатерины. Конечно, было бы слишком безвкусно утверждать, что Екатерина поддерживала литературный флирт с философскими знаменитостями Европы только ради своих практических соображений. Не может быть сомнения в том, что она была искренней поклонницей писаний Вольтера и ее самолюбию льстило считать себя его ученицей. И если она и позволяла себе порою свысока иронизировать над философами, плохо разбирающимися в вопросах практической политики, то эта ирония служила для нее лишь орудием самообороны в тех случаях, когда «философы» от панегириков переходили к критическим назиданиям. Так случилось с Дидро[130], когда он, посетив Петербург, в беседах с Екатериной дал волю языку и позволил себе указать на недостатки правительственной системы Екатерины и дал ей понять, что и на солнце ее царствования имеются пятна.
В таких случаях Екатерина отделывалась ироническими ссылками на различие в положении философа, мысль которого парит на заоблачных высях, и государя, принужденного «писать законы на человеческой коже». Эти легкие и мимолетные размолвки нисколько не умоляли значения того обстоятельства, что общение с вождями умственного движения Европы льстило Екатерине само по себе, независимо от ее практических расчетов. И все же такой расчет играл очень большую роль в ее сношениях с ее знаменитыми корреспондентами. Когда на ее блестящий небосклон надвигались зловещие тучи и ей нужно было замаскировать тревожное состояние ее души и свои опасения перед возможностью опасных внутренних потрясений в управляемой ею стране, она писала Вольтеру несколько строк, приправленных тоном бравурной беззаботности, и не без основания была уверена, что после этого «вся Европа» будет знать, что Екатерина весела и довольна и, следовательно, слухи о грозящих ей опасностях лишены основания.
Читая эту переписку, нетрудно заметить, что Екатерина начинает шутить и резвиться пером особенно старательно именно в наиболее тревожные моменты. Таковы веселые шуточки над «маркизом Пугачевым»[131], отпускавшиеся как раз в то время, когда успехи пугачевщины настолько пугали Екатерину, что для подавления мятежа она сочла нужным послать на театр борьбы самого Суворова. Таковы ее подтрунивания над турецким султаном, относящиеся к тому моменту, когда одновременная борьба на два фронта — против Турции и против Швеции — раскрывала перед ней перспективу великих опасностей и она помышляла даже об эвакуации Петербурга, где слышались выстрелы с шведской флотилии.
Эта переписка служила ей не только для маскирования ее настроения, но и для ретушевки самих фактов, которые она не желала выставлять в их действительном виде. В разгар неурожая и голода она тоном внутреннего удовлетворения описывала Вольтеру материальное довольство сытых русских крестьян, а после жестокой расправы с епископом Арсением Мацеевичем за его протест против секуляризации Екатерина писала Вольтеру: «Я простила его и удовольствовалась тем, что перевела его в монашеское звание». Переводить монаха в монашеское звание не было, разумеется, ни надобности, ни возможности и, конечно, Вольтеру не довелось догадаться, что под переводом в монашеское звание следовало разуметь ссылку Арсения под начало в отдаленный монастырь глухого севера, откуда этот якобы помилованный архиерей был затем перемещен в каменный мешок Ревельской крепости, где он и покончил свои дни.
Конечно, все такие сообщения делались не для Вольтера только, а для общественного мнения Европы, над которым самодержавно царил тогда фернейский патриарх.
Бывало и так, что Екатерина уже совершенно открыто возлагала на Вольтера поручения рекламного характера. Так, по тому же делу Арсения Мацеевича Екатерина переслала Вольтеру особую записку с просьбой опубликовать ее в Европе и уполномочила его написать, что сведения об этом событии получены им из верного источника.
Показная сторона искусства управления всегда стояла на первом плане в заботах Екатерины. Ни на минуту не покидала ее мысль — как о ней говорят, какое она производит впечатление? Боязнь неблагоприятных толков доходила у нее до мнительности. Когда в Ростове готовились к перенесению мощей Димитрия Ростовского[132] (1766 г.) и возникла мысль на некоторое время запечатать раку, Екатерина распорядилась отменить это решение, «дабы подлой народ не подумал, что мощи от меня скрылись». Во всяком деле — крупном или мелком — она прежде всего озабочивается благопристойной видимостью, а уже потом самым его существом, ибо видимость прежде всего создает толки, влияет на суждения и настроения толпы. Когда в 1768 г. было предложено устроить хлебные магазины в селениях экономических крестьян, Екатерина писала: «Настоит нужда, чтобы крестьянам хотя вид заведения магазинов открыть и уверить их, что под заботою императрицы им лучше жить, чем под управлением духовных властей». Не в том дело, чтобы благосостояние крестьян повысилось действительно, а в том, чтобы в их умах создалась уверенность в благодетельности мероприятий императрицы.
V
Все это сознательное рекламирование Екатериною ее успехов, удач и достоинств неуловимо сливалось в ней с самоуверенной убежденностью в том, что от нее может исходить только благо, что вокруг нее и под ее крылом все может лишь благоденствовать, цвести счастьем и довольством. Великие и сильные души готовы бывают вызвать против себя общий ропот, лишь бы достигнуть поставленных себе целей, которые они признают благими и нужными. Желание устранить все, могущее повредить их делу, побуждает их настойчиво отыскивать изъяны в собственной деятельности. Екатерина напротив более всего желала, чтобы вокруг нее не было никакого ропота, а упорное стремление к достижению общего блага она очень была расположена заменять уверенностью в том, что это благо уже достигнуто и что тот мир, во главе которого стоит она, есть лучший из всех возможных миров, и не признавать этого могут лишь злонамеренные и недобросовестные люди.
В этом и заключался тот природный эгоистический оптимизм, который составлял отличительную черту ее натуры. Сквозь розовое стекло этого оптимизма все, исходящее от нее, представлялось Екатерине. Никогда она не была бы способна гласно признать, что то ли иное ее распоряжение было «не осмотря учинено», как это делывал Петр Великий. Ей были чужды и те приступы сомнения в своих силах и разочарования в достигнутых результатах, которые так знакомы истинно творческим натурам.
Промахов и неудач не полагалось в формуляре ее деяний.
Известно, как плохо была налажена созванная Екатериною Комиссия депутатов для выработки проекта государственного Уложения. Это не помешало Екатерине сказать: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я заявила им: знайте, вот каковы мои начала, теперь вы скажите свои жалобы, где башмак жмет вам ногу? Мы постараемся это поправить: у меня нет системы, я желаю только общего блага».
Великолепные образцы самоуверенности находим в «Записках» Екатерины о ее первых шагах на поприще управления и о ее первых распоряжениях в сенате. По этим сообщениям выходит, что молодая государыня, словно по какому-то наитию, мгновенно разрешала труднейшие вопросы государственной практики, перед которыми становились в тупик поседевшие на службе сенаторы.
В июне 1763 г. в сенате в присутствии Екатерины обсуждался вопрос о производстве новой ревизии. Сенаторы говорили о том, с какими трудностями сопряжено это дело, сколько будет споров, побегов, утаек, какие сложные нужны учреждения для проведения ревизии. Екатерина же нашла, что все можно сделать очень просто. Она сказала: «Пусть каждое селение само пошлет ведомость о числе душ в уездную воеводскую канцелярию, канцелярии пусть перешлют эти ведомости в губернии, а губернии — в сенат».
Надо думать, что старые сенаторы и без этого указания хорошо знали тогдашний порядок административных инстанций, но они заявили, что при таком собирании ревизионных ведомостей утаенных душ будет бесчисленное множество. Екатерина немедленно нашла выход, сказав: «Тогда простите всех прежних утайщиков и велите селениям внести всех прежде утаенных в нынешние ревизские сказки». И Екатерина прибавляет к этому рассказу в своих «Записках»: «И доныне ревизии так делаются и прописных душ нет и о них не слышно». Екатерина верила в это, ибо ей хотелось, чтобы было так.
Этот эгоистический оптимизм, в котором было столько же преднамеренного расчета, сколько и непроизвольного влечения к самоудовлетворенному спокойствию души, побуждал Екатерину находить утешительные стороны даже в несомненных общественные бедствиях. Конечно, Екатерина была слишком умна, чтобы не замечать темных сторон в окружающей ее действительности. Но, замечая их, она от них отмахивалась софизмом или каламбуром, которым старались придать вид серьезного рассуждения. «Меня обворовывают, — писала она г-же Бьелке в 1775 г., — так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть, что воровать».
Редко-редко на ее настроение набегали тучки унылого малодушия, но она быстро сметала их, и горизонт ее душевной жизни вновь сиял лазурью спокойного самодовольства. Кто бы ни решился выступить с открытой критикой ее правления, она ставила над ним крест, как над человеком пустым и не заслуживающим серьезного внимания. После того как Рейналь[133] заметил, что Екатерине много не удается, она стала называть его ничего не стоящим писателем. Когда Тюрго[134] и другие французские экономисты подвергли критическому разбору ее Наказ и доверчиво прислали ей этот разбор, она обозвала их дураками и вредными для государства сектантами.
Несокрушимая уверенность в неизменном успехе всех своих начинаний давала ей решимость выступать на самых разнообразных поприщах, не смущаясь отсутствием надлежащей подготовки. В форме Наказа для Комиссий депутатов она написала целый политический трактат, в котором при помощи отпрепарированных для своих целей цитат из «Духа Законов» Монтескье[135] она изложила общие принципы своего политического мировоззрения. Она составляла обширные узаконения и уставы, большею частью заправленные эффектными общими сентенциями, но оставляющие желать многого по части юридической систематики и точного выражения основных определений. Всю жизнь не выпуская пера из рук, она выступала и в качестве плодовитого драматурга, и в роли неутомимого журнального фельетониста, бралась и за изложение древних летописей, и за составление сравнительного словаря всех языков и проч., и проч.
Все это не лишено таланта, порою дилетантски наивно (изыскания филологические), порою беспомощно-примитивно (подражание шекспировским историческим хроникам), порою бойко и броско (комедии из русского быта и фельетоны во «Всякой всячине»[136]). Но все это не возвышается над уровнем посредственности, все это хорошо ровно настолько, чтобы не спуститься ниже общепризнанных литературных потребностей своего времени. Этот всеобъемлющий дилетантизм выражал натуру бодрую, жадную до впечатлений бытия, но направленную именно на вбирание в себя всей полноты этих впечатлений и гораздо менее — на борьбу с окружающей действительностью во имя собственного творческого замысла.
Эти личные свойства Екатерины и оказались как нельзя более подходящими к той очередной политической задаче, которую Екатерине пришлось осуществлять у кормила правления. То была задача оформления и закрепления процессов, уже достигших к этому времени в русской жизни полного развертывания. Екатерина подыскала и установила определенные юридические формы для того вида сословно-дворянской монархии, который получился в результате социально-политической эволюции, наполнившей эпоху преемников Петра Великого. Завершив организацию этой русской сословно-дворянской монархии XVIII столетия, Екатерина сумела сообщить ей тот культурный лоск и блеск, которого вообще можно было достигнуть при тогдашнем уровне русской монархии XVIII столетия. Можно смело сказать, что удачному выполнению такой задачи содействовали не только достоинства и таланты Екатерины II, но и самые недочеты и слабости, которые были свойственны ее натуре.
ПОТЁМКИН
Печатается по изданию:
Кизеветтер А. А.
Исторические силуэты: Люди и события.
Берлин: «Парабола», 1931. С. 93–123.
I
За время первой турецкой войны и революции во дворце Екатерины II произошли некоторые события, на первый взгляд, чисто личные, домашние, но на самом деле имевшие политическую подкладку и политические последствия. Екатерина за это время дважды переменила фаворитов. В 1772 кончился десятилетний фавор графа Орлова. На два года его заместил Васильчиков. В 1774 г. Васильчиков должен был очистить место новому фавориту — Потёмкину. В течение долгих последующих лет новые и новые фавориты сменяли друг друга бесконечной вереницей, не оставляя своими возвышениями и падениями никаких следов в направлении государственных дел.
Но в альковных переворотах 1772 и 1774 годов отобразились некоторые поворотные моменты скрытой борьбы придворных групп и кружков. Смена фаворитов явилась тут своего рода суррогатом смены кабинетов.
«Орлов в век бы остался, если бы сам от меня не отошел», — писала Екатерина в «Чистосердечной исповеди», составленной ею для Потёмкина. И точно, в день отъезда Орлова на Фокшанский конгресс Екатерина узнала о его сердечной измене, о его связи с кн. Голицыной. Этим самым роман Екатерины с Орловым оборвался. Впрочем, этот разрыв подоспел для Екатерины как раз вовремя. Он дал ей возможность легко и удобно сгладить создавшееся для нее как раз в это время трудное политическое положение. В 1772 г. исполнилось совершеннолетие ее сына Павла Петровича. То был для Екатерины если и не критический, то все же довольно острый момент: ведь в связи с наступлением совершеннолетия Павла возникал повод к пересмотру вопроса о правах Екатерины на захваченный ею престол. А Екатерине было хорошо известно, что среди близких к ее трону сановников имелась целая группа таких лиц, которые могли пожелать воспользоваться этим поводом в интересах цесаревича. Эту группу возглавлял воспитатель цесаревича Никита Панин[137]. Для Екатерины было в высшей степени важно во что бы то ни стало предотвратить какие бы то ни было проявления политических настроений панинской группы. Для этого ей нужно было притупить острие недовольства этого кружка положением, создавшимся в 1772 году, нужно было перекинуть какой-нибудь мост между собою и людьми, окружавшими цесаревича. Разрыв с Орловым и открывал для Екатерины возможность выйти из деликатного положения самым простым способом: переменою фаворита. Покои Орлова во дворце занял теперь человек, близкий к панинской группе. Новый избранник Екатерины — Васильчиков — представлял собою красавчика с добродушным нравом и пустою головою. Это было безличное ничтожество с привлекательною наружностью. Для Екатерины он был не более как куклой, пригодной для некоторого рассеяния в момент душевной тоски по утраченному счастью. Личное ничтожество Васильчикова подавало Никите Панину надежду на то, что теперь он, Панин, приобретет безусловное влияние в сфере государственных дел и что с устранением соперничества Орловых руки у него будут развязаны. Однако этой надежде не суждено было осуществиться.
Екатерина и в мыслях не имела потворствовать установлению всевластия Панина. Самое сближение ее с Васильчиковым не могло быть продолжительным: для этого уж слишком ничтожен был новый фаворит. Орлов, вернувшись с Фокшанского конгресса, пытался было вновь играть некоторую роль. Но с Орловым у Екатерины все уже было покончено.
Вокруг Екатерины образовалась как бы пустота. Между тем надвигались грозные события. Война с Турцией затягивалась. Начатые мирные переговоры не налаживались. А за Волгой разгоралась пугачевщина. Екатерина чувствовала потребность в надежном советнике и помощнике. Ей нужен был человек, который мог бы явиться одновременно и другом сердца, и серьезным сотрудником в государственных делах.
Такой именно человек давно уже был на примете.
Григорий Александрович Потёмкин родился в 1736 году, в семье отставного полковника, проживавшего в своем поместье в Духовщинском уезде Смоленской губернии. Рано потеряв отца, Потёмкин был взят на воспитание двоюродным дядей — Кисловским, который занимал пост президента Камерколлегии, на ту пору помещавшейся в Москве. Дядя определил Потёмкина сначала в частную школу в Немецкой слободе, затем в Московский университет. В то же время Потёмкин был записан на службу в конную гвардию.
Он обнаружил смолоду умственную даровитость и любознательность. Он с жадностью пожирал всевозможные книги. В то же время он водил близкое знакомство с высшим духовенством, прекрасно знал богослужение, интересовался богословскими вопросами. Червь честолюбия точил его душу. Его преследовала мечта занять какое-либо высокое положение. Но он сам еще не знал, куда направить свои честолюбивые стремления. Университетские учебные занятия шли у него весьма неважно и, наконец, он забросил их до такой степени, что в 1760 году был вместе со знаменитым впоследствии Новиковым[138] исключен из университета «за леность и нехождение в классы».
В это время ему пришел на помощь архиепископ Амвросий. Получив от епископа 500 руб. на дорогу, Потёмкин отправился искать счастья в Петербург. Там он был принят на службу в ординарцы к принцу Георгу Голштинскому. По-видимому, он имел какое-то отношение к той группе гвардейцев, которая под руководством Орловых подготовляла дворцовый переворот в пользу Екатерины. В день переворота Потёмкин оказал Екатерине какую-то личную услугу и потом конвоировал карету низложенного императора из Ораниенбаума в Петергоф.
Описывая Понятовскому эти дни, Екатерина упомянула и об участии Потёмкина в событиях, сопровождавших ее воцарение, отметив, что он проявил мужество и энергию. В списке лиц, награжденных за переворот, встречаем и Потёмкина, впрочем, на одном из последних мест.
В августе 1763 года Потемкин получил назначение на службу при Синоде, причем Екатерина снабдила его особой инструкцией. Очень противоречивы наши сведения о положении Потемкина в Петербурге в это время, в одних дошедших до нас рассказах, правда усеянных налетом анекдотичности, передается о буйных ссорах Потемкина с Орловыми, доходивших даже до драки, причем этими драками объясняют и потерю Потемкиным одного глаза (на самом деле глаз был потерян вследствие какой-то болезни). Но другие показания, к которым относится и одно из писем самой Екатерины, свидетельствуют, наоборот, о дружеских отношениях между Потемкиным и Орловым и о том, что Орлов горячо восхвалял Потемкина перед императрицей. Несомненно одно: Потемкин за это время бывал при дворе и был замечен Екатериной и за его внушительную наружность — Потемкин в противоположность Орлову не отличался красотой, но обращал на себя внимание громадным ростом и богатырским сложением, и за его умственную одаренность.
Когда открылась комиссия по составлению проекта Уложения (1767 г.), Потемкин принял участие в ее работах. Его избрали там опекуном депутатов от инородцев и, кроме того, он состоял членом духовно-гражданской комиссии. С началом первой войны с Турцией[139] Потемкин отправился на театр военных действий. Причисленный к армии Румянцева[140], он участвовал во многих сражениях, проявил вполне удовлетворительные военные способности, хотя и не совершил ничего значительного. Екатерина не теряла его из виду и, как кажется, время от времени переписывалась с ним. И когда ее роман с Орловым оборвался, оставив на ее сердце осадок горечи, когда ей наскучил Васильчиков, когда она не знала, на кого опереться среди государственных забот и тревог, тогда неотразимо обаятельным представился ей образ этого богатыря, от которого веяло недюжинным умом и духовной силой, который не уклонялся от милостей императрицы, но и не искательствовал перед нею, спокойно выжидая наступления своего часа.
Екатерина решила, что она нашла человека, который один заменит и Орловых и Паниных, на которого можно будет положиться, как на каменную гору, и в личных переживаниях неутомимо-беспокойного сердца, и в тяжелых заботах политических. В это самое время за Потемкина замолвила слово перед Екатериной находившаяся в дружбе с императрицей графиня Брюс, сестра фельдмаршала Румянцева, который враждовал с Орловыми.
И вот 4 декабря 1773 года из Петербурга под Силист-рию, в осаде которой тогда участвовал Потемкин, полетело письмо Екатерины, в котором Потемкин прочитал строки, не оставлявшие сомнения в том, что в судьбе его готовится знаменательная перемена. Екатерина писала: «Господин генерал — поручик и кавалер! Вы, чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать и хотя и по сю пору не знаю, преуспела ли бомбардировка, но тем не менее я уверена, что все то, что вы сами предприемлете, ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос — к чему оно писано? На сие вам имею ответствовать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна».
Вскоре Потемкин был уже в Петербурге и 27 февраля 1774 г., конечно, по предварительному соглашению с императрицей, он подал ей формальное прошение о назначении его генерал-адъютантом. 20 марта 1774 г. жена фельдмаршала Румянцева писала мужу из Петербурга: «Васильчиков вчера съехал из дворца; теперь, мой свет, адресоваться к Потемкину». А в письме Фон-Визина[141] к Обрезкову[142] от 20 марта 1774 г. читаем: «Камергер Васильчиков выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником. Sapienti sat[143]».
Так начался потемкинский период Екатерининского царствования.
История отношений Екатерины и Потемкина имела свои перипетии. В ней можно различить три периода. Сначала два года интимной связи (1774–1776), во время которых Екатерина переживала страстное увлечение своим «богатырем» вместе с чувством радостного сознания, что миновали докучливые препирательства между Орловыми и Паниными и настала пора, когда во всех вопросах можно стало положиться на единственного советника, умного, надежного, преданного. В 1776 г. «роман» кончился. И на этот раз, как было и с Орловым, сердечная измена шла не от Екатерины. Но вместе с «романом» не кончился фавор Потемкина. Он только вступил в свой второй фазис, растянувшийся на 13 лет (1776–1789). За все эти годы Потемкин остается ближайшим другом Екатерины, довереннейшим ее советником, второю после нее персоною на государственной сцене России. Даже любовные утехи Екатерины за все это время не выходят из-под руководящего надзора Потемкина. С 1789 г. положение Потемкина еще раз существенно изменяется. В первый раз после того, как кончился «роман» с Потемкиным, Екатерина избрала себе фаворита не по уговору с Потемкиным, а прямо наперекор ему. Фаворитом стал Платон Зубов. Потемкин был далеко, на Дунае, а Зубова выдвинули враги Светлейшего. Узнав о том, Потемкин хмурится, тревожится, говорит, что ему надо скакать в Петербург «выдернуть зуб». Он и прискакал. В 1791 г., появившись в Петербурге, он дает в честь Екатерины знаменитый праздник в Таврическом дворце, поражающий современников сказочной, феерической роскошью. Екатерина принимает этот праздник, осыпает Потемкина знаками благоволения, но дает ему определенно понять, что прошлое миновало безвозвратно. Потемкин возвращается на юг и через несколько дней умирает.
Как ни были различны отношения Екатерины к Потемкину в эти три периода, тем не менее Екатерина неизменно сохраняла веру в этого человека как в своего лучшего советника и помощника. Эта вера не была в ней поколеблена даже и в последние годы жизни Потемкина, даже и при начавшемся фаворе Зубова. «Я без тебя, как без рук», — вот постоянный припев ко всем письмам Екатерины к Потемкину, когда он бывал далеко от Петербурга. Когда во время второй турецкой войны[144] произошел разрыв и с Швецией, и Екатерина не знала, как поступить с эскадрой Грейга[145], отправить ли ее в Средиземное море, или задержать ее для охраны Петербурга, она писала Потемкину: «Если бы ты был здесь, я бы решилась в пять минут, что делать, переговоря с тобою». Смерть Потемкина, несмотря на охлаждение их отношений в последнее время, повергла Екатерину в глубокую печаль, в которой наибольшую роль играло именно сознание незаменимости Потемкина как сотрудника и советчика. Храповицкий[146] записал в своем дневнике, что Екатерина, получив известие о кончине Потемкина, пришла в отчаяние. Ей пришлось пустить кровь. На следующее утро, лишь только она проснулась, ее первые слова были: «Теперь не на кого опереться». В письме к Гримму[147] она писала: «Князь Потемкин сыграл со мною злую шутку, теперь вся тяжесть правления лежит на мне одной». В другом письме к тому же Гримму она говорит: «Страшный удар разразился над моей головой… мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин Таврический умер… Это был человек высокого ума, редкого разума, превосходного сердца… у него были качества, встречающиеся крайне редко и отличавшие его между всеми другими, у него были смелый ум, смелая душа, смелое сердце, благодаря этому мы всегда понимали друг друга».
II
О Потемкине до нас дошли самые разнородные отзывы и суждения. Это вполне естественно: слишком многогранна была его натура и слишком много поводов давала она как для восхвалений, так и для порицаний. Что же это был за человек?
Как бы ни судить о нем, одного нельзя не признать: его личность была крайне своеобразна. Екатерина недаром писала ему: «Ты ото всех отличен, у тебя все свое». Однако надо отдать себе отчет в том, какого рода была оригинальность Потемкина. Сравните в этом отношении Потемкина с Суворовым. У Суворова каждое слово и каждое действие поражало неожиданной самобытностью, гениальной творческой изобретательностью. Всегда и во всем Суворов шел своей особенной дорогой, им самим пролагаемой. Потемкин не был гением и не изобретал незнаемых другими путей. Своеобразие его личности состояло в ином: в том, что вся она была соткана из разительных противоречий. Эту особенность Потемкина прекрасно очертил принц де Линь[148], в отличие от многих относившийся к Потемкину с большой объективностью, ценивший его достоинства и не упускавший из виду его недостатков. «Это самый необыкновенный человек, какого я когда-либо встречал, — писал де Линь о Потемкине, — с виду ленивый, он неутомимо трудится… он вечно валяется в постели, но не спит ни днем, ни ночью; его вечно тревожит желание угодить императрице, которую он боготворит… трусливый за других, он сам очень храбр, он стоит под выстрелами и спокойно отдает приказания. При всем том он напоминает скорее Улисса[149], чем Ахилла[150]… веселится среди опасностей и скучает среди удовольствий; несчастный от слишком большого счастья; разочарованный во всем; ему все скоро надоедает; угрюм, непостоянен; то глубокий философ, искусный администратор, великий политик, то десятилетний ребенок; он вовсе не мстителен, извиняет за причиненное ему горе, старается загладить несправедливость, воображает, что любит Бога, а сам боится дьявола, которого считает сильнее самого Потемкина; одною рукою делает знак женщинам, которые ему нравятся, другой набожно крестится; то, воздев руки, стоит перед образом Богоматери, то обнимает ими своих любовниц; императрица осыпает его милостями, а он делится ими с другими… купит имение, устроит в нем колоннаду, разобьет парк и продаст; то играет день и ночь, то не берет карт в руки; любит дарить, но не любит платить долгов; страшно богат и постоянно без гроша; недоверчив и добродушен; завистлив и признателен; скучен и весел; с генералами говорит о богословии, а с архиереями о войне; никогда ничего не читает и старается все выпытать у собеседника… он то гордый сатрап востока, то любезнейший из придворных Людовика XIV[151]; под личиною грубости скрывает нежное сердце… как ребенок, всего желает и как взрослый, умеет от всего отказываться; воздержан, хотя кажется жадным; вечно грызет ногти, яблоки или репу, ворчит или смеется, передразнивает или бранится, дурачится или молчит, посвистывает или размышляет, зовет адъютантов и ничего им не приказывает; легко переносит жару, вечно толкуя о прохладительных ваннах, и любит морозы, вечно кутаясь в шубы; появляется то в рубашке, то в мундире, расшитом золотом, то босиком, то в туфлях с бриллиантовыми пряжками, то в рваном халатишке, то в великолепном камзоле в звездах и лентах, с портретом императрицы, осыпанным бриллиантами, служащим мишенью для вражеских пуль. Сгорбленный, съеженный, невзрачный, когда остается дома, он горд, прекрасен, величественен, когда является перед своими войсками, точно Агамемнон[152] в сонме еллинских царей».
Где же ключ ко всем этим противоречиям?
Все они сводятся к одному основному, которое всего резче бросалось в глаза современников Потемкина и все более поражало их. Это — соединение непомерного честолюбия и влечения к роскошным жизненным благам с частыми приступами глубокой апатии, бездонной тоски, омертвелости всего духовного существа, презрения к почестям и чувственным наслаждениям. Движимый честолюбием, Потемкин мог развивать неутомимую рабочую энергию. Тогда он скакал день и ночь в походной кибитке, перелетая чуть ли не с быстротою птицы громадные расстояния. Тогда он исписывал вороха бумаги, набрасывая на бумажные листы прямо у себя на колене докладные записки, приказы, письма, инструкции и т. д. Тогда в его умной голове кипели широкие замыслы, смелые идеи, восхищавшие Екатерину. И вдруг посреди всего этого наступал мертвый штиль, и Екатерина по неделям не могла дождаться от Потемкина ни одной строчки, хотя бы обстоятельства требовали немедленных ответственных решений. И тогда Потемкин превращался в сластолюбивого сибарита, дела забрасывались, баловень счастья погружался в любовные наслаждения, не зная предела чувственной распущенности, он жил поочередно со всеми своими племянницами, не считая других многочисленных связей, и тратил неисчислимые суммы на устройство празднеств, затмевавших роскошью и блеском самые смелые измышления восточного эпоса: праздник, данный им в честь Екатерины в Таврическом дворце в 1791 г., поразил привыкших к придворной роскоши современников, словно волшебное видение. Не менее знамениты были праздники, которые он устраивал в честь избранниц своего сердца в походном лагере в виду осажденного Очакова. Осада тянулась бесконечно. Екатерина не могла дождаться, когда с Очаковым будет покончено, Суворов предлагал свои услуги, чтобы взять крепость штурмом, а Потемкин не двигался, затягивал осаду, а между тем превратил свой лагерь в какой-то блестящий двор как бы владетельного князя, где наряду с толпою именитых иностранцев было собрано многочисленное дамское общество, и в вырытых подземные галереях, превращенных в сказочные чертоги, пиры сменялись пирами, праздники следовали за праздниками, музыка гремела, составлялись кадрили в несколько сот пар и после роскошного ужина дамам подносили вместе с десертом хрустальные чаши, наполненные бриллиантами, и дамы черпали их оттуда целыми ложками. Для безумных трат Потемкина не было тогда предела. Однажды у княгини Долгорукой, по которой вздыхал тогда Потемкин, не оказалось бальных башмаков, которые она обыкновенно выписывала из Парижа. И из-под Очакова поскакал за ними курьер, скакал день и ночь, и к нужному сроку башмаки лежали у ног княгини. Другая избранница Потемкина, г-жа Витт, была охотницей до кашемировых шалей. Узнав об этом, Потемкин дал праздник, на который было приглашено двести дам. После обеда была устроена беспроигрышная лотерея, каждая дама получила кашемировую шаль, и самая дорогая, разумеется, досталась г-же Витт.
И вдруг пиры надолго замолкали. Роскошные залы стояли пустыми, а Потемкин целыми неделями, нечесаный, неумытый, недвижимо лежал на диване, питался только квасом и репой, не произносил ни слова или выходил к приближенным на босу ногу, в старом халате, насупленный и мрачный, и говорил только о том, что пойдет в монахи и отречется от света. И тогда никакая сила, даже прямой приказ Екатерины, не мог принудить его написать хотя бы одну строчку, поставить подпись хотя бы под одной бумагой.
Нередко в этих резких переходах хотели видеть проявление какой-то философской глубины, какой-то особой духовной силы. Такое объяснение рисует Потемкина выше его действительного духовного роста. Дело объясняется проще. Эти отливы жизненной энергии были результатом пресыщенности беспредельной удачей, доставшейся ему без труда, без испытаний и препятствий. Метко выразился де Линь, сказав, что Потемкин «несчастлив от слишком большого счастья».
Основной чертой Потемкина было его честолюбие без границ. Но демон честолюбия может плодотворно действовать на человека и беспрерывно держать его на высоте бодрой энергии лишь при наличии в душе человека ясного стремления к определенным целям, природной склонности к определенной деятельности или стойкой преданности определенному идеалу. Ничего этого не было у Потемкина. Он был снедаем честолюбием беспредметным, он хотел стоять выше всех неизвестно ради чего, просто ради власти и почета, с которыми он сам не знал, что делать. При таких условиях единственным спасением для него было бы появление на его пути к власти всевозможных препятствий. Тогда самая борьба с этими препятствиями воспламеняла бы его честолюбивую душу к упорным усилиям, которые не давали бы ему застывать в дремотной апатии. Но препятствий не оказывалось. Судьба предательски поставила его сразу лицом к лицу с полным осуществлением всех его желаний. Стоило ему шевельнуть пальцем, и любая его прихоть удовлетворялась в ту же минуту.
Человек идеи знал бы, куда и на что направить такую власть. Человека без определенной жизненной задачи такое положение неминуемо обрекает на пресыщение и скуку. И Потемкин познал ужасную болезнь души, состоящую в отсутствии желаний. В письменном отзыве о Потемкине одного из современников (письмо Эстергази[153] к жене) находим знаменательное указание. «Потемкину, — писал Эстергази, — ставят в вину его леность, страсть к богатству и роскоши, чрезмерное уважение к собственной личности и разные причуды, до такой степени странные, что иной раз рождалось сомнение, в своем ли он уме. От всего этого он скучал жизнью и был несчастлив, и ты легко поймешь это: он не любил ничего».
Так, приступы апатии и хандры, когда свет становился не мил Потемкину, проистекали у него не из богатства духа, не от повышенных запросов от жизни и предназначения человека, а от духовной опустошенности, от незнания, что делать со своей властью и богатством. Однажды сам Потемкин очень ясно указал на то, что истинный источник его тоски состоял в том, что ему никогда не довелось испытать наслаждения борьбы за счастье.
«Как-то раз, — рассказывается в мемуарах Энгельгардта[154], — князь за столом был очень весел, но вдруг его лицо омрачилось и он сказал: «Может ли человек быть счастливее меня? Всего, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием. Хотел чинов — имею; орденов — имею; любил играть — проигрывал суммы несметные; любил давать праздники — давал великолепные; любил покупать имения — имею; любил строить дома — строил дворцы; любил дорогие вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких… словом, все страсти мои в полной мере выполняются», — и при этих словах он ударил кулаком по фарфоровой тарелке, тарелка разбилась, а он с расстроенным лицом ушел в опочивальню и заперся там».
Этот образ духовной немощи производил бы отталкивающее впечатление, если бы одна черта не примиряла нас с Потемкиным: он умел быть великодушным и не чувствовал потребности срывать на людях своей неудовлетворенности жизнью. «Он никому не желал зла», — писала Екатерина. И нам известны факты, показывающие, что он был чужд злопамятства и мстительности. Державин, позволивший себе в оде «Фелица»[155] несколько колких шуток по адресу Потемкина, весьма побаивался дурных для себя последствий. Однако Потемкин после этого обошелся с поэтом с ласковой приветливостью. Для знаменитого потемкинского праздника в Таврическом дворце Державин написал хоры, в которых Румянцеву отдана была равная честь с Потемкиным. Тогда между временщиком и поэтом пробежала тень, но не надолго, вскоре Потемкин по-прежнему стал ласков с Державиным, и последний в своих мемуарах написал про Потемкина: «Должно справедливость отдать князю Потемкину, что он имел весьма сердце доброе и был человек отлично великодушный». Военные триумфы Суворова не возбуждали зависти в Потемкине. Потемкин осыпал Суворова хвалами за его подвиги во время второй турецкой войны. Правда, Суворов справедливо был обижен тем, что его выходящий из ряду, почти невероятный подвиг по взятию Измаила, подвиг, на какой, по словам самого Суворова, можно решиться только один раз в жизни, не был оценен Потемкиным по достоинству. Это испортило отношения между ними. Однако не видно, чтобы Потемкиным двигало при этом чувство зависти, и Суворов сам, несмотря на размолвку, продолжал отдавать должное Потемкину, почтив его по его смерти отзывом, который в уставах Суворова чего-нибудь да стоил: «Великий человек и человек великий, — сказал Суворов про Потемкина, — велик умом, высок и ростом, не походил на того высокого французского посла в Лондоне, о котором лорд Баков сказал, что чердак обыкновенно плохо меблируют». Мы можем привести еще более значительный пример великодушия Потемкина. Отставной гусар Пасечников был отдан под суд за дерзкие хулы на Екатерину и Потемкина.
Суд приговорил Пасечникова к смертной казни. Потемкин распорядился заменить казнь заключением Пасечникова в монастырь.
Таков был этот человек: в одно и то же время баловень счастья и жертва чрезмерной благосклонности судьбы, изведавший все наслаждения жизни и нашедший на дне их горький осадок мрачной тоски; благожелательный к людям и, однако, либо смотревший на них, как на орудия для удовлетворения своих прихотей, либо убегавший от них с неудовольствием и скукой в отравленное тяжким унынием уединение.
Каковы же были государственные заслуги этого человека? Стоял ли он на уровне той власти, которую отмерила ему судьба?
III
О государственной деятельности Потемкина нередко судили и судят вкривь и вкось. Очень распространено мнение, низводящее Потемкина на степень ловкого престидижитатора, весь успех которого заключался в умении отводить глаза. Главным основанием такому мнению служат рассказы саксонского дипломата Гельбига о знаменитом путешествии Екатерины в Крым, предпринятом для обозрения результатов деятельности Потемкина по устроению юга России. Большой успех у читающей публики имели рассказы Гельбига о том, как Потемкин отводил глаза Екатерине видом зажиточные селений, на самом деле не существовавших, а наскоро сколоченных из картона к проезду императрицы или просто намалеванных на полотнах в отдалении от дороги, видом народных скопищ, нарочно перегоняемых с места на место, и т. п. Серьезному историку приходится все эти рассказы снять со счетов. О том же путешествии Екатерины мы имеем сведения от принца де Линя, беспристрастного наблюдателя деятельности Потемкина. Принц де Линь, участвовавший в этом путешествии, решительно опровергает анекдотические наветы Гельбига. Конечно, путешествие императрицы было обставлено торжественной помпой, немалую роль играли при этом и разного рода декорации, эмблемы, арки, триумфальные ворота, народные скопища, но все это были обычные в те времена атрибуты августейших путешествий, которые вовсе не имели характера злонамеренной инсценировки несуществующего благосостояния края. Да и не так-то было бы легко провести Екатерину в этом отношении столь наивными приемами. Ведь она сама была великим мастером рекламного муссирования достигаемых ею успехов, и секреты подобных инсценировок были ей хорошо знакомы. Имеются и прямые указания на то, что она при обозрении объезжаемых ею областей во время этой поездки вовсе не была расположена слепо отдаваться первым впечатлениям, но озиралась кругом себя критическим оком и проверяла доходившие до нее толки. Так, из Кременчуга она писала Еропкину[156]: «Здесь нашла я треть конницы той, про которую некоторые знающие люди твердили, будто она лишь счисляется на бумаге, а в самом деле ее нет, однако же она, действительно, налицо». В письме ее к Салтыкову читаем: «Здесь я нашла легкоконные полки, про которых Панин и многие старушенки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не картонные, а в самом деле прекрасные».
Екатерина осталась чрезвычайно довольна тем, что предстало ее глазам в устрояемой Потемкиным Новороссии. «Я могу сказать, — писала она Еропкину, — что мои намерения в сем крае приведены в исполнение до такой степени, что нельзя оных оставить без достодолжной хвалы». И однако Екатерина вполне отдавала себе отчет в том, что все это пока лишь начатки, лишь сырье, а настоящих плодов приходится ожидать в будущем. «Хорошо видеть сии места своими глазами, — писала она Еропкину, — все делается и успевает… польза окажется со временем».
Одна крайность всегда вызывает другую, и низведение государственной деятельности Потемкина на степень какого-то беспардонного шарлатанизма вызывало против себя попытки представлять Потемкина государственным человеком перворазрядной величины, унесшим с собою в могилу какие-то великие замыслы, не понятые современниками и все еще не разгаданные и потомством. Писатели, так настроенные, стараются очистить память Потемкина от всяких упреков, оправдать без исключения недочеты и пробелы в его деятельности, представить его солнцем, даже без пятен.
Историческая истина лежит далеко от обеих этих крайностей.
Умственная даровитость Потемкина бросается в глаза и недаром она продолжала держать Екатерину под властью своего очарования, несмотря на разрыв их романтических отношений. Оплакивая кончину Потемкина, Екатерина в письме к Гримму высказала восхищение его смелым умом. И в самом деле, Потемкин был способен составлять смелые планы, в которых чувствовался широкий размах и порою светилась гуманная мысль. Но было бы чрезвычайным преувеличением приписывать этим планам значение открытия новых горизонтов в области государственной политики. Мы вовсе не находим в них проблесков творческого гения, ибо практическое здравомыслие, соединенное с гуманными побуждениями, вещь сама по себе очень почтенная, но еще не образующая гениальности. Военная реформа, проведенная Потемкиным, его либеральное отношение к вопросу о веротерпимости и отчасти к крепостному праву, делают честь просвещенности его взглядов, так же, как его старания по заселению Новороссии и поднятию ее культуры обличают в нем человека, умевшего понять очередные нужды развивавшегося государства. Но во всем этом не было ничего такого, что можно было бы подвести под понятие гениального откровения. При том же не следует преувеличивать самостоятельности идей Потемкина. Не зря Екатерина называла его «своим учеником». И как ни нуждалась Екатерина в советах и указаниях Потемкина, как ни высоко ценила она его сотрудничество, все же их переписка по государственным вопросам вовсе не рисует нам безраздельной подчиненности Екатерины руководительству Потемкина. Как раз наоборот: перевес духовной силы остается на стороне Екатерины, она держится вполне самостоятельно и нередко поступает по-своему. Иосиф II[157] после поездки в Россию говорил: «Екатерина и Потемкин в политике совсем не то, что думают… У Потемкина мало сведений, и он очень ленив. Императрица любит обращаться с ним, как со своим учеником в политике, или, по крайней мере, так говорит о нем. Следовательно, это — человек, который вместо того, чтобы руководить другими, скорее сам нуждается в руководстве. Императрица любит говорить: «Он мой ученик, мне обязан всем своим пониманием дел».
Широко распространено мнение, что наиболее пышный план Екатерины в области внешней политики — план изгнания турок из Европы и восстановления греческой империи с Константином Павловичем[158] на ее престоле был внушен Екатерине Потемкиным и составлял одно из ярких проявлений смелых полетов его мысли. Факты не подтверждают этого мнения.
Так называемый «греческий проект» был написан не Потемкиным, а Безбородкой[159]. Мысли, легшие в его основу, высказывались еще Орловыми, до начала фавора Потемкина, и Потемкин относился к этим мечтаниям гораздо сдержаннее Екатерины. Самый вторичный разрыв с Турцией, вызвавший вторую турецкую войну, был предпринят помимо Потемкина и вопреки его намерениям, ибо он находил этот шаг еще преждевременным и полагал, что Россия к нему еще не подготовлена.
Самой крупной заслугой Потемкина надлежит признать его преобразования по военной части. Здесь всего явственнее выступают светлые стороны его ума. Он, можно сказать, доблестно восстал против того нелепого и отяготительного маскарада, жертвою которого являлись тогда русские солдаты в угоду нелепому подражанию прусским образцам. Проведенная Потемкиным реформа военного обмундирования вызвала вздох облегчения во всей армии и сыграла не последнюю роль в той популярности, которою Потемкин пользовался среди солдат. «Завивать, пудриться, плести косы, — писал Потемкин в докладной записке, — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет.
На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал и готов».
Простые мысли, самоочевидные истины! Но слишком хорошо известно, что именно таким-то простым истинам всего труднее пролегать себе путь сквозь терновник затхлых предубеждений, и требуется особенная сила и смелость ума для преодоления закоренелых предрассудков, стоящих поперек дороги здравого смысла. Благодаря Потемкину русский солдат получил удобную, свободную и благообразную форменную одежду. Эта перемена вызвала такое одобрение солдат, что появилась даже солдатская песня, посвященная ее восхвалению. Не меньшее значение придавал Потемкин заботам о смягчении наказаний, которым подвергали солдат. Он вел настойчивую борьбу с казарменными жестокостями. «Господам офицерам, — гласили его многочисленные приказы, — главным командирам внушить, чтобы с людьми обходились со всевозможной умеренностью, старались бы о их выгодах, в наказаниях не преступали бы положенного, были бы с ними так, как я, ибо я их люблю, как детей».
Строго воспрещал Потемкин употребление солдат на частные работы. Снабжение солдат пищею и одеждою в необходимом количестве составляло предмет постоянной заботы Потемкина. В 1788 г. он утвердил особые санитарные правила для войск. Для наблюдения за искоренением различных злоупотреблений в армии Потемкин восстановил институт военной инспекции, когда-то учрежденный Петром Великим.
Просвещенная мысль Потемкина явственно проступает в его нередких выступлениях в пользу различных облегчений для раскольников. Отстаивая начала веротерпимости в этом вопросе, он иногда шел далее Екатерины и встречал отпор с ее стороны. Надо, впрочем, отметить, что облегчения для раскольников интересовали Потемкина всего более в связи с главным его делом, в связи с мероприятиями по заселению Новороссии.
Все, писавшие о Потемкине, с полным основанием выдвигали на первый план деятельность Потемкина по устройству Новороссийского края и Крыма, и та или иная оценка этой именно деятельности получала решающее значение и для общей характеристики его государственных заслуг. Панегиристы Потемкина находят здесь главное подтверждение его гениальной прозорливости и высокий образец его административных талантов. Наоборот, порицатели Потемкина как раз в этой области его деятельности усматривают наиболее яркие доказательства дутого характера его славы: не правы ни те, ни другие.
Отрицать у этой деятельности всякую плодотворность невозможно. Так или иначе, на Черном море возник тогда русский военный флот. Так или иначе, глухой угол Новороссии был вызван к жизни, и покрылся сетью новых поселений, и один за другим возникали города Екатеринослав, Николаев, Херсон, а на Крымском берегу — Севастополь. Кирилл Разумовский[160], съездивший в 1782 г. в Херсон, описал в одном частном письме свои дорожные впечатления, и это описание явно свидетельствует о том, что не к одним показным эффектам сводилась колонизационная деятельность Потемкина. «На самой той ужасной своею пустотою степи, — писал Разумовский, — где в недавнем времени едва кое-где рассеяны обретаемы были ничего не знающие избушки, называемые от бывших запорожцев зимовниками, нашел я довольный селения верстах в 20, 23 и не далее 30, большею частью при обильных водах». Самый Херсон привлек к себе внимание путешественника множеством каменных зданий, цитаделью, адмиралтейством, обширным предместьем, обитаемым купечеством и разнородными мещанами, казармами, в которых помещалось около десяти тысяч военнослужащих. Картина дополнялась приятным видом острова, окруженного греческими купеческими кораблями и прорезанного каналами для «выгоды сих судов». Отметил Разумовский «и расчищенные и к судоходству удобные сделанные Ненасытецкие пороги с проведенным при них с невероятным успехом каналом, достойным всякого внимания и разума человеческого».
При всем том невозможно умалчивать и про то, что серьезное дело, совершавшееся в Новороссии, Потемкин окружал с избытком суетным шумом и дутым блеском. Нередко его решения были скороспелы, малопродуманны, а его проекты часто были исполнены дилетантской маниловщины. Проект устройства города Екатеринослава поразителен в этом отношении. По замыслу Потемкина, среди голой степи надлежало воздвигнуть город, который должен был украситься храмами на манер храма Св. Петра в Риме, судилище наподобие древних базилик, лавками полукружием, наподобие Пропилей[161], с биржей и театром посередине. Тут же должны были учредиться академия музыкальная, университет и 12 фабрик шерстяных, шелковых, суконная и прочее. При университете решено было строить обсерваторию. Все это писалось всерьез, на все были ассигнованы громадные суммы.
Разумеется, достигнутая действительность и отдаленным образом не напоминала этой пышной мечты, не имевшей ничего общего с серьезными задачами колонизационной политики. Приступая к постройке Николаева, Потемкин точно так же предначертал необъятно широкие планы. Собрано было несколько тысяч рабочих. Деньги тратились без счета. Фантазия Потемкина рисовала ему устройство в Николаеве колоссального аптекарского сада, мастерских для снабжения флота соленым мясом и консервами из овощей, пильных мельниц, образцовых сельскохозяйственных ферм и т. д. Но вместо всего этого в 1788 году Николаев представлял собою скопление хижин из тростника и выкопанных землянок, обитатели которых жили в ужасных гигиенических условиях. Потемкин хотел сразу двинуть всевозможные мероприятия; вызов колонистов, разведение лесов, виноградников, шелководства, учреждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей; все начиналось сразу, на широкую ногу, с громадными затратами, с великой суетой. Всякое предприятие Потемкин начинал не со скромной существенности, а с броских, пышных эффектов, которые, по существу, были излишни, и с необъятных планов, заведомо невыполнимых.
Немудрено, что все это влекло за собою немало хаотической траты и материальных средств и человеческого труда. При затрате громадных средств, конечно, в конце концов получались положительные результаты, на которые я выше уже и указал. Но эти результаты все же были слишком непропорциональны громко возвещенным первоначальным планам и затраченным усилиям. Отсюда и открывалось широкое поле и для отрицательной критики, и для анекдотических слухов, которыми еще во много раз преувеличивалась безрассудность потемкинских затей. Некоторые иностранные дипломаты, усердно подхватывавшие такие слухи и толки и включавшие их в официальные донесения своим дворам, передавали иногда необычайно нелепые вещи, например, вроде слуха о предпринимаемом по всей империи наборе нескольких тысяч девушек для выдачи их замуж за колонистов, поселенных Потемкиным в Крыму. Впрочем, порою действительность была недалека от слухов подобного рода. Возымел же как-то раз Потемкин фантазию заселить Крым преступниками и каторжниками из Англии. Наш посол в Англии, граф Семен Воронцов[162] пришел в ужас от этого плана и должен был принять особые меры для воспрепятствования его выполнению. Он вошел по этому вопросу с особым представлением к императрице и Екатерина положила запрет на эту затею своего любимца. Потемкин никогда не простил Воронцову этой своей неудачи. Нетрудно предположить, что и в этом случае мы имеем дело с выдуманным анекдотом. Но нет, об этом изумительном эпизоде мы узнаем из подлинных писем Воронцова и Безбородки.
Какое заключение вытекает из этой оборотной стороны деятельности Потемкина для его общей характеристики? Многие выводили отсюда, что Потемкин был не более, как пустой фанфарон, фокусник-мистификатор.
Вывод односторонний и несправедливый. Цели и задачи деятельности Потемкина были серьезны и отвечали потребностям государства. Но в приемах и способах, которыми он думал достигнуть этих целей, сказывались глубокие недостатки его натуры.
Потемкин слишком переоценивал всемогущество своей властной воли. Он был убежден, что достаточно мановения его руки для выполнения самых безбрежных его замыслов. Справедливо ли ставить такое самообольщение лично ему на счет? Конечно, нет. Он лишь впивал в себя ходячие идеи своего века.
Лучшие умы той эпохи с фернейским философом[163] во главе учили тому, что просвещенная власть все может, что целые страны и народы могут быть приводимы из небытия в бытие по глаголу философов-правителей. При свете таких идей отчего же бы и не разгуляться необузданной фантазии у человека, чувствовавшего себя на высоте всемогущества?
Такое умонастроение естественно направляло мысль лишь на общие контуры широких замыслов и притупляло у нее интерес к практическим подробностям, к деловой разработке этих замыслов и набрасывало пелену на многообразные затруднения и неудачи, могущие выдвинуться на пути к поставленным эффектным целям.
Потемкин и стал всецело жертвою этого популярного предрассудка своего века. Но разве не по той же самой наклонной плоскости скользила сама Екатерина и Иосиф II и многие большие и маленькие представители просвещенного абсолютизма? Различие было лишь в той мере, в которой тому или иному из них удавалось удержать себя в известных границах благоразумия. Гениальных деятелей этого типа, как Петр Великий, как Фридрих Великий, спасал именно присущий им гений, который не давал им бесплодно растекаться в несбыточных фантазиях, и наряду с широкими планами, порождавшимися размахом их творческой мысли, привлекал их внимание также и к практическим подробностям всякого их начинания, которые требовали терпеливого обдумывания («гений есть терпение» — гласит известное мудрое изречение).
Деятели меньшего калибра, как Екатерина II или Иосиф II, платили более щедрую дань слабым сторонам этого политического направления и их широковещательные планы и начинания в большей степени парили поверх действительности либо вносили в эту действительность больший хаос, большую путаницу, не будучи согласованы с реальной жизненной обстановкой.
Потемкин был не великим, а малым представителем этого течения и потому его фантазии, кажущиеся наивным людям проблесками гениальности, носили на себе сплошь да рядом печать дилетантизма со всеми неизбежными его последствиями. Александр Воронцов[164] писал брату Семену от 14 мая 1792 года про Потемкина: «Умерший ни намерений постоянных, ни планов определительных ни на что не имел, а колобродил и всякая минута вносила ему в голову новую мысль, одна другую опровергающую».
Поставленный в точные рамки подчиненной деятельности, Потемкин мог бы сделаться перворазрядной силой благодаря своей живой сообразительности. Но став всемогущим сатрапом, он не осилил такого положения, голова у него закружилась, честолюбие, ничем не взнузданное, притупило деловой глазомер, и, несмотря на несомненную остроту своего недюжинного ума, он дал меньше, нежели мог бы дать по природным задаткам своей личности. В этом — мерка его духовной силы. Для гения власть есть благоприятное условие плодотворной деятельности. Но чем меньше личность человека, тем пагубнее отражается на его делах достающаяся ему широта власти. На примере Потемкина ярко подтверждается этот психологический закон. Представлять Потемкина бессовестным мистификатором так же неправильно, как и выдавать его за непризнанного гения. Это был просто даровитый человек, настолько сильный, чтобы лучшими сторонами своей природы содействовать блеску царствования Екатерины, но и настолько слабый, чтобы отдать при этом полную дань недостаткам и порокам своего века.
Еще скромнее заслуги Потемкина в роли полководца. Его более чем годичное сидение под Очаковым, затормозившее ход второй турецкой войны, согласно осуждается военными историками. Тянулся месяц за месяцем бесконечной осады. Потемкин то утопал в роскоши сарданапаловских пиров среди лагерной обстановки, то падал духом и ошеломлял Екатерину заявлениями, что он бросит все и уйдет в монахи, — а осада Очакова все оставалась на той же неподвижной точке. На многочисленные, с разных сторон раздававшиеся упреки в бездействии Потемкин обыкновенно отвечал указанием на то, что не желает губить людей на кровопролитном штурме. Мы знаем, что Потемкину действительно были свойственны гуманные чувства по отношению к солдату. Но в данном случае аргумент о гуманности был не особенно убедителен. Бесконечная осада в зимние холода была для людей сама по себе достаточно изнурительна, а — главное — в конце концов пришлось-таки кончить дело штурмом, кровопролитность могла только увеличиться от того, что штурм был предпринят в такой момент, когда дежурный генерал объявил князю, что в лагере не осталось ни одного куска топлива, а обер-провиантмейстер добавил, что хлеба для солдат не хватит и на один день. Тогда Потемкин, наконец, решился на штурм, который вышел ужасным по размерам жертв.
Панегиристы Потемкина указывают на то, что ранее невозможно было взять Очакова. Однако Суворов готов был взяться за это дело и есть все основания полагать, что в устах Измаильского героя это предложение не было пустым звуком. Но Потемкин не внимал словам Суворова. Дело дошло до того, что 27 июля 1788 г. Суворов самовольно завязал большую схватку с турками, предпринявшими вылазку из крепости. Суворов надеялся подвигнуть этим Потемкина на штурм. Во время этой схватки принц де Линь уговаривал Потемкина атаковать другую сторону укрепления и тогда Очаков мог быть сломлен с гораздо меньшим кровопролитием, нежели это было при штурме 6 декабря. Но Потемкин не двинулся и попытка Суворова была осуждена на неудачу.
Но если бы Очаков и действительно был совершенно неприступен до того момента, когда Потемкин решился, наконец, на штурм, то и это обстоятельство не служило бы к чести военачальнических талантов Потемкина. Тогда является вопрос, нужно ли было вообще предпринимать эту осаду?
Компетентные военные историки положительно указывают, что для общего хода кампании было бы гораздо полезнее, если бы Потемкин не задерживался под Очаковым, — ибо для парализования стратегического значения Очакова достаточно было бы наблюдать Очаков отдельным отрядом, — а двинулся бы с главными своими силами к Дунаю, где успешно действовали Суворов и Румянцев, и соединился бы поскорее с австрийцами для общего наступления к Балканам.
История Очаковской осады замечательна той несокрушимой верой в Потемкина, которую проявила Екатерина, сама с нетерпением ожидавшая падения осажденной крепости. В это время наветы на Потемкина сгустились над его головой тяжелой тучей.
Екатерина сама видела по письмам Потемкина, что он впадает в какую-то затяжную бездеятельность и временами погружается в малодушие. Екатерина всячески ободряла своего друга, старалась возбудить в нем должную энергию и ни на минуту не поколебалась в своей уверенности в том, что только Потемкин может совершить все необходимое для конечного успеха и потому нужно терпеливо мириться с его недостатками. Эта вера в Потемкина, эта высокая оценка его сотрудничества крепка была в Екатерине по отношению ко всем отраслям государственной работы.
«Если бы весь мир восстал на князя, я — с ним!», — говаривала и писала Екатерина.
Я думаю, что такое отношение Екатерины к Потемкину объясняется духовным сродством их натур. Пусть Потемкин был подвержен приливам и отливам энергии и вслед за подъемом духа впадал в бездну апатии, а Екатерина никогда не теряла самообладания и даже самое тяжелое сплетение обстоятельств не могло выбить ее из седла. Все же в духовной организации этих двух людей нельзя не почувствовать много согласных струн, много родственных стихий. Оба верили в импонирующую силу широких замыслов, пренебрегая скучными деталями, и для осуществления этих планов оба спешили приводить в движение колоссальные средства прежде, чем были обдуманы со всей тщательностью возможные результаты. Оба любили поражать современников внешними эффектами, громом и блеском своих начинаний; оба гонялись за широковещательной рекламой и были убеждены в том, что громко протрубить об успехе значит почти что уже достигнуть его; оба достигали немалых результатов и в еще большей мере бросали начатое на полдороге, оставляя достигнутое в сырье и нередко в хаотической беспорядочности. Оба претендовали на размах гениальных натур и оба — чего с гениальными натурами не бывает — послушно шли незаметно для самих себя на поводу за господствующими течениями, повторяя их общие шаблоны.
Они были рождены для того, чтобы работать рука об руку, и Екатерина имела все основания сказать: «Мы с Потемкиным всегда понимаем друг друга».
Ф. В. РОСТОПЧИН
Печатается по изданию:
Кизеветтер А. Исторические отклики.
М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1915. С. 27–186.
I ЛИЧНОСТЬ РОСТОПЧИНА
Граф Ростопчин резко выделялся из круга современников своеобразный даром сосредоточивать около своего имени горячие столкновения противоположных страстей. И о других деятелях той эпохи нередко высказывались разноречивые суждения. Но ни о ком не спорили так запальчиво и страстно, как о графе Ростопчине. И вот что еще любопытно отметить: имя Ростопчина не утратило этой электризующей силы в течение целого столетия. В наши дни совершенно так же, как и при жизни графа, о нем пишут не иначе, как в возбужденном тоне, столь редком вообще в рассуждениях о лицах и событиях отдаленных эпох. Когда Ростопчин только что сошел с поприща государственной деятельности и доживал свои дни на положении полуопального вельможи, не было человека, который судил бы о его делах с хладнокровным спокойствием. Восторженные похвалы скрещивались около его имени с самыми страстными проклятиями. Граф Семен Воронцов[165], неизменно питавший к Ростопчину дружеские чувства, писал ему в марте 1813 г., что считает его главным возбудителем возвышенного патриотизма в русском народе в годину Отечественной войны. Патриотические доблести, писал Воронцов, «таились в душе русского народа, как огонь, скрытый в мировой материи, и хотя этот элемент заложен в соединениях селитры, угля и серы, он оставался бы вечно скрытым в этих соединениях, если бы прикосновение искры не заставило его проявиться во всем своем блестящем всемогуществе. Вы были той благодетельной искрой, которая возбудила к проявлению чудный нрав наших дорогих соотечественников, тех, которых называют чистокровными русскими, говорящими одним языком, исповедующими одну веру. Я могу сравнить вас только с князем Пожарским[166]. Но ваша задача была труднее, чем его. Он жил во времена, почитаемые эпохой невежества и простоты, между тем, как наше время, торжественно признанное веком просвещения и философии, более дико… Ваше дело было трудно исполнимо, но вы достигли успеха к своей славе и во благо своей страны…»[167].
Если всегда расположенный к Ростопчину Воронцов уподоблял своего друга князю Пожарскому, то наивно восторженный Сергей Глинка[168], не обинуясь, утверждал, что сам Бог послал России Ростопчина в годину тяжкого испытания: «Справедливо можно сказать, что глас Божий слышан был и в голосе народном, когда в 1812 году граф Ростопчин был назначен главнокомандующим в Москву, а на Москву смотрела Россия»[169].
Одновременно со столь пышными похвалами деятельность Ростопчина вызвала в современниках самое негодующее осуждение. После своей отставки Ростопчин не был в силах оставаться в Москве: так явственно чувствовал он тяжесть скопившейся по отношению к его личности общественной злобы. Конечно, немалую роль в этой злобе играли мотивы личной корысти. Вернувшись после ухода французов на старые пепелища, москвичи принялись подсчитывать только что понесенные материальные потери. Итоги этого подсчета, естественно, вызывали в них горькие сетования на судьбу, а человек так уж устроен, что ему всегда служит некоторым утешением возможность выражать свои сетования на судьбу в форме личных обвинений против определенного виновника своих несчастий. Этой особенности человеческой психологии Ростопчин, несомненно, был обязан многими нападками на него со стороны перенесших французский погром москвичей в таких случаях, в которых всего справедливее было бы винить общий ход событий. Недаром Ростопчин в 1815 г. записал в своем путевом дневнике, между прочим, такие строки: «Соловья я никогда не любил; мне кажется, что я слышу московскую барыню, которая стонет, плачет и просит, чтоб ей возвратили ее вещи, пропавшие во время разгрома Москвы в 1812 году. Филомелы[170] мифологии воспевали свои страдания, свою тоску и любовь. Филомелы Москвы стонут, чтобы излить свою желчь и свою хандру»[171].
Но существовал и другой источник суровых осуждений деятельности Ростопчина. Против него вопили не только те, кто в эпоху великих национальных событий не мог забыть о собственных разбитых горшках; его судили и на него негодовали также и с точки зрения широкого политического понимания и возмущенного нравственного чувства. Характернейший образчик такого отношения к Ростопчину находим в письмах М. А. Волковой[172], которая близко знала Ростопчина и его семейство, и в период московского генерал-губернаторствования Ростопчина всегда была готова отдать ему полную справедливость, как предприимчивому и распорядительному градоправителю. Были моменты, когда Волкова в своих письмах брала Ростопчина под защиту от сыпавшихся на него упреков, и эта же самая женщина писала в декабре 1812 г. после того, как ей пришлось ознакомиться с деятельностью Ростопчина во всех подробностях: «Я решительно отказываюсь от моих похвал Ростопчину», — и далее: «Я теперь ненавижу Ростопчина и имею на то причины[173]. В этом случае Волкова выражала чувства очень широких и разнообразных кругов русского общества.
Итак, либо — второй князь Пожарский и благодетельный посланник небес, либо — чудовище, достойное ненависти и презрения. Таков язык отзывов о Ростопчине, исходящих от его современников; восторг и негодование, только не хладнокровная оценка, допускающая средние, примиряющие суждения. Те же две струи, одинаково отмеченные страстным возбуждением, хотя и противоположного характера, проходят через все писания о Ростопчине, составленные во времена, более или менее близкие к эпохе его жизни и деятельности. Кости Ростопчина давно уже покоились в могиле, а люди, о нем вспоминавшие, по-прежнему не могли писать о нем иначе, как в тоне обостренной полемики: за гробом, как и при жизни, Ростопчину было суждено непрерывно возжигать около своего имени запальчивую борьбу. Из панегириков и филиппик состоит почти вся посвященная ему литература. В качестве наиболее характерных образчиков того и другого можно указать, с одной стороны, на биографию Ростопчина, написанную Сегюром[174], родственником Ростопчина[175], с другой стороны — на мемуары актера Домерга[176], лично пострадавшего от действий Ростопчина в 1812 г.[177] В изображении Сегюра Ростопчин — рыцарь без страха и упрека, образец всех возвышенных нравственных доблестей и глубокой государственной мудрости. По изображению Домерга — нет того резкого эпитета, который не следовало бы применить к характеристике пороков и преступлений ненавистного графа.
В устах и под пером современников Ростопчина эти разноречия и эта возбужденность похвал и осуждений не представляют ничего удивительного. Не то же ли самое выпадает на долю большинства людей, поставленных судьбою на ответственные посты в эпоху крупных исторических событий? Но вот прошло сто лет. Вековой юбилей Отечественной войны вновь привлек общественное внимание к делам и деятелям той знаменательной эпохи. Перед нами ряд литературно-исторических произведений, вызванных юбилейными поминками. Как и следовало ожидать, в этих писаниях преобладает тон эпический, в котором уже не звучат отголоски былых страстей, давно иссякших под всепримиряющей силою времени. Сколько полемического жара сосредоточивалось в свое время около имени Кутузова[178]! Какой ядовитой злобой напитаны были отзывы о нем его многочисленных врагов, какие неумеренные восхваления воссылались ему его искренними и неискренними поклонниками! И вот теперь мы судим и рядим о Кутузове с совершенным спокойствием. Мы не поняли бы человека, который стал бы в наши дни говорить о Кутузове и обсуждать его действия взволнованным, запальчивым тоном. Но многие из современных нам писателей тотчас покидают эпический тон, начинают волноваться, сердиться и спорить, лишь только им приходится коснуться деятельности Ростопчина. Подчеркнутые эпитеты, возбужденная речь — хвалебная или обличительная, восторженная или презрительная — тотчас вступают в свои права при упоминании о Ростопчине, для которого, как видно, еще не минула историческая давность. Чем же объяснить это явление? Какие нити протянулись через вековой промежуток времени между Ростопчиным и треволнениями наших дней? Рассуждая отвлеченно, на этот вопрос можно ожидать один из двух ответов. Либо Ростопчин представлял собою одну из тех крупных личностей, которые самыми размерами своих индивидуальных дарований всегда будут волновать воображение людей, независимо от смены текущих общественных интересов, либо он воплотил в себе какой-нибудь распространенный общественный тип, не вымерший и доселе, но и в наши дни продолжающий сохранять действенное значение. Который же из этих двух возможных ответов действительно применим к данному случаю? Порицатели Ростопчина в наше время склонны преуменьшать размеры личных дарований этого человека. Нам приходилось встречать в юбилейной литературе такие характеристики Ростопчина, которые сводятся к указанию на то, что Ростопчин представлял собою заурядную бездарность, что его прославленное остроумие не шло дальше пошлых и плоских претензий на острые словечки, в действительности лишенные всякой соли; что в своей административной деятельности он не поднимался ни на вершок над уровнем рутинной посредственности. Так ли это на самом деле?
На наш взгляд, уже a priori нельзя предположить, чтобы заурядный и посредственный человек мог привлечь к своей личности такое обостренное внимание и такие оживленные споры даже своими ошибками, как это случилось с Ростопчиным. И действительно, мы можем привести ряд положительных отзывов о даровитости Ростопчина, исходящих от таких его современников, которые должны быть признаны достаточно компетентными и разборчивыми ценителями в этой области. В 1792 г. Безбородко[179] писал одному из своих знакомых о молодом Ростопчине: «Г. Ростопчина в милость вашу рекомендую. Он много трудился и много имеет способностей. Я бы лучше всякого послал его в Царьград поверенным в делах…»[180].
В 1801 г. графа Семен Воронцов писал брату Александру: «Я очень рад тому, что вы часто виделись с Ростопчиным и проводили с ним целые часы. Он очень умен и держится очень весело…»[181]. В 1818 г. тот же Воронцов писал сыну: «Граф Ростопчин написал мне прелестное письмо… это соединение ума, веселости, оригинальности и глубины…»[182]. Авторов этих писем можно еще было бы заподозрить в пристрастии к Ростопчину: ведь Безбородко покровительствовал Ростопчину и выводил его в люди, а граф Семен Воронцов в течение всей жизни сохранял по отношению к Ростопчину неизменное дружеское расположение. Но вот ряд других отзывов, принадлежащих лицам, которые не могли иметь никаких особых побуждений незаслуженно хвалить Ростопчина и которые в то же время знали толк в оценке умственных дарований. Екатерина II[183], допустившая Ростопчина к участию в отборном обществе эрмитажных собраний, однажды сказала про него Мамонову[184]: «У этого молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум»[185]. Адам Чарторижский[186], не расположенный вообще расточать комплименты русским вельможам, пишет в своих мемуарах: «Ростопчин был одним из усердных посетителей Гатчины и Павловска до восшествия на престол Павла I[187]. Это был, я думаю, единственный умный человек, привязавшийся к Павлу до его воцарения»[188]. Все это — отзывы, относящиеся к начальному периоду деятельности Ростопчина. Но вот отзыв человека, узнавшего Ростопчина уже на закате его жизни, когда он по окончании своей бурной карьеры скитался по чужим краям, съедаемый сознанием, что для него все уже осталось позади, кроме предстоящего еще суда истории, строгости которого он имел основание бояться. Этот отзыв принадлежит такому видавшему виды наблюдателю, как Варнгаген фон Энзе[189]. Варнгаген сошелся с Ростопчиным в 1817 г. в Бадене. Характеристика Ростопчина, вышедшая из-под пера Варнгагена, так интересна и так важна в качестве противоположения тем, кто судит о Ростопчине как о заурядной бездарности, что я считаю нелишним выписать ее здесь целиком. Вот что читаем у Варнгагена: «С молодости втянутый в культуру французского ума, сродненный со всеми тонкостями просвещенной и игривой беседы, он (т. е. Ростопчин) захватывал внимание своей речью, легкой и гибкой, и обаятельность этой речи еще более усиливалась для тех, кто замечал, что эта непринужденная и неподготовленная беседа исходила из глубины души, в которой властвовала железная воля, презиравшая всякие ненужные предосторожности; из характера, неотъемлемыми особенностями которого являлись страсти полудикаря и свирепость варвара. Таким образом, удовольствие, которое все находили в общении с этим человеком, не было безусловно; невольно перед ним вас охватывало страшное волнение и являлась потребность быть настороже. По талантливости, по уму, по дару веселой любезности Ростопчин был не ниже принца Линя[190]. Но как различно было производимое ими впечатление! В то время, как любезная игривость старого принца баюкала вас, точно в мягком мхе, с Ростопчиным вы чувствовали себя на почве, усеянной остриями, среди которых приходилось с большой осторожностью выбирать место для того, чтобы поставить ногу. Я склонен думать, что, не будь у него дара слова, который его отличал, он производил бы отталкивающее впечатление. Но его беседа имела неотразимую привлекательность. Было праздником послушать его рассказы, одушевленные живыми и частыми сравнениями, пикантными наблюдениями, порой очень своеобразными, которые он вынес из пребывания в Париже… В суждения о положении вещей в России он вносил необычайную смелость и настоящую горечь… в эти минуты чувствовалось бушевание страсти за искусным узором французских фраз. Вследствие испытанных им неблагодарности и несправедливостей он чувствовал отчуждение от родины… опасно было предоставлять его течению мыслей этого порядка, ибо тогда он переставал владеть собой, лицо его принимало ужасное выражение, и все вокруг него приходили в расстройство. Несмотря на все его вулканические взрывы, я заметил у него, однако, черты чувствительности, и подобно тому, как я выше сравнивал его с принцем де Линем, я находил также в нем некоторое сходство с Вильгельмом Гумбольдтом[191]: та же видимая холодность, под которой плохо скрывалась теплота чувства, тот же поток своеобразных колких эпиграмм, которые устраняют скуку, присущую вульгарным разговорам»[192].
Человек, вызвавший своей личностью такую красноречивую страницу из-под пера Варнгагена и умевший становиться центром тонких салонных бесед среди избранного западноевропейского общества, конечно, не мог быть дюжинной посредственностью.
Характеристика Варнгагена подтверждается тем, что нам известно из других источников. По воспоминаниям кн. Вяземского[193], «разговор или, скорее, монолог Ростопчина был разнообразен содержанием, богат красками и переливами оттенков… то отчеканивались на лету живые страницы минувшего, то рассыпались легкие, но бойкие заметки на людей и дела текущего дня. Он в продолжение речи своей имел привычку медленно принюхивать щепотку табаку, особенно пред острым словом или при остром слове. Он табаком, как будто порохом, заряжал свой выстрел»[194]. Как бы строго ни судить Ростопчина, ему никак нельзя отказать в талантливости и остроте ума. Нельзя отрицать того, что он нередко спускался в своем остроумии до очень низкого тона, до очень плоских и пошлых грубостей. Особенно это нужно признать относительно тех шуток, которые он считал себя обязанным отпускать насчет Наполеона в присутствии сочувствующей такому зубоскальству аудитории. В его письмах к Багратиону[195] встречаются такие пошло-казарменные вышучивания Наполеона[196], заимствованные из области половых отношений, которые совершенно не могут быть воспроизведены en toutes lettres[197]в порядочном обществе[198].
Шутки этого стиля, в которых не было ни тени истинного остроумия, имели, однако, большой успех в московских гостиных того времени, и Ростопчин не упускал случая пожинать посредством их дешевые лавры острословца.
В воспоминаниях Булгакова[199], человека близкого к Ростопчину, находим живо набросанную сцену, наглядно обрисовывающую тот обиходный тон, который устанавливался по отношению к Наполеону в доме Ростопчина перед нашествием французов. В августе 1812 г. в мелочных лавках Москвы стали продаваться лубочные портретики Наполеона по копейке за штуку. В народе пошла молва, что эти портретики выпущены в продажу по распоряжению Ростопчина, чтобы русские люди, ознакомленные таким образом с чертами Наполеона, тем легче могли поймать и убить его; при этом прибавлялось, что за убийство Наполеона обещано 10 тысяч рублей награды. Булгаков зашел как-то утром к Ростопчину с известием об этих слухах и принес ему портретик. «Чего не выдумывают на бедного Ростопчина», — сказал Ростопчин с видом самодовольства и тотчас, с живостью, взяв карандаш, подписал под портретиком:
«Ну право, дешево и мило. Покупайте И харью этой…..подтирайте».В тот же момент отворилась дверь и в кабинет вошел старик Приклонский, отставной полковник, очень любимый Ростопчиным за веселый нрав. Оказалось, что и Приклонский явился с портретиком Наполеона. «В Европе, — начал он, — только одна Англия да я не признаем этого мерзавца Бонапарта французским императором… Я принес вам даже один экземпляр этой скверной рожи». Ростопчин в ответ показал свой экземпляр, к которому он только что приписал грубые вирши и пририсовал усы. Завязался политический разговор. «Вы бы лучше нарисовали ему рога», — заявил Приклонский. «Нельзя, — подхватил в ответ Ростопчин, — злодей представлен в шляпе. Я мог бы и хвост пририсовать императору французскому, да опять нельзя: портрет по несчастью поясной, а не во весь рост»… и т. д. Таково было политическое остроумие, которым наполнялся утренний досуг государственного человека. Булгаков замечает, что Ростопчин вообще был очень корректен и вежлив в беседе, но лишь только заходила речь о Наполеоне, он тотчас впадал в грубость и цинизм. Он сам говорил про себя: «Как скоро начинаю прославлять этого мошенника, так нехотя навоняю»[200].
Все это как будто подтверждает мнение о грубости и убожестве умственных ресурсов Ростопчина. Но не следует упускать из виду, что в этом площадном гаерстве Ростопчин утверждался поощрением окружающего его общества, которому всего более были по плечу именно подобного рода шутки. Припомним рассказ Герцена[201] о посещении Москвы г-жею Сталь[202] как раз в то время, к которому относятся и вышеприведенные сведения о Ростопчине. Тонкие обороты салонного остроумия, свойственные беседе французской писательницы, не производили никакого эффекта среди той барской Москвы, которая чествовала г-жу Сталь обедами и ожидала услышать что-нибудь забавное из уст французской знаменитости. Наконец, г-жа Сталь устала метать бисер тонкой беседы перед слушателями, которые только хлопали глазами и уписывали за обе щеки изобильные яства. Чтобы разбить лед, она отпустила какую-то фривольную шутку.
Тогда все оживилось и возликовало. Только это они поняли и оценили… По такому-то масштабу приходилось и Ростопчину располагать полет своего остроумия, чтобы быть понятым и оцененным окружающими людьми. У того же Булгакова, повествованием которого я только что воспользовался, находим описание типичного ростопчинского журфикса во время, непосредственно предшествовавшее занятию Москвы французами. Из этого описания можно видеть, какие незатейливые сюжеты наполняли вечерние беседы почтенных представителей московского барства, готовившихся к встрече врага под стенами Москвы. В небольшом кабинете ростопчинского дома собираются гости и рассаживаются на маленьких, обитых зеленым сафьяном вольтеровских креслах. Тут Полторацкий, князь Багратион, Кирилл Александрович (не полководец, а сенатор), сенатор Кольцов-Масальский, отличавшийся непомерной трусостью и безграничным легковерием, и ряд других лиц из верхов московского общества. Хозяин открывает беседу вопросом Полторацкому, справедлив ли слух о той, что он отправил в свою калужскую деревню конюхов и коновалов, чтобы англизировать всех крестьянских лошадей? Полторацкий подхватывает шутку и выражает заботу о том, как лошади с обрезанными хвостами будут обороняться от слепней и мух? Уж приделать ли им фальшивые хвосты? Ростопчин входит в обстоятельное обсуждение этого вопроса и со своей стороны советует при сельских работах приставлять к каждой лошади мальчиков и девочек с веточками для обмахивания лошадиных спин. Все в полном восторге и смеются от души. Затем Багратион начинает дразнить трусливого Масальского. «Бонапарте, — сообщает он, — решил, завоевав Россию, повесить всех русских сенаторов, ибо он убежден, что в России сенат дирижан имеет такое же важное политическое значение, что и во Франции. Масальский тотчас же принимает это сообщение за чистую монету и в качестве сенатора начинает дрожать от страха. Он кипятится, запальчиво доказывает присутствующим, что в России сенат ничего не значит[203], и обижается как на Наполеона, так и на Багратиона. Хозяин и гости умирают со смеху[204].
Вот уровень салонной игры ума в верхах московского общества интересующей нас эпохи. Ростопчин, принужденный жить и ладить с этим обществом, должен был говорить на его языке, спускаться до уровня его умственных интересов. Во многих случаях он делал это сознательно, успешно или нет — это другой вопрос, которым мы еще будем иметь случай заняться.
Это обстоятельство удачно подмечено Вигелем[205] в его воспоминаниях. «Можно было, — говорит Вигель, — тогда найти в Москве довольно людей, которые, как говорится, были ему (т. е. Ростопчину) по плечу… им одним мог он передавать думы свои, сообщать свои оригинальные рассказы. С прочими же обходился он запросто, был словоохотен, любил пошучивать и употреблял с ними язык, которым говорят совершеннолетние, играя с детьми. Его не поняли. «Да это, видно, наш брат», — сказали москвичи, а некоторые даже: «Да он просто шут». Между тем прилежно изучал он нравы как дворянства московского, так и простого народа. Странный, непонятный был он человек! Без малейшего отвращения смотрел он на совершенное отсутствие мыслей московских даже высших обществ и чрезвычайно забавлялся их нелепыми толками, сплетнями и пересудами»[206]. Конечно, Ростопчин парил не так уже высоко, чтобы не поддаться, в свою очередь, влиянию окружающей среды. Он и сам входил во вкус тех вульгарностей, из которых слагался жизненный тон заурядных слоев тогдашнего русского барства. Находил же он удовольствие и интерес в том, чтобы издеваться над… бюстом Наполеона, употребляя его в качестве подставки под неудобоназываемым в печати сосудом, как о том сообщает все тот же Булгаков. Но справедливость требует не упускать из виду, что подобными вульгарностями не исчерпывались духовные ресурсы Ростопчина; что в ином обществе, с людьми иного склада, так же как и наедине с собственными думами, он показывался нередко и совершенно другой стороной своей духовной природы, и тогда, расправляя крылья своих действительных дарований, он обнаруживал подлинное остроумие и подлинную живость своеобразной мысли. Еще молодым человеком, во время второй заграничной поездки, он составил путевые заметки о путешествии в Пруссию[207]. Это произведение — очень яркое доказательство того, что уже в молодости Ростопчин являлся остроумным наблюдателем окружающей действительности. В ряде коротеньких глав автор развертывает здесь перед нами различные сценки из жизни почтовых трактов тогдашней Германии, рисует типы почтмейстеров, почтальонов, юмористически описывает убийственную медлительность почтовой езды[208], затем передает свои впечатления от Берлина, описывает берлинские трактиры, общественные собрания, театр, жизнь двора, дворянства, офицерства и т. п. На всех этих описаниях лежит печать непринужденного юмора и живой наблюдательности. Правда, автор не вдается в какие-либо глубокие размышления, но он далеко не лишен проницательности; он не поддается первым внешним впечатлениям; он все время критикует и иронизирует. Случайные встречи освещают для него нередко некоторые общие условия жизни. Достаточно пробежать эти беглые заметки, чтобы почувствовать, что они вышли из-под пера интересного человека. Пусть им не хватает истинной глубины; но ведь не надо забывать, что они принадлежат начинающему автору. На закате жизни Ростопчин составил воспоминания о наиболее значительных моментах своей служебной деятельности. Здесь, как и в его известной брошюре «Правда о пожаре Москвы», многие строки явным образом продиктованы страстью, желанием отчасти свести задним числом счеты с былыми врагами, отчасти оборонить себя от различных упреков и обвинений. Но есть в мемуарах Ростопчина и спокойные места; это — те, в которых он характеризует и оценивает не действия отдельных лиц, а некоторые общие процессы в жизни Москвы и России. Эти места опять-таки рекомендуют с лучшей стороны ум, наблюдательность и дар литературного изображения автора. Здесь — тот же легкий и злой юмор, что и в «Путешествии в Пруссию», но в придачу к нему мы находим здесь еще гораздо большую глубину в содержании наблюдений. По этим любопытным страницам ростопчинских мемуаров можно убедиться в том, с какой ясностью мысли мог он разбираться в сложных процессах жизни в тех — увы! — очень редких случаях, когда его умственный взор не был затуманен необузданной страстью, пылким предубеждением. Какими отчетливыми и меткими штрихами набрасывает он, например, в своих мемуарах картину внутреннего обихода барского дома начала XIX столетия со всей беспорядочностью тогдашнего помещичьего существования, в силу которой набитый битком дворней и приживальщиками барский дом, по словам Ростопчина, «изображал собою одновременно род тюрьмы, воспитательного дома, конуры и харчевни». Столь же интересна и набросанная Ростопчиным картина постепенных изменений в условиях общественной жизни Москвы в течение первого десятилетия XIX века[209].
Если в письмах к Багратиону, как мы только что видели, Ростопчин в тон своему корреспонденту излагал казарменным языком казарменные шутки, то в противовес этой корреспонденции мы можем указать на другую переписку, в которой Ростопчин является перед нами в ином свете. Я разумею письма Ростопчина к князю Семену Романовичу Воронцову. С этим человеком Ростопчин с немногими промежутками переписывался в течение почти всей своей жизни. Они познакомились впервые еще в царствование Екатерины II, когда Ростопчин совсем молодым человеком, только еще готовящимся к первым шагам на служебном поприще, заехал в Лондон. Князь Семен оказал тогда молодому человеку свое покровительство, которое, конечно, имело для Ростопчина очень важное значение. В свою очередь и Ростопчину удалось впоследствии оказать своему покровителю существенную услугу. То было в страшную пору павловского царствования. Ростопчин стоял тогда в зените служебных успехов, играя роль могущественного фаворита при императоре Павле. В связи с капризными поворотами своей внешней политики Павел вдруг решил отозвать Семена Воронцова из Англии. Для Воронцова это было бы страшным ударом. Помимо своей личной привязанности к английской жизни, он боялся увозить из Англии свою больную дочь, будучи уверен, что климат континента убьет ее. Эту грозу и отвел от Воронцова Ростопчин. Благодаря заботам Ростопчина Воронцову было разрешено не покидать Англии. С этого момента чувство горячей благодарности к Ростопчину неизменно жило в душе графа Семена, и силу этого чувства не поколебало и глубокое разномыслие обоих друзей в вопросах внешней политики в конце царствования Павла.
Переписка Ростопчина с Воронцовым обнимает собою и последние годы екатерининского царствования, и время Павла, и все царствование Александра I[210]. Последний обмен письмами относится к осени 1825 г., а в январе 1826 г. Ростопчина уже не стало[211]. В своих письмах Ростопчин постоянно сообщает Воронцову всевозможные новости из области политики и общественной жизни, сопровождая эти сообщения своими замечаниями, характеристиками и рассуждениями. В совокупности эти письма представляют собою живую и пикантную летопись придворной и вообще столичной жизни России за всю первую четверть XIX столетия, а письма позднейшего времени прибавляют к этому еще и наблюдения над состоянием Франции в эпоху Реставрации[212]. Эти письма должны быть признаны важнейшим материалом для изучения личности Ростопчина. Здесь он выпрямляется во весь рост своей умственной силы. Он справедливо почитал в Воронцове человека образованного и авторитетного в серьезных вопросах жизни. И потому в письменной беседе с этим человеком он давал то лучшее, на что был способен. И вместо безвкусных грубостей, которыми Ростопчин щеголял перед другими своими приятелями и перед московской толпой, здесь он показывает себя способным к действительному остроумию, к тонким и разносторонним наблюдениям. Конечно, он и здесь на каждом шагу платит щедрую дань личным пристрастиям, неудержимой наклонности к ядовитому сведению личных счетов, ради которой он то и дело отступает от требований щепетильной добросовестности. Но и эта черта облекается здесь в иные формы, обличающие ум и талант, а не бессмысленное пристрастие к топорному сквернословию. Здесь его перо разит, как острая бритва, и некоторые набросанные им характеристики и портреты доказывают его недюжинную наблюдательность. Такова, например, характеристика графа Зубова[213] в письме от 9 июля 1792 г. Недаром, по обнародовании этой переписки, князь П. А. Вяземский сказал, что эти письма «жгутся». Итак, у графа Ростопчина никак нельзя отнять права на титул даровитого человека. Он обладал несомненно живым и острым умом. Он был пошл только с пошляками, но он умел быть умным с умными людьми. Но это был ум, вечно воспаленный неукротимыми страстями, и нередко излишество страсти затемняло ясность его мысли и толкало его на поступки и слова безвкусные и даже бессмысленные.
Ростопчин был неисправимым желчевиком; самое его веселье всегда было приправлено ядом человеконенавистничества, а в моменты прилива гневных чувств он терял всякое самообладание. Но и его мирные шутки всегда кого-нибудь царапают, больно и обидно. В письме к Воронцову от 18 апреля 1799 г. Ростопчин, сообщив о смерти графа Безбородко, перечисляет кандидатов в его заместители и снабжает каждого из них краткой характеристикой. Поистине трудно в столь немногих строках выпустить из-по пера столько яда. «Это — Репнин[214], Куракин[215], Румянцев Николай[216] и Сивере[217]. Вы знаете всех этих господ. Первый, какое бы место он ни занимал, достоин играть главную роль в передних и ползать вместо того, чтобы ходить прямо. Второй — такой болван, что следовало бы ему быть немецким принцем, изгнанным из своих владений, или же идолом у дикарей. Третий — бесхарактерный, тщеславный, неспособный и француз в душе, может быть только придворным бревном и болтать вздор с утра до вечера. Четвертый почти впал в старческое слабоумие; я думаю, что он имел некоторые достоинства, но теперь ни на что не годен»[218].
Приливы желчного настроения могут, конечно, иметь весьма благородный источник, могут проистекать из горького сознания полного несоответствия человеческих качеств возвышенным идеалам нравственной доблести. И что греха таить: круг чиновной знати александровской эпохи мог доставить немало пищи для негодующих обличений этого рода. Однако в основе обличительных наклонностей Ростопчина в большинстве случаев приходится открывать не особенно возвышенные мотивы. Ростопчин иногда называл сам себя Дон-Кихотом. На самом деле, в его натуре не было ни одного грана беззаветного, самоотверженного донкихотства. Все его симпатии и антипатии вырастали прежде всего на личной почве. До мозга костей он был предан собственной особе, и тем, кто не разделял с ним этой преданности, он всегда готов был мстить беспощадно, не разбирая средств, не останавливаясь ни перед чем.
Подобные наклонности как нельзя лучше приучают человека с легким сердцем топтать чужие самолюбия, бросаться людьми, ставить ни во что чужую честь. Вот психологический источник того, что веселая ростопчинская шутка всегда была отравлена ядом злобы. Люди такой душевной складки любят искать самооправдания в теоретическом мизантропизме. Порок собственного сердца они инстинктивно спешат прикрыть обвинением всего человечества в полной нравственной несостоятельности, разумеется, выделяя из круга человечества собственную личность. Мизантропическое презрение к людской породе составляло и у Ростопчина исходную основу его отношений и к отдельным людям, и к человеческим массам. Отсюда, как увидим, вытекали многие особенности приемов его общественной деятельности. Человечество было для него скопищем дураков и подлецов. Характеризуя в мемуарах свою генерал-губернаторскую деятельность, он сам говорит: «Я рассчитывал на трех благонадежных помощников: гордость, глупость и низость». Он не привык полагаться на более благородные стихии человеческой природы потому, что не верил в самое их существование, не верил, по крайней мере, в то, что они могут давать руководящий тон в общественной жизни. Он выступал горячим поборником интересов дворянского сословия и всегда считал, что привилегии дворянства должны составлять опору всего государственного строя России. Но это обстоятельство нисколько не помешало ему написать императору Александру в 1813 г.: «Русское дворянство — за исключением весьма немногих личностей — самое глупое, самое легковерное»[219]. Даже то, что он отстаивал, за что он бился, не возбуждало в нем к себе действительного уважения. Повторю еще раз: отрицать ум и даровитость Ростопчина, как это делают некоторые в наше время, значит вступать в противоречие с очевидными фактами. Изъяны его духовной личности проистекали не из бедности натуры, а из черствости души. Личность Ростопчина — один из ярких образцов того, в какой сильной степени умственные дарования могут иногда обесцениваться дефектами сердца.
II ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОСТОПЧИНА
Ум и даровитость Ростопчина не были, однако, настолько выдающимися, чтобы непрекращающиеся запальчивые споры о его деятельности можно было объяснить крупным значением его собственной личности. Это был, если можно так выразиться, незаурядный человек малого размера. Он возвышался очень заметно над уровнем рядовой общественной массы, но в кругу замечательных людей ему приходится отвести очень скромное место[220]. Здесь, может быть, будет всего уместнее остановиться несколько на литературной деятельности Ростопчина. Ведь Ростопчин был не только администратором. Он был также и писателем. Это открывает нам наиболее удобный путь к определению размеров даровитости его натуры. Попробуйте учесть удельный вес духовной личности деятеля отдаленной от нас эпохи исключительно по его активным общественным выступлениям. Сколько тут зачастую непреоборимых затруднений! Как трудно бывает со всей отчетливостью определить мотивы, содержание и все сопутствующие обстоятельства того или иного его шага. Но ведь без подробного знания всех этих условий невозможно и оценить значения личности общественного деятеля. Между тем факты литературной деятельности писателя прочно закреплены перед нами на бумаге. Каждый писатель своими литературными произведениями выдает на себя потомству самые неоспоримые документы. Читая и анализируя эта произведения, мы можем ошибаться относительно многих отдельных вопросов, касающихся истории творчества автора, но размеры его талантливости, и притом не только литературной, а вообще размеры даровитости его личности во всяком случае в полной мере, как в зеркале, отражаются в его литературных творениях. В этом отношении письменные продукты его творчества говорят сами за себя, помимо каких-либо дальнейших справок. Взглянем же с этой точки зрения на литературное наследство, оставленное нам Ростопчиным.
Я уже упоминал выше о достоинствах литературного дебюта его молодости. «Путешествие в Пруссию», как мы видели, отмечено проблеском живого литературного дарования. Тихонравов в своей неоконченной статье о Ростопчине придавал большое значение этому опыту молодого автора, усматривая в нем начальный проблеск нового литературного течения. В этом отношении Тихонравов[221]ставил «Путешествие в Пруссию» Ростопчина выше карамзинских «Писем русского путешественника»[222]. Путевые заметки Ростопчина, по наблюдению Тихонравова, отличаются гораздо большей жизненностью, свежей непосредственностью наблюдений, нежели «Письма» Карамзина[223]. В противоположность карамзинским письмам, произведение Ростопчина не носит на себе никакого следа условной кабинетной литературщины, оно свободно от пут педантической цеховой литературной традиции. В то время, как в «Письмах русского путешественника» многие пассажи имеют чисто книжное происхождение, а иные и целиком заимствованы из чужих книг, хотя им и придается форма собственных наблюдений автора, Ростопчин, набрасывая свои путевые заметки, всего менее думал о книжной учености и чопорном лоске литературного изложения. Он рисует только с натуры, передает только подлинные личные впечатления и переживания и пользуется для их передачи на письме первым счастливым выражением, которое приходит ему на мысль. Тихонравов объяснял эту особенность ростопчинского литературного дебюта тем обстоятельством, что Ростопчин не был и не считал себя профессиональным литератором. Он сочинял только между делом, и потому-то ему удавалось счастливо избегать некоторых рутинных приемов, почитавшихся тогда непременной принадлежностью настоящей литературы. Решаюсь заметить, что этим ценным наблюдением Тихонравова вопрос еще не исчерпывается.
На путевых заметках Ростопчина, кроме того, отразились некоторые общие черты личности их автора. Дело в том, что Ростопчин вообще по натуре был чужд всякой выспренной торжественности и напускной педантической серьезности. Даже в наиболее ответственных по важности повода и цели писаниях он всегда сторонился торжественной риторики. Скорее наоборот, он склонен был нередко вдаваться в аффектацию преднамеренной простоты, переходившей порой в прямую вульгарность. В его душе была заложена страсть к буффонаде, как известно, отнюдь не мирящаяся с каким бы то ни было педантизмом. Вот почему и в своих путевых заметках он прост, конкретен, непритязателен. Но в этой простоте ошибочно было бы усматривать проблеск особенной силы литературного таланта. Ростопчин никак не мог бы стать новатором в области литературы. Для этого ему не хватило бы ни глубины идей, ни своеобразия внешних литературных приемов. И в своих последующих произведениях, до нас дошедших, он двинулся в этом отношении не вперед, а назад, явился не пролагателем новых путей в области литературы, а довольно близким подражателем чужой литературной манеры.
В той же статье Тихонравова, которой я только что воспользовался, тонко подчеркивается то обстоятельство, что первоначальной школой литературного вкуса Ростопчина явились эрмитажные собрания Екатерины II[224], на которых были в таком ходу маленькие литературные импровизации, буриме, шарады и т. п. Мне думается, что эта школа действительно оказала большое влияние на Ростопчина, наложила глубокую печать и на ухватки его мысли, и на характер его остроумия, и на его литературную манеру. Как писатель, он — прямой ученик Екатерины II. Их литературные физиономии очень схожи и по внешним чертам, и по той границе, за которую не заходил размах их литературных дарований.
Разительное тому доказательство находим в большой повести Ростопчина «Ох, французы!»[225]. Задача автора в этой повести — изобразить идеальную русскую семью, построенную на старозаветных национальных началах в противоположность модным увлечениям французской распущенностью нравов. Как же выполняется эта задача? Повесть состоит из ряда коротеньких главок. Каждая из них снабжена отдельным заглавием. Первые восемь глав не имеют ничего общего с фабулой повести и целиком наполнены вступительным балагурством. Рассмотрим эти главы. Первая главка называется «Поднесение». Вот она целиком: «Сочинитель, просто одетый, с кротким видом, с книжкою в руке подходит к лицу или к особе и говорит: «Позвольте, ваше сиятельство, или ваше превосходительство, или просто сударь или сударыня, поднести мое сочинение. Вы русские, я русский. Многие лекаря лечат, не учась, от всех болезней. Ну, и я сделался глазным лекарем, хочу снимать катаракты и если не вылечу, то, по крайней мере, не ослеплю никого». Сочинитель уходит. Кто он? Никто не знает. Где живет? Господь ведает. Ну, и черт с ним!». Вот и вся глава. Вторая глава, называющаяся «Возражение», содержит краткое рассуждение о том, что если благодаря этой повести хотя один отец или одна мать сберегут детей от разврата, то это доставит автору полное удовлетворение. Третья глава называется «Кому подносится книга». Оказывается, она предназначается для дворян, ибо купцы и крестьяне пока еще свободны от летучей заразы подражательности иноземщине. «Они и до сих пор французов называют немцами; вино их — церковным». В заключение главы сообщается, что, по словам одной ученой духовной особы, русский язык так богат, что его мало знают и потому мало на нем хорошо пишут. «Сущая истина. А все-таки пишут да пишут, говорят да говорят; всяк пляшет, да не как скоморох, и я пляшу, и мы пляшем, и они пляшут». В четвертой главе читателю предлагается «просклонять» французов так: «именительный: французы много зла наделали; родительный: от французов много зла вышло; дательный: французам ничего святого нет; винительный: французы на все готовы; восклицательный: о, французы!». В пятой главе сообщается, что один богатый русский купец в бороде выразил большое удовольствие тому, что, по слухам, все французы высылаются из России за границу: «И клопы, — сказал этот купец, — иное место одолеют, так не знаешь, что делать, не только что французы». Глава шестая называется «Не взыщите». Автор просит читателей не принимать повести на свой счет и уверяет честным словом, что он — «не живописец, не ругатель, не вестовщик, не трещотка и сору из углов не выносит, хотя до чистоты охотник». Все дело в том, что люди — все на один покрой: «Сила не в том, что нос покороче или подлиннее, ростом выше или ниже, тяжелее или легче. Это — наружность, а внутренность, кажется, у всех одна: сердце на левом боку, легкое на правом, желудок посередине и хоть кажется все на месте и все в порядке, ну, а как станет мозг действовать, то и толку не найдешь. Велик ли человек, а что в нем помещается? Невероятно! Полк страстей, корпус слабостей! Армия вздора и места нет добродетелям. Сидят, голубушки, в уголку да стонут, совсем в загоне; дела не делают, а от дела не бегают, точно, как при герольдии». Седьмая глава названа «Лень». Автор признается, что пора бы начинать и повесть, но — лень. Он предуведомляет, что в его повести будет все: и свадьба, и приключения, и похороны. Вслед за упоминанием похорон сейчас же начинается рассуждение о том, как редко люди при виде мертвеца думают о предстоящей им самим смерти, зато, когда наступит смертный час, они вместо покаяния начинают вопиять: «Ах, кабы знал! можно ли было ожидать? Батюшки, попа! отцы мои, доктора! голубчики, бумаги! сударики, спасите! пустите кровь! пропустите шалфейцу! припустите пиявок! впустите ромашки! трите бок! виски! ноги! ай! ай! ай! плохо! ой! ой! ой! беда…». Достаточно этих выписок, чтобы убедиться в том, что перед нами — литературная манера журнальных статей Екатерины II. Это намеренно беспорядочное балагурство с постоянными неожиданными отступлениями в сторону; эта беседа с читателем запанибрата, этот ухарски — беззаботный тон с обилием чисто внешних шуток, в которых все остроумие сводится порой к злоупотреблению восклицательными знаками, а развитие какой-либо интересной мысли заменяется довольно нудным «плетением словес», наподобие того, какое взрослые употребляют подчас в беседах с несовершеннолетними, — все это не что иное, как литературные ухватки XVIII столетия, в особенности излюбленные Екатериной II. Разверните «Всякую всячину»[226] и вы сразу убедитесь в этом. Даже некоторые мелкие подробности екатерининского стиля были восприняты и воспроизводились Ростопчиным. Екатерина любила, например, нанизывать длинные ряды синонимических и в то же время созвучных выражений, очевидно, находя этот прием эффектным проявлением юмора. То же встречается и у Ростопчина; например, в афише от 31 августа 1812 г.: «Я приеду назад к обеду и примемся за дело, отделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Так, в выработке литературного стиля Ростопчин не пошел далее рабского копирования чужих образцов. Правда, его считали знатоком простонародного русского языка и сам он усердно щеголял простонародными речениями. Может быть, в этом отношении он освежил прежние приемы книжной речи и пошел далее своих образцов? Никак не могу признать справедливости и этого мнения. Ростопчина отнюдь нельзя причислить к народным писателям. Щеголять народными «словечками» еще не значит усвоить и передать дух и строй народной речи. Вводимый им в свои произведения якобы простонародный русский жаргон всегда производит впечатление барской забавы, своего рода словесного маскарада, шитого белыми нитками, а никак не действительного духовного единения с языком крестьянской массы. Количественно ростопчинский репертуар простонародных выражений был, конечно, значительно обширнее того, каким располагала, например, Екатерина И, тоже ведь претендовавшая на усвоение «русского духа», но качественные приемы пользования этим репертуаром у обоих сопоставляемых писателей не так уж далеко ушли друг от друга.
Цепляясь за русские простонародные словечки, Ростопчин при всем своем «французоедстве» никогда не переставал быть русским барином, воспитанным на французских книжках и на французских разговорах. Впрочем, усердную погоню Ростопчина за аллюрами простонародной речи я склонен относить не столько к фактам его литературной деятельности, сколько к приемам его политической агитации. И потому я еще вернусь к этому вопросу ниже, при анализе знаменитых ростопчинских «афишек» 1812 г., которые также считаю более правильным рассматривать не в связи с писательской деятельностью Ростопчина, а в связи с его политической ролью: ведь эти «афиши» — не литературные произведения, аполитические прокламации.
Начиная с пятой главы своей повести, Ростопчин переходит, наконец, от вступительного балагурства к ближайшему выполнению своей темы. Он рассказывает историю семейного благополучия истинно русского барина Луки Андреевича Кремнева, весь род которого свято соблюдал заветы родной старины, далекой от яда чужеземщины, а сам Лука Андреевич был идеалом настоящего русака: красавец-геркулес, лихач, рыцарь справедливости и чести, всеми обожаемый и во всем преуспевающий. Он влюбляется в чудную во всех отношениях девушку, женится на ней и создает в своем доме семейную идиллию. «Вот — плоды истинно русского воспитания, чуждого французского модничества», — хочет сказать своей повестью наш автор. И как только он переходит от рассуждений к повествованию, так сейчас же сказывается вся бедность его беллетристических ресурсов. Он не в силах дать чего-либо, хотя бы отдаленным образом напоминающего художественные образы. Герои его повести — безжизненные, схематические фигуры, их свойства не изображаются, а только перечисляются; история их поступков и взаимных отношений, словно по указке, пригоняется к нравоучительному тезису автора, и вся повесть получает характер скучной прописи в лицах. До каких топорных безвкусиц доходит при этом автор в некоторых места повести, можно видеть из следующего образчика. Герой повести, Лука Андреевич Кремнев, по воле автора явился на свет убежденным противником всего французского прямо из чрева матери. «После родин, — читаем в XIII главе повести, — повивальная бабка хотела ребенку впустить в рот капельку белого вина, но ошибкой подала французской водки. Дитя чуть не захлебнулось, но водки не проглотило. Кормилице сделали из французского штофа телогрею, но ребенок не брал груди, пока она не снимет этой телогреи. Отец из этого заключил, что его сын французов любить не будет».
Мы имеем целый ряд известий о том, что Ростопчин в промежуток между своим фавором при Павле и назначением в 1812 году на пост московского генерал-губернатора, проживая в своем имении Вороново и в Москве, написал большое количество сатирических комедий, но, по прочтении их в кругу близких приятелей, сам уничтожал продукты своего творчества. Однако одна из этих комедий избегла такой участи. Ростопчин не только не истребил ее, но даже поставил ее на московской сцене. Эта комедия, называющаяся «Вести, или Убитый живой», дошла до нас и вместе с разобранной выше повестью дает нам вполне достаточный материал для суждений о размерах чисто литературного таланта Ростопчина. Содержание комедии (она состоит из одного акта) можно изложить в двух словах. В доме Силы Андреевича Богатырева собирается целая компания его знакомых — Развозов, Пустяков и Набатова. Все это — закоренелые московские сплетники, весь жизненный интерес которых сводится к тому, чтобы раньше других развезти по городу последние новости. Все они прибыли к Богатыреву с вестями об участи жениха его дочери, который находится в походе против французов. Только что произошло большое сражение, и каждый из вестовщиков приносит свою версию слухов о том, что случилось с женихом дочери Богатырева, Побединым. Один говорит, что Победин ранен в ногу, другой заявляет, что он ранен в руку. Богатырев радуется, что жених его дочери принял раны за отечество. Но является Набатова и утверждает, что Победин убит. В доме Богатыревых — сумятица и отчаяние, а вестовщики затевают ссору, укоряя друг друга в ложности сообщений. В разгар суматохи является сам Победин, живой и невредимый.
Мы имеем разноречивые известия о том, как принята была публикою эта комедия. М. А. Дмитриев[227] свидетельствует в «Мелочах из запаса моей памяти», что «успех комедии был необыкновенный». Вяземский, наоборот, прямо говорит, что она «не имела успеха на сцене»[228]. Сергей Глинка выражается так: «Не было набата, но зато роковые отголоски свистков жужжали не хуже пуль. У графа разлилась желчь и вылилась из-под пера его в двух громоносных письмах, направленных на московскую публику»[229]. Эти письма были помещены в журнале Глинки — «Русском Вестнике»[230]. Здесь Ростопчин сам подтверждает неуспех своей комедии. «Хотя, — пишет он, — господа актеры из кожи лезли и галерейные заседатели много били в ладоши, однакож, правду сказать, ложная и кресельная публика не совсем благосклонно тебя приняла и заключила, что в тебе много соли и ты пересолил»[231].
Автор новейшего исследования об этой комедии г. Покровский[232], на наш взгляд, удачно примиряет это противоречие, указывая на то, что под «необыкновенным успехом» Дмитриев, очевидно, разумел шум, поднятый комедиею в обществе, то, что называется «успехом скандала». Но этот шум целиком обратился против автора комедии. Автора не спасло при этом и то обстоятельство, что в комедии в уста Богатырева вложены точно такие же патриотические и галлофобские тирады, какими незадолго до того Ростопчин так пленил московскую публику.
Чем же вызван был неуспех комедии? Уже современники Ростопчина указали на то, что барская Москва обиделась на допущенные автором «личности». В самом деле, в комедии в резко окарикатуренном виде были выведены лица, известные всей Москве и пользовавшиеся популярностью в тогдашних московских гостиных. По свидетельству Глинки, сама фабула комедии была взята из действительного происшествия. «В кружении большого московского света, — говорит Глинка, — разлетелась молва, будто бы умер Петр Иванович, молодой сын графа Ивана Петровича Салтыкова. И вдруг мнимый покойник явился в полном здоровьи и, как слышно было, присватался к одной из московских красавиц. От этих толков из-под пера графа Ростопчина вышла бойкая комедия».
Многие персонажи, выведенные в комедии, были изображены так, что все тотчас узнали в них намеренно утрированные портреты всем известных лиц. Вигель прямо указывает, что в вестовщице Набатовой на сцене была показана Офросимова, бывшая «лет сорок сряду законодательницей московских гостиных»[233]. Эта особа играла столь заметную роль в московском бомонде того времени, что на ее характеристике останавливаются многие мемуаристы. Свод этих отзывов читатель найдет в упомянутой выше статье г. Покровского. Под именем Пустякова Ростопчин осмеял известного издателя «Друга детей» и автора многих пьес Ильина[234], о чем свидетельствует Дмитриев.
Мне думается, однако, что причину неуспеха ростопчинской комедии неправильно сводить исключительно на то, что москвичи «обиделись личностями». Будь эта комедия согрета огнем действительного вдохновения, обладай она настоящими художественными достоинствами, — никакие «обиды» не могли бы лишить ее заслуженного успеха. И в «Горе от ума» были портреты, и там фабула была взята из действительного происшествия. Но выхваченные из жизни факты прошли там через горнило поэтического творчества. А в комедии Ростопчина этого-то и не было. Здесь мы уже совершенно не можем согласиться с г. Покровским, который склонен приписывать ростопчинской комедии большую литературную ценность. Гораздо правильнее судил еще Вяземский, сказавший, что в этой комедии «нет изящной отделки, нет искусства, в ней не пробивается рука художника». В самом деле, комедия Ростопчина — литературный эфемерид. Она забыта совершенно заслуженно. Наблюдения и краски автор взял из окружающей действительности: компания вестовщиков и домашний врач-немец Моренкопф и пиита-паразит Пегасовский, кропатель эпитафий и поздравительных од, — все это фигуры, подлинно встречавшиеся в тогдашнем обществе, но в изображении Ростопчина они представлены в виде таких аляповатых карикатур, какие никогда не вышли бы из-под пера настоящего художника. Автор записывает отдельные комические черты этих фигур, наиболее резко бросавшиеся в глаза, но он неспособен из совокупности этих черт создать законченные, жизненные типы, как это мы видим, например, в фонвизинском Митрофанушке, несмотря на присущую и Фонвизину склонность к резкой карикатуре[235].
Комедия Ростопчина производит впечатление дилетантской игры в литературу, в которой не усматривается элементов настоящего художественного творчества. Как беллетрист Ростопчин должен быть признан не более как посредственным писателем.
Но ведь сила литературной деятельности Ростопчина и заключалась не в поэзии, а в публицистике. И повесть, и комедия были для него лишь внешней формой для пропаганды его излюбленных общественных идей. В повести он явным образом всего более дорожит той моралью, которая, по его мнению, должна была вытекать из его рассказа. В комедии все выведенные им персонажи — не что иное, как аксессуары для тех пламенно-патриотических речей, которые вложены в уста Силы Андреевича Богатырева. Чтобы подвергнуть действительной оценке значение Ростопчина как писателя, к нему и надо подойти не как к художнику, а как к публицисту[236].
В качестве публициста Ростопчин стяжал себе в свое время громкую известность. Был момент, когда он стал истинным героем дня благодаря успеху своего памфлета «Мысли вслух на Красном крыльце». Этот памфлет, содержащий в себе резкую филиппику против склонности русских подражать французам и пылкое прославление русских исконных доблестей, вызвал взрыв энтузиазма и читался нарасхват. Надлежит ли ввиду этого причислить Ростопчина к перворазрядным русским публицистам? Проявил ли он в этом направлении истинно мощное литературное дарование?
Бездарный публицист, конечно, никогда и ни при каких условиях не покорит пером внимания общества. Факт шумного успеха ростопчинского памфлета уже сам по себе подтверждает защищаемое мною мнение о том, что Ростопчин был вообще даровитым человеком. Но судьба того же памфлета показывает также, что даровитость Ростопчина имела довольно определенные границы, не доходила до слишком высокого уровня. Слава его памфлета не пережила автора. Она не пережила даже того краткого момента, в течение которого текущие обстоятельства создали для произведения Ростопчина головокружительный успех. Причина этого лежит нс в том, что новые события изменили направление общественных интересов, погасли былые страсти, выдвинули на очередь иные стремления. Все памфлеты служат прежде всего злобам своих дней. Но для тех из них, которые отмечены истинно мощным талантом, не страшна сила времени. Даже и утратив интерес к преходящим поводам, которые некогда вдохновляли их перо, потомок не перестает чувствовать дыхания самого их таланта, придающего их творениям неувядающую жизненность и прелесть. Даровитые памфлетисты средней руки осуждены, напротив того, на быстрое забвение, как бы ни были велики их литературные триумфы у современников. Это — бабочки-однодневки. О них забывают на другой же день после того, как они служили предметом восторженных похвал.
Таков именно был и публицистический успех Ростопчина. Его секрет заключался лишь в том, что своим памфлетом Ростопчин попал в тон господствующего настроения общества, вызванного текущими политическими событиями. Сцепление преходящих обстоятельств, а не внутренняя сила авторского дарования выдвинуло тогда этот памфлет, как популярный боевой клич, воспламеняющий умы и сердца Читая теперь это произведение Ростопчина, мы положительно не находим в нем крупных литературных достоинств. Автор резко высказал то, что многие думали, и потому он так быстро привлек к себе общее внимание.
Это идейное содержание ростопчинского памфлета мы рассмотрим ниже, в иной связи. Пока он интересует нас лишь с точки зрения своей литературной ценности. И с этой стороны мы должны признать его довольно элементарным. Он совершенно лишен того, что придает крупным памфлетам всех времен настоящую силу и настоящий блеск.
По форме это — монолог, вложенный в уста старого дворянина Силы Андреевича Богатырева, предающегося после обедни размышлениям на Красном крыльце Московского дворца. Богатырев обличает овладевшую русскими французоманию и восхваляет несокрушимую мощь Русского царства. Монолог, правда, расцвечен затейливыми словечками в обычном ростопчинском вкусе, как, например: «в французской всякой голове ветряная мельница, госпиталь и сумасшедший дом»; «революция — пожар, французы — головешки, а Бонапарте — кочерга. Вот от того-то и выкинуло из трубы» и т. п. Но за всем тем мы не находим в памфлете Ростопчина ни искусной диалектики, ни одушевленных истинным красноречием тирад, ни ярких иллюстрирующих образов… В сущности, это — просто сердитая воркотня на французоманию и самих французов. Что же касается изъявлений патриотического чувства, то они сводятся здесь лишь к торжественному перечислению громких исторических имен и восклицаниям вроде следующих: «чего у нас нет? все есть или быть может. Государь милосердный, дворянство великодушное, купечество богатое, народ трудолюбивый… Слава тебе, российское победоносное христианское воинство; честь государю нашему и матушке России… радуйся, царство Русское.» и т. п. Автор и не помышляет о каком-либо теоретическом обосновании своих патриотических заявлений.
Итак, в качестве беллетриста Ростопчин не возвышался над уровнем поверхностного дилетантизма; в качестве памфлетиста он умел задеть своевременно сказанным словом сердца современников и обнаружил несомненный дар говорить с ними наиболее волнующим их языком; но размеров его публицистического дарования во всяком случае не хватало на то, чтобы обеспечить ему прочное, незабываемое значение в истории нашей общественности. И если Ростопчин и в наши дни продолжает возбуждать у исследователей прошлого не только археологический интерес, то должны существовать какие-то иные тому причины, помимо размеров личной даровитости этого человека.
Мы еще будем подробно говорить об административной деятельности Ростопчина. Теперь замечу лишь предварительно, что этой деятельности можно приписывать какие угодно отличительные особенности, только не глубину государственной мысли, способную привлекать к себе внимание людей долго спустя после того, как политический деятель и все, им содеянное, уже отшили в область истории. Талантливость Ростопчина сказалась и на поприще его политической карьеры в тех своеобразных приемах, которые он неожиданно изобретал вопреки всем правилам административной рутины. Но, как увидим, своеобразие этих приемов не соединялось с такой же оригинальностью целей и задач, ради которых они пускались в ход. Здесь опять размах его талантливости оказывался очень ограниченным. Он и на административных постах умел быть яркими своеобычным, ной тут его яркость оттаивала не настоящим золотом, а мишурой и фольгой.
Люди такого склада одною силою личных дарований не могут приковывать к своему имени внимание отдаленных потомков. И если, тем не менее, мы все-таки продолжаем интересоваться Ростопчиным и оживленно всматриваться в его политический облик, то обстоятельство это может быть объяснено лишь тем, что Ростопчин, не будучи новатором, тем не менее, рельефно воплотил в своей личности какие- то элементы русской общественности, до сих пор не утратившие для нас актуального значения. Как индивидуальная личность, Ростопчин — довольно скромная, хотя и незаурядная величина. Посмотрим теперь, не нашел ли в нем особенно характерного выражения какой-нибудь распространенный на Руси и не вымерший до нашего времени общественный тип?
III ЖИЗНЬ РОСТОПЧИНА
Прежде чем идти дальше, напомню главнейшие моменты биографии Ростопчина. Эта биография богата драматическими поворотами. Беспокойная натура Ростопчина постоянно толкала его на авансцену государственной жизни, не давала ему похоронить себя в мирном уединении. Обстоятельства несколько раз складывались особенно благоприятным образом для того, чтобы это прирожденное стремление Ростопчина к шумной деятельности получало свободный исход. Когда же служебное счастье изменяло этому честолюбивому и энергичному человеку, он все-таки и в невольном уединении опалы не оставался в тени и находил способы напоминать о себе и даже держать общество в напряжении своими разнообразными и неожиданными выступлениями. Бросим быстрый взгляд на внешний ход обстоятельств его жизни.
В русских летописях записано под 1447 г. при рассказе о междоусобице князей московского дома: «Наместник же княж Дмитреев Феодор Галичский из Пречистые от завтрени убежа, а княж Иванова наместника Василиа Чешиху, бежаща из града на кони, изымал истопничишко великия княгини, Ростопчею звали и приведе его к воеводам и оковаша его…»[237].
Это летописное известие делает возможным предположение, что отдаленные предки Федора Васильевича могли принадлежать к низшему слою княжеских слуг. Однако семейное предание Ростопчиных решительно приписывает их роду более высокое происхождение. Предание гласило, что родоначальником Ростопчиных был один из сыновей Чингис-хана, изгнанный отцом и бежавший в Крым; внук этого беглеца, Борис Давидович Ростопчин, перешел из Крыма на службу к московскому великому князю Василию Ивановичу. Федор Васильевич, руководствуясь этим преданием, не сомневался в том, что его предок при вступлении на московскую службу имел все шансы занять сразу высокое положение. Как-то раз император Павел спросил Ростопчина: «Почему вы не князь?» — «Потому, Ваше Величество, — отвечал Ростопчин, — что мой предок, выехавший из Татарии на Русь, прибыл в Россию зимою». — «При чем же тут время года?» — спросил удивленный император. — «Когда татарин первый раз появился при дворе, — объяснил Ростопчин, — государь предоставил ему на выбор получить либо шубу, либо титул князя. Мой предок приехал в суровую зиму и он правильно предпочел шубу»[238].
Как бы то ни было, ни один из предков Ростопчина не выдвинулся на исторической сцене[239], и только благодаря Федору Васильевичу эта фамилия получила известность. Отец Федора Васильевича, Василий Федорович, был весьма зажиточным помещиком. У него были имения в губерниях Орловской, Тульской и Калужской. Он рано вышел в отставку в чине майора и поселился на всю остальную жизнь в своей орловской деревне. По свидетельству Сегюра, который в силу своей родственной связи с Ростопчиным был хорошо осведомлен о их семейных обстоятельствах, отец Федора Васильевича был умен, образован и обладал твердым характером. Ему пришлось быть свидетелем необычайного возвышения его сына в царствование императора Павла.
Чиновник московского почтамта Брокер, впоследствии находившийся в тесном приближении у Федора Васильевича, когда тот занял пост московского генерал-губернатора, хорошо помнил его отца и в своих мемуарах рассказал, как этот «благодушный старичок» в эпоху фавора его сына при Павле часто приезжал из имения в Москву и, заходя к Брокеру, сердечно радовался служебным успехам сына, приговаривая, что сын его отлично учился и всегда был умен не по летам[240].
Федор Васильевич родился в 1763 году. Эту дату отстаивает Лонгинов[241] вопреки указаниям некоторых биографов на 1765 г.[242]
Десяти или двенадцати лет он был зачислен на службу в Преображенский полк. Фактическая его служба началась с 1782 г., когда он получил чин прапорщика. В 1786 г. он отправился в первую свою поездку за границу. Два года прожил он в Берлине и Геттингене, посещал университет и весьма ревностно занимался ученьем. Некоторое время он провел также в Англии, и здесь завязалась его близость с кн. Семеном Романовичем Воронцовым, о чем я упоминал несколько выше.
Ростопчин уже имел тогда в Петербурге хорошие связи; он явился к Воронцову с рекомендательными письмами от таких людей, как кн. Вяземский, гр. Остерман[243], гр. Николай Румянцев. Он умел оправдать данные ему рекомендации. Вспоминая о начале своего знакомства с Ростопчиным, Воронцов писал впоследствии брату Александру: «Я принял его радушно, и он очень оценил это. Он прекрасно вел себя здесь», а тотчас после знакомства с Ростопчиным, по горячим следам только что полученных от него впечатлений, тот же Воронцов писал: «если бы наша молодежь походила на господина Ростопчина и г. Кочубея[244] мы могли бы питать лучшие надежды на будущее[245].
Вернувшись в Петербург, Ростопчин скоро начал приобретать в обществе известность колкой остротой своего языка. Молодой человек смотрел уже сверху вниз на окружающую среду и охотно отдавался обличительному настроению. От 1787 г. до нас дошло письмо Ростопчина к Румянцеву, в котором читаем: «Здесь только танцуют. Нет нужды и запирать храм Януса[246], чтобы предаваться удовольствиям. О войне говорят меньше, нежели о новой опере. Ни от кого не слышишь серьезных разговоров. Надо мной смеются, потому что по утрам занимаюсь науками. Честный человек и глупец здесь синонимы. Тысячу раз я слышал, что вы самый любезный человек, самый умный, но никто не обмолвился о ваших чувствах, о вашей душе. Всего более меня сердит, что с такими способностями к наукам и искусствам мы делаем успехи только в костюмах»[247]. Автору этого рассудительного письма было 23 года. С горячностью молодости он стремился к такой деятельности, которая могла бы удовлетворить его честолюбие. Он осаждал Румянцева[248] просьбами принять его в действующую армию. В 1788 г. он в качестве волонтера присутствовал при штурме Очакова[249]. Заветнейшей мечтой его было приблизиться к Суворову[250], гениальность которого пленяла его воображение. Первое знакомство этих людей характерно для обоих. «Сколько рыб в Неве?» — таков был первый вопрос Суворова молодому поручику. Ростопчин, не сморгнув, назвал первую, пришедшую на мысль цифру, и Суворов оценил эту бойкость. После того Ростопчин в течение года нес службу при Суворове. Между тем война с турками подходила к концу. На смену штыков готовились выступить на сцену дипломатические перья. Как раз к этому времени Ростопчин при посредстве Семена Воронцова сближается с Безбородком. Я уже приводил в начале этой работы похвальные отзывы о нем графа Безбородка.
Собираясь на Ясский конгресс, Безбородко взял его туда в числе своих помощников, и Ростопчин участвовал в составлении протоколов Ясских конференций.
В 1792 г. Ростопчин покинул военную службу и был зачислен в камергеры. Здесь его живой и колкий ум, соединенный с счастливой находчивостью в салонной беседе, не мог не обратить на себя внимания Екатерины II. Он оказался как нельзя более подходящим участником тех jeux d’esprit, которыми наполнялись эрмитажные досуги императрицы. Впоследствии озлобленный на Ростопчина Панин говорил в раздражении, что Ростопчин играл при дворе Екатерины роль буффона[251]. Презрительный смысл этой характеристики вряд ли соответствует действительности. Ростопчин в течение всей жизни умел и любил являться душою веселого общества, и нет ничего удивительного в том, что в присутствии императрицы, которая сама блистала образованностью и остроумием, он испытывал в этом отношении особый подъем настроения. У нас есть указания на то, что сам Ростопчин проявлял известную щепетильность в этом случае, и вовсе не желал разыгрывать роль придворного забавника. О своем первом дебюте в салоне императрицы он рассказал своему другу С. Воронцову в таких выражениях: «Со мной произошел случай, который меня сердит. Этой зимой я игрывал с приятелями в пословицы. Пошла молва, что это мне удается. Однажды вечером в Царском Селе хотели чем-нибудь развлечь императрицу. Дело не ладилось. Я стоял в стороне.
На приглашение Зубова принять участие в играх я ответил отказом. Но императрица подозвала меня и очень милостиво попросила меня представить ей несколько фигур. Отказаться было невозможно. Бй понравилось мое представление. Она просила повторить. Тогда я составил пословицу, имевшую большой успех. Императрица много говорила обо мне, постоянно вступала в беседу со мною и вот — я приобрел какую-то значительность, достигнутую ремеслом комедианта. Я сам браню себя за это и боюсь, что вы не одобрите того, что я сделал. Умоляю, скажите, что вы думаете об этом?»[252]. Как далек он был от намерения делать карьеру на салонном остроумии, это явствует с полной определенностью из последующих фактов. Он был назначен одним из дежурных при дворе наследника престола. То было время, когда в кругу людей, приближенных к императрице, считалось признаком политического такта и хорошего тона пренебрегать обязанностями по отношению к опальному цесаревичу. Павел Петрович привык к тому, что заявляемые им желания пропускались мимо ушей или выполнялись медленно и спустя рукава. Иные отваживались и на еще более резкие проявления неуважительности. Проиграть в Гатчине значило тогда наверняка укрепить свои шансы в Петербурге и Царском Селе[253]. И Павел с болезненно обостренной чуткостью ценил те редкие случаи, когда вдруг находился человек, готовый оказать ему услугу с неподдельным усердием. Известно, что именно таков был первоначальный источник фавора Аракчеева[254] при Павле. Аракчеев был послан в Гатчину своим начальником Меллиссино дать наследнику нужные объяснения по заинтересовавшему его техническому вопросу из области артиллерии. Быстрота, точность и усердие, с каким Аракчеев выполнил это поручение, сразу завоевали в его пользу сердце Павла.
Назначенный состоять при дворе цесаревича, Ростопчин отдавал себе ясный отчет в затруднительности своего положения. В письме к Воронцову от 27 июля 1793 г. Ростопчин писал: «Павел осыпает меня нежностями и знаками внимания… и это меня бесконечно смущает. После бесчестья ничего в мире я не боюсь так, как его благорасположения». Дмитриев рассказывает, что это благорасположение Павла Ростопчин вызвал тем, что подарил Павлу вывезенные из Берлина механические модели солдат. Однако сознание опасности павловских милостей не помешало Ростопчину обнаружить горячее рвение к выполнению своих служебных обязанностей при цесаревиче. Этого мало: он пошел дальше Аракчеева, и не только сам со всей строгостью нес службу при цесаревиче, но еще и выступил с необыкновенно резкими обличениями своих товарищей по поводу их служебных манкировок. Дежурство при дворе Павла должны были отправлять поочередно всего 12 человек. Многие из них совсем не являлись к исполнению своих обязанностей. Ростопчин добровольно замещал их не в очередь, возмущаясь низостью их поведения. Наконец, дело дощло до того, что подряд две недели никто не явился сменить его. Тогда Ростопчин написал гофмаршалу письмо с жалобой на товарищей. Это письмо, наполненное резкостями, заканчивалось следующими словами: «А что касается меня, то так как у меня нет ни секретной болезни, чтобы лечиться, ни итальянской певицы на содержании, чтобы проводить с нею время, то я буду с удовольствием продолжать нести за них службу при особе великого князя». То были прозрачные намеки на гр. Шувалова и кн. Барятинского. Барятинский[255] послал Ростопчину вызов на дуэль[256]. Весь великосветский Петербург заговорил об этой истории, и большинство осуждало Ростопчина[257]. Императрица разгневалась, и Ростопчин был удален от двора на один год.
Эта кратковременная опала обеспечила ему на будущее такое возвышение, которое во много раз возместило связанные с нею неприятности. Завадовский[258] в письмах к Семену Воронцову положительно утверждает, что Ростопчин проводил год опалы в своей орловской деревне[259]. Сегюр же сообщает, что Ростопчин в это время вторично съездил в Пруссию, и к этой именно его поездке Сегюр относит написание «Путешествия в Пруссию».
В 1795 году Ростопчин снова появился при дворе Екатерины. Вскоре при посредстве Панина, будущего заклятого врага Ростопчина, он получил согласие на брак с Екатериной Петровной Протасовой. Эта молоденькая девушка, дочь калужского губернатора, рано осталась сиротой и воспитывалась у своей тетки, Анны Степановны Протасовой[260], кавалерственной дамы, любимицы Екатерины П. Перед ней-то Панин и предстательствовал за Ростопчина[261]. Ростопчину было 30 лет, когда он женился на 18-летней графине. Их брак был счастлив. Жена Ростопчина отличалась красотой, образованностью и выдающимся умом[262]. Они прожили вместе в полном согласии. «Только два раза ты сделала мне больно», — писал жене Ростопчин уже незадолго до смерти. Оба эти случая касались религиозного вопроса. Жена Ростопчина тайно от мужа приняла католичество и призналась ему в этом уже задним числом, как громом поразив его этим известием; а позднее она способствовала переходу в католичество одной из своих дочерей.
Смерть Екатерины II повлекла за собой мгновенный переворот в судьбе Ростопчина. Ростопчин оставил подробное описание того, что произошло с ним в знаменательные дни, последовавшие за смертью Екатерины[263]. Мы можем прямо черпать из этого автобиографического источника.
Когда Екатерину сразил удар, великий князь Александр Павлович обратился к Ростопчину с предложением отправиться в Гатчину и обо всем доложить Павлу. Ростопчин поскакал. Но уже по дороге ему встретился сам Павел, спешивший в Петербург по вестям, полученным ранее. Павел остановился и сказал Ростопчину: «Сделайте мне удовольствие, следуйте за мною; мы приедем вместе; я люблю видеть вас около себя».
На следующее утро по прибытии в Петербург Павел призвал Ростопчина и сказал ему: «Я отлично знаю тебя и прошу тебя сказать мне откровенно, — какую должность желаешь ты получить?». Ростопчин назвал должность секретаря комиссии прошений. Помолчав, Павел возразил: «На это я не согласен. Я сделаю тебя генерал-адъютантом не для того, чтобы ходил» по двору с тростью, но для того, чтобы ты управлял военной коллегией». По словам Ростопчина, это назначение было ему не по душе, и он принял его молча, ибо нельзя было противоречить. Уже с этого дня на Ростопчина все стали смотреть как на нового временщика. Служащие приближались к нему с пресмыкающимся видом. Старый покровитель Ростопчина Безбородко просил теперь его заступничества перед государем, заявляя лишь об одном желании — чтобы его отпустили со службы без понижения. По докладу Ростопчина Павел велел объявить Безбородке, что он забывает прошлое и просит его продолжать службу. Павла заботила мысль о другом человеке и опять-таки на Ростопчина пало выполнение воли Павла. Вечером того дня, когда умерла Екатерина, Павел, раздеваясь ко сну, призвал Ростопчина и сказал ему: «Ты устал и мне совестно беспокоить тебя, но окажи мне услугу, отправляйся к графу Орлову (Алексею)[264] и приведи его к присяге. Его не было во дворце, и я не хочу, чтобы он забыл 29 июня (день смерти Петра III)[265]. Завтра ты мне расскажешь, как все произойдет». Было уже за полночь. Ростопчин отправился к Орлову в карете вместе с Николаем Петровичем Архаровым[266]. «А., почти не знавший меня, — рассказывает Ростопчин, — но видевший во мне нового фаворита, не переставая, говорил мне разные ужасы про Орлова. Я заметил ему, что наша обязанность ограничивается лишь приведением Орлова к присяге, а остальное зависит от Бога и императора. А. хотел во что бы ни стало заставить Орлова — своего покровителя, героя Чесмы — присягать в церкви. Я решительно заявил, что не допущу этого и что будет достаточно дать ему подписать текст присяги». Орлова они застали спящим. Его разбудили, и он сам пожелал принести присягу в церкви.
Для Ростопчина началось такое же головокружительное по своей быстроте восхождение по ступеням служебных успехов, какое испытали и другие любимцы Павла в полосе их фавора, например Аракчеев. Некоторое время буквально каждый день приносил Ростопчину новую награду, новое повышение. 2 ноября 1796 г. ему был пожалован орден Анны 3 степени; 7 ноября — чин бригадира и орден Анны 2 степени; 8 ноября — чин генерал-майора и звание генерал-адъютанта; 9 ноября — орден Анны 1 степени. Затем, в апреле 1797 г. он получил орден св. Александра Невского, в марте 1798 г. — чин генерал-лейтенанта[267]. Тут — как это было и с Аракчеевым — поток милостей и почестей внезапно прервался катастрофой.
Ростопчину неожиданно была дана отставка. Он должен был выехать в свои имения. Причина этой опалы до сих пор не выяснена[268]. На этот раз опала продолжалась лишь несколько месяцев. Осенью того же года Ростопчин снова был принят на службу с прежним чином. Совершенно подобно Аракчееву Ростопчин после кратковременной опалы был осыпан еще более щедрыми милостями Павла и занял при нем еще более высокое положение. 17 октября 1798 г. он был назначен кабинет-министром по иностранным делам; 24 октября — действительным тайным советником и третьим присутствующим в коллегии иностранных дел; 21 декабря он был возведен в звание командора ордена св. Иоанна Иерусалимского; 31 декабря ему был пожалован орден Александра Невского с алмазами. Начало 1799 г. принесло ему еще более пышную почесть: 22 февраля этого года он получил титул графа; 30 марта Павел возвел его в достоинство великого канцлера ордена Иоанна Иерусалимского; в мае он был сделан главным директором почтового департамента; в июне получил орден Андрея Первозванного; в сентябре занял место первого присутствующего в коллегии иностранных дел; в марте 1800 г. сделан членом совета императора. Кроме всех этих назначений и отличий, Павел еще пожаловал Ростопчину в течение своего царствования всего более 3000 душ в Орловской и Воронежской губерниях и особо 33 тысяч десятин земли в Воронежской губернии. В феврале 1801 г. все это пышное здание ростопчинского величия мгновенно рухнуло. Снова опала императора постигла Ростопчина, и он — на этот раз уже надолго — должен был удалиться в сельское уединение.
В печати высказывалось предположение, что удаление Ростопчина, так же как и удаление Аракчеева, было устроено Паленом[269], который, подготовляя заговор против Павла, предусмотрительно расчищал себе почву и заблаговременно убирал с дороги тех лиц, которое в силу своей преданности императору могли бы помешать осуществлению его планов. Разумеется, предположение это не лишено вероятия. Но, если и принять его, все же придется признать, что Ростопчин в этом случае дал Палену оружие против себя.
Сведя счеты со своим недоброжелателем Паниным, Ростопчин зашел слишком далеко в своей личной мстительности и допустил такие действия, которые давали возможность его врагам с полным основанием обвинить его перед императором в недобросовестности. Разрывая с Ростопчиным, Павел лишь отдался порыву благородного негодования.
Я еще буду иметь случай подробно остановиться на этой истории в несколько иной связи.
Впрочем, за несколько дней до кончины Павла Ростопчин вдруг получил от него депешу: «Вы нужны мне. Приезжайте скорее». Ростопчин немедленно отравился в путь, но, едва доехав до Москвы, получил весть, что Павла не стало. «Если бы я был там, преступление бы не совершилось», — сказал Ростопчин и тотчас же вернулся в свое подмосковное имение. Так, даже вплоть до этой характерной подробности, судьба Ростопчина при Павле с изумительной последовательностью совпадает с судьбою Аракчеева.
Какой же характер носила деятельность Ростопчина в эпоху его фавора при Павле? На этот счет мы находим в литературе прямо противоположные заявления. Сегюр рисует нам Ростопчина при Павле каким-то маркизом Позой[270], бесстрашным заступником гонимых, рыцарем справедливости, добрым гением императора, удерживавшим его от необдуманных, безрассудных порывов. Напротив того, такие свидетели, как Коцебу[271], аббат Жоржель[272]и др., приписывают Ростопчину самое тлетворное влияние на Павла и склонны изображать Ростопчина как одного из самых низких по своим нравственным качествам временщиков. Разобраться в этих противоречиях тем труднее, что оба противоположных изображения представлены в литературе писателями, явно заинтересованными в отстаивании своей версии. Если Сегюр вообще всю свою книгу превращает в сплошной панегирик своему родственнику и подкрепляет свои суждения рассказами, которые представляли собой семейные предания ростопчинского дома — источник, явно односторонний, — то, с другой стороны, запальчивые хулители Ростопчина принадлежат к числу тех людей, планы и домогательства которых были в свое время расстроены настойчивыми и искусными действиями Ростопчина, как это было, например, с аббатом Жоржелем: естественно предположить, что эти люди, рисуя нам образ Ростопчина, вольно или невольно поддались чувству личного против него раздражения. В подобных случаях рассказы мемуаристов приходится подвергать особенно строгой документальной проверке.
И вот, сопоставляя показания мемуаров и семейные предания с теми документальными данными, которые находятся в нашем распоряжении, мы приходим к заключению, что если Ростопчин и не был в качестве павловского временщика чудовищем зла и порока, то все же его никак нельзя считать свободным от ответственности за многие отрицательные черты правления Павла. Мы готовы допустить, что в рассказах Сегюра есть зерно истины, быть может, и обросшее преувеличениями, что Ростопчину, действительно, случалось порой успешно останавливать опрометчивые порывы Павла во имя справедливости и пользы дела; мы не упускаем из виду и того, что на таких людей, каким был Павел, всякое благотворное воздействие возможно лишь до известного предела. Но допуская все это, мы должны также признать и следующие два факта: 1) были случаи когда Ростопчин, совершенно независимо от капризов императора, и даже тайком от него, в силу побуждений личной мстительности, злоупотреблял предоставленной ему властью. Такой именно случай и вызвал, как я уже упомянул, окончательную опалу Ростопчина в конце царствования Павла. Это не вяжется, разумеется, с образом рыцаря без страха и упрека и не внушает уверенности в том, что Ростопчин слишком деятельно возвышал голос перед императором за правду и справедливость; 2) нам известно с полною точностью, что в некоторых очень важных политических вопросах Ростопчин не только не влиял умеряющим образом на экспансивную порывистость своего государя, но, наоборот, сам побуждал его к таким решениям, которые вносили большое расстройство в ход государственных дел. Пусть скажут, что Ростопчин в этих случаях не стремился во что бы то ни стало потакать капризам государя, а сам добросовестно ошибался; это будет означать только, что Ростопчин разделял всю близорукость и необдуманную порывистость Павла.
Это замечание целиком применимо к области иностранной политики, руководство которой к течение большей части царствования Павла сосредоточивалось в ведении Ростопчина. Известно, какими резкими зигзагами шла внешняя политика Павла, в какой сильной степени был ей присущ характер импульсивного, личного каприза. Внезапно, словно почерком пера, менялась вся система политики без всякого внимания к тем бесчисленным последствиям, какие влечет за собой в области международных отношений малейшее изменение однажды принятого направления. Затратив столько из ряда выходящих усилий на борьбу с Францией рука об руку с Австрией и Англией, Павел вдруг переворачивает вверх дном все международное положение России и объявляет себя смертельным врагом Англии. Глубокие и сложные политические и экономические интересы России совершенно заслоняются при этом игрушечными счетами из-за Мальты. К этому безрассудному дипломатическому сальто-мортале Ростопчин приложил свое имя. В этом случае его поведение не может быть оправдано ни с какой стороны. Одно из двух — или он не решился противодействовать Павлу, и тогда отпадает без остатка все, что его хвалители говорят о нравственной силе его характера, ибо нельзя было бы и найти повода более важного для проявления такой независимости; или он сам не отдавал себе отчета в пагубности этого шага, и тогда приходится заключить, что влияние Ростопчина могло лишь утверждать Павла в его опрометчивых порывах.
Сам Ростопчин, стараясь защищаться от упреков за его деятельность при Павле, ссылался впоследствии на то, что он не был тогда свободен в своих действиях. В обширном оправдательном письме к Семену Воронцову от 30 июня 1801 г. из Воронова он говорил между прочим: «Что касается до политической моей системы, то я не мог ее иметь при государе, который все хотел делать сам, который требовал, чтобы повеления его исполнялись немедленно, и не допускал никакого противодействия малейшим своим желаниям. Приходилось наблюдать крайнюю осторожность, ловить благоприятные мгновения и пользоваться добрым расположением его духа, чтобы достигнуть отмены отданного приказания, разубедить его в чем-либо и склонить к мерам, которые почитал я лучшими. Я знаю, что разрыв с Англией был приписан мне…»[273].
Очень любопытно, что не только задним числом, но и в самый разгар своей противоанглийской «конъюнктуры» Ростопчин старался убедить своего друга Воронцова — ярого англомана — в том, что он, Ростопчин, тут ни при чем, что разрыв с Англией совершается помимо и против его воли. Как раз тогда Ростопчин писал Воронцову (письмо от 28 марта 1800 г.): «…я ни на что не годен и только убиваюсь, глядя на то, что делается и чему воспрепятствовать я не могу. Узнайте же раз навсегда, что государь ни с кем не говорит ни о себе, ни о делах. Он не терпит, чтобы ему заикались о них. Он отдает приказания и требует беспрекословного исполнения… Вы зовете меня министром, а я не более как секретарь… Мне противно покидать службу на 36 году возраста, но я сказал себе, что оставаться долее нельзя. Еще не знаю, когда именно настанет мое увольнение, но лишь бы отказ не состоялся в выражениях, после которых повторительное прошение может быть сопряжено с опасными последствиями, то через три месяца я поселюсь у себя в деревне и долго оттуда не выеду. Тогда увидят, имел ли я влияние и был ли усерден к благу…».
Между тем, разрыв с Англией повлек за собой отставку Семена Воронцова, — нашего посла в Лондоне, проводника англофильской политики. После этого Ростопчин шлет Семену Воронцову шифрованное письмо такого содержания: «Видите, что мне приходится подписывать и могу ли я оставаться! Если с вами так поступают, чего ждать мне? Сердце мое обливается кровью и мне жаль вас. Орошаю слезами ваши руки. Будем плакать вместе. Делать нечего». Это было написано в начале апреля 1800 г., а 23 мая Ростопчин писал Александру Воронцову: «За разрушение союза с коварным венским двором означены четыре жертвы: кн. Суворов, гр. Семен Романович, Англия и я. Три первых принесены, а я еще остался, но весьма холодно и спокойно ожидаю своего жребия. Чудно, что до сих пор еще жив»[274].
Смысл приведенных писем яснее ясного: Ростопчин возмущен разрывом с Англией, новый курс внешней политики взят вопреки его стремлениям, и в связи с этим он готовится к опале. И вот, приходится признать, что ни одна строка этих писем не соответствовала действительности. Желая оправдаться в глазах друзей, Ростопчин прибегал к самой грубой лжи. Прикидываясь в письмах к Воронцовым обреченной жертвой капризов императора, Ростопчин на самом деле являлся душою противоанглийской авантюры.
Английский посол Витворт в ноябре 1800 г. писал Семену Воронцову: «Роковое изменение в настроении и политике Его Величества мы должны в значительной степени приписать влиянию Ростопчина»[275]. Аббат Жоржель настойчиво называет Ростопчина инициатором разрыва России с Австрией и Англией[276]. Сами Воронцовы отнюдь не были введены в заблуждение лживыми уверениями Ростопчина, и Семен Воронцов, хотя и продолжал сохранять по отношению к Ростопчину дружеские чувства в память прежних услуг, тем не менее самым режим образом порицал его иностранную политику при Павле и в письме к Панину от б мая 1801 г. сказал, что он считает «иностранную политику Ростопчина истинным позором для моей родины»[277].
Все эти отзывы мы можем проверить неоспоримыми документальными данными. Эти данные показывают, что если Ростопчин и не является инициатором противоанглийской авантюры, то во всяком случае он сделал все для того, чтобы поддержать Павла в тех самых решениях, которыми он возмущался в письмах к Воронцовым. Ростопчина изобличает Записка, поданная им Павлу в сентябре 1800 г. и конфирмованная Павлом 2 октября. Записка наполнена нападками на Англию, против которых Павел на полях приписал: «мастерски сказано». Здесь Ростопчин категорически настаивает на разрыве с Англией, соблазняя Павла фантастической перспективой раздела Турции при помощи Франции и Пруссии. В результате этого раздела, по мнению Ростопчина, «греки сами подойдут под скипетр российский». Восхищенный Павел приписал на поле: «а можно и подвесть». Представив Павлу эту Записку, Ростопчин наотрез отказался довести до сведения императора Записку Панина, в которой намечалась совершенно противоположная система внешней политики. Это именно произведение ростопчинского пера, поражающее легкомысленным дилетантизмом суждений о вопросах первостепенной важности, и укрепило окончательно Павла в тех безрассудных решениях, которые мелькнули тогда в его воспаленном уме и которые едва-едва не довели нас до войны с Англией и до фантастического похода на Индию.
Любопытно, что Ростопчин как раз в том письме к Семену Воронцову от 30 июня 1801 г., в котором он старается представить себя неответственным за всю эту авантюру, незаметно для себя самого переходит затем к пространным доказательствам правильности всех предпринятых тогда против Англии действий и тем с головой выдает свою тесную прикосновенность ко всему тому, от чего он только что пытался отречься.
Напрасно также в вышеприведенных письмах к Воронцовым Ростопчин старался связать возможность своей опалы со своим мнимым неодобрением политики императора. Нам отлично известно, что опала, действительно, начинавшая тогда угрожать Ростопчину и вскоре на самом деле его постигшая, была обусловлена совершенно иными обстоятельствами, в которых Ростопчин сыграл предосудительную роль злобного интригана.
Опала сразила Ростопчина в середине февраля 1801 г. На целых одиннадцать лет ему пришлось удалиться с арены государственной деятельности. Он прожил эти годы частью в Воронове, подмосковном имении (в 50 верстах от Москвы), приобретенном им у графа Алексея Воронцова незадолго до опалы, частью в Москве. В Воронове была полная чаша. Пышная усадьба состояла из великолепно украшенного дома, окруженного парком, который тянулся дальше, нежели хватал глаз. Обширные пруды были рассеяны по лугам и рощам. Длинные дороги прорезывали леса и соединяли деревни, принадлежавшие к этому громадному имению. Жизнь Ростопчина в деревенском уединении довольно подробно освещена в переписке Ростопчина с кн. Цициановым[278]. Энергичная натура Ростопчина нашла себе здесь приложение в заботах об усовершенствовании хозяйства. У него были обширные конские заводы, считавшиеся образцовыми. Он увлекался опытами заведения рационального полевого хозяйства, выписывал из Англии, Шотландии и Голландии сельскохозяйственные машины и опытных агрономов, устроил у себя нечто вроде агрономической школы, написал и напечатал рассуждение «Плуг и соха», в котором подверг разбору очередные вопросы сельскохозяйственной экономии. Его письма к Цицианову за это время полны сообщениями о его хозяйственных пробах, удачах и разочарованиях. Он до такой степени увлекался в те годы этой своей деятельностью, отводил такое широкое место ее описанию в переписке с друзьями, что Цицианов как-то даже попросил его поменьше говорить об этих вещах.
При всем том деревенские интересы отнюдь не поглотили целиком его стремлений. Честолюбивый характер и живой ум не давали ему успокоиться на мирном существовании захолустного помещика. Есть некоторые указания на то, что с воцарением Александра Ростопчин предпринимал попытки к возвращению на арену государственной деятельности. До начала Отечественной войны эти попытки оказывались неудачными. Время от времени Ростопчин наезжал в Москву, подолгу живал там, блистал остротами в московских гостиных, читал в приятельских кружках свои сатирические комедии, после прочтения бросавшиеся им в камин, и будировал против либерального курса правительственной политики. Долгое время этот будущий «французоед» оставался поклонником Наполеона, в котором он видел тогда «не «исчадие революции», как он клеймил впоследствии Наполеона, а, наоборот, водворителя во Франции твердого порядка, сокрушителя революционной гидры. Русско-австрийская коалиция против Франции вызвала горячие порицания Ростопчина. 4 ноября 1803 г. он писал Цицианову: «Новости из Петербурга гласят о войне с Францией. Это будет жертва, приносимая любви гр. Воронцова к англичанам. Какую выгоду можем извлечь из этой войны?». Даже убийство герцога Энгиенского[279] не изменило его благоприятного настроения по отношению к наполеоновской Франции. В письме к. Цицианову он признает, что «это убийство возбуждает желание предъявить к Бонапарту требования, которые бы помешали ему возмущать общую безопасность», тем не менее он туг же замечает, что война с Францией была бы только невыгодна для нас. По-прежнему, как и при Павле, он мечтает не о борьбе с Наполеоном, а об одолении Англии. В письме к Цицианову от 21 сентября 1804 г. он повторяет все те бредни, которые некогда развивались им в Записке, поданной Павлу, и в которых он не решался тогда признаться Воронцовым. «Нужно одолеть Англию, — пишет он, — и для этого произвести раздел Турции согласно старому моему плану, т. е. нам взять Молдавию и Румелию[280] с Константинополем, остальное отдать Пруссии и Австрии, из Греции и островов создать республику, Египет предоставить Франции, а затем послать 50 тысяч человек под твоей командой чрез Персию в Индию и там разрушить до основания все владения Англии». А когда война России и Австрии с Францией началась, Ростопчин писал: «Война объявлена. Наш император, уже имевший краснуху и корь, хочет еще испытать англичан и австрийцев».
И вдруг в 1807 г. поклонник Наполеона сразу превращается в ярого его ненавистника Только с этого года Ростопчин впадает в неистовую галлофобию[281], которая ранее была ему чужда. Запомним это обстоятельство. Оно получит для нас важное значение при характеристике политического воззрения Ростопчина.
В 1807 г. ввиду новых успехов Наполенона и как раз перед возникновением союза между Наполеоном и Александром Ростопчин шумно выступил и прошв политического сближения с Францией, и против увлечения русского дворянства французской цивилизацией. В этом году вышел памфлет Ростопчина «Мысли вслух на Красном крыльце», явившийся манифестом шовинистического национализма Я уже говорил в другой связи о том фуроре, который был произведен в тогдашнем обществе этим памфлетом.
Имя Ростопчина было у всех на устах. Он вдруг достиг вершины популярности. С этого момента он усиленно стремится играть политическую роль. В том же году он пишет императору письмо (помеченное 17 декабря 1806 г.), чрезвычайно важное для понимания того строя мыслей, выразителем которого Ростопчин являлся в течение всей последующей жизни. Здесь Франция объявляется источником политической заразы, ибо из нее выходят все толки о мнимых вольностях, грозящие возмущением черни и истреблением дворянства. Вот почему надлежит бороться с Францией не на живот, а на смерть и, готовясь к такой борьбе, теперь же выслать из пределов России всех иностранцев, а также заняться истреблением внутренней, туземной крамолы в лице русских мартинистов[282].
Так, галлофобия и восхваление национальных добродетелей принимали у Ростопчина характер не безотчетного проявления «народной гордости», а рассчитанного средства для отстаивания незыблемости дворянских привилегий от притязаний черни.
Ростопчин выступил, таким образом, в 1806 г. духовным вождем национального шовинизма и социал-политической реакции. В этом качестве он вскоре получил доступ в тверской политический салон великой княгини Екатерины Павловны[283], где уже блистал свойственник Ростопчина по жене Карамзин. Там, в Твери, около честолюбивой и энергичной великой княгини группировалась консервативная оппозиция против конституционных планов Сперанского[284].
После политических выступлений Ростопчина в 1806 г. его приняли в тверском салоне с распростертыми объятиями. Екатерина Павловна поставила себе задачей сблизить Ростопчина с императором.
Когда-то, еще в конце царствования Екатерины II, Ростопчин, став фаворитом цесаревича Павла, сошелся и с великим князем Александром Павловичем. Впоследствии Александр начал относиться к Ростопчину с резкой неприязнью. Говорили, будто бы причиной этой неприязни были дошедшие до Александра осуждающие отзывы Ростопчина о поведении Александра перед кончиной Павла. Теперь Екатерина Павловна ради своих политических целей решила сделать все для того, чтобы разрушить предубеждение своего брата против Ростопчина. В ноябре 1809 г. Александр посетил сестру в Твери. К этому времени туда был вызван и Ростопчин. По свидетельству Жозефа де Местра[285], Александр имел там продолжительную беседу с Ростопчиным. Вскоре после этого Ростопчин был назначен обер-камергером и членом Государственного Совета с правом оставаться жить в Москве.
С этого момента и сам Ростопчин, и Екатерина Павловна начинают подготовлять почву к замещению Ростопчиным престарелого Гудовича[286] на посту московского генерал-губернатора. Ростопчин в московских салонах поднимает на смех Гудовича, вышучивает его старческие недостатки и даже передразнивает его жесты и гримасы к шумному удовольствию публики.
В то же время он переписывается с Екатериной Павловной и в эти письма также включает разные щелчки по адресу Гудовича, быть может, с тем расчетом, что соответствующие места писем могут быть показаны кому следует. Шутки над Гудовичем перемежаются здесь с другими весьма знаменательными сообщениями, в которых Ростопчин явным образом старается дать понять, какие важные государственные услуги мог бы он оказать по части уловления крамолы. Так, в письме, отправленном в Тверь в апреле 1810 г.[287], Ростопчин сообщает, что к своему приезду в Тверь он заготовит для великой княгини «историю сословия мартинистов в России, имея все нужные для сего сведения[288]; тайное сие общество, — пишет далее Ростопчин, — быв рассеяно при Екатерине, восстало было на минуту при Павле, но ныне явно господствует и достигает безопасно до своей цели, уверяя государя в своем ничтожестве». После этих строк идут шутливые сообщения о концертах, театральных новинках и московских «канальских модных французских лавках». А затем Ростопчин добирается и до Гудовича. «Граф Иван Васильевич, — пишет Ростопчин, — делает противное калифу Гарун-аль-Рашиду, которому всякое утро напоминали для уничижения, что он — человек. А нашему, хотя он и не вантрилок, но собственный утробный глас кричит ежесекундно: «Ты — фельдмаршал Гудович! граф! главный! грозный! герой!» Посему извольте себе представить, как он мил для просителей и посетителей…».
В этих усилиях прошло около трех лет. С началом Отечественной войны представилась действительная надобность сменить престарелого Гудовича и заместить его пост более энергичным человеком. Тогда Екатерина Павловна со всей настойчивостью стала выдвигать перед братом кандидатуру Ростопчина. Александр долго упирался. Ему по-прежнему было трудно победить в себе предубеждение против этого человека. «Ведь он даже и не военный, — возражал Александр, — а московскому главнокомандующему присвоен военный мундир!». «Это дело портного», — бросила в ответ великая княгиня. В конце концов Александр должен был признать, что по обстоятельствам момента важно было поставить во главе Москвы лицо, особенно популярное в общественном мнении. Со времени издания своего памфлета Ростопчин считался наиболее ярким представителем противофранцузской партии, и это обстоятельство решило его выбор. В мае 1812 года Ростопчин был произведен в генерал от инфантерии, и вслед затем состоялось его назначение московским главнокомандующим. Вскоре после этого назначения совершилось падение Сперанского. Молва приписывала Ростопчину деятельное участие в подготовке этого события. По рукам ходило письмо, якобы представленное Александру от имени «Ростопчина и всех москвичей» с требованием удаления Сперанского. Мы совершенно согласны с А. Поповым, который считает это письмо фальсификацией на том основании, что там многие факты переданы таким образом, как Ростопчин ни за что их не передал бы[289]. Что Ростопчин сочувствовал падению Сперанского, в этом не может быть сомнения. Вряд ли можно поверить словам самого Ростопчина о том, что это событие явилось для него полной неожиданностью: ведь теперь уже совершенно доказано, что падение Сперанского в значительной мере было подготовлено тверским кружком Екатерины Павловны, с которым Ростопчин был так тесно связан. Но, по-видимому, на долю Ростопчина при этом действительно не досталось никакой активной роли, и общественная молва приписала ему такую роль лишь по соображениям вероятия, а не по несомненным фактическим данным.
Назначение Ростопчина вызвало противоположные чувства в общественных кругах Москвы. Клевреты Ростопчина, как Булгаков, Брокер[290], Оденталь[291] в Петербурге[292], конечно, ликовали. Бестужев-Рюмин[293], напротив, свидетельствует в своих «Записках»[294]: «Лишь только я узнал о сей перемене начальства, сердце у меня облилось кровью, как будто я ожидал чего-то очень неприятного». Может быть, впрочем, настроение того времени окрасилось в памяти Бестужева в такой очень уж мрачный цвет в связи с последующими его столкновениями с Ростопчиным. Вигель утверждает, что большинство было обрадовано этим назначением, хотя ненадолго, а Волкова, впоследствии одобрявшая первые шаги Ростопчина в роли главнокомандующего, при его назначении писала: «Пока я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве; надо признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела ни до кого на свете»[295].
Эти разнообразные отзывы можно свести к некоторому единству, предположив, что и среди тех кругов, которые сочувствовали направлению Ростопчина и потому могли только приветствовать его назначение, было немало людей, не чувствовавших к Ростопчину личной симпатии: одни были задеты его колким языком, другим не нравились его развязные выходки против старика Гудовича.
Деятельности Ростопчина на посту московского главнокомандующего я пока не буду касаться. Нам придется остановиться на ее главнейших эпизодах ниже, в связи с анализом политического мировоззрения Ростопчина. В это время развернулись со всей ясностью и черты его характера, и особенности его убеждений. Сам Ростопчин был очень высокого мнения о своих государственных заслугах в эпоху Отечественной войны. Он со всей серьезностью утверждал, что именно его деятельности обязана Европа сокрушением могущества Наполеона. В письме к императору Александру от 2 декабря 1812 г. он писал: «Во все времена мое честолюбие состояло лишь в том, чтобы снискать вашу доверенность; я был ею облечен и спас империю»[296]. Такого рода заявления Ростопчин расточал направо и налево[297]. Он любил ссылаться при этом на ту широкую популярность, которую его имя снискало себе в Западной Европе после 1812 года. Действительно, в проявлениях такой популярности не было недостатка. В Кенигсберге носили чепчики â la Rostopchine. Всюду выставлялись его портреты. В Лондоне именем Ростопчина называли лошадь, взявшую первый приз на скачках. Появилась в продаже «ростопчинская водка» и т. д., и т. д. Интересно отметить при этом, что Ростопчин не прочь был и со своей стороны принимать некоторые меры к муссированию своей популярности за границей. Так, например, в 1814 г. он просил Семена Воронцова посодействовать тому, чтобы город Лондон оказал ему какую-нибудь почесть. «Вы мне высказываете, любезный граф, что были бы польщены каким-либо выражением внимания со стороны города Лондона», — пишет Воронцов Ростопчину от 7 июня 1814 г. Воронцов отклонил это поручение, сославшись на то, что он по старости и болезненному состоянию отстранился от общества и ведет совершенно уединенную жизнь. Чтобы утешить Ростопчина, он прибавляет, что управление Лондона находится в рудах совета, избираемого цехами, где преобладает чернь, и потому вовсе не лестно было бы получить знаки отличия от такого учреждения[298].
Как бы то ни было, комплиментами заграничного происхождения и ограничился триумф Ростопчина У себя дома ему приходилось довольствоваться восторгами одних только близких приятелей и клевретов. Громадное большинство общества возненавидело Ростопчина за его деятельность в качестве правителя Москвы в 1812 году. Лонгинов писал Семену Воронцову от 22 февраля 1813 г.: «У Ростопчина нет ни одного друга в Москве, и там его каждый день клянут все. Даже народ ненавидит его теперь в такой же степени, как был раньше им возбужден. Я получил сотни писем из Москвы и видел много людей, приехавших оттуда: о Ростопчине существует только одно мнение»[299].
Сам Ростопчин приписывал эту ненависть исключительно тому, что москвичи сделали его козлом отпущения за понесенные ими материальные потери при пожаре Москвы. Несомненно, что этот мотив играл большую роль в возбуждении против Ростопчина. Но он не был единственным. Люди, совершенно не заинтересованные, не понесшие личных потерь и даже готовые отдавать справедливость Ростопчину там, где это было возможно, тем не менее отвернулись от него в это время с чувством нравственной брезгливости. Решающую роль сыграл в этом случае возмутительный поступок Ростопчина с несчастным Верещагиным. Это событие возбудило одинаково и негодование общества, и гнев государя. Среди различных условий, подготовивших опалу Ростопчина, казнь Верещагина занимала, по нашему мнению, главное место.
В момент занятия Москвы французами Ростопчин присоединился к армии Кутузова и состоял при ней во время знаменитого флангового движения с Рязанской дороги на Калужскую. Среди этого движения он сделал «эффектный жест», предав огню свою Вороновскую усадьбу, чтобы она не досталась врагам. Затем он принялся поносить Кутузова и в письмах к государю изображать в самых мрачных красках состояние армии. Он еще не подозревал, что вместо обвинения других в глазах императора ему пора было подумать о самооправдании. Через некоторое время он демонстративно оставил армию и поселился во Владимире, где собралось в то время большое общество московских беглецов. Здесь Ростопчина уже начали посещать заботы о собственном положении. Французы очистили Москву; Ростопчин в качестве московского главнокомандующего должен был вернуться в столицу.
После всего происшедшего ему было очень важно при возобновлении фактического начальствования над Москвой заручиться одобрением своих действий со стороны государя. Между тем, Александр молчал. Это был тревожный знак. Еще из Владимира, 13 октября 1812 г. Ростопчин написал государю: «Я еще очень слаб, но дня через три или четыре отправлюсь в Москву. Ничего не знаю, государь, каково ваше мнение на мой счет. Вы не изволили мне сказать о том ни слова». Не получив ответа на этот вопрос, Ростопчин написал уже из Москвы еще несколько писем государю и, наконец, 7 ноября обратился к Александру с просьбой разрешить ему приехать в Петербург для личных объяснений. Только после этого получил ответ. Александр писал: «Я был бы вполне доволен вашим образом действий при этих столь затруднительных обстоятельствах, если бы не дело Верещагина[300] или, вернее, не окончание этого дела. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности ее не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше»[301].
Между строк этого письма Ростопчин не мог не прочесть предвозвещения конца своей служебной карьеры.
Правда, он еще в течение двух лет Сгставался на посту московского главнокомандующего. Но то была лишь своего рода агония. Участь Ростопчина в душе Александра была решена. А резкие, самовластные и нередко жестокие распоряжения Ростопчина, возбуждавшие всеобщие против него жалобы, только способствовали ускорению развязки. Летучие слухи, исходившие из малоосведомленных кругов, пророчили порой дальнейшее возвышение Ростопчину. Так, Лонгинов[302] писал Семену Воронцову от 10 августа 1813 г., что по слухам вскоре предстоит отставка Румянцева, «пока совсем не знают, кого назначать на его место; месяц тому назад называли графа Ростопчина, которого в Москве должен заменить Горчаков, но это был слух заглохший, как много других, и все остается в неизвестности»[303].
На самом деле дни служебной карьеры Ростопчина были сочтены. В июне 1814 г. Ростопчин устроил в Москве пышные празднества в честь занятия Парижа союзными войсками и заключения мира. 25 июля в Москву прибыл государь. Ростопчин был принят им весьма холодно. «Когда я видел императора, — сообщил Ростопчин в письме к жене, — и обедал с ним, он говорил со мною только о безразличных вещах; подожду еще неделю и потом испрошу аудиенцию, чтобы получить приказания насчет чрезвычайных сумм, находящихся в моем распоряжении, и попросить полной отставки». 30 августа 1814 г. состоялось увольнение Ростопчина от должности московского главнокомандующего с назначением в члены Государственного Совета[304]. Последнее назначение было чисто титулярным, и с этого момента Ростопчин уже до конца жизни фактически превратился в партикулярного человека.
В 49 лет для Ростопчина жизнь кончилась. Началось «житье». Сегюр пишет, что сознание ненависти, скопившейся около его имени, делало для Ростопчина невыносимым пребывание в Москве, а явная немилость государя отягощала для него существование и вообще в пределах России. Сначала он бодрился и, переехав в Петербург, пробовал по-прежнему беззаботно шутить. Перед нами его письмо к Д. И. Киселеву (отцу графа П. Д. Киселева[305]) от 23 февраля 1815 г. из Петербурга. Здесь он пишет: «Мы живем спокойно и весело», прилагает к письму затейливо-шутливую приписку к жене Киселева. Однако тут же говорится: «Я с беспокойством вижу приближение апреля месяца и решительно еду к водам один, оставляя своих, с коими столь редко и на короткое время разлучался»[306]. Начинается странствие по заграничным курортам для лечения ревматизма, а затем Ростопчин и совсем переселяется за границу вместе с семьей.
В 1815 г. он совершил первое путешествие на воды в Теплиц[307] и оттуда в Пирмонт. Сохранились его письма к жене из этой поездки. В них много говорится о молитвенном настроении Ростопчина. «Я молюсь Богу с жаром, надеждой и раскаянием», — пишет он, сообщая при этом, что он постоянно держит при себе Новый Завет и ежедневно его читает. По свидетельству Варнгагена, Ростопчин в этот период своей жизни по вечерам, с наступлением темноты, часто бывал охвачиваем страшным волнением. Призрак окровавленного Верещагина вставал перед его глазами и наполнял его душу таким ужасом, что он не мог удержаться от криков; в таком положении его застали однажды лакеи, прибежавшие на крик. Сегюр, отрицающий виновность Ростопчина в деле Верещагина, объявляет это сообщение Варнгагена не соответствующим действительности. Я не вижу особенной надобности настаивать на правильности этого рассказа Варнгагена, но должен заметить, что: 1) Варнгагену не было никакой нужды в этом случае измышлять факты; 2) этот рассказ, вопреки мнению Сегюра, не только не противоречит вышеупомянутым письмам Ростопчина к жене, но, наоборот, как раз согласуется с выраженным в этих письмах настроением покаяния и раскаяния.
В 1816 г. Ростопчин опять уехал за границу, на этот раз — почти на весь остаток своей жизни: он вернулся в Россию лишь за два года до смерти. Он отправился сначала в Карлсбад[308] на лечение водами, потом через Штутгарт и Франкфурт… в Париж. И для этого безудержного проклинателя французского племени Париж оказался в конце концов такой же Меккой[309], как и для всех русских бар, вскормленных на традициях XVIII столетия. От этого года мы также имеем рад писем Ростопчина к жене, опубликованных Сегюром. По этим письмам можно проследить, как первоначально подавленное настроение Ростопчина мало-помалу улучшается по мере того, как он приближался к целебной духовной атмосфере столь ненавидимой им ранее Франции. На пути из России в Карлсбад он то и дело пишет жене о том, что его держат в своей власти черные мысли. «Что у меня бывают удушья, проходящие со слезами»; «люди живые и мертвые меня не интересуют», — подобными заметками пестрят эти письма. Однако уже из Карлсбада он начинает писать не только о мрачных мыслях, но и о живых людях, его окружающих, причем снова на поверхность выплывает его колкая, насмешливая наблюдательность. «Графиня Зичи говорит в нос и хочет казаться ученой женщиной; у нее вид умирающей королевы, диктующей последнюю волю»; «дамы на водах по наружности и повадкам зависят от ранга… дама, водящая за руку ребенка, считается добродетельной матерью; дама, которая кричит и говорит с жаром, признается патриоткой» и т. д. Осенью Ростопчин был в Штутгарте и Франкфурте-на-Майне и оттуда собрался в Париж. «Соблюдая аппарансы», он из Франкфурта еще писал Семену Воронцову 4 октября: «Жертвую вам Италией и отправляюсь в Париж. Прошу вас заранее иметь в виду, что только вы один привлекаете меня туда, ибо не только у меня нет охоты видеть этот город, но испытываю даже какое-то отвращение от мысли, что мне предстоит туда ехать»[310].
Но стоило ему переехать французскую границу, и сейчас же дало себя знать сердце истинного русского барина, как магнитная стрелка к северу, всегда и несмотря ни на что тяготеющее к Парижу. Первое его письмо из Парижа к жене так и дышит радостью школьника, вырвавшегося из карцера в рекреационную залу. «Я употребил 4 дня на переезд из Страсбурга в Париж… дороги превосходные, хотя и покрытые водой. Прекрасная почта! Распрягают и запрягают в десять минут без предварительного заказа лошадей… я от чистого сердца заключил мир с французами. У себя дома они совсем иные, нежели вне своей страны». Далее следуют восторги перед французской вежливостью. «Крестьяне, нищие, почтальоны говорят вам премилые вещи, совершенно естественно… со времени моего прибытия сюда я не слышал даже намека на грубость» и т. д.
Приезд Ростопчина тотчас был замечен парижанами, которые немедленно начали с увлечением носиться со столь неожиданным гостем. В 1817 г. Ростопчин явился пикантной новинкой парижского сезона, и поднявшаяся около него суета, подстрекаемая всеобщим любопытством, тешила его честолюбивое сердце, проливала целительный бальзам на его душевные раны. Газеты немедленно возгласили приезд Ростопчина. «Более двадцати лиц, — пишет Ростопчин жене, — совершенно мне незнакомых, выразили желание повидать меня… я видел г-жу Свечину, и она назвала мне дюжину лиц, которые умоляли ее залучить меня к ней… я возбудил интерес, подобно морскому чудовищу или слону; удивились, найдя во мне человека простого, добродушного и в достаточной мере оригинального; ко мне относятся с уважением, и я благодарен…». Парижская толпа прозвала Ростопчина кратко: «губернатором», и спешила поглазеть на него всюду, где он появлялся. Он начал посещать театр Варьете, и благодаря этому в кассе театра сразу поднялись сборы. Посыпались приглашения на обеды и вечера. Сегюр утверждает, что Ростопчин, хотя и не остался равнодушным к этой популярности, но не дал себя увлечь шумихой парижской жизни и скоро ограничил выезды самым тесным кругом знакомых, бывая преимущественно в салоне старой графини Водемон. К 11 часам, говорит Сегюр, он ежедневно бывал уже в постели. Сам Ростопчин в письмах к жене тоже изображает свой образ жизни в то время как существование разочарованного мудреца. «Париж, — пишет он, — открывает много удовольствий для молодых людей, для новичков в обществе и для свинообразных представителей человеческого рода. Но я не принадлежу ни к одной из этих категорий. Спектакль не имеет для меня никакой притягательности, я дважды видел Тальма[311], дважды видел Марс[312] и не имею никакой охоты снова смотреть их, хотя и отдаю полную справедливость их таланту, превосходящему все, что я видел до сих пор. Двух балетов было для меня достаточно, чтобы перестать ходить в Оперу. Я часто бываю в Варьете, где Потье и Вруне разыгрывают фарсы, это очень забавно, но нельзя всегда быть расположенным смеяться над фарсами. Я хожу туда, потому что абонирован на ложу с английским, испанским, прусским и нидерландским посланниками. В углу ложи стоит диван, и я часто в течение всего представления занимаюсь на нем разговорами». Наряду с описанием своего благонравия Ростопчин наполняет письма излияниями любви к семье.
У нас есть, однако, сведения о том, что в этих письмах картина жизни Ростопчина в Париже рисуется не с полною точностью. Как раз в 1817 г. в Париже был Вигель и видел там Ростопчина. Вот что он записал об этом в своих воспоминаниях: «Не уважая и не любя французов, известный их враг в 1812 г., Ростопчин жил безопасно между ними, забавлялся их легкомыслием, прислушивался к народным толкам, все замечал, все записывал и со стороны собирал сведения. Наблюдения его и суждения, всегда остроумные, часто справедливые, умножали занимательность его разговора. Жаль только, что совершенно отказавшись от честолюбия, он предавался забавам, неприличным его летам и высокому званию… Совсем не схожий с Ростопчиным другой недовольный — Чичагов — сотовариществовал ему в его увеселениях. Не знаю, могут ли парижане гордиться тем, что знаменитые люди в их стенах как в непристойном месте, почитают себе все дозволенным. Раз получил я, — продолжает Вигель, — от Ростопчина приглашение потешиться с ним забавным зрелищем, приготовленным у одной пожилой маркизы д’Эстенвиль. Это была настоящая маркиза, не выдуманная. Но не только Сен-Жерменское предместье, а все порядочные женщины других состояний давно уже чуждались ее общества. К ней Чичагов взялся представить Каллиархи, а Ростопчин с С. и со мною должен был приехать невзначай, как будто в гости. Особые почести, особые церемонии ожидали там нового Мамамуши, которого хотели возвести на высокое седалище в виде трона. Мне больно было видеть русских вельмож, которые, думая дурачить одного человека, сами немного бы дурачились, и я нашел предлог извиниться, чтобы не участвовать в этой проделке. Каллиархи был у Ростопчина домашним буффоном[313], С. — весьма полезным вестовщиком. Я же, кажется, ни на что не годился. А он оказывал мне много благосклонности, я думаю, от того, что я всегда с жадностью слушал его умные речи. На прощание он подарил мне литографированный портрет свой, весьма схожий, с подписью:
Без дела и без скуки Сижу, поджавши руки»[314].Очень может быть, что забавное похождение, упоминаемое Вигелем, не носило такого предосудительного характера, как это желает представить Вигель, но, во всяком случае, приведенная страничка из воспоминаний Вигеля важна для нас, как некоторый корректив к тому возвышенно-великопостному тону, с каким сам Ростопчин говорил в письмах к семье о своей жизни в Париже.
Весною 1817 г. Ростопчин переехал в Баден. И здесь его появление вызвало сенсацию. По свидетельству Варнгагена, «имя Ростопчина затмило все другие. Его личность, в которой находили соединение всевозможных противоположностей, привлекала внимание всех».
К осени к Ростопчину в Париж приехала и его семья, и они основались там на целых шесть лет. Ростопчин продолжал вращаться в парижском высшем свете. Он внимательно следил за политической и общественной жизнью Франции и плоды своих наблюдений сообщал в интересных письмах к Семену Воронцову. Затем он свел эти наблюдения воедино в обширной записке, которую он отправил к императору Александру перед своим возвращением в Россию в 1823 г. Записка называлась — «Картина Франции». И эти письма, и эта записка послужат нам в дальнейшем изложении важным материалом для характеристики мировоззрения Ростопчина. Кроме того, он написал в эти же годы свою известную брошюру «Правда о пожаре Москвы».
Помимо этих литературных занятий, он заполнял свой невольный обширный досуг собиранием библиотеки и картинной галереи. В письмах к Воронцову он то и дело упоминает о приобретении книг и картин[315].
Ни рассеяния светской жизни, ни кабинетные занятия, ни семейные радости — в Париже он выдал замуж двух дочерей — не могли вернуть Ростопчину довольства своим существованием. Как ни как, жизнь его была разбита, он чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. Никаких перспектив не открывалось перед ним ни в близком, ни в отдаленном будущем. И настроение разочарованности и хандры часто окрашивает его приятельские послания к Воронцову. В конце декабря 1819 г. он пишет, например: «Я прошел с неизменной порывистостью своего характера чрез все обольщения жизни; я испытал все роды любви, все виды безумств: я увлекался любовью к женщинам, к почестям, к общественным хвалам, к отечеству, и результатом всех этих жертв было превращение моей личности в склад болезней, в вместилище скуки и мнительности и существование, близкое к ничтожеству. Не велик был список моих друзей. Но вследствие смертей и других обстоятельств я все вычеркивал и вычеркивал из него, и вот теперь в нем уже не более четырех имен…»[316].
Наконец, его потянуло на родину. Незадолго перед тем, как покинуть Париж, он написал старшей дочери: «Ты хорошо делаешь, что любишь родину… всегда нужно кончить возвращением на родину, чтобы умереть там, если на то будет воля Божия. Можно странствовать по свету для своего удовольствия, образования или здоровья, и все-таки внутренний голос скажет нам: иди кончать жизнь там, где ты ее начал» (Сегюр).
Ростопчин, действительно, ехал в Россию умирать. Те два года, которые он прожил на родине, можно с полным правом назвать медленным умиранием. Вернувшись в свое Вороново, заново отстроенное после 12-го года, Ростопчин написал там воспоминания о событиях Отечественной войны. К зиме 1823 г. он переехал в Москву в свой дом на Лубянке. Здесь к нему пришла полная отставка от службы. Вскоре затем безнадежно занемогла его младшая дочь. В марте 1824 г. чахотка унесла в могилу молодую девушку. Это окончательно сломило Ростопчина. Его здоровье стало быстро разрушаться. К концу 1825 г. он уже стоял одной ногой в могиле. Он еще продолжал отзываться на текущие события раздраженно-колкими замечаниями. Так, после катастрофы 14 декабря 1825 г. в обществе быстро распространилось его известное bon mot: «До сих пор революции делались сапожниками, желавшими стать важными господами, а тут — революцию пытались совершить важные господа, чтобы сравняться с сапожниками». Эти шутки произносились уже умирающими устами. Водянка быстро делала свое дело. В последний раз он с усилием поднялся с постели, чтобы у себя на дому принести присягу императору Николаю Павловичу[317]. После этого он приказал подать шампанское и в кругу домочадцев провозгласил тост за нового государя. 30 января 1826 года его не стало. Он умер 60 с лишним лет, и согласно его желанию, был похоронен без всякой помпы на Пятницком кладбище. В различные моменты жизни он много раз сочинял эпитафии для своего будущего надгробного памятника. В конце концов он пожелал, чтобы надгробный камень над его прахом был украшен следующей надписью:
Среди своих детей Я отдыхаю от людей.Эта надпись, действительно помещенная над его могилой, верно выразила итог его жизни. Общение с людьми не принесло ему отрады. Задолго до смерти он был обречен на почти полное духовное одиночество. Он не мог не чувствовать своего положения: слишком сгущена была вокруг его имени атмосфера негодования и злобы. И может быть, наиболее тяжкой чертой такого существования являлось то обстоятельство, что в глубине души, в самых сокровенных изгибах молчаливых помышлений он должен был признавать суровый суд людей над своей личностью не лишенным веских оснований. Люди отринули его не потому, что он остался непризнанным и непонятым. Как раз наоборот: своими поступками он слишком ясно обнаружил перед светом сущность своей личности и слишком больно дал почувствовать многим ее отрицательные стороны.
Мы обозрели внешние рамки биографии Ростопчина. Теперь мы можем перейти к изучению внутреннего смысла деятельности этого человека и попытаться определить тот общественный тип, выражением которого явилась его личность. Быть может, это рассмотрение покажет нам, что «ростопчинский дух» надолго пережил того человека, биографию которого мы только что рассказали, что, и покоясь в могиле в течение вот уже 86 лет, Ростопчин все еще не перестал быть духовным современником известной категории общественных деятелей наших дней.
IV МОРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РОСТОПЧИНА
В своей повести «Ох, французы!» Ростопчин, описывая смерть старого дворянина, бывшего образцом национальных русских добродетелей, дает следующее перечисление тех доблестей, которые, по его мнению, составляют сущность «истинного русского духа»: «страх Божий, любовь к отечеству, почтение к государю, сострадание к людям и уважение к начальству». В письме к императору Александру от 17 декабря 1806 г. Ростопчин указывает на то, что для сохранения мощи государства необходимо пресекать в корне «толки мнимой вольности», ибо все проистекающие из таких толков возмущения сводятся к желанию черни «истребить дворянство».
Итак, обязанность населения — чтить начальство; задача начальства — охранять дворянство от буйной черни. В этих двух положениях для Ростопчина, как для политика, весь «закон и пророки». Ростопчин от младых ногтей и до гроба был неуклонным знаменосцем того «старого порядка», который в России достиг окончательного завершения в царствование Екатерины II и существо которого сводилось к совмещению политического абсолютизма с социальным рабством. В России, сказал Сперанский, крестьяне — рабы своих господ, господа — рабы своих государей. Нельзя лучше выразить сущность политико-социального строя России того времени и вместе с тем нельзя ярче формулировать государственно-общественный идеал Ростопчина. Но для Ростопчина особенно характерно то, что эту идеологию всяческого рабства он развертывал как независимое общественно-политическое знамя. В этом его глубокое отличие от другого выкормленника павловской Гатчины — Аракчеева. И Аракчеев стоял за рабье государственное миросозерцание. Но, будучи последователен до конца, он разумел под рабьим повиновением полное отречение от духовной самостоятельности, полную готовность, не рассуждая и не прекословя, исполнять малейшее желание господина. Ростопчин носился, наоборот, с фантастическим идеалом независимого гражданина, исповедующего идеологию политического рабства и увлеченного этой идеологией не за страх, а за совесть. Для Аракчеева воля господина была законом независимо от ее содержания, ибо входить в ее рассмотрение и оценку значило бы в его глазах переступать границы того действительного повиновения, которое составляет существо подлинного холопства. Хотя бы приказания господина оказались взаимопротиворечивыми, — их нужно исполнять, не обинуясь. В силу этого положения Аракчеев мог с одинаковым рвением и насаждать каторжный режим в военных поселениях, и составлять проекты об отмене крепостного права. Все зависело лишь от того, что прикажут свыше. Дело холопа — техническое умение выполнить каждый данный приказ; идеи, принципы, убеждения — дело господина. В этой истинной холопьей философии все как нельзя более ясно и последовательно. Напротив того, политическая программа Ростопчина вся пронизана противоречиями. Он не как холоп, а как гражданин, настаивает на порабощении общества, видя в этом единственно спасительное начало государственной жизни. По его мнению, общество должно стоять за политическое рабство в стране не в силу отказа от всякого права на самостоятельные суждения о государственных вопросах, а в силу самостоятельного признания того, что только политическим рабством достигается общественное благо. Согласно этой философии общество не только должно безропотно подчиняться политическому бесправию, но если бы самодержавный монарх решил дать ему политические права, оно должно было бы требовать во имя общего блага, чтобы его оставили на прежнем бесправном положении, иначе говоря, в этом случае общество во имя принципа бесправия, т. е. — что то же — во имя безусловного повиновения воле самодержавного монарха, должно было бы противиться этой воле и настаивать на своем праве быть бесправным. Ростопчин нигде не формулировал таким именно образом этих положений, логически вытекавших из его воззрений. Всего вероятнее, что он сам испугался бы подобных выводов из его убеждений. И тем не менее только к этим выводам и ни к каким другим мог привести тот строй мысли, за который он всегда стоял. Он всегда отстаивал необходимость политического рабства, претендуя в то же время на независимость мысли и поведения, которые могут быть свойственны только свободным гражданам. Но независимая общественная мысль по самой своей природе не может превозносить политическое рабство, не впадая в безвыходный круг самых уродливых противоречий. Ростопчин не становился лицом к лицу с такими самопротиворечиями по той лишь причине, что русская жизнь того времени практически их не подчеркивала: политическое бесправие общества стояло незыблемо, и Ростопчину в этом отношении не приходилось вступать в какой бы то ни было разлад между теорией и практикой. Но представим себе, что Александр I действительно приступил бы к осуществлению конституционной реформы. Истинные конституционалисты той поры, конечно, приветствовали бы свое превращение из холопов в граждан и были бы только последовательны. Аракчеевы, не сморгнув, стали бы конституционалистами по приказанию начальства и тоже были бы вполне последовательны со своей точки зрения, предписывающей всякое приказание начальства беспрекословно исполнять.
Но в какое положение попали бы Ростопчины в момент перехода к новому государственному строю?
Как бы они ни поступили, им во всяком случае пришлось бы увязнуть в безвыходных самопротиворечиях. Одно из двух: или они примирились бы с исчезновением политического бесправия общества, — это означало бы с их стороны отказ от своего политического идеала, или они отказались бы признать действительность октроированной конституции, отказались бы признать действительность того акта самодержавной воли монарха, который состоял в отказе от самодержавия, и в таком случае они опять-таки стали бы в противоречие с собственной идеологией, но только с другой стороны: во имя сохранения чистоты самодержавия они стали бы бунтовщиками против самодержавного решения монарха ввести конституцию.
Все это не фантазии, не словесное только развитие отвлеченных возможностей. Мы, русские начала XX столетия, как раз только что наблюдали подобное явление в окружающей нас действительности. Разве мы не видели в наши дни «истинно русских монархистов», пытавшихся дать теоретическое объяснение своему непризнанию основ нового строя и принужденных ради этого договариваться до безнадежных абсурдов вроде того, что «неограниченное самодержавие имеет границу», ибо «самодержавный монарх не знает ни одного ограничения, кроме одного: он не может отказаться от своего самодержавия»[318].
Все это мы слышали и читали еще совсем недавно, и вот, при свете этих именно недавних наших впечатлений, Ростопчин, как представитель известного общественного типа, и получает в наших глазах особенный интерес. Ростопчин — отдаленная эмбриональная форма современных нам истинно русских приверженцев самодержавия с рабьей идеологией, но с крамольническим темпераментом, готовых с пеною у рта отстаивать абсолютную власть монарха, но лишь ввиду уверенности в том, что эта абсолютная власть может служить не иначе, как интересам именно их группы, по немецкой формуле: «Der Kônig absolut, wenn er unsem Willen thut»[319].
В Ростопчине черты этого типа выражены еще слабо, намеками. Как я уже заметил, это объясняется тем, что в условиях русской жизни того времени не было еще многих данных для полного развития такого типа во всех его сторонах. Но личность Ростопчина тем любопытна для интересующихся физиологией русского общества, что в ней мы получаем возможность наблюдать зачаточную завязь одной из тех формаций, которые так резко обозначились в наши дни при новом сочетании политических условий.
Если Ростопчин резко и определенно высказывался всегда против изменений в существующем государственном строе, если он являлся «охранителем» в своих политических воззрениях, то его побуждало к этому не желание подделаться во что бы ни стало к курсу правительственной политики. Он не отказался от охранительных воззрений и в тот период, когда правительственный курс принял заведомо либеральное направление: в дни всемогущества Сперанского, в период подготовки конституционной реформы Ростопчин решительно встал в ряды консервативной оппозиции. Я очень далек от представления о Ростопчине, как о рыцаре без страха и упрека. Он был, на самом деле, преисполнен человеческих слабостей. Но при всех этих слабостях ему все же не были чужды стремления к известной духовной независимости.
Ростопчин был беспощаден к своим врагам, и надо признать, что он готов был бороться с ними не только в честном открытом бою, но и при помощи интриг самого низменного сорта. Достаточно будет привести несколько тому примеров, чтобы для читателя стало ясно, как далек был Ростопчин от истинного величия души.
Еще в самом начале служебной карьеры Ростопчина, при жизни Екатерины II, вскоре после известного уже нам эпизода с несостоявшеюся дуэлью Ростопчина с Барятинским, Завадовский в письме к Семену Воронцову так высказался о Ростопчине: «Ростопчин — голова заносчивая… в интригах придворных его элемент»[320]. Мы знаем немало фактов, показывающих, что эти интриги нередко приобретали характер настоящей жестокости по отношению к людям, которые почему-либо становились Ростопчину поперек жизненной дороги, причем эта жестокость выражалась в большинстве случаев не в открытых действиях, а в разного рода ухищренных подкопах из-за прикровенной засады. Когда в царствование Павла Ростопчина постигла первая опала вследствие того, что он не поладил с всесильной тогда партией Нелидовой, он сумел и в положении опального подготовить падение влияния Нелидовой, войдя для этого в комплот с Кутайсовым[321]. У нас есть определенные указания на то, что именно рука Ростопчина руководила той интригой, в результате которой место Нелидовой при императоре Павле заняла Лопухина[322]. И как только этот будуарно-дворцовый переворот завершился, Ростопчин немедленно пожал его плоды. Опала с него была снята, и он был осыпан еще большими почестями, чем ранее. Переписка Ростопчина с императором Александром в 1812 году содержит в себе ряд любопытнейших примеров того, с каким рассчитанным искусством умел Ростопчин забрасывать при удобном случае камешки в огород своих врагов, чтобы мало-помалу зачернить их репутацию. Даже в наиболее торжественные, патетические моменты великой национальной опасности, когда, казалось, было уже не до мелочных личных счетов, Ростопчин не оставлял тактики мелкого подсиживания неприятных ему лиц и в свои донесения монарху о делах величайшей государственной важности постоянно вплетал разного рода намеки, кивки, шпильки с очевидной личной подкладкой. 29 августа 1812 г. Ростопчин писал Александру из Москвы, уже объятой ужасным волнением ввиду безостановочного поступательного движения Наполеона после Бородинской битвы. Наскоро передаются в этом письме сведения о неудачах с Леппиховским шаром и о пререканиях с сенаторами, которые не обнаружили желания беспрекословно повиноваться всем распоряжениям Ростопчина. По письму видно, что Ростопчин писал его впопыхах, исполненный тревоги и мрачных предчувствий. Но знаменательно, что даже и в такой момент он не забывает снабдить свое письмо змеиным шипом по очень прозрачному адресу. Письмо заканчивается словами: «Я не перестану до конца служить вам и моему отечеству. Живой или мертвый, — не ослабну в желании, чтобы вы распознали людей, которые, пользуясь вашим доверием, привели вас на край пропасти своею глупостью, неспособностью и лукавством». Этот элемент личных наветов еще более усилился в тех письмах Ростопчина к государю, которые он отправлял уже по занятии Москвы французами. Присоединившись на время к армии, Ростопчин всецело пристал к разноголосому хору тех людей, которые в это время старались всячески чернить Кутузова в глазах государя. Ростопчин предался этому занятию с особенной страстностью и выполнял его с особенным искусством. От 13 сентября он пишет из лагеря на Пахре: «…уже четыре дня Кайсаров[323] подписывает бумаги вместо князя (т. е. вместо Кутузова), подделываясь под его почерки, потому что князя никто не видит: он ест и спит целый день. Бенигсен[324] на все лады им руководит». Вот образчик ядовитого ростопчинского злословия, сразу попадающего в две цели — и в Кутузова, и в Бенигсена: все идет плохо, и в том виноваты и Кутузов, как ничего не делавший, и Бенигсен, как истинный вдохновитель всех этих плохих операций, — таков смысл пущенной Ростопчиным отравленной стрелы. На самом же деле, как общеизвестно, между Кутузовым и Бенигсеном были крайне натянутые отношения и ни о каком подчинении Кутузова влиянию Бенигсена ни один правдивый человек не мог бы заикнуться… В своем злословии Ростопчин не церемонился с истиной. Чрезвычайно характерно в интересующем нас теперь отношении письмо Ростопчина от 19 сентября. Сначала идут жалобы на господствующее в армии мародерство, на неспокойное состояние крестьян, на возможность бунтов, в которых выплывут на поверхность сокровенные «замыслы мартинистов». Затем начинают, как горох, сыпаться краткие заметки об отдельных личностях, и надо только удивляться умению автора письма в столь немногих словах натворить столько зла неприятным ему людям. Ростопчину достаточно одной фразы, чтобы нанести непоправимый вред репутации того, кого он решил оцарапать уколом своего пера. Вот характерные строки этого письма:
«… Здесь есть люди, желающие Палена. Но этот человек весьма опасен. По ненависти он предпочтет вашу гибель благу государства. Мне не нравится, что Бенигсен покровительствует полякам. Злодею, как Бонапарт, нужны изменники. Вчера приехал кн. Волконский[325], как я предполагаю, чтобы прислужить Кутузову; он сказал ему, что вы не особенно огорчились гибелью Москвы. Окружающие фельдмаршала негодяи повторили это, так что все падет на вашу ответственность и подтвердит возникшие сомнения в том, что столицу не защищали по вашему приказанию. Мне думается, что этот кн. Волконский не даст вам точного понятия об ужасном состоянии, в котором находится армия»[326]. Кто отдает себе ясный отчет в отношениях той поры, тот сразу увидит, с каким тонким искусством каждое из этих замечаний Ростопчина было рассчитано на самые слабые места свойственной Александру подозрительности. Я привел три образчика из писем Ростопчина к государю, рисующие изворотливые приемы ростопчинского интриганства. Но подобные приемы можно было бы черпать из этой переписки целыми пригоршнями.
Надо признать, что личные наветы такого рода представляли собой еще наиболее невинные проявления человеконенавистничества, на которое был способен Ростопчин. Когда нужно было свалить особенно неприятного врага или гибелью ни в чем неповинного человека вывести себя самого из критического положения и замести следы собственных ошибок, — в таких случаях Ростопчин отваживался не раз на действия, которые нельзя назвать иначе, как преступными.
Такие термины, как подлог, вероломство, отречение от собственных слов, не будут слишком сильными для характеристики этих действий. В известном издании «Материалы для жизнеописания Панина» можно найти длинный ряд тягчайших обвинений против Ростопчина, рисующих его нравственную личность в самом непривлекательном свете. К этим обвинениям нужно, конечно, относиться с большой осторожностью. Ведь Панин был заклятым врагом Ростопчина. Но нужно признать, что среди этих обвинений есть некоторые — и притом наиболее серьезные, — в подтверждение которых у нас имеются неопровержимые документальные доказательства. На них-то я и остановлю сейчас внимание читателя. Я уже не раз упоминал в предшествующем изложении, что окончательная опала Ростопчина при Павле была вызвана весьма предосудительным образом действия павловского фаворита. Вот в чем он заключался.
Панин занимал при Павле пост вице-канцлера, т. е. ближайшего помощника Ростопчина по управлению коллегией иностранных дел. Вследствие ряда резких столкновений с Ростопчиным Панин был отставлен от службы. Ростопчин не удовольствовался этим и искал случая окончательно погубить Панина. Что же предпринял он для этой цели? Ростопчин стоял тогда во главе управления почтовыми учреждениями. Это давало ему возможность сводить счеты со своими соперниками при полощи перлюстрации их частной корреспонденции. Панин был осторожен и не давал повода уличить себя в чем-нибудь этим путем.
Тогда Ростопчин не остановился перед злостной фальсификацией. На почте было перехвачено какое-то письмо, в котором находились сочувственные строки о некоем, не названном по имени, опальном вельможе: «Я видел нашего Цинцинната в его поместье»[327], — сказано было в этом письме. Ростопчин тотчас представил письмо государю, заявив, что это письмо писано Паниным, а под лестным наименованием Цинцинната в нем разумеется кн. Репнин, незадолго перед тем подпавший под гнев государя[328]. Павел распалился страшным гневом и повелел московскому главнокомандующему Салтыкову[329] объявить Панину высочайший выговор за то, что он позволяет себе восхвалять людей, заслуживших опалу монарха. Панин заявил Салтыкову, что он никогда никому не писал подобного письма. Об этом заявлении доложили императору. Полагаясь безусловно на Ростопчина, Павел принял отречение Панина от письма за величайшую дерзость и повелел, уличив Панина, сослать его в деревню за 200 верст от Москвы. В это время к Кутайсову явился действительный автор злополучного письма. То был некто Приклонский, служивший у Панина. Узнав в Москве, что из-за его письма, которое он писал Муравьеву, стряслась такая беда над неповинным Паниным, Приклонский имел благородство смело открыть свое авторство. Он прискакал в Петербург и через Кутайсова довел до сведения государя, что автор письма вовсе не Панин, а он — Приклонский, а под Цинциннатом в письме разумеется не кн. Репнин, а Панин. Ярость Павла не имела предела при получении этого известия. «Ростопчин — чудовище, — сказал государь, — он хочет сделать из меня орудие своей личной мести; ну, так я же постараюсь, чтоб она обрушилась на него самого».
И Ростопчин в тог же день очутился в яме, которую он готовил для Панина. Во всей этой истории особенно важны два обстоятельства: 1) Ростопчин не мог не знать хорошо почерка Панина, находившись долгое время в непосредственных с ним служебных сношениях и 2) по общему контексту письма Приклонского нельзя было не понять, что речь в нем шла не о Репнине, а о Панине. Очевидно, таким образом, что Ростопчин действовал в этой истории с обдуманным злостным намерением, а вовсе не по какой-нибудь ошибке[330].
С тем же Паниным позднее у Ростопчина разыгралась еще одна история, показывающая, что Ростопчин, смелый на злостные подлоги, способен был простирать свою трусость до лживого отречения от собственных поступков и слов, когда его требовали к ответу и припирали к стене. Подробный рассказ об этой истории, сопровожденный оправдательными документами, находим в томе VII «Материалов для жизнеописания Панина». Вкратце дело сводилось к следующему.
В июне 1801 г. Ростопчин написал из Воронова первое письмо к Семену Воронцову после продолжительного перерыва в их дружеской переписке. Перерыв этот произошел по той причине, что Семен Воронцов, не одобрявший вообще англофобской политики Ростопчина при императоре Павле, в то же время не стал на сторону Ростопчина и в его тогдашних столкновениях с Паниным и даже в одном своем письме к Панину назвал его «своим добрым другом». Это последнее обстоятельство стало тогда же известно Ростопчину и глубоко его уязвило. Решившись в 1801 г. возобновить письменные сношения с Воронцовым, Ростопчин все же начал свою возобновленную переписку с упрека в том, что Воронцов находит возможным называть Панина своим другом. При этом Ростопчин не преминул в письме обрушиться на Панина в самых несдержанных выражениях, называя его человеком подлым, низким интриганом, заслуживающим эшафота, презрения честных людей и удивления негодяев. Черновик этого письма в 1812 г. был забран французами в московском доме Ростопчина и в ноябре 1812 г. был напечатан Наполеоном в Journal de l’Empire, а оттуда перепечатан на столбцах Усть-Эльбских Ведомостей. Понимая, что опубликование такого письма не могло не вызвать отпора со стороны Панина, Ростопчин поместил в «Русском Вестнике» в номере от 29 марта 1813 г. следующее заявление: «Что всего гнуснее, Бонапарте напечатал в газетах письмо, будто бы моею рукою писанное и найденное в моих бумагах, переменяя в нем и слог, и слова, и мысли…». Заявление это было, разумеется, в высшей степени подозрительно по своей двусмысленности. Сопоставив две фразы, набранные нами курсивом, читатель заявления никак не мог бы понять, писал ли Ростопчин в действительности подобное письмо или нет, сфальсифицировано ли письмо целиком по приказу Наполеона, или в подлинном ростопчинском письме были лишь допущены крупные искажения. Понятно, что, ввиду такой двусмысленности этого заявления, Панин не мог им удовлетвориться и потребовал от Ростопчина категорического разъяснения всей этой истории. Не буду воспроизводить здесь пространного рассказа самого Панина о всех подробностях его сношений с Ростопчиным по этому делу. Рассказ этот напечатан в VII томе названного выше издания. Приведу лишь то, что имеет существенную важность для характеристики нравственной личности Ростопчина. На требование Панина объяснить со всей точностью, в какой именно мере Ростопчин отрекается от текста, приписанного его перу в заграничных газетах, Ростопчин отвечал сначала следующей запиской: «Вот уже год, как я узнал, что Бонапарт нашел возможным напечатать в гамбургской газете и германских журналах несколько писем. Сказанное мною в Русском Вестнике выражает то, что я думаю о приемах Наполеона. Естественно, что я не могу признать ни одной бумаги, которая будет напечатана и приписана моему имени по приказанию дурного человека, оказывающего мне честь своей ненавистью». Вместо ясного и точного ответа на предложенный вопрос здесь опять был экивок, за которым вполне можно было предположить желание увильнуть от откровенного объяснения. Ростопчину предложено было формально отречься от письма, которое уже было ему приписано в иностранной печати, а он вместо того заявлял, что не может поручиться за верность того, что ему может быть приписано в будущем. Панин в самых резких выражениях вторично потребовал от Ростопчина такого ответа, который не оставил бы уже никаких сомнений по своему изложению. От твердо решил или добиться от Ростопчина такого ответа, или потребовать его к барьеру. И тогда Ростопчин написал Панину: «То, что я имел честь сказать вам в моем первом письме относительно брошюр, гнусностей и глупостей, публикуемых по приказанию Бонапарта от моего имени, относится также и к письму к графу Воронцову. Его ненависть против меня достаточно известна, чтобы служить доказательством тому, что хула на поименованных там лиц была написана под его диктовку или автором этих бюллетеней».
Таким образом, Панин получил полное удовлетворение. Ростопчин письменно засвидетельствовал, что приписанный ему в иностранных газетах текст целиком выдуман с целью повредить ему. И вот теперь мы можем с документом в руках убедиться в том, что Ростопчин для избежания ответственности перед Паниным пошел на самую беззастенчивую ложь. При разборке архива Воронцова был найден оригинал письма Ростопчина к Воронцову от 30 июня 1801 г., и этот оригинал оказался дословно сходным с текстом, напечатанным Наполеоном[331].
Выходит, что вопреки заявлениям Ростопчина — письменным и печатным, — Наполеон не только не выдумал несуществующего письма, но даже ничего не изменил в том, что действительно вышло некогда из-под пера Ростопчина и от чего он затем малодушно отрекся, когда от него во имя чести потребовали отчета в его словах.
Такую же заведомую ложь допустил Ростопчин и в страшном деле Верещагина. Дело это много раз было подробно излагаемо в печати, и я имею все основания считать его общеизвестным. Пересказывать здесь это дело я поэтому не буду, ограничившись лишь указанием на то, что наиболее обстоятельные и строго-критические исследования всех перипетий этой ужасной истории представлены в двух работах: в сочинении Попова «Москва в 1812 году»[332] и в очень ценной статье, помещенной в VIII томе издания П. И. Щукина «Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г.» и озаглавленной «Дело Верещагина». В настоящий момент меня интересует лишь один вопрос в верещагинском деле — какой характер носили приемы Ростопчина при ведении этого дела. Как раз по этому вопросу авторы двух названных только что работ расходятся в своих толкованиях.
В процессе Верещагина всего более бросается в глаза следующее обстоятельство: Верещагина судили как сочинителя той статьи, которую он давал читать разным лицам. Между тем эта статья представляла собой русский текст речи Наполеона, напечатанный в иностранных газетах, следовательно, Верещагин был не сочинителем, а только переводчиком статьи, сочинение которой было ему поставлено в вину. Очевидно, что при той или иной квалификации поступка Верещагина мера его ответственности существенно изменялась. Сочинение речи, исполненной вражды к России, в целях ее распространения, было бы в тот момент действительно тяжким государственным преступлением. Но перевод отрывка из иностранной газеты, касающегося событий, которые не могли не привлекать к себе в то время всеобщего внимания, очевидно, можно было бы принять не более как за проявление, может быть, не совсем осторожной любознательности. Во всяком случае факт перевода на русский язык одной из речей Наполеона сам по себе отнюдь еще не мог свидетельствовать о сочувствии переводчика содержанию этой речи.
И вот, является вопрос: на ком лежит нравственная ответственность за искажение сущности поступка Верещагина, за превращение его перед лицом суда из переводчика в сочинителя опасной бумаги? Попов всецело обвиняет в этом Ростопчина, указывая на то, что в ряде писем к государю Ростопчин определенно и настойчиво называл Верещагина сочинителем (auteur) прокламации от имени «врага своего отечества». Так именно выразился Ростопчин в письме к Александру от 30 июня 1812 года, в котором он впервые сообщал государю о том, «какого он откопал злодея». В письме от 4 июля Ростопчин опять говорит об «открытии сочинителя так называемого обращения Наполеона к князьям Рейнского союза»[333]. Правда, Верещагин сам в показаниях на следствии вскоре стал утверждать, что он сочинил злосчастную речь, приписав ее Наполеону. Но Попов справедливо указывает на то, что Ростопчин не мог не знать, что Верещагин в действительности был не более как переводчиком. Ростопчин, конечно, видел Усть-Эльбские Ведомости, в которых была напечатана та самая речь Наполеона. Позднее в своих мемуарах Ростопчин прямо написал: «Верещагин не признался, от кого он получил эту бумагу, которая не могла быть сочинена им». Следовательно, Ростопчин в письмах своих от 30 июня и 4 июля сознательно вводил в заблуждение государя, приводя факты в ложном освещении и не стесняясь тем, что эта ложь грозила полной гибелью неповинному человеку.
Составитель статьи в сборнике П. И. Щукина вводит, однако, в суждения обо всех этих фактах новые, весьма важные соображения. Он указывает на то, что превращение Верещагина из переводчика в сочинителя произошло не только не по инициативе Ростопчина, но прямо вопреки желанию и настоящим целям московского главнокомандующего. По совершенно справедливому и согласному с обстоятельствами дела мнению автора статьи, Ростопчин, возбуждая и раздувая настоящее дело, целил вовсе не в Верещагина, который сам по себе не представлял для Ростопчина никакого интереса; он целил в ненавистных ему мартинистов, в остаточных птенцов старого новиковского масонского гнезда, к которым принадлежал и московский почтмейстер Ключарев и которых Ростопчин во что бы ни стало стремился представить революционерами и изменниками. В этих целях для Ростопчина гораздо было важнее показать, что Верещагин не сам задумал свое дело, а явился лишь орудием Ключарева и его кружка, что он не из своей головы выдумал содержание найденной у него бумаги, а заимствовал ее содержание из иностранных газет, которые мог получить только через почтамт, т. е. через «масона» Ключарева. Версия об авторстве Верещагина, напротив, отнимала у Ростопчина возможность добраться до предполагаемых руководителей и направителей молодого человека. Эту версию и выдвинул перед судом не Ростопчин, а сам Верещагин, добровольно отягощая свое личное положение из благородного желания отвести грозу от своих покровителей и наставников. Конечно, было бы достаточно простой справки с иностранными газетами, чтобы ввести обвинения в правильные границы и раскрыть самонаговор Верещагина. Но, как опять-таки совершенно справедливо указал автор излагаемой статьи, этого не возможно было сделать по правилам тогдашнего судопроизводства, ибо, согласно одной из основных процессуальных аксиом того времени, собственное признание подсудимого в вине почиталось «лучшим доказательством всего света», оно уже не подлежало дальнейшей проверке, суд обязан был принять его на веру. После самооговора Верещагина Ростопчин уже не мог, если бы и хотел, опровергнуть авторство Верещагина даже предъявлением оригинала переведенной Верещагиным речи! Автор статьи думает даже, что Ростопчин и возненавидел Верещагина именно за то, что тот сказкой о своем авторстве лишил Ростопчина возможности подвести под суд Ключарева и других московских масонов. За это-то Ростопчин и отомстил Верещагину позднее так жестоко, натравив на него уличную толпу[334].
Мы думаем, что многие указания и соображения автора этой статьи вполне основательны. Нельзя не согласиться с тем, что Ростопчину нужна была вовсе не гибель какого-то Верещагина; ему было нужно очернить Ключарева и других московских масонов и представить их заговорщической шайкой. Правильно и то, что, раз Верещагин объявил сам себя автором, а не переводчиком, Ростопчину стало уже бесцельно восстанавливать перед судом истинную сущность роли Верещагина, ибо это все равно не могло дать никакого практического результата. И все-таки, несмотря на все эти обстоятельства, автор статьи, думается нам, не прав, снимая с Ростопчина всякую ответственность в отягощении участи Верещагина во время разбирательства дела. Не нужно забывать, что процесс Верещагина принадлежал к числу таких, по которым окончательная резолюция могла быть постановлена только государем. Если судебные учреждения до высшей инстанции, т. е. сената включительно, были связаны при постановке своих вердиктов самонаговором подсудимого, то окончательная резолюция монарха постановлялась вне всяких формальных ограничений, не на основании каких-либо предустановленных процессуальных правил, а, как принято выражаться, «в путях монаршего милосердия». Следовательно, Ростопчин, убежденный в неправильности обвинения Верещагина в авторстве злополучной речи, должен был бы во имя справедливости и доброты сердца разъяснить государю совершаемую судебную ошибку, и это разъяснение могло бы иметь чисто практическую цель, оно могло бы повлиять на содержание окончательной резолюции монарха. Ростопчин поступил совершенно иначе. Убедившись в том, что благодаря самоотверженности Верещагина, все равно не удастся запутать в процесс Ключарева и его единомышленников, Ростопчин начинает мстить Верещагину за то, что тот расстроил его планы, и вопреки собственному убеждению начинает в своих донесениях государю упорно называть Верещагина сочинителем, а не переводчиком бумаги, — только так и можно объяснить поведение Ростопчина в этом деле. Очень может быть, что то же чувство мести по отношению к Верещагину составило одно из побуждений, подстрекнувших Ростопчина отдать Верещагина на растерзание черни перед входом в Москву французов.
Этим зверским поступком Ростопчин несомненно попрал не только божеские, но и человеческие законы. В то время, когда перед домом московского главнокомандующего творился суд Линча, формальный процесс Верещагина еще не был завершен. По делу состоялось уже постановление сената. Но, как я уже заметил, это постановление должно было обязательно поступить на благовоззрение императора. Таким образом, если бы даже сенат приговорил Верещагина к смертной казни, то и в таком случае Ростопчин не имел бы права исполнять приговора впредь до конфирмации его государем. Но даже и в сенатском приговоре Верещагин присуждался вовсе не к смертной казни, а к наказанию кнутом и ссылке на каторжные работы в Нерчинск. Немудрено, что для последующих самооправданий перед государем в этом деле Ростопчин не мог изобрести никаких способов, кроме продолжения самого беззастенчивого лганья. В письме к Александру 2 декабря 1812 г. Ростопчин, уже зная, как повредило ему в глазах государя дело Верещагина, старается оправдаться и пишет: «Верещагин был злодей по натуре и по принципам; сенат осудил его единогласно на крайнюю казнь». Это была явная ложь, в которой Александру не трудно было убедиться. Немудрено, что самооправдания Ростопчина не имели никакого успеха.
Уже и в приведенных примерах нравственная личность Ростопчина обрисовывается вполне выразительно. Но я должен добавить к сказанному еще две черты. Не стесняясь пускать в ход ложные наветы для того, чтобы подготовить гибель неприятных ему лиц, Ростопчин доходил порой в своем нравственном падении и до отвратительного вышучивания беззащитного, находящегося в полной его власти врага. Во время своего хозяйничания в Москве перед приходом Наполеона Ростопчин, между прочим, распорядился выслать из столицы на барке по Москве-реке группу французов, почтенных московских жителей, среди которых были артисты, книгопродавцы и т. п. Высыпаемые не подали никакого повода к применению по отношению к ним подобной меры. Но со стороны Ростопчина то был один из тех эффектных по внешности жестов, которые — как увидим ниже — складывались у него в целую определенную систему. Иностранцы были посажены на барку, отплытие которой должно было состояться при большом стечении народа. Можно представить себе настроение этих несчастных во время торжественной церемонии отплытия барки! И вот в такой-то момент Ростопчин счел неизлишним дать этим беднягам возможность насладиться его генерал-губернаторским остроумием. Перед отплытием барки чиновник прочитал арестантам послание Ростопчина, в котором возвещалось, что их удаляют, чтобы предотвратить кровопролитие и «не подражать сатанинскому бешенству французских революционеров»; обозвав высылаемых негодяями и посоветовав им сделаться добрыми русскими гражданами — заметим, что высылаемые не были изобличены ни в чем предосудительном — Ростопчин заканчивал письмо милыми каламбурами: «Войдите в барку и войдите в самих себя (т. е. «не будьте вне себя») и не превратите ее в барку Харона[335]. Прощайте, добрый путь».
Все неприличие и вся нравственная низость этого послания не доходили до сознания Ростопчина.
Наконец, чтобы довершить очерк нравственных недостатков интересующей нас личности, мы должны сказать, что Ростопчина нельзя признать безупречно-честным человеком и в самом узком, материальном смысле этих слов. Ростопчин не мог бы по совести сказать про себя, что к его рукам никогда не прилипало чужое добро. Коцебу и Панин обвиняют Ростопчина в корыстном пользовании казенными деньгами еще в бытность его министром при Павле. Обвинения эти приходится оставить на ответственности названных лиц, не забывая того, что эти лица вообще были проникнуты враждебными чувствами к Ростопчину. Но был в жизни Ростопчина эпизод, в котором способность этого человека к развязному обращению с чужой собственностью вырисовывается уже более заверенными чертами. То было в очень ответственное для Ростопчина время, когда его служебное положение и вся обстановка момента должны были бы побуждать его к особенно осторожному взвешиванию каждого своего шага. Москва только что была очищена французами. Ростопчину предстояло наводить порядок на московском пепелище. Прежде всего необходимо было твердой рукою положить предел всякого рода мародерству. И, конечно, надо было начать с полиции и с других представителей власти, заставив их держаться на высоте самого безупречного исполнения долга. Ну, а Ростопчин начал с того, что первый вошел в дележ недограбленного французами имущества частных лиц. Еще сидя во Владимире и только собираясь вернуться в Москву, Ростопчин занимался со своим прихвостнем Булгаковым приятными разговорами о разных вещицах, брошенных на произвол судьбы в богатых домах разрушенной Москвы. Вот что писал Булгаков своей жене из Владимира от 19 октября 1812 г.: «… граф (т. е. Ростопчин) намерен выместить наши потери. Так как мы лишились всего, то он объявил нам, что мы вправе взять из магазина Шальме все, что только нам заблагорассудится. Он предлагает тебе и seconde maman[336] лучшие два чайных сервиза, для seconde maman — запас французского табаку, для тебя духов, помады и все, что мне вздумается. Для себя самого граф возьмет столовый сервиз, так как его собственный похищен. Приложены печати, приставлен караул, опись составлена, так что Ивашкина ошибется в своих расчетах; разве ее муж захватит какую-нибудь другую лавку…»[337]. Упоминаемая здесь Шальме была содержательницей самого крупного французского магазина в Москве. Она бежала из Москвы вместе с наполеоновской армией, бросив на произвол судьбы свой магазин. Ивашкин — московский полицмейстер. Теперь читатель поймет, какую картинку раскрывает перед нами только что процитированное письмо Булгакова, драгоценное по своей откровенности. Лишь только ушли французы, у дымящихся еще развалин Москвы засуетились русские чиновники, стараясь перебить друг у друга остатки французской добычи. К богатому магазину приставляется стража, составляется опись вещей. От кого охраняется магазин? От московского полицмейстера, чтобы он там не начал хозяйничать в пользу своей супруги. Для чего предпринята эта охрана? Для того, чтобы наиболее соблазнительные вещи могли беспрепятственно забрать себе московский главнокомандующий и его клевреты.
Благие намерения, намеченные Ростопчиным во Владимире, были приведены в исполнение в Москве. Тот же Булгаков писал жене уже из Москвы от 25 октября: «Граф взял у бездельницы Шальме все, что нужно для стола; когда он выйдет, я тоже отправлюсь забрать свою долю…»[338].
Административный грабеж производился под руководством Ростопчина так широко и непринужденно, что об этом тогда говорила вся Москва. Известная уже нам Волкова писала приятельнице 17 декабря 1812 г.: «Я решительно отказываюсь от моих похвал Ростопчину вследствие его последней выходки, о которой мне сообщили. Ты, верно, слышала, что мадам Обер-Шальме, бросив свой магазин, в котором находилось на 600 тысяч рублей товара, последовала за французской армией. Государь приказал продать весь этот товар в пользу бедных. Именитый же граф нашел более удобным поделиться им с полицией. Младшему из чиновников досталось на пять тысяч рублей вещей. Сообрази, сколько пришлось наделю графа и Ивашкина. Это скверно до невероятности. Мой двоюродный брат Волков отказался от своей доли. Спиридонов московский комендант, и князь Борис Андреевич Голицын, которые также были приглашены к дележу, тоже не захотели в нем участвовать. Неизвестно, чем кончится эта история, но она отвратительна»[339].
V ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ РОСТОПЧИНА
Я могу теперь считать себя свободным от возможности упрека в том, что я оставил читателя в неведении относительно отрицательных сторон личности Ростопчина. Но и после всего сказанного выше я должен заявить, что, как ни далек был Ростопчин от истинного величия души, ему все же не было чуждо стремление к независимости поведения, и подчас он умел выражать эту независимость в таких поступках, на которых виднелась печать нравственной смелости. Быть может, он слишком громко сказал о себе в своей полушуточной автобиографии «Mémoires, écrits en dix minutes»[340]: «Жизнь моя была плохая мелодрама, с хорами, плясками, превращениями и великолепным спектаклем. Я играл в ней героев, тиранов, любовников, благородных отцов, резонеров, но никогда не брался за роли лакеев». Но в его нравственном формуляре как-никак можно указать поступки, действительно несовместимые с духовным лакейством. Уже его решимость при самом начале своей карьеры громко обличать тех придворных, которые манкировали служебными обязанностями по отношению к опальному наследнику престола, — уже эта решимость требовала по тому времени значительного запаса независимой смелости. Но, скажут, то была вспышка горячей молодости, когда еще кровь не перебродила. Однако, вот и еще факты. При Павле Ростопчин был на положении фаворита. Тягостность такого положения более чем очевидна. Насколько же Ростопчин желал и сумел сохранить при этом духовную самостоятельность? Сегюр рисует нам сцены, в которых Ростопчин выступает перед Павлом в роли поистине бесстрашного римлянина легендарных эпох античной истории. Однажды, рассказывает Сегюр, Павел вернулся с парада в страшном гневе: сукно солдатских мундиров показалось ему плохим. Он приказал Ростопчину тут же предписать графу Воронцову сдать поставку сукна на русскую армию английским фирмам. Ростопчин позволил себе заметить, что это разорит русских фабрикантов. Павел рассвирепел в еще большей мере. Тогда Ростопчин садится к столу и пишет приказ Воронцову. Павел скрепляет написанное своей подписью. Ростопчин снова берет перо и вслед за подписью императора приписывает: «не делайте ничего: он сумасшедший». «Ты что-то добавил к моему приказу?» — спрашивает Павел. Ростопчин показывает императору приписку, Павел прочитал, побледнел, заходил по комнате крупными шагами и вдруг… бросил приказ и обнял Ростопчина со словами: «Благодарю тебя. Ты прав. Дай Бог, чтобы все мои слуги были такими».
Вот другой факт, рассказанный в книге Сегюра. Император разгневался на императрицу Марию Федоровну и приказал Ростопчину изготовить указ о ссылке Марии Федоровны в Соловки вместе с объявлением великих князей Николая и Михаила Павловичей[341] незаконнорожденными. Ростопчин пробовал отговорить государя от такого шага, но без успеха. Тогда Ростопчин удалился и через несколько часов прислал Павлу письмо такого содержания: «Государь, ваши приказания исполняются, и я занят составлением роковой бумаги. Я буду иметь несчастье представить ее вам завтра утром. Дай Бог, чтобы вы не имели несчастия ее подписать и включить в историю страницу, которая покроет позором ваше царствование. Небо дало вам все, чтобы вы могли пользоваться счастьем и распространять его на весь мир, но вы при жизни создаете ад и сами себя к нему присуждаете. Я слишком дерзок, я готовлю себе гибель, но моим утешением в немилости будет сознание, что я достоин ваших благодеяний и моей чести». Через несколько минут Ростопчин получил ответ от Павла: «Вы ужасный человек, но вы правы. Да не будет больше речи об этом. Будем петь и забудем все. Прощайте, сеньор Ростопчин».
Доверять ли этим сообщениям? Происходили ли эти факты именно так, как они здесь рассказаны? К большому неудобству нашему рассказанные Сегюром эпизоды касаются того, что могло произойти лишь с глазу на глаз между Павлом и Ростопчиным. Значит, естественным источником сведений об этих фактах был сам Ростопчин. А мы знаем, как свободно мог обращаться Ростопчин с правдой в тех или иных личных целях. В своем месте я уже указывал на то, что книга Сегюра вообще носит характер сплошного безудержного панегирика Ростопчину. Вот почему сообщения Сегюра приходится оставить в стороне[342]. Но из павловской поры можно привести один эпизод, может быть, не столь эффектный, как вышеизложенные, однако не менее трогательный и, главное, засвидетельствованный с разных сторон. Суворов умирает в Петербурге, находясь под опалой Павла. И вот, несмотря на эту опалу, Ростопчин, некогда начинавший под начальством гениального полководца свою карьеру, явился к изголовью умирающего и присутствовал при последних минутах его жизни.
На посту московского главнокомандующего Ростопчин в сношениях с императором Александром также не останавливался перед шагами, соединенными с несомненным риском вызвать против себя неудовольствие государя. И не всегда подобные шаги сводились к проявлению вероломства или жестокости. Бывало и нечто иное.
Булгаков — сателлит Ростопчина — заявляет в своих воспоминаниях: «Партикулярные донесения Александру Ростопчин писал всегда набело и обыкновенно на французском языке. По приказанию графа я брал с них копии и запирал в особый ящик на ключ. Не один раз дрогнула у меня рука, списывая то, что Ростопчин говорил государю, критикуя правительственные меры, резко отзываясь о приближенных к трону лицах»[343].
Известные доселе письма Ростопчина к Александру некоторыми своими местами показывают, что Ростопчин действительно говорил с Александром резко, не оглядываясь по сторонам. В письме от 23 августа 1812 г. Ростопчин пишет, например: «Посреди самых неотложных занятий не могу воздержаться, чтобы не думать о злосчастном вашем жребии, благодаря которому выбор ваш останавливается на существах подлых, промышляющих вашею славою и благосостоянием государства». Ведь написать такие строки значило то же, что сказать государю: «вы не умеете выбирать людей, ваш выбор никуда не годится». А Ростопчин, конечно, отлично знал, с какой щепетильной чувствительностью относился Александр к такого рода критике его действий. Ростопчин не раз дает Александру советы, и эти советы опять-таки облекает в такую решительную форму, преподносит их таким не допускающим смягчений тоном, как никогда не решаются делать царедворцы, приспособляющиеся к дующим сверху ветрам. 7 октября 1812 г. Ростопчин, например, пишет государю из Владимира: «…Напишите манифест, исполненный печали, о потере Москвы; народ чувствителен; он не понимает, отчего вы не промолвите слова, и выводит из этого, что вы приказали сдать Москву». Давать Александру советы таким тоном, похожим на требования и упреки, позволяла себе только любимая сестра Александра, Екатерина Павловна.
Ростопчин отваживался заявлять Александру от имени населения такие требования, которые заведомо не могли быть приятны государю. Всем было известно, что Александр очень недоброжелательствовал Кутузову. И тем не менее Ростопчин взял на себя миссию облечь в письменную форму общераспространенное тогда желание видеть Кутузова во главе русских военных сил. 6 августа 1812 г. Ростопчин писал государю: «Москва желает, чтобы командовал Кутузов и двинул ваши войска… Я в отчаянии, что должен послать вам это донесение, но его требуют от меня моя честь и присяга»[344]. Впоследствии Александр признавал в письме к сестре, что именно это обращение Ростопчина окончательно побудило его согласиться, скрепя сердце, на передачу Кутузову главного командования. «В Петербурге, — писал Александр Екатерине Павловне от 18 сентября 1812 г., — я нашел умы всех за назначение старого Кутузова в главнокомандующие. То было общее требование. Зная этого человека, я сначала не желал этого, но когда письмом от 5 августа Ростопчин засвидетельствовал мне, что вся Москва желает, чтобы Кутузов командовал, так как Барклай[345] и Багратион к этому не способны, я не мог поступить иначе, как уступить общему желанию, и я назначил Кутузова»[346].
Александр принимал к сведению подобные заявления от имени населения, но не прощал в душе тем смельчакам, которые отваживались на роль громких выразителей таких заявлений. И Ростопчин, конечно, не мог не понимать, что его августовское письмо отнюдь не должно было увеличить благорасположение к нему государя.
Как же примирить эти две столь разнородные черты в духовной личности Ростопчина — низкое интриганство и способность к малодушной лжи по отношению к своим соперникам и врагам благородную смелость в высказывании своих мнений даже и в тех случаях, когда она могла подвергнуть его риску монаршей немилости? Думаю, что эта двойственность может быть объяснена только следующим образом. Ростопчин считал, что в борьбе с врагами хороши и допустимы всякие средства, и тут он, ничтоже сумняшеся, перешагивал через все нравственные перегородки, доходил до крайнего предела морального падения. Но, не стесняясь моральными принципами, Ростопчин в то же время твердо держался определенных социально-политических принципов, обнаруживая несомненную смелость и независимость в их высказывании и отстаивании.
В этом-то именно — повторю еще раз — и заключалась наиболее любопытная для нас особенность политической физиономии Ростопчина. Независимо смелое отстаивание свободолюбивых идеалов — в порядке вещей. Пресмыкающаяся угодливость перед властью сторонников политического рабства — обычное явление. Но в лице Ростопчина мы не находим ни того ни другого. Его идеалом было политическое и социальное рабство духовно независимых граждан. И этот идеал он не только исповедовал, но и стремился осуществлять в личной практике. И вот, рассматривая деятельность Ростопчина с этой стороны, мы и получаем возможность на конкретном примере исследовать, к каким практическим результатам вообще приводит стремление сочетать воедино столь взаимопротиворечивые, столь исключающие друг друга начала.
Наиболее ярко личность Ростопчина выразилась в его деятельности на посту московского главнокомандующего в 1812 году, и когда говорят о Ростопчине, всегда разумеют все совершенное им именно в это достопамятное время. Обыкновенно объяснение всех его тогдашних поступков выводится исключительно из личных черт его характера, из особенностей его темперамента, из свойств его натуры.
В гораздо меньшей степени внимание лиц, писавших о Ростопчине, обращалось на другую сторону дела.
Образ действий Ростопчина в качестве градоправителя Москвы в момент величайшей национальной опасности не только характерен для его личности, но и в то же время типичен для целой общественной формации, сложившейся в давние времена и до сих пор имеющей многих представителей. Поступки Ростопчина в 1812 году, при всей своей видимой легкомысленности, непродуманности и нелепости, в сущности, целиком вытекали из определенного склада убеждений, являлись неизбежным выводом из законченного политического миросозерцания. Эту связь между поступками Ростопчина и его воззрениями я и постараюсь осветить в дальнейшем изложении.
В течение всей своей жизни Ростопчин являлся убежденным противником политической свободы, народного самоопределения и народной самодеятельности. В громадных количествах разного рода писаний, вышедших из-под его пера в различные моменты его жизни, нельзя подметить ни единого диссонанса, ни единого колебания в направлении его мысли по вопросу о политической вольности.
В первой пробе его очень еще юного пера, в знакомых уже нам его очерках «Путешествие в Пруссию», он видит в стремлении к политической вольности не что иное, как недопустимую дерзость. С этой точки зрения Мирабо[347]для него — не более как дерзкий нахал, каких нельзя терпеть в благоустроенном обществе. Специально для России, по мнению Ростопчина, самодержавный строй — единственная опора мощи государства, и вот почему появление свободолюбивых стремлений он склонен объяснять прежде всего происками иностранцев, желающих ослабления России. Любопытное место на эту тему находим в одном письме Ростопчина к Цицианову от 1805 года. Ростопчин жил тогда в своем Воронове. Там его посетил Юнг. Сообщая Цицианову о приезде этого гостя, «сына славного о хозяйстве писателя»[348], Ростопчин замечает, что хотя видимая цель приезда Юнга состоит просто «в познании слоя земли, обрабатывания произведений и проч.», но, по слухам, он намерен заняться и составлением для России преобразовательных проектов. «Можешь себе представить, — замечает Ростопчин, — как Питт[349] настроил этого Юнга. Россия им всем давно тяжела. Образ ее правления составляет всю силу. Перемени пружину, и в ту же минуту из эликотовых часов выйдет несчастная кукушка»[350].
Я уже говорил выше о том, что в период преобразовательной деятельности Сперанского Ростопчин, только что начавший тогда снова выдвигаться из деревенского уединения на общественную арену, определенно и решительно примкнул к партии старого порядка, стал правоверным членом консервативного тверского салона великой княгини Екатерины Павловны, откуда была подведена мина под конституционные начинания Сперанского. Через тверской салон Ростопчин прошел и в московские главнокомандующие. Когда после крушения своей административной карьеры Ростопчин поселился за границей и получил возможность воочию наблюдать за деятельностью конституционных учреждений, он ни в чем не отступил от своих прежних политических воззрений и продолжал исповедовать ту любимую свою мысль, что политическая свобода есть источник народной пагубы. Варнгаген в своих заметках о знакомстве с Ростопчиным в Бадене пишет: «Ростопчин отталкивал либеральный дух, которому государи начали тогда уступать… он не мог понять, как можно было делить власть; он полагал, что только при посредстве единства власти можно всего достичь, будет ли эта единая власть представлена самим монархом или министром, или фаворитом, или любовником».
Либеральные стремления не внушали Ростопчину никаких симпатий; от представителей конституционного направления, от «либералистов», как говорили тогда у нас, он неуклонно сторонился. Когда в Париже княгиня Водемон хотела сблизить Ростопчина с Бенжаменом Констаном[351], Ростопчин сказал ей только: «Княгиня, этот человек никогда не будет моим Вениамином[352]».
Обильные указания на политическое настроение Ростопчина во время его пребывания за границей под конец его жизни находим в его письмах этой поры к Семену Воронцову.
Приведу несколько образчиков[353]. В 1817 г. он пишет из Бадена: «В Штутгарте я остановился на 17 дней по двум причинам: во-первых, вследствие дурной погоды и затем для того, чтобы посмотреть на окончательное разложение бесполезных штатов, созванных не на благо народов, но на бедствие настоящих и будущих государей… Когда я вижу, что короли занимаются лишь конституциями, министры — повышениями, а народы — революциями, я иногда бываю вынужден сожалеть о падении Бонапарта, который был бичом в руках Провидения». Конституционные требования — не плод действительной нужды в них, а просто проявление общественной блажи. «Жители левого берега Рейна, — пишет Ростопчин из Эмса в том же году, — требовали конституции; это стало столь же неизбежным, как требование хлеба и зрелищ у римлян». Деятельность народного представительства — сплошная бестолковщина: «представительное правление не может нисколько соответствовать нуждам нации, когда каждый хочет говорить и никто не умеет слушать».
Деятели либеральных партий именуются у Ростопчина не иначе, как канальями. «Карлсбадские постановления и в особенности циркулярная нота прусского министерства привели в ярость либеральных каналий здешней страны» (письмо из Парижа от 8 ноября 1819 г.). «Немецкая декларация привела в ярость здешних каналий-пропагандистов.
Они полагают в своем невежестве, что Германия подымется всей массой ради нескольких голов, украшенных париками à la Brutus[354]. Эти французские якобинцы[355] похожи на пьяных, которые спешат напоить вновь пришедшего, чтобы от него не отличаться» (письмо от 3 октября). Торжество реакции в России приветствуется Ростопчиным самым горячим образом. «Судя по новым распоряжениям не только в России, но и в Польше, либеральная мания, кажется, начинает проходить и больше уже не желают ставить на карту свое существование ради похвал жалких писак; в этом отношении Занд[356] убийством Коцебу оказал великую услугу народам и долговечности царствующих особ» (17 декабря 1819 г.); «Нарышкин с женой спокойно и счастливо живут в Москве, где свободы боятся в такой же мере, в какой здесь ее добиваются» (5 февраля 1820 г., Париж). Стремление к политической свободе не может рождаться из действительных потребностей наций; это — не что иное, как следствие адских замыслов парижских якобинцев, раскидывающих повсюду свои сети: «Мир никогда не успокоится, пока будет существовать французская нация с своей столицей — Парижем. Нужно, чтобы улица Ришелье[357] поросла травой и в Пале-Рояль[358] началась охота на диких кроликов. Все бедствия революции исходят из Парижа» (Париж, 8 февраля 1821 г.). К этим сеятелям революционной крамолы Ростопчин причисляет также всю интеллигенцию всех стран: «ученые студенты в Германии — вскормленники якобинцев… По счастью для народов у разрушителей порядка нет денег, и только поэтому они не в силах произвести большого беспорядка» (1 июля 1823 г., Карлсбад).
Все эти идеи о зловредности представительных учреждений и политической свободы, об искусственном возбуждении конституционных стремлений путем коварных происков взбалмошных агитаторов, о полном несоответствии свободных учреждений действительным потребностям наций — все эти идеи, рассыпанные отдельными крупицами в письмах Ростопчина, были им выражены в совершенно законченной форме и систематическом порядке в обширном послании к императору Александру, которое было составлено Ростопчиным в 1823 г. под названием «Картина Франции»[359]. Это произведение Ростопчина, очень важное для изучения его воззрений, написано интересно, с известным литературным блеском, с любопытными экскурсами, обличающими в авторе живую наблюдательность. В набросанной здесь картине есть местами верные краски, остроумно подмеченные штрихи действительной жизни. Но все это нанизано на основную предвзятую идею, составляющую сущность политического мировоззрения Ростопчина, благодаря чему эта «Картина Франции» в конце концов в целом вышла тенденциозным памфлетом. Эта основная идея сводится к тому, что благо народов — в отсутствии политической свободы, а распространенное увлечение «вольностями» — не что иное, как психическая эпидемия, разносимая повсюду из Франции.
Трактат открывается характеристикой французов как легкомысленных ветрогонов; революция, говорится далее, была спекуляцией недобросовестных политиканов на легкомыслии французской нации. И это стремление к постоянным дальнейшим переворотам с тех пор не умирает во Франции, перекидывается и в другие страны, ибо его деятельно поддерживают разнообразные элементы общества частью из суетности, частью из тщеславия. С этой точки зрения Ростопчин характеризует и умеренных конституционалистов, и радикалов, сосредоточенных в Париже. Прежние слова — «свобода и равенство» — заменены новыми — «конституция и оппозиция», но это обновление революционного словаря ни в чем не изменило сущности разрушительных стремлений, гнездящихся по-прежнему в Париже и оттуда раскидывающихся повсеместно. Все революционные брожения и вспышки, где бы они ни проявлялись, подготовляются, говорит Ростопчин, парижскими комитетами, которые всюду имеют своих агентов, хотя и остерегаются письменных сношений. Так и в России, утверждает Ростопчин, французские либералы находятся в сношениях с русскими раскольниками, которые, в свою очередь, связаны с мартинистами, с членами библейского общества и с донскими казаками!
Итак, нормальные, здоровые стремления наций могут быть направлены только к охране и укреплению политического деспотизма Увлечение политической свободой есть не более как болезнь, искусственно прививаемая обществу недобросовестными, корыстными политиканами. Вот сущность политического credo Ростопчина. В сфере политических вопросов Ростопчин — не консерватор, а реакционер. Он целиком, начисто отрицает жизненное значение политического прогресса.
На какой почве возникло у Ростопчина такое мировоззрение, в чем его корни, где его отправные точки?
Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо бросить взгляд на социальные воззрения Ростопчина. Ростопчин был убежденным сторонником незыблемой неприкосновенности дворянских привилегий и крепостной зависимости крестьян. Эмансипаторские течения в области крестьянского вопроса всегда встречали с его стороны полное осуждение.
В наиболее законченном виде Ростопчин выразил свое отношение к этим течениям в разборе известной книги Стройновского[360]. Как уже было отмечено В. И. Семевским[361], в возражениях Ростопчина на книгу Стройновского переплетены здравые мысли, внушенные непосредственным знанием быта русской деревни, с явными парадоксами, подсказанными, очевидно, чувством сословно-дворянского эгоизма.
Здравые замечания высказываются Ростопчиным преимущественно в той части его рассуждений, в которой он критикует способы и условия освобождения крестьян, предложенные Стройновским. Здесь нетрудно было найти в предложениях Стройновского немало непрактичного и не соображенного с действительными условиями крестьянского быта[362]. Но Ростопчин не ограничивается критикой способов освобождения, предложенных Стройновским; он отвергает вообще необходимость освобождения и стремится доказать, что крепостная зависимость крестьян представляет собою благодетельный и необходимый элемент общественного строя России. Ростопчин настаивает на том, что «слово вольность или свобода изображает лестное, но неестественное для человека состояние, ибо жизнь наша есть беспрестанная зависимость от всего». После этого философского соображения, оставляющего открытым вопрос, почему же в таком случае крепостная зависимость рекомендуется лишь для крестьян, Ростопчин выдвигает и соображение практическое: вольность есть источник разложения государства, ибо: «первое действие вольности есть самовольство, второе — непослушание, третье — восстание против власти». Таким образом, крепостное право благодетельно для государства, как надежный оплот государственного порядка. Но оно благодетельно и для самих крепостных крестьян, ибо обеспечивает для них экономическую поддержку со стороны их владельцев и спасает их поэтому от нищеты и разорения, так как для помещика «разорять крестьян есть самый верный способ разорять себя». Ростопчин не отрицает, конечно, наличности злоупотреблений помещичьей властью, которые иногда очень тяжело отзываются на существовании крепостной деревни. Но от этого неприятного вопроса он отмахивается опять-таки общим философским размышлением на ту тему, что ведь люди вообще страдают и погибают от многих причин и помимо помещичьих насилий, как-то: от эпидемий, холода, падающих с гор снегов, наводнений и войн. Ростопчин забывает прибавить при этом, что люди не только страждут от всех этих бедствий, но и неотступно стараются устранить вызывающие их причины и поводы.
В отношении к вопросу о крепостном праве Ростопчин никогда не обнаруживал никаких колебаний. Всякая законодательная мера, пробивавшая хотя бы самую скромную брешь в твердыне крепостного права, вызывала в нем глубокое неудовольствие. А возобновлявшиеся время от времени в течение царствования Александра I слухи о готовности правительства приступить к отмене крепостной зависимости крестьян поселяли в его душе острую тревогу. Много раз цитировались те места из писем Ростопчина к Цицианову, в которых Ростопчин изливал свою желчь по случаю издания указа о свободных хлебопашцах[363]. Повторять этих цитат я не буду, они слишком известны, но в параллель с ними поставлю письмо Ростопчина к Александру I от 21 февраля 1814 года, в котором читаем: «Некоторых лиц волнует новая тревога, которая занимает только глупую, легковерную публику; это — возвещенный газетами приезд Лагарпа[364] в главную квартиру. Из этого известия заключают, что, вероятно, вновь поднят вопрос об освобождении крестьян. Некто Каразин[365], на словах филантроп, а в душе еврей, говорил под секретом, что в Петербурге заседает уже комитет, которому поручено выработать проект этого освобождения и что в нем председательствует граф Кочубей. Я надеюсь, что Ваше Величество не рассердитесь на старую кумушку Москву. Она стала еще смешнее и глупее, чем когда-либо. Она не может иметь твердого убеждения, так как она всему верит, все повторяет и всего боится»[366].
Вряд ли мы ошибемся, предположив, что эта заключительная стрела в «кумушку Москву» была пущена Ростопчиным только для того, чтобы прикрыть собственное неприятное настроение от переданных в письме слухов. Не ошибемся мы и в том случае, если признаем аргументацию, выдвинутую Ростопчиным против освобождения крестьян в рассмотренных выше его памфлетах, неполной и даже не совсем искренней. Он отстаивал там необходимость крепостного права в интересах государства и самих крепостных крестьян. Интересы дворянства как будто отходили при этом в его глазах на самый задний план. Но вряд ли кто усомнится в том, что они-то именно и составляли настоящую подкладку крепостнических тенденций Ростопчина.
В цитированном уже выше письме Ростопчина к Цицианову, в котором Ростопчин сообщает о приезде к нему Юнга, читаем еще такие строки: «Этот маратель поселился в Москве на два года; жил у меня десять дней и душил запросами, из коих один замечателен: как делится время между господином и крестьянином, т. е. как сей последний работает — поденно, недельно или месячно! С ним помощник — переводчик Кайсаров[367], философ с тертою головою, коего Строганов[368], Кочубеев подмастерье, мне рекомендовал на французском языке и подписал тако: «P. Stroganoff»[369]. Кричи — vive la Nation! На фонарь не поднимут, а на ворота…». Вот эти-то ворота в роли парижских фонарей с болтающимися на них дворянскими трупиками и вставали в воображении Ростопчина каждый раз, как только заходила речь о возможности отмены крепостного права. Когда он называл крепостное право основою благоденствия России, он понимал под этим прежде всего неприкосновенность привилегий дворянства. Боязнь за судьбу этих привилегий и делала из Ростопчина заклятого противника социальных реформ.
Из того же источника проистекало и его политическое реакционерство. Конституционная реформа государственного строя страшила его, как несомненная, по его мнению, прелюдия к социальному перевороту. Только самодержавная монархия представлялась ему надежной плотиной, могущей сдержать напор демократических сил. Снимут эту плотину, и демократическая волна хлынет со всесокрушающей стремительностью и снесет без остатка все привилегии и преимущества, доставляющие дворянству командующее положение в государственной жизни.
Политическая реакция во имя сохранения дворянских привилегий — вот сущность тех воззрений, представителем которых являлся Ростопчин и благодаря которым его личность способна привлекать к себе особенное внимание в наши дни, когда реакционная роль дворянства в политической жизни России выступила с такой осязательной выпуклостью.
Крепостнические тенденции не всегда соединялись у нас с поклонением абсолютизму. И в XVIII и в первой четверти XIX века у нас были крепостники-конституционалисты, и можно указать и такие моменты в новой русской истории, когда именно дворянское сословие, и притом как раз во имя своих сословно-дворянских интересов, выступало носителем конституционной идеи. Конституционные проекты 1730 г.[370], выдвинутые из среды верховников и шляхетства, все были построены на совмещении политических свобод для дворян с социальной неволей для крестьян. Князь Щербатов[371] при Екатерине II и граф Мордвинов[372] при Александре I развивали точно такие же конституционно-аристократические тенденции, одновременно ополчаясь против абсолютизма и за социальные привилегии дворянства. Для них, точно так же, как и для составителей проекта 1730 г., аристократическая конституция представлялась ценным благом, именно как наилучшее средство закрепить бесповоротно и нерушимо привилегии своего сословия путем прямого воздействия на законодательство через представительные учреждения.
Ростопчин принадлежал к совершенно иному течению в среде дворянства, течению, особенно окрепшему в России в начале XIX столетия под влиянием событий французской революции. В этих событиях люди, подобные Ростопчину, наиболее болезненно восприняли и наиболее твердо запомнили то, что за превращением Генеральных штатов в Национальное учредительное собрание тотчас последовала ночь 4 августа со смертным приговором привилегиям дворянства. Крушение абсолютизма с этих пор окончательно отождествилось в их понимании с торжеством черни над благородным дворянством. Афоризм Монтескье[373]: «Нет дворянина, нет и монарха» для них заменился другим: «Нет деспота, нет и дворянина». Как бы ни звучали параграфы конституционной хартии, им неизменно слышалась там отходная дворянству как привилегированному сословию. Народное представительство, рассуждали они, само по себе, в своей внутренней природе, всегда несет торжество демократических начал. Аристократическая конституция — не что иное, как переходная форма, лишенная всякой устойчивости; раз созданы представительные учреждения, тем самым открыты шлюзы перед всенародным потоком, который и не замедлит хлынуть к источнику власти.
Таков был господствующий строй мысли в тех поколениях дворянской массы, которые с молодости были ушиблены ужасом от событий французской революции и которые под влиянием этого ужаса твердо-натвердо усвоили мысль, что самодержавная власть монарха над подданными есть лучшая гарантия власти дворянина над зависимыми от него низшими классами населения. На этой политической философии всецело стоял и Ростопчин. С молодых лет и на всю жизнь Ростопчин был загипнотизирован идеей, что незыблемости дворянских привилегий грозит всенародный бунт, который может быть предотвращен лишь неослабным давлением сильной власти на всю народную жизнь. Вся организация государственных учреждений, вся политика правительства, все общественные усилия должны быть, по его мнению, направлены на достижение одной цели — чтобы в деревне было тихо, чтобы не вспыхнула вторая пугачевщина, вечно грозящий призрак которой неотступно стоял перед воображением дворянина. Этим «дворянским страхом» обусловливалось политическое ре-акционерство Ростопчина; им же объяснялся и его социальный консерватизм; из того же источника проистекал… и его национализм.
VI НАЦИОНАЛИЗМ РОСТОПЧИНА
Начиная с появления памфлета «Мысли вслух на Красном крыльце» и во все последующее время Ростопчин выступал в своих писаниях заклятым врагом французов. В связи с этой враждой к французам Ростопчин обрушивался с горькими обличениями на рабскую подражательность русского дворянства французским модам и на пренебрежение его к своей родной старине. Все эти темы развивались в тогдашней литературе не одним Ростопчиным. Протест против французомании русского общества резко был выдвинут еще в сатирических журналах XVIII столетия и не умолкал в течение всего Александрова царствования, получив яркое выражение и в великой грибоедовской комедии.
Но голос Ростопчина не затерялся в этом хоре, а напротив того, резко из него выделялся особенной запальчивой крикливостью. Сравните в этом отношении Новикова[374] и Грибоедова[375] с Ростопчиным. Все трое заняты обличением одной и той же общественной слабости. Но первые два, прежде всего, озабочены стремлением поучать и обличать тех, кто подражает. Ростопчин тратит свой пыл главнейше на выражение ненависти к тем, кому подражают. У Новикова и Грибоедова на первом плане задача предостеречь и исправить поведение соотечественников, у Ростопчина — заклеймить французов. Грибоедов готов предпочесть «оригиналы спискам» и хочет только того, чтобы каждая нация, — Россия так же, как и Франция, — оставалась при своем, не гоняясь за чужими модами. Ростопчин ставит вопрос так: чтобы русские не подражали французам, он готов воскликнуть: «Да погибнет Франция!». Если москвичи корчат из себя парижан, то виноваты парижане, разносящие по всему свету столь заразительные для других народов моды и ухватки. Русская подражательность французским модам является, таким образом, в изображении Ростопчина лишь производным бедствием другого, гораздо горшего бедствия, состоявшего в том, что на земном шаре существует такая гнусная нация, как французская.
Ожесточение против французов охватило многих русских после тех диких поступков, которыми запятнали себя войска Наполеона во время занятия Москвы и других русских городов. В пламенной форме вылились эти чувства, например, в письмах поэта Батюшкова[376]. Вот на образец отрывки из письма Батюшкова к Гнедичу[377] от сентября 1812 года: «…ужасные поступки вандалов и французов в Москве и ее окрестностях, поступки беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством… мщения! мщения! варвары, вандалы! и этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии; и мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! хорошо и они нам заплатили! можно умереть с досады при одном рассказе о неистовых поступках…» и т. д.[378] Возмущенный зрелищем вандализма наполеоновских войск, Батюшков готов разочароваться и во всем том, что было внесено Францией в общечеловеческую цивилизацию. Мысли такого рода, как прямой результат событий Отечественной войны, посещали тогда многих русских людей. В pendant[379] к письму Батюшкова укажу, например, на «Письма из Москвы» неизвестного автора, помещенные в «Сыне Отечества»[380] за 1813 г.[381] Письма начинаются с подробного описания французских неистовств в Москве в 1812 г., и вслед за тем автор переходит к горьким сетованиям на манию русских во всем подражать французам и к настойчивой критике всей французской культуры и литературы. Любопытно, что письмо кончается пророческим описанием того, что после Отечественной войны французомания еще более усилится.
В подобного рода заявлениях мы уже встречаем как будто чисто ростопчинскую ненависть к французам, распространяющуюся не только на отдельные стороны французского характера, но и на всю французскую культуру. И все-таки, даже и по сравнению с такими, наиболее резкими проявлениями неприязни к французам, Ростопчин побивает рекорд по непримиримости своей галлофобии. Такие лица, как Батюшков или анонимный автор статьи в «Сыне Отечества», отправлялись от отдельных фактов, которые резанули их по сердцу, и только ввиду этих фактов с грустью и душевной болью подвергали они сомнению достоинства французской цивилизации. Во всех писаниях Ростопчина этой поры чувствуется совершенно обратная постановка вопроса. Он каждой строчкой своих яростных противо-французских восклицаний как будто хочет злорадно сказать: чего же было и ждать от этого народа, все прошлое и вся духовная природа которого никогда не представляла ничего, кроме отталкивающих черт нравственного разложения.
Из всего этого можно было бы вывести заключение, что Ростопчин по натуре органически был враждебен всему французскому и преисполнен того русского национального духа, который выражался в столь прославляемой Ростопчиным национальной русской старине. Мы знаем, однако, что на деле не было ничего подобного. С головы до ног Ростопчин был вскормленником той самой французской культуры, которая так полюбилась русскому барству того времени. Без французского языка, французских книжек, французской кухни он не мог бы просуществовать и нескольких дней. Г. Покровский в статье своей о комедии Ростопчина «Вести, или Убитый живой» произвел остроумное сопоставление обличительных строк «Мыслей вслух на Красном крыльце» против французомании с частными письмами самого Ростопчина. Оказалось, что Ростопчин сам грешил как раз теми именно видами французомании, которые со страстным негодованием обличались в его памфлетах. Совпадение доходило до смешного[382]. Прославление исконно русских форм жизни в памфлетах Ростопчина являлось не более как словесным маскарадом. Потому-то оно и не производит на непредубежденного читателя впечатления внутренней убедительности. Скажу более: почитать Ростопчина, — и может показаться, что ненависть к Франции он впитал в себя чуть ли не с молоком матери. А между тем, как мне уже пришлось указать в одной из предшествующих глав, Ростопчин до 1807 г. был настойчивым сторонником тесного политического сближения России с Францией. Русско-австрийская коалиция против Франции[383] вызывала с его стороны резкое осуждение. И только с 1807 г. он внезапно и круто переменил фронт, превратившись в поистине необузданного ненавистника французов. В период Отечественной войны эта ненависть быстрыми шагами поднималась на еще большую высоту.
Почему же только с 1807 г. французомания стала вызывать негодование Ростопчина, почему только с 1807 г. им овладела страстная любовь к русскому национальному «духу» и русскому исконному укладу жизни?
Все станет ясным, лишь только за разрешением этих вопросов мы обратимся не к печатным произведениям Ростопчина, а к его частной переписке. Эта переписка вскрывает с совершенной отчетливостью, что и в основе его галлофобии, вспыхнувшей с 1807 г., лежал тот же «дворянский страх», который мы нашли в основе его социальных и политических воззрений.
Франция как рассадник салонной культуры, как законодательница мод и даже как источник просветительной философии и изысканной литературы, не только не была ненавидима Ростопчиным в первую половину его жизни, но, наоборот, имела в нем одного из своих горячих поклонников. С каким увлечением этот будущий ненавистник всего французского восхвалял в свое время в письме к княгине Дашковой[384] французский гений Дидро[385]!
Эксцессы французской революции, в которых для дворянских ушей Ростопчина явственно прозвучало memento mori по адресу привилегированной знати, все же не изменили его общего тяготения к Франции, которому он и оставался верен до 1806–1807 гг.: ведь социальные передряги, пережитые Францией, казались чем-то неизмеримо далеким от русской жизни, не могущими иметь к ней ни малейшего отношения. Русско-прусская коалиция[386], однако, вдруг показала, что Наполеон в своих завоевательных стремлениях чуть ли уже не вплотную подходит к пределам России. Тильзитский союз[387] был принят русским обществом как прелюдия к борьбе с Наполеоном не на жизнь, а на смерть. Мы теперь знаем, что точно так же смотрел на этот союз и сам император Александр. И тотчас же русским дворянством овладел все возрастающий страх перед французской опасностью. Боялись не военного гения Наполеона, не возможных поражений русских войск на ратном поле; боялись магической силы одного призывного слова, которое могло раздаться из уст французов: то было слово — воля. Дворянство не сомневалось, что лишь только пришлые иноземцы провозгласят этот призыв, он найдет могучий отклик в многомиллионной крепостной массе, и Россия вмиг будет объята крестьянским мятежом. Дворянское общество в 1806–1807 гг. начало взирать на французов со страхом и трепетом не как на возможных будущих покорителей русского государства, но как на возможных будущих освободителей русских крестьян от крепостного ига. Этот «дворянский страх» всецело переполнил и душу Ростопчина, и под его-то давлением все французское представилось ему в отталкивающем, отвратительном свете. Тогда-то он и превратился внезапно из выкормыша французской культуры в самого необузданного галлофоба. Нет ничего легче, как подтвердить все только что сказанное документальными цитатами. Трудность может состоять разве только в обилии этого материала, которого так много, что не знаешь, какие именно цитаты предпочесть в качестве образчика, ибо все они одинаково характерны и отчетливо убедительны.
Уже в декабре 1806 г. Ростопчин обратился к императору Александру с письмом, содержание которого в высшей степени важно для характеристики воззрений Ростопчина. В этом письме все договорено до конца и вопросы поставлены ребром. Ввиду опасности, грозящей России со стороны Франции, Ростопчин, по его словам, «во исполнение долга христианина и верноподданного» решается изложить государю мысли, «внушенные обстоятельствами, познанием людей, ревностью к славе отечества и к сохранению дворян, коих наконец и вы сами, государь, признали справедливо единственною подпорою престола».
Дворянство, говорит далее Ростопчин, всем пожертвует отечеству и сумеет преградить всемирному врагу доступ в хранимую Богом землю, но… «все сие — усердие, меры и вооружение, доселе нигде неизвестные, обратятся в мгновение ока в ничто, когда толк о мнимой вольности поднимет народ на приобретение оной истреблением дворянства, что есть во всех бунтах и возмущениях единая цель черни, к чему она ныне еще поспешнее устремится по примеру Франции и быв к сему уже приготовлена несчастным просвещением, коего неизбежные следствия есть гибель закона и царей»; вот почему, по заявлению Ростопчина, «влияние живущих в России французов оказывает уже пагубное действие на сословие слуг, кои уже ждут Бонапарта, дабы быть вольными»[388].
Эти тревоги были присущи тогда не только Ростопчину. Доводя их до сведения государя, Ростопчин являлся выразителем настроения, охватившего широкие и разнообразные круги русского дворянства. Напечатанные до сих пор частные письма разных лиц этой эпохи переполнены указаниями на то, что в перспективе войны с Наполеоном русское дворянство в первую очередь страшилось не французов, а собственных крепостных крестьян и дворовых. Приведу лишь для образца два-три примера.
Варвара Ивановна Бакунина[389] 1 мая 1812 г. записала в своем дневнике: «Боятся, что когда Наполеон приблизится к русским губерниям и объявит крестьян вольными, то может легко сделаться возмущение, но что до этого Фулю[390], Армфельду[391] и прочим»[392].
Известный масон и в то же время ярый крепостник Поэдеев[393] писал Сергею Степановичу Ланскому[394] из Вологды 19 сентября 1812 года: «… одни дворяне и их приказчики побуждают к повиновению к государю, дабы подати, подводы и прочие налоги давать. А дворяне к мужикам остужены разъяснением слухов от времен Пугачева[395]о вольности, и все это поддерживалось головами французскими и из русских, а ныне и паче французами, знающими ясно, что одна связь содержала, укрепляла и распространяла Россию и именно связь государя с дворянами, поддерживающими его власть над крестьянами… французы распространяются всюду и проповедуют о вольности крестьян, то и ожидай всеобщего восстания; при этаком и строгом рекрутстве и наборах ожидай всеобщего бунта против государя и дворян и приказчиков, кои власть государя подкрепляют».
Тот же Поздеев в письме к графу Разумовскому[396] от 21 сентября 1812 г. писал: «… где Бог велит оканчивать и вам дни свои? Ибо где теперь безопасность? Потому что и мужики наши по вскорененному Пугачевым и другими молодыми головами желанию ожидают какой-то вольности; хотя и видят разорение совершенное, но очаровательное слово вольности кружит их головы, ибо мало смыслящих, а прочее все число, так как и во всех состояниях, глупые и невежды»[397].
Цитаты подобного рода можно было бы умножить в какой угодно мере. Зато, когда события вскрыли неосновательность этих страхов, дворянство вздохнуло полной грудью, и радость, его охватившая, только еще рельефнее оттенила силу предшествующей тревоги. А. И. Тургенев[398]писал Вяземскому от 27 декабря 1812 г.: «…сильное сие сотрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали. Напротив, мы страшились последствий от сей войны, совершенно противных тем, какие мы теперь видим: отношения помещиков и крестьян (необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства) не только не разорваны, но еще более утвердились. Покушения с сей стороны наших врагов совершенно не удались им, и мы должны неудачу их почитать блистательнейшею победою, не войсками нашими, но самим народом одержанною»[399].
В письмах Ростопчина за соответствующий период на первый план выдвигаются те же самые мотивы, общие громадному большинству дворянской массы. И в ожидании войны и среди ее уже разгорающихся перипетий его воспаленные страхом помыслы всецело прикованы к крепостной деревне. Как отзовется она на французский призыв к свободе? В этом вопросе для него — вся суть положения.
23 июля 1812 г. Ростопчин пишет Александру по случаю состоявшегося распоряжения об изъятии казенных крестьян от участия в мобилизации: «Со времен Пугачева в губерниях, зараженных духом мятежа, сей последний подавляем был крестьянами казенными, над которыми не имело силы слово свобода. Заставляя их действовать вперемежку, легко будет остановить успех резни».
8 сентября он пишет государю из армии с Тульской дороги: «Весьма опасны два распространяемых в армии понятия: одно, будто, отдавая Москву, Кутузов исполнил ваше приказание, другое — будто вы дозволили Бонапарту проникнуть в ваши владения с тем, чтобы он провозгласил в них свободу от вашего имени». В письме от 21 сентября из лагеря под Нарой Ростопчин сообщает: «Испугавшись сначала приближения неприятеля, крестьяне покидали свои жилища. Но так наши их грабят, то они соблазнились коварными внушениями ополченцев, большая часть которых вернулась домой, и последовали их примеру, говоря, что они вольные, а другие, — что они подданные Наполеона»[400].
В письме к Балашову[401] от 23 июля 1812 г. Ростопчин повторяет то же, что он писал и государю: «Увольнение казенных крестьян от ополчения наравне с помещичьими произвело дурное действие, кое по времени может иметь дурные следствия. Люди, определенные на защиту отечества, будут все помещичьи. В них естественно родится зависть к казенным крестьянам и вместе с сим ненависть к господам; при случае самомалейшего со стороны их неповиновения или неудовольствия они будут защищать общее свое право, а удержать или остановить их будет некому… важнее всего то, что неудовольствие в народе может обратиться на дворян, яко виновных в сем случае тем, что их крестьяне, быв их собственностью, одни и несут тяжелый их набор»[402].
Мысль о возможности крестьянского бунта засела в уме Ростопчина с самого начала Отечественной войны. Он тогда же сказал Глинке: «Мое главное теперь дело то, чтобы обеспечить и удалить дворян из уездов; Бог знает, какой возьмут оборот наши внутренние обстоятельства»[403].
И впоследствии, уже по уходе французов из Москвы, Ростопчин сам заявлял, что его заботы и его заслуга во время войны сводились к предупреждению бунта, который был бы опаснее самого французского вторжения. 14 ноября 1812 г. он писал Киселеву: «… кроме ругательства, клеветы и мерзостей не получил я ничего от того города, в котором многие обязаны мне жизнью. Самый малый бунт распространился бы везде, и я не знаю, кто бы тогда выгнал Наполеона и где бы каждый очутился…»[404].
Наряду с такими заявлениями Ростопчин, пока шла война, не однажды с радостью доносил Александру и писал другим лицам, что расчеты Наполеона на возмущение крестьян против господ не оправдываются, и это чередование пессимистических и оптимистических заявлений в устах Ростопчина как нельзя лучше выражает то нервное, выбитое из равновесия душевное состояние «меж страха и надежды», которое испытывало в это время дворянство, само себя терроризировавшее перспективами второй пугачевщины. Так, 6 августа 1812 г. Ростопчин писал Багратиону: «…Злоба к Бонапарту так велика, что и хитрость его не действует; и эта пружина лопнула, а он наверное шел на бунт»[405].
30 июля Ростопчин писал Балашову: «А вам сообщаю новое доказательство, что слово вольность, на коей Наполеон создал свой замысел завоевать Россию, совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет, ибо я в счет не кладу помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действия»[406].
Однако этот оптимизм в устах Ростопчина и других представителей того же класса скорее походил тогда на подбадривание самих себя и то и дело сменялся новыми мрачными опасениями. В этих опасениях и коренился источник всех мероприятий, всего образа действий Ростопчина во время его генерал-губернаторствования в Москве. Сознание того, что в распоряжении французов имеется такое волшебное слово, как воля, заставляло Ростопчина в ожидании возможного прихода Наполеона внутрь России сосредоточивать свои заботы не столько на обороне России от внешнего врага, сколько на обороне дворянства от возмущения крепостных людей. Ростопчин ничего не сделал для военного укрепления Москвы, для организации особой московской милиции[407], которую он обещал Кутузову, для своевременной подготовки эвакуирования из столицы многочисленных казенных учреждений. Он хлопотал лишь об одном — о предупреждении внутреннего мятежа, о предотвращении восстания крепостной массы на господ.
VII РОСТОПЧИН КАК АДМИНИСТРАТОР
Административная деятельность Ростопчина в качестве градоправителя Москвы много раз подвергалась суровой критике историков. В ложном направлении этой деятельности, в ее бесплодности, в сопровождавших ее бесцельно жестоких подробностях усматривали обыкновенно доказательство административной бездарности Ростопчина, жестокости и легкомысленности его натуры. Мне думается, что объяснения всему этому надлежит искать глубже. Мы уже знаем, что Ростопчин вовсе не был бездарной личностью. Наоборот, он обладал живым, острым, незаурядным умом. И если его действия в 1812 году были нелепы — а они, действительно, были таковыми, — то их нелепость вытекала из самого существа той задачи, которую он себе ставил, а эта задача была ему подсказана не отсутствием административных дарований, а всем строем его пронизанного внутренними противоречиями мировоззрения.
Всеми силами души он отстаивал всегда политическое и социальное рабство. Его идеалом было безгласное общество и порабощенный народ. И по воле судьбы ему пришлось выступить на административном поприще в один из таких моментов, в которых сама жизнь с особенной яркостью подчеркивает всю мертворожденность, всю бессмысленность такой политической философии.
Ввиду нашествия врагов в пределы России и связанной с этим страшной опасности приходилось строить надежды на спасение России на патриотическом воодушевлении широких масс населения. «Бородачи составляют твердыню России», — писал Ростопчин государю в июне 1812 г. Но неподдельное патриотическое воодушевление народных масс всегда связано с подъемом народной самодеятельности, с пробуждением свободолюбивого духа в народном сознании. Ростопчин отдавал себе в этом полный отчет и потому-то он такими испуганными взорами всматривался в будущее. Он оказывался лицом к лицу с труднейшей дилеммой: или подавлять в массах всякие вспышки горячего чувства, держать народ всеми мерами в состоянии мертвенного равнодушия к совершающимся событиям и тем самым отнять у России могущественнейший фактор победы над врагом — патриотическое одушевление масс; или опереться на чувства народа в поднимающейся внешней борьбе и, следовательно, заранее примириться с возможностью того, что народные массы почувствуют себя самостоятельной силой и потому, по одолении врага, громко и настойчиво заявят о своих правах и потребуют их признания со стороны власти и привилегированных классов. Капитуляция перед требованиями народных масс являлась в глазах Ростопчина не менее зловещей перспективой, чем капитуляция перед пушками Наполеона. И вот перед Ростопчиным выдвинулась та самая задача, которую ставят себе все патриоты-реакционеры: использовать чувства народного патриотизма, оставляя в силе народную порабощенность. Выполнение такой противоестественной задачи было явно невозможно. И пример Ростопчина представил как нельзя более яркое доказательство того, что все, задающиеся подобными планами политики, неизбежно обрекают себя на жалкую роль политических авантюристов, вся деятельность которых состоит из сплошной фальсификации ими же провозглашаемых начал. Истинного народного патриотизма, неразлучного со стремлением народа к свободному самоопределению, они боятся сильнее, чем иноземного вторжения. И они стараются вызвать в массах для своих целей фальсификат патриотизма, т. е. разжечь в толпе наиболее темные инстинкты человеконенавистничества. Они в одно и то же время и взывают к народному одушевлению и смертельно боятся его неизбежных нормальных последствий. И потому они возлагают свои расчеты на фальсификаты народного воодушевления и стремятся подменить подлинный энтузиазм народных масс бесчинным озорством разнузданной уличной толпы.
Ростопчин и пошел по этому пути. К таким именно приемам свелась вся его политика в 1812 году. И, повторяю еще раз, то не были с его стороны ошибки, внушенные административной бездарностью и рутинерством. Несмотря на все его личные дарования, для него не существовало иного выхода из данного положения при тех воззрениях, которые составляли сущность его политического миросозерцания. Идеология рабства осуждает даже и талантливых государственных людей в великие моменты народной жизни на жалкий авантюризм и бесплодное политическое паясничество — вот то заключение, к которому приводит изучение деятельности Ростопчина.
Все заботы Ростопчина в 1812 г. были сосредоточены на том, чтобы возможный взрыв народных страстей не обрушился на помещичью власть. И с этой целью он изобретал различные искусственные мишени, на которые можно было бы направить в нужный момент народное негодование. Такими мишенями должны были явиться изменники и крамольники. Если таковых под рукою не имеется, их нужно изобрести усилиями администрации — этот-то столь общеизвестный теперь рецепт административной магии и был в крупных размерах испробован Ростопчиным в Москве, взволнованной приближением страшного врага. Ростопчиным было решено, что изменников должны будут поставить из своей среды проживающие в Москве французы, а гнездилищем крамолы можно будет объявить кружки московских «мартинистов» — те остатки и обломки былых новиковских организаций, которые еще существовали в Москве, хотя и не играли уже никакой общественной роли, и жили, что называется, ниже травы, тише воды. На московских французов и на «мартинистов» Ростопчин и обратил свою административную энергию, которая ознаменовалась такими беззастенчиво недобросовестными приемами, что отвратила от Ростопчина симпатии многих беспристрастных и не утративших нравственного чувства людей. Иногда высказывается та мысль, что в этих своих действиях Ростопчин просто-напросто слишком зарвался по легкомысленной неосмотрительности и уже поневоле, чтобы спасти свое положение, должен был идти до конца, вплоть до чудовищно нелепых распоряжений. Думаю, что такое объяснение не соответствует фактам. В 1812 г. Ростопчин методически осуществлял ту самую программу действий, которая была им обдумана и предложена императору Александру еще в 1806 г. Я цитировал выше письмо Ростопчина к Александру от 17 декабря 1806 г., в котором он предупреждал, какие опасности могут быть возбуждены толками «о мнимой вольности», если эти толки подстрекнут крестьян «на приобретение воли истреблением дворянства». Далее в том же письме следовало указание мер, посредством которых такая опасность могла бы быть предотвращена. Вот эти меры: «Государь, исцелите Россию от заразы, прикажите выслать за границу сонмище ухищренных злодеев, коих пагубное влияние губит умы и души несмыслящих подданных ваших… Заклинаю вас именем Божиим, подумайте о прошедшем и о настоящем, о измене Степанова, о расположении умов, о философах, о мартинистах и о выборе начальника московской милиции». В этих строках — вся программа будущих действий Ростопчина в 1812 г.: пока иностранцы еще не успели возжечь в крестьянах ненависти к помещикам, нужно возжечь ненависть крестьян к иностранцам и неблагонадежным врагам царской власти из среды русских изменников. «Мартинисты» крепко засели в мыслях Ростопчина, он давно облюбовал в них удобную мишень для устремлений административной энергии. Войдя в салон великой княгини Екатерины Павловны, он сразу взял там на свою долю амплуа изобличителя мартинистов. В 1810 г. он приготовил для великой княгини пространную записку, заключающую в себе, по его словам, «историю сословия мартинистов в России» на основании «всех нужных для сего сведений»[408].
Итак, действия Ростопчина на генерал-губернаторском посту были планомерны и давно обдуманы. Они не стали от этого более целесообразными и соответственными важности переживаемого момента.
Что касается московских жителей французского происхождения, то, конечно, при обстоятельствах того времени были все основания зорко следить за их поведением и настроением. Ни для кого ведь не составляло тайны, как широко пользовался Наполеон политическим шпионажем в тех странах, на которые собирался обратить силу своего оружия. Однако все приемы Ростопчина ясно показывают, что на первом плане у него было вовсе не серьезное и добросовестное пресечение деятельности настоящих агентов французского правительства. Он просто ухватывался за любой попавшийся под руку случай для того, чтобы разжигать в массе ненависть к французам. Насколько повод к тому был серьезен и действительно обоснован в каждом данном случае, это вовсе не заботило Ростопчина. Он гонялся лишь за эффектами, могущими возбудить страсти толпы, хотя бы ради этого и приходилось зверски губить ни в чем неповинных людей. В сущности, в Москве не было ни измены, ни народного возбуждения против местной французской колонии. Ростопчин стремился во что бы то ни стало создать видимость того и другого. Он начал с собственного повара-француза (собственно бельгийца) Турнэ. Рубил этот повар в кухне говядину ножом. Поваренок чем-то рассердил его. Турнэ в гневе сказал поваренку: «Вот, погоди, пусть только придет наш император, вот что он с вами сделает», — и продолжал рубить. Этим и ограничился весь инцидент. Турнэ впоследствии объяснял, что он под нашим императором разумел Александра I. Ростопчин тут же велел привезти Турнэ в тележке на Красную площадь и там перед Гостиным двором на позорной скамье ему дали 25 ударов розгами. После этой экзекуции несчастный в полумертвом состоянии был отправлен прямо с площади в Сибирь, как был, в белой холстинной куртке. Таковы же были и другие проявления измены со стороны живущих в Москве иностранцев, которых Ростопчин подвергал примерным наказаниям. Ростопчин заявлял в письмах к государю, что такие кары необходимы для удовлетворения народного чувства, которое якобы пылает ненавистью к иноземцам. Он даже выставлял себя благодетелем иноземцев, говорил, что его мероприятия были направлены на спасение им жизни от неистовства толпы. Я упоминал выше об отправлении Ростопчиным из Москвы на барке нескольких десятков иностранцев. Ростопчин утверждал в своих позднейших записках, что этим он спас жизнь высланным иностранцам[409]. А. Попов[410] правильно заметил, что вся обстановка, в которой совершилось это выселение, скорее способна была возбудить, нежели успокоить недоброжелательство толпы к иноземцам. В течение нескольких дней ловили по Москве иностранцев, затем, наловив до 40 человек, посадили их в барку на Москве-реке в присутствии громадной толпы зевак; перед отплытием барки арестантам громогласно прочитали наполненную глумлением над ними бумагу генерал-губернатора; странно все эти приемы объяснять заботливостью о предохранении иностранцев от народа, между тем, история плавания этой барки как раз неопровержимо доказывает, что и предохранять французов было бы, в сущности, не от кого, так как вопреки стараниям Ростопчина русский народ не проявлял никакой фанатической ненависти к мирно и спокойно жившим среди него иностранцам. Барка, наполненная французами, почти без инцидентов, в полной безопасности проехала по Москве-реке и Оке до Нижнего Новгорода. Наполеон уже занимал Москву, Москва уже пылала, а плывшие на барке французы спокойно сходили на берег, покупали в деревнях провизию и встречали всюду прием, в котором нельзя было подметить и тени народного ожесточения. В доказательство того же положения А. Попов приводит еще тот знаменательный факт, что уже после занятия Вильны Наполеоном целая группа иностранцев, г-жа Сталь со своими спутниками, ни слова не зная по-русски, совершенно спокойно проехала по России от австрийской границы до Москвы и Петербурга. «Мы въехали в Россию, — записала сама Сталь, — в такое время, когда французская армия уже проникла далеко в пределы России. Никто из нас не говорил по-русски. Мы говорили языком врага, опустошавшего страну… и несмотря на то, наше путешествие по России совершилось легко и безопасно; так велико было гостеприимство и дворянства и народа». Сергей Глинка, энтузиаст-патриот, пишет следующее про 1812 год: «Я близок был к народу, я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках… и живым Богом свидетельствуюсь, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России». Шумиха, поднимавшаяся Ростопчиным, оставалась чуждой народу, не находила отклика в его душе; народ инстинктивно распознавал ее искусственный характер и ее полную ненужность для тех истинно великих по своей важности задач, которые стояли перед страной.
Наряду с этим натравливанием толпы на мнимых французских шпионов Ростопчин с первых же дней своего генерал-губернаторствования приступил к подготовке административной облавы на московских «мартинистов». Уже на другой день по вступлении своем в должность Ростопчин писал государю: «…здесь есть два проповедника иллюминатства; один типографщик Семен, другой — книгопродавец Аларт. Я поручил наблюдать за ними человеку весьма способному. Но эти люди так же, как и мартинисты, игроки и все плуты высшего разряда, приутихли; они хотят узнать, как я буду управлять, чтобы определить потом и свой образ действий». Московские масоны[411] были совершенно чужды каких бы то ни было склонностей и побуждений к политическим демонстрациям. Но Ростопчин решил во что бы то ни стало представить их опасной подпольной организацией, угрожающей государственному порядку и склонной к государственной измене. Нередко указывается на то, что Ростопчин в этом случае действовал в значительной мере под влиянием католических патеров, которые ненавидели масонов и поспешили использовать в этом направлении свою близость к дому Ростопчина после того, как жена графа приняла католичество. Действительно, до нас дошли письма московских патеров, в которых выражается радость по случаю назначения Ростопчина градоправителем Москвы и заявляется уверенность в том, что это обстоятельство облегчит борьбу с масонством. Эти письма, однако, нисколько еще не доказывают того, что Ростопчин действовал именно по внушениям католических патеров. Мы уже знаем, что разгром масонских кружков был намечен Ростопчиным как необходимая мера еще задолго до его назначения на пост генерал-губернатора. Теперь он только принялся приводить в исполнение давнишние планы.
Открыть и уничтожить несуществующий заговор — вот что ставил Ростопчин своей задачей. Перед приемом государя в московском Слободском дворце Ростопчин начал распускать слухи о том, что мартинисты решили произвести на этом приеме какую-то демонстрацию. Для острастки Ростопчин поставил у дворца на весь этот день несколько фельдъегерских троек и потом самодовольно утверждал, что только благодаря этой мудрой предупредительной мере все сошло гладко. Где же, однако, были крамольники? Никто нигде их не видел. Для осуществления своего плана Ростопчину необходимо было их создать, хотя бы из ничего. Скоро им была намечена ближайшая жертва его замыслов. То был начальник московского почтамта Ключарев[412], воспитанник Шварца[413], почитатель Новикова, человек, близкий к масонским кружкам того времени. Различные обстоятельства побудили Ростопчина обрушиться в первую голову именно на Ключарева. Во-первых, у Ключарева ранее было крупное столкновение с Брокером, клевретом Ростопчина. Брокер из-за Ключарева должен был оставить службу в московском почтамте и теперь, получив благодаря Ростопчину место третьего московского полицмейстера и играя роль доверенного лица при генерал-губернаторе, он решил свести счеты со своим бывшим начальником и постарался о том, чтобы именно с Ключарева начал Ростопчин свои крамолоистребительные подвиги. В недавно напечатанных письмах Оденталя, петербургского чиновника, поклонника Ростопчина, к Булгакову находим любопытные строки — в письме от 13 августа 1812 г.: «Что за дьявольщина с Ключаревым! Как это быть может? Не по злобе ли кто губить его хочет? Я с ним в ссоре, но буду крайне жалеть, ежели он действительно по иллюминатству своему дошел до последней степени сумасшествия. Не Брокер ли опять тут доносчиком? Остерегайтесь! В вас есть душа»[414].
В этих строках — сразу целых два указания: 1) человек, знавший Ключарева и притом не симпатизировавший ему, считает предъявленные Ключареву обвинения труднодопустимыми, невероятными и 2) при первых же слухах о деле Ключарева у человека, знавшего московские отношения, прежде всего поднимается подозрение насчет интриги Брокера.
Впрочем, у самого Ростопчина были свои поводы спешить с обвинениями против Ключарева. Ключарев управлял московским почтамтом, а Ростопчин считал совершенно необходимым держать почтамт в полной от себя зависимости. Только распоряжаясь в почтамте, как у себя дома, Ростопчин мог чувствовать себя застрахованным от жалоб в Петербург на его действия: все такие жалобы были бы им вовремя перехвачены посредством перлюстрации. Мы ведь уже знаем, как беззастенчиво пользовался Ростопчин вскрытием чужих писем во время своей службы при Павле. Погубив Ключарева, Ростопчин сразу убивал двух зайцев: делался и удачливым изобличителем крамолы, и хозяином почтамта[415].
Когда у Верещагина был найден перевод речей Наполеона, помещенных в иностранных газетах, Ростопчин пустил в ход все усилия, чтобы формально запутать в это дело Ключарева. Ростопчин стремился установить, что Верещагин получил от Ключарева иностранные газеты для перевода возмутительных речей и что Ключарев в этом случае действовал солидарно со всеми московскими масонами. Планы Ростопчина были расстроены самим Верещагиным, упорно выдававшим себя за автора, а не за переводчика найденных у него речей. Тем не менее Ростопчин в донесения государю, хотя и называл Верещагина автором, все-таки все время усиленно настаивал и на том, что Верещагин — исполнительный агент московских мартинистов с Ключаревым во главе. Замечательно, что Александр с начала и до конца относился очень сдержанно и холодно к этим открытиям Ростопчина. Верещагин был схвачен задолго до приезда императора Александра в Москву с театра военных действий. За это время Ростопчин несколько раз писал государю об этом деле, каждый раз подчеркивая важное политическое значение своего открытия в связи с крамольными замыслами мартинистов. 30 июня он послал первое донесение по этому делу, начав словами: «Вы увидите, государь, из моего донесения министру полиции, какого изверга откопал я здесь». Затем, сообщив сведения о Верещагине, он продолжает: «Образ действий Ключарева во время розысков на почте, его беседа с преступником с глазу на глаз, данное ему обещание покровительствовать и пр., — все это должно убедить вас, государь, что мартинисты суть скрытые враги ваши и что вам препятствовали обратить на них внимание. Дай Бог, чтобы здесь не произошло движения в народе; но я наперед говорю, что лицемеры-мартинисты обличатся и заявят себя злодеями. Они играют в смирение, чтобы тайком готовить смуту…».
С 11 по 18 июля государь пробыл в Москве. Ростопчин, конечно, заговаривал с государем о Верещагинском деле и о Ключареве, но, по-видимому, эти заговаривания не производили того эффекта, на который он рассчитывал. Это чувствуется по письму Ростопчина к государю от 23 июля, уже по отъезде Александра из Москвы. Здесь читаем: «В переписке некоего Буффа с Парижем и Ригою значится, что здешний почтамт не так деятелен и не так бдителен, как его хотели уверить. Здесь ходят слухи, что министр полиции перед своим отъездом видел этого мерзкого Ключарева, которого весь город ненавидит. Я имел честь говорить вашему величеству об этом человеке. Не знаю, почтен ли я вашею полною доверенностью, но, привыкнув чтить и любить моих государей, я всегда смотрел на службу не иначе, как на возможность приносить пользу, и никогда не руководился иным побуждением, кроме безграничной преданности. Обстоятельства таковы, что в случае бедствия, сопровождаемого или мятежом, или новою изменою, подвергаются гибели государство и ваша священная особа. Поэтому на коленях умоляю ваше величество, коль скоро вы малейше сомневаетесь в моих способностях и усердии, не колеблясь ни минуты, замените меня другим лицом, ибо я могу быть вам полезен другим образом».
Это письмо, несмотря на его настойчивый тон, по-видимому, также не возымело желаемого Ростопчиным действия, и через несколько дней — 4 августа — он опять пишет государю: «…Хотя Наполеон последние три недели имел мало успехов, но эта адская секта мартинистов не может удержать своей ненависти к вам и России, своей преданности неприятелю… осмеливаюсь просить вас, государь, в случае, если вы найдете нужным оставить здесь Ключарева, прислать другого на мое место, потому что я сочту себя недостойным занимать его с честью…».
И на этот раз домогательства Ростопчина не встретили поддержки со стороны государя, и в конце концов Ростопчин решился на свой страх, не предупредив прямого начальника Ключарева, выслать Ключарева в Воронеж. Об этом своем шаге Ростопчин донес государю в следующих выражениях: «…Новые ночные сборища у этого негодяя Ключарева понудили меня отправить его в Воронеж. Это по-моему было единственным способом помешать осуществлению замыслов мартинистов, которые почти достигали возможности причинить беду России». Так читается по переводному тексту, помещенному в Русском Архиве. По цитате А. Попова письмо это читается так: «К этому, т. е. к высылке Ключарева в Воронеж, я принужден был прибегнуть, как к единственному средству предупредить замыслы мартинистов, которые доведены уже до того, что угрожают несчастьем России, а вам — участью Людовика XVI. Со временем вы увидите, государь, что эта ужасная секта благорасположила вас к ней посредством тех, кои сами к ней принадлежали». Несколько ранее высылки Ключарева Ростопчин арестовал и отправил в Петербург к министру полиции почтамтского экзекутора Дружинина.
Итак, самовольно расправившись с Ключаревым, Ростопчин в оправдание своего поступка представил Ключарева главою и руководителем целого заговора, да притом такого страшного, что в число его замыслов входило даже цареубийство. Надо думать, что для проницательного Александра был ясен дутый характер всех этих застращивающих донесений Ростопчина, и по этой-то именно причине Александр и не спешил на них откликаться. В самом деле, если в Москве происходили ночные собрания, на которых обсуждались планы цареубийства, если генерал-губернатору были известны дома, служившие штаб-квартирою заговорщиков, то естественно возникал вопрос, почему же эти заговорщики не переловлены, почему все сводилось к тому, чтобы выслать одного Ключарева? В увлечении избранной тактикой Ростопчин до такой степени утратил чувство меры, что не замечал того, что в своих донесениях государю он сам выдавал себя с головой, ибо из этих донесений можно было сделать только два вывода: либо тот, что Ростопчин совершенно беспомощен в борьбе с крамолой, так как из переполненной страшными заговорщиками Москвы сумел выловить всего-навсего одного Ключарева; либо тот вывод, что все эти сообщения о заговоре мартинистов — сплошной пуф, дерзостная попытка ввести в заблуждение монарха. И в самом деле, легкомысленно наговорив страшных слов о мартинистах в донесениях к государю, Ростопчин затем, можно сказать, бился, как рыба обо лед, чтобы изобрести хоть десяток заговорщиков среди этих, самым мирным образом настроенных, масонствующих москвичей. На что только он при этом не пускался! 6 августа он доносит государю, что Лопухин[416], Ключарев, Кутузов[417] и Лубяновский распускают слух о том, что России грозит гибель от Наполеона, как наказание Божие за кончину Павла. На этом основании он испрашивал у государя разрешения выслать этих лиц из Москвы в их деревни. Приехал в Москву известный масон Поздеев и, пробыв там несколько дней, отбыл обратно в деревню. Ростопчин сейчас же бьет в набат. Пишет Поздееву резкое письмо с приказом больше в Москву не являться, а государю доносит, что он поступил таким образом потому, что у Поздеева в Москве «перебывало множество сектаторов». Между тем воззрения Поздеева нам хорошо известны, это был монархист и ярый крепостник. Никакого «потрясения основ» от него исходить не могло. Упомянутому выше Кутузову Ростопчин запретил собирать у себя гостей. Вот и все меры, какими пришлось ему ограничиться относительно мартинистов, несмотря на весь тот пыл, с которым он стремился представить их адской сектой подготовителей цареубийства. Было очевидно, что вся поднятая Ростопчиным противомасонская шумиха носила чисто бутафорский характер и была вызвана не желанием спасти государство от внутренней реальной опасности, а какими-то другими намерениями. Чтобы оправдать хотя бы задним числом свои нападки на мартинистов, Ростопчин и по уходе французов из Москвы продолжал, вновь водворившись на своем посту, разыскивать нити и корни крамолы в масонской среде. Для этой цели он не постеснялся нарушить покой глубокого старца Новикова, который доживал многострадальные свои дни в полной деревенской тиши, в безусловном уединении, в селе Авдотьине, Броницкого уезда. Командир егерского полка тульского ополчения Миллер задержал на речной переправе крестьянина с почтовой сумкой. В сумке оказались письма к Новикову в село Авдотьино от эконома московского почтамта. По отзыву самого Миллера содержание писем было «чрезвычайно просто», а именно — там находились расчеты с извозчиком и вести о положении русских войск — самые сухие. Однако все это было адресовано не кому иному, как Новикову, патриарху московских масонов. И вот сыщицкая фантазия начинает работать: любопытнейший образчик того, до каких геркулесовых столбов может доходить стремление во что бы то ни стало выжать крамолу из ничего не значащей записки. Миллер, арестовавший эти письма, в рапорте своем пишет: так как в арестованном письме ровно ничего нет значительного, «выражения просты чрезвычайно», то это и должно означать, что эти выражения имеют какой-то особый смысл, могущий быть понятным лишь для тех, «кои ключ загадки сей имеют». Кроме этого глубокомысленного заключения, Миллер простирает свою находчивость на то, что цифры в приводимых в письме расчетах с извозчиком «согласны с числом тысячей войск обеих армий»! Это действительно необычное донесение Миллера, направленное к начальнику тульского ополчения и тульскому губернатору, было доведено затем до сведения Ростопчина. Ростопчин тотчас воспрянул духом и предписал бронницкому капитан-исправнику «узнать наверное» через опрос соседних и окольных селений, какие сношения с неприятелями имели живущие в селе Авдотьине поручик Новиков и в селе Валовом надворный советник Ключарев. При этом Ростопчин заявлял капитану-исправнику, что ему уже известно о том, что Новиков и Ключарев принимали к себе больных из неприятельской армии, и многие французские чиновники их посещали[418].
Это — не предписание искать, это предписание во что бы то ни стало найти ту крамолу, которая начальству была нужна. И все-таки ничего не было отыскано.
Вместо того, чтобы направить все усилия на предотвращение или ослабление тех действительных опасностей, которые угрожают государству, администраторы типа Ростопчина всегда занимаются сочинением мнимых крамол для того, чтобы занять ими внимание массы и тем отвлечь это внимание от ее собственных насущных нужд и потребностей. Ростопчин не задумался пустить в ход такую политику в тот момент, когда, казалось бы, всю энергию надлежало направить на подготовку обороны от страшного внешнего врага. Но мысль Ростопчина была загипнотизирована одной заботой, одной боязнью — как бы не вспыхнул внутренний народный мятеж против помещиков, и он спешил направить напор народных страстей по иному пути, спешил возбудить народную ярость против изменников и крамольников. Вот почему в то время, когда Наполеон двигался на Москву, московский генерал-губернатор, отложив заботы о подготовке военной обороны и своевременной эвакуации столицы, занимался лишь тем, что изобретал и сочинял несуществующую там крамолу.
Действия Ростопчина в 1812 г. потому так характерны, что в силу своей резкой прямолинейности они особенно наглядно вскрывают своеобразную позицию тех политиков, которые строят свои планы на одушевлении народных масс и в то же время боятся как огня проявления народной самодеятельности. По убеждению таких политиков, народу не должно быть места среди действующих сил государственной жизни: народ не более как немой и покорный раб на цепи… Пока ничто не нарушает обычного существования, политики этого типа ни на йоту не отступают от этой основы своего политического символа веры. Но лишь только на политический горизонт налетают грозовые тучи, лишь только назревают крупные исторические события, вышибающие жизнь государства из ее обычной колеи, — как тотчас же выступает наружу вся эфемерность подобной политической философии. В эти моменты самые рьяные ее последователи чувствуют себя вынужденными опереться на те народные массы, которые обычно обрекаются ими на безгласие и неподвижность. Но они решаются на это с безграничным страхом перед силою народного движения. Более всего боятся они того, чтобы народные массы не развернули при этом со стихийной неудержимостью самостоятельных стремлений к улучшению своей жизненной доли. И обуянные этой боязнью, они стремятся, всколыхнув народное движение, сейчас же свести его на ряд заранее подстроенных фарсов, в которых идея свободного народного самоопределения совершенно заслонилась бы крикливыми позами, искусственной шумихой, легкомысленным бахвальством, на самом деле чуждыми подлинным чувствам народной души.
Вот объяснение всей той тактики, которой держался Ростопчин в 1812 году. Она вытекала не только из личных черт его характера, она подсказывалась строем политических воззрений, свойственных не ему одному, но и всей той формации государственных деятелей, типичным представителем которой он являлся.
То, что по званию московского генерал-губернатора Ростопчин обязан был сделать при наличных обстоятельствах в первую очередь, отошло в его глазах на самый задний план. Здесь я всецело присоединяюсь к тем выводам, к которым пришел А. Попов в результате вдумчивого анализа действий Ростопчина в 1812 году. Попов, на мой взгляд, неопровержимо доказал, что Ростопчин отнесся с безграничным легкомыслием и к подготовке военной обороны Москвы, и к организации своевременного вывоза из Москвы казенных учреждений и не боевого населения. Скажем по два слова о каждом из этих вопросов.
Вместо того, чтобы строго согласовать меры по обороне Москвы с действиями Кутузова, Ростопчин занял самую несообразную позицию по отношению к главнокомандующему армиями. По закону во время войны приказания главнокомандующего должны были исполняться всеми чиновниками пограничных областей и губерний наравне с Высочайшими повелениями. Несмотря на это, Ростопчин позволял себе ставить Кутузову ультиматумы самым вызывающим тоном, с недвусмысленной угрозой, в случае несогласия на них Кутузова, действовал независимо от него. «Ваш ответ, — писал Ростопчин Кутузову, развив ему свой план, — решит меня, а я по смыслу его действовать буду — с вами перед Москвой или один в Москве». Выступая с такими вызывающими заявлениями, Ростопчин в то же время вводил Кутузова в заблуждение относительно своих подготовительных действий. Так, Ростопчин в одном из писем положительно обещал Кутузову сверх обещанного ополчения, уже находившегося при армии, приготовить еще особый вооруженный отряд москвичей в 80 000 человек. Ростопчин сам вызвался на это дело, и Кутузов, конечно, не предполагал, что подобные заявления могут быть даваемы на ветер, и ввел обещанный Ростопчиным отряд в свои расчеты. А Ростопчин между тем не ударил палец о палец, чтобы приступить к осуществлению этого своего обещания, ограничив все дело чисто словесной фанфаронадой. Когда же Кутузов, предполагая эту московскую «дружину» уже сформированной, распорядился дать ей определенное боевое назначение, Ростопчин вломился в обиду и оставил без всякого ответа эту, по его выражению, «дурную шутку» Кутузова. А. Попов полагает, что именно после этого эпизода Кутузов утратил уважение к Ростопчину, перестал принимать всерьез его действия и его слова, и при личном свидании с ним на Поклонной горе и в Москве у Яузского моста просто-напросто вышучивал Ростопчина, говоря ему заведомо несообразные вещи. К сказанному надо прибавить, что Ростопчин, со своей стороны, вообще ничего не сделал для укрепления Москвы на случай военной обороны, хотя не переставал твердить направо и налево, что он собирается вместе с москвичами с оружием в руках защищать древнюю столицу.
В деле очищения Москвы перед приходом неприятеля Ростопчин проявил полную нераспорядительность. Это также доказано с очевидностью А. Поповым. Ростопчин приступил к вывозу из Москвы казенных учреждений во второй половине августа и сразу забрал под казенные надобности все перевозочные средства из девяти уездов Московской губернии. Вывоз казенных учреждений шел в полном разгаре как раз тогда, когда понадобились подводы и под войска, когда и московские жители хлынули из города целыми массами. В результате — многие купцы и более бедные жители лишились средств к спокойному выезду, да и казенные ведомства были удовлетворены подводами не сполна, и в Москве пришлось оставить на произвол судьбы архив вотчинного департамента, библиотеку и все учебные кабинеты Московского университета и до 2000 раненых. Этого не случилось бы, если бы Ростопчин приступил к постепенной вывозке казенных учреждений еще в начале августа, а с другой стороны, если бы он не удерживал долгое время многих жителей торжественными заверениями в своих афишках, что Москва ни в коем случае не будет взята неприятелем. В своих мемуарах Ростопчин потом утверждал, что хотя он и не заявлял никогда прямо о необходимости очищения Москвы, но косвенными мерами старался побудить возможно большее количество людей заблаговременно оставить столицу. Это заявление Ростопчина, как показано А. Поповым, прямо противоречит фактам. Действительное отношение Ростопчина к отъездам из Москвы видно из его писем к императору, к Багратиону, к Толстому от 12, 13 и 24 августа, где он говорит, что радуется отъезду «дам и трусливых мужчин женского полу». Еще 18 августа он издал объявление, в котором говорилось, что «нельзя похвалить уезжающих мужчин, ибо если, по их мнению, существует опасность, то уезжать непристойно, а если опасности нет, то — уезжать постыдно».
И затем тут же Ростопчин повторял прежние заявления о том, что «злодей не будет в Москву» и что он ручается в том своей жизнью.
Ростопчин, правда, ссылался при этом на Кутузова и в одной из своих афишек даже возвестил москвичам, что Кутузов поклялся своими сединами в том, что Москва не будет сдана неприятелю. С легкой руки Ростопчина такая клятва еще и сейчас приписывается иногда Кутузову. А между тем, и в этом случае Ростопчин непринужденнейшим образом извратил истину. Такой клятвы нет совсем в письмах Кутузова к Ростопчину. Кутузов писал совсем иное. В письме его к Ростопчину от 21 августа читаем: «…прошу уверить московских жителей моими сединами, что еще не было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главного сражения, то это зависело от нас, главнокомандующих». Так вот в чем клялся Кутузов своими сединами. Ростопчин в своих афишах с полной развязностью приписал осторожному главнокомандующему свое собственное легкомыслие.
Не проявляя должной распорядительности там, где она настоятельно требовалась, Ростопчин зато развивал крикливую суетливость в таких делах, которые могли казаться необходимыми лишь человеку, ослепленному в корне ложным воззрением на вещи. Ростопчин был вполне убежден, что великое дело национальной самообороны может быть благополучно-совершено только посредством искусственной инсценировки показных эффектов, хитроумного лицедейства. По его понятиям, народ — всегда есть и должен оставаться младенцем, общество в его совокупности всегда есть и должно оставаться сборищем простаков, которых талантливый администратор должен уметь водить за нос и направлять по своему усмотрению. И вот, выдумывая для народа младенческие утехи, а обществу бросая пыль в глаза шумной суетливостью и разными затейливыми пустячками, Ростопчин твердо был убежден, что только его административному лицедейству Россия была обязана тем подъемом настроения, который погубил Наполеона. Эта характеристика целиком основана на подлинных заявлениях самого Ростопчина. Проектируя сформирование новых двух полков, Ростопчин писал государю: «…наименование этих полков кремлевским, иверским или успенским доставило бы удовольствие народу-младенцу»[419]. Рассказывая в мемуарах о первых шагах своих в должности московского генерал-губернатора, Ростопчин написал: «Двух дней мне достаточно было, чтобы бросить пыль в глаза и убедить большую часть жителей Москвы, что я неутомим и что меня видят повсюду». Эти слова как нельзя лучше выражают характер административных приемов Ростопчина, и приведенные строки его мемуаров доказывают, что он поступал так вполне сознательно, отдавал себе полный отчет в том, что его суетливые ухватки не имеют сами по себе для дела серьезного значения и годятся лишь на то, чтобы чисто внешним образом импонировать мало и поверхностно рассуждающей толпе. Вступив на пост градоправителя Москвы, Ростопчин прежде всего пустил в ход разные пустяки, посредством которых, по его словам, гораздо вернее можно действовать на расположение духа населения, нежели посредством серьезных мероприятий. В мемуарах он впоследствии с особенным удовольствием вспоминал, например, о том, что в первые же дни службы ему пришло в голову приказать снять с гробовых лавок вывески с гробами, чтобы такие вывески не наводили уныния на жителей напоминанием о предстоящих опасностях от врага. Кроме того, Ростопчин был убежден, что этой мерой он обеспечил себе популярность среди именитых московских старух, задающих в салонах тон общественному мнению, ведь старухи, рассуждал Ростопчин, всегда бывают благодарны, когда от их глаз удаляют эмблемы смертного часа. Правда, Ростопчин старался в эти дни блеснуть своим правосудием и заботливостью о справедливости. «В первый же день, — читаем в ростопчинских мемуарах, — я велел посадить под арест офицера в военном госпитале, которому была препоручена раздача пищи, потому что не нашел его в кухне во время завтрака; я оказал правосудие крестьянину, которому вместо 30 фунтов купленной им соли отпустили только 25». Беда была в том, что подобные распоряжения предпринимались Ростопчиным, по его собственному признанию, не ради твердого решения водворять всюду строгий законный порядок, а только для того, чтобы пустить пыль в глаза; это были красивые жесты рекламного характера, вовсе не обещавшие деловито-настойчивой борьбы со злоупотреблениями, а рассчитанные лишь на то, чтобы возбудить шум и толки в толпе.
Ростопчин подобно Кутузову очень дорожил репутацией хитреца и лаврами искусного актера на административном посту, но разница заключалась в том, что Кутузов считал вопросом чести обмануть врага своего народа, а Ростопчин сводил свою задачу к тому, чтобы обманывать самый этот народ, скрывая от него истинное положение дел, не доверяя его энтузиазму. Взывая, по видимости, к народной борьбе с неприятелем, он стремился на самом деле свести эту народную борьбу к некоторому административному фокус-покусу, достигаемому при помощи самых мелкотравчатых хитростей: от искажения фактов в официальных заявлениях до талантливой мимической игры генерал-губернаторской физиономии. У нас есть ряд собственных признаний Ростопчина в том, что он систематически отступал от истины при опубликовании получаемых сведений с театра войны. В записках Ростопчина читаем: «Во все время войны я держался правила при получении дурных известий возбуждать сомнение в его достоверности для ослабления дурного впечатления. А прежде чем успевали собрать доказательства, внимание поражалось новым известием и т. д.»[420]. В письме к Балашову от 11 июня Ростопчин, сообщив о том, что известие о мире с чурками возбудило общую радость, продолжает: «Народ чрезвычайно весел и полагает уже дунайские наши войска на прусской границе. Я подпустил мысль, которая разошлась, что турки с нами будут и обязались платить дань головами французскими». Последнее прибавлено, но говорится. 18 августа Ростопчин писал тому же Балашову: «Я для города печатал известия из армий, прибавляя все, что может успокоить умы»[421]. Каждое утро в генерал-губернаторском доме собиралось много разного рода лиц, и Ростопчин, отправляясь туда же в карете со своей дачи в Сокольниках, дорогою, как он сам говорил в мемуарах, «подготовлял свое лицо для определенного выражения».
Об этих невинных мимических упражнениях в карете Ростопчин вспоминал, как о важной своей государственной функции. И он действительно верил в то, что движения народной души могут быть направлены жестами, позами, заявлениями начальствующего администратора.
Этой именно верой продиктовано все содержание его знаменитых «афишек». Цитат оттуда я приводить не буду. Они слишком много раз повторялись в различных сочинениях, посвященных 1812 году. Как палеонтолог по обломку кости восстанавливает строение животного, которому эта кость принадлежала, так по одним этим «афишкам» мы могли бы безошибочно представить себе весь склад государственных понятий Ростопчина, если бы даже у нас не сохранилось никаких других сведений об этой личности.
Ростопчин вообразил, что он говорит в этих афишках настоящим народным русским языком. На самом деле язык афишек в такой же мере походил на истинную народную речь, в какой походит на подлинную речь ребенка присюсюкивающий лепет в устах взрослого, желающего снизойти до мира детских понятий и интересов. Эти афишки мог писать только тот человек, который в своей беспредельной отчужденности от настоящего строя народных чувств и дум воображал, что народ есть действительно младенец, не понимающий всего трагизма развертывающихся событий и могущий быть успокоенным в своих заботах и страхах начальственными прибаутками, сказанными ухарским тоном беззаботного забавника. «Я — ваш отец и командир, все вижу, все знаю и все сделаю; а ваше дело — веселиться простодушно моими шуточками и сидеть по домам, ни о чем не заботясь и не помышляя. Когда придет время, я вас позову и скажу, что надо делать», — так можно было бы резюмировать все содержание афишек, прибавив еще указание на то, что побить француза — плевое дело и, следовательно, беспокоиться не о чем. Это говорилось для убеждения людей, которые не были ведь замурованы в глухих стенах, которые видели и слышали, какие опасности надвигаются на родину, у которых щемило на сердце от сознания близкой страшной беды. Они, эти люди, вправе были ожидать, что в такое время они услышат от начальника города серьезное, деловитое изложение планов правительства и подлинного положения дел в стране и в армии. А им вместо того преподносились какие-то юмористические листочки, где их, как малых ребят, старались успокоить и развлечь бесшабашным балагурством. Немудрено, что «афиши» Ростопчина во многих кругах московского населения встретили резко отрицательную оценку, следы которой остались в письмах того времени.
Рисуясь ролью знатока народного духа, Ростопчин построил все свои приемы на таких расчетах, которые прямо противоречили особенностям склада русского народного характера. Он хватался за все показное, крикливо-театральное, не взяв В толк того, что подобные внешние эффекты вовсе не во вкусе русского народа, а скорее во вкусе тех самых французов, на подражание которым он так яростно нападал. Этим пристрастием Ростопчина ко всему, бьющему на эффект, я склонен объяснить между прочим и то обстоятельство, что он так доверчиво поддался на удочку известной затеи Леппиха с воздушным шаром. Правда, мысль использовать эту затею для нужд войны принадлежала Александру, и Леппиху было разрешено приступить к изготовлению военного воздушного шара в Москве еще до назначения Ростопчина на пост генерал-губернатора, но Ростопчин ухватился за эту затею со всем увлечением.
Позднее, в мемуарах он изобразил это дело в таком виде, как будто оно все время крайне его тяготило, ибо он понимал, что ничего путного отсюда не выйдет. Но здесь, как и во многих других случаях, мемуары Ростопчина грешат против истины. Обнародованные письма Ростопчина к государю ясно показывают, что Леппих и его шар быстро воспламенили суетное воображение московского генерал-губернатора. Отпустив Леппиху очень крупные суммы на приступ к работам, Ростопчин писал государю 7 мая: «Мне очень приятно познакомиться с человеком, благодаря изобретению которого военное ремесло станет бесполезным, освободится род человеческий от своего адского губителя, а вы сделаетесь вершителем судеб государей и государств и благодетелем человечества». 30 июня он писал: «Я подружился с Леппихом, который тоже меня любит, и машина стала мне дорога, точно мое дитя. Леппих предлагает мне пуститься на ней вместе с ним, но я не могу этого сделать без вашего позволения, а повод прекрасен: ваша слава и благо Европы!». В письме от 4 июля читаем: «Леппих взял уже 72000 р., хотя большая часть нужных вещей оплачены и останется половина купленного купороса… не могу надивиться деятельности и усердию Леппиха. Он встает первый и ложится последний». В письме от 13 августа: «Машина у Леппиха будет готова не ранее двух недель… он много берет денег; ему выдано уже 163 тысячи рублей. Но лишь бы последовал успех, то и миллиона будет не жалко». Только в самом конце августа Ростопчин как будто начинает прозревать, и у него закрадывается мысль о том, что талантливость и усердие Леппиха направлены только в одну сторону — беспрерывного требования все новых и новых сумм на выполнение его затеи. В письме от 29 августа Ростопчин сообщает государю о полной неудаче первого опыта с поднятием шара и прибавляет: «Вслед затем начались бесконечные затруднения. Ему (т. е. Леппиху) надо какой-то особой стали. Большая машина еще не готова, и мне кажется, что надо будет отказаться от пользы, какую льстились получить от того». Последующие факты, как известно, показали, что вся эта затея представляла собой мыльный пузырь, к сожалению, очень дорого обошедшийся казне и не замедливший лопнуть как раз в тот момент, когда его решили пустить в действие. Почему же Ростопчин так легкомысленно увлекся предприятием Леппиха и не разглядел вовремя его шарлатанского характера? Не подслуживался ли он просто-напросто к государю ввиду того, что предписание заняться Леппихом исходило от Александра? Я не допускаю такого объяснения. Во-первых, сам Александр относился к Леппиху вовсе не с таким жаром, как Ростопчин. Вот что писал Александр, впервые рекомендуя Леппиха Ростопчину в письме от 24 мая 1812 г.: «Леппих весьма искусный механик, с изобретением, которое может иметь самые важные последствия. Во Франции делались всевозможные попытки, чтобы добиться открытия, на которое, по-видимому, удалось напасть этому человеку. Во всяком случае, чтобы удостовериться в этом, нужно произвести предлагаемые им опыты». Таким образом, Александр вовсе не предписывал Ростопчину сразу оказать Леппиху полное доверие. Наоборот, на Ростопчина возлагалось определенное поручение проверить репутацию Леппиха, следя за его работами, и государь заранее допускал возможность отрицательного результата проверки. Известен рассказ Аракчеева о его беседе с Александром по делу Леппиха, и из этого рассказа еще явственнее обозначается, что Александр вовсе не разделял того увлечения Леппихом, которым дышат письма Ростопчина. На выраженные Аракчеевым сомнения в солидности затеи Леппиха Александр дал понять, что важно лишь ободрить народ толками о какой-то необычайной машине, которая будет действовать против войск Наполеона. Не забудем также и того, что Ростопчину вообще не было свойственно подделываться под вкусы Александра, мы уже отмечали случаи, когда Ростопчин очень категорически делал Александру такие представления, которые заведомо не могли быть приятны государю. Значит, увлечение Леппихом, в котором Ростопчин сам впоследствии постеснялся признаться в мемуарах, захватило его действительно к полному посрамлению его дальновидности. Для меня несомненно, что Ростопчин в этом случае, как и во многих других, стал жертвой своей безграничной склонности к красивым эффектам и своей веры в магнетическое действие таких эффектов на чувства народной толпы. Недаром в письме от 30 июня он забрасывал государю мысль о том, чтобы ему было разрешено подняться на шаре вместе с Леппихом. Подумать только: московский генерал-губернатор парит в облаках над Москвой в виду наполеоновской армии! Для такой картины можно не пожалеть и миллиона рублей казенных денег. Отсюда — преждевременные восторги Ростопчина перед личностью Леппиха и перед его затеей.
Театральный характер носило и сожжение Ростопчиным своего дома в Воронове с тем, чтобы он не достался врагам. Этот акт самопожертвования был эффектом, но вовсе не вызывался необходимостью: не было основания предполагать, что французы непременно займут Вороново. Зато Ростопчин дал себе этим возможность блеснуть трескучей риторикой совершенно во французском, а отнюдь не в русском духе. Сожжение дома было совершено при обстановке, лишенной той целомудренной скромности, с которой всегда выполняются истинно героические поступки. Напротив, все было рассчитано на мелодраматические эффекты. Ростопчин пригласил на пожар многих генералов. Гостям были розданы факелы для участия в разрушении. Когда дом и надворные строения были уже охвачены пламенем и когда рухнула прекрасная скульптурная группа, сделанная по модели Монтекавалло в Риме и украшавшая главный вход в дом, Ростопчин в присутствии приглашенной публики воскликнул по-французски: «Me voilà content![422]» Затем он прикрепил к дверям вороновской церкви доску с надписью: «Восемь лет я украшал этот деревенский дом и жил здесь счастливым среди семьи. Жители этого селения в количестве 1720 душ покидают его ввиду вашего приближения, и я по собственной воле предаю мой дом огню, чтобы ваше присутствие не осквернило его. Французы! Я оставил вам в Москве два моих дома с мебелью стоимостью в полмиллиона рублей. Здесь же вы найдете только пепел».
Сколько раз повторял потом Ростопчин при всевозможных случаях: «Я сжег Вороново!»[423].
Приписывалось ему сожжение и всей Москвы при занятии ее Наполеоном. Но в этом отношении я опять-таки совершенно присоединяюсь к выводам А. Попова, который внимательным разбором всех относящихся к этому вопросу данных убедительно доказал, что пожар Москвы был делом не Ростопчина, а безымянной массы разнородных элементов московского населения, Ростопчин же своими распоряжениями лишь облегчил возможность появления в Москве массовых пожаров[424].
Изощряясь в изобретении всевозможных эффектов, которые, по его мнению, были необходимы для поддержания в народе патриотического одушевления, Ростопчин не останавливался ни перед грубой ложью, ни перед зверскими жестокостями. Он сам с непринужденной откровенностью признался в мемуарах в следующей проделке: после Бородинской битвы он велел в одно утро напечатать в 5000 экземпляров и распространить в народе рассказ о том, что к митрополиту Платону[425] якобы явился престарелый монах, попросил у него благословения, сказал, что он возвратился, чтобы сражаться с русскими, и после этих слов исчез, оставив светлый след. Конечно, это был св. Сергий, который, пишет далее Ростопчин: «был монахом Троицкого монастыря, где и лежат его мощи: он ходил драться в войско Дмитрия Донского против татарского хана Мамая и остался победителем». Здесь все характерно — и невежество Ростопчина — этого «знатока» русского духа и родственника Карамзина — в русской истории[426], и безграничная бесцеремонность в измышлении басен: ведь митрополит Платон был еще жив, хотя и страдал тяжкой болезнью[427]. 30 августа Ростопчин передал Глинке для распространения в народе воззвание «на Три горы», в котором жители призывались явиться вооруженными к трем горам, чтобы с генерал-губернатором во главе отстаивать столицу от неприятеля, и, передавая Глинке это воззвание, Ростопчин тут же сказал: «У нас на Трех горах ничего не будет»[428]. И действительно, наивные люди, явившиеся туда по этому призыву, не нашли там генерал-губернатора: он в это время собирался не отстаивать столицу, а покинуть ее вслед за удаляющейся армией Кутузова. И он, действительно, уехал, оставив в великом соблазне тех, кто придавал значение его многократным заявлениям о своей решимости вместе со всеми московскими жителями биться под стенами Москвы независимо от того, что предпримет Кутузов. Это опять была легкомысленная фанфаронада, рассчитанная на поднятие настроения в народе: твердя направо и налево, что он противопоставит Наполеону ополчение из жителей столицы и ее окрестностей, Ростопчин и не думал приступать к составлению такого ополчения.
Зато у Ростопчина был сильный задор на то, чтобы перед приходом французов разъярить уличную толпу видом человеческой крови. Очень вероятно, что именно в связи с таким намерением он пытался убедить нижегородского губернатора прислать в Москву из Нижнего Новгорода Сперанского, несмотря на то, что для этого, несомненно, требовалось бы особое Высочайшее повеление. То, что не удалось совершить со Сперанским, Ростопчин выполнил на несчастном Верещагине.
Ростопчин был, по-видимому, серьезно убежден, что именно благодаря его изобретательности Наполеон не одержал победы над Россией. 2 декабря 1812 г. он писал государю: «Во все времена мое честолюбие состояло лишь в том, чтобы снискать вашу доверенность; я был ею облечен и спас империю». Эти притязания на звание спасителя империи Ростопчин основывал на том, что натравливаниями народа на мартинистов и французов он предотвратил мятеж крестьян против помещиков, на который Наполеон возлагал главные надежды. Мы не ошибемся, признав эти притязания Ростопчина столь же неосновательными, какой была и вся программа его действий. Своими стараниями возбудить в народе и обществе патриотический жар Ростопчин ломился в открытую дверь: нужна была вся самоуверенность презирающего народ бюрократа для того, чтобы прийти к мысли, что без жестов, прибауток и побасенок народ не пожелал бы отстаивать родину от вторжения иноземцев. Своими стремлениями изобрести несуществующую крамолу Ростопчин попадал мимо цели, ибо народ не обнаруживал никакой свирепости ни к местным иноземцам, которых он, в противоположность Ростопчину, вовсе не склонен был огулом заподозревать в измене, ни к «мартинистам», которые для простонародия были вообще неведомы, а для интеллигентного общества являлись в политическом отношении заведомо невиннейшими, мирными обывателями. Наконец, своими претензиями на глубокое знание народного духа и на роль вождя народных масс Ростопчин только выставлял напоказ свою полную отчужденность от подлинных особенностей народного характера; вся его «народность» сводилась к тому, что он облекал в форму мнимо простонародных прибауток совсем не русскую страсть к позировке, риторике и мелодраматическим эффектам. И потому его крикливая и суетливая деятельность в 1812 г. осталась непонятной для народа и непроизводительной для государства.
То не был результат его личных ошибок и увлечений. То был результат целого мировоззрения, вообще широко распространенного в правящих кругах всех эпох. Это мировоззрение считает основою государственной мощи неограниченность власти правительства и держание народа на положении безгласного младенца. У Ростопчина эти политические догматы, кроме того, переплетались и сливались с резко выраженными инстинктами помещика-душевладельца. И история Ростопчина представляла один из многих примеров того, что сторонники указанного мировоззрения чувствуют себя уверенно и твердо только в спокойные периоды государственной жизни. Когда же гроза налетает на политический горизонт, когда сотрясается организм государства, когда развертываются события, по своей важности являющиеся пробным камне государственной мудрости правящих лиц, тогда Ростопчины вмиг утрачивают твердость своей поступи и не находят в своей близорукой политической догматике надежной опоры для своих действий. Претендуя на роль вождей народной массы, они более всего страшатся открытого и свободного проявления народного самосознания, и это коренное внутреннее противоречие в их поведении отнимает силу у их фальшивых лозунгов и осуждает их самих на жалкое метание, на изобретение всякого рода политических буффонад, которые были бы только наивны и смешны, если бы от них не отдавало так часто зловещим запахом человеческой крови.
Вот в каком смысле фигура Ростопчина получает в наших глазах широко типический характер, вот в каком смысле значение его жизненной повести выходит далеко за пределы чисто археологического интереса.
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I И АРАКЧЕЕВ
Печатается по изданию:
Кизеветтер А. А. Исторические очерки.
М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 287–401.
Немало написано и напечатано о жизни и деятельности графа Аракчеева. В многочисленных мемуарах начала XIX столетия встречаем нередко отзывы современников о личности знаменитого временщика и рассказы о различных фактах из его жизни. К этим данным мемуарной литературы присоединяется значительный запас подлинных документов, писем и разного рода официальных актов, бросающих свет на жизненный и служебный путь этого страшного человека, при одном упоминании о котором тысячи наших недавних предков дрожали и крестились от ужаса. Однако все эти данные, отрывочные и разбросанные, до сих пор еще не сведены в единое целое. А ведь стоит заняться такой сводкой. Аракчеев дал свое имя целому тринадцатилетию нашей истории (1812–1825 гг.), которое зовется «аракчеевщиной» подобно тому, как в XVIII столетия время правления Анны было прозвано «бироновщиной»[429]. Интерес к Аракчееву усиливается еще тем обстоятельством, что время его всевластия пало на царствование государя, вступившего на престол в ореоле поборника либеральных начал. Каким образом «аракчеевщина» стала возможной под скипетром Александра I? Что связывало эти две столь несродные натуры? Какое сочетание условий создало ко второй половине царствования Александра I безудержный рост воинствующей реакции, тупо и бессмысленно загоняющей в революционное подполье лучший цвет общественных сил? Все эти вопросы, неизбежно возникающие около имени Аракчеева, имеют большую важность как для изучения царствования Александра I, так и для размышлений над более общим вопросом об исторической природе тех бурных пароксизмов реакционного террора, которые не перестают вспыхивать время от времени на всем пространстве нашей новой истории вплоть до самых последних ее моментов.
Пушкин, разговаривая со Сперанским[430], сказал: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага»[431].
Салтыков[432] в поразительной по силе сатирического удара «Истории одного города» пытался заглянуть в душу страшного временщика и в своем Угрюм-Бурчееве создал поистине ужасающую фигуру героя бессмысленной воли, у которого стихийная, всесокрушающая настойчивость шла вровень только с безумной нелепостью занимавших его планов и начинаний. «Закапывай реку, вороти ее вспять!» — приказывает Угрюм-Бурчеев подвластной толпе, и тысячи народа истекают кровью над исполнением заведомо бессмысленного приказа, покоряясь железной воле своего повелителя.
Взгляды Пушкина и Салтыкова на деятельность Аракчеева примыкают к наиболее распространенному воззрению, которое, на мой взгляд, представляет Аракчеева выше его действительного духовного роста. Мрачный ли дух зла, двигающий ли массами фанатик бессмысленных планов — и в том, и в другом случае Аракчеев рисуется, как человек сильного почина, властно порабощающий себе окружающих людей.
Такое воззрение совпадает с распространенным объяснением происхождения «аракчеевщины»: Аракчеев подчинил себе духовно Александра, Ариман восторжествовал над Ормуздом[433] и, следовательно, аракчеевщина возникла вопреки Александру; самого же Александра можно упрекнуть только в слабости воли, в мягкой уступчивости, в том, что он не сумел совладать со своим злым демоном. И относя все мрачное на счет Аракчеева, это воззрение создает из него, как из некой темной глыбы, лишь пьедестал для вящего возвеличения духовной красоты того, кому он служил.
Историческая действительность, однако, отнюдь не подтверждает этого распространенного воззрения. На самом деле все было совершенно иначе. И прежде всего в самом Аракчееве при внимательном изучении его личности нельзя подметить ни одного грана крупной духовной силы, хотя бы и мрачной, хотя бы и извращенной. Он сам охарактеризовал себя гораздо правильнее, нежели Пушкин и Салтыков. Он вовсе не притязал на роль демона или стихийно-фанатичного изувера. Он любил называть себя просто — «истинно русский неученый дворянин» — и только.
Знают ли современные «истинно русские» дворяне, что первоначальным творцом того прозвища, которым они теперь так гордятся, был их прямой исторический предок — граф Аракчеев? «Истинно русский неученый дворянин» это — нечто гораздо более прозаическое, нежели «демон зла», и нечто гораздо менее устойчивое, нежели фанатик, хотя бы и бессмысленной идеи. Это просто — служилый холоп, преданный «без лести», но при непременном условии получения за свою преданность соответствующих подачек. Таким и был друг сердца Александра граф Аракчеев. Взаимные отношения этих двух друзей располагались обратно тому, как гласит распространенная легенда. Александр вдохновлял, Аракчеев исполнял. Разумеется, способы исполнения соответствовали натуре исполнителя.
Аракчеев не был демоном-искусителем. Скорее он был той тенью, которую отбрасывала от себя на Россию импозантная фигура Александра, вся сиявшая блеском славы, вся окруженная фимиамом восторженных восхвалений. Блестящий предмет и его тень — как будто два контраста. Но разве очертания тени не обусловлены фигурою предмета, которому он сопутствует?
Глава первая ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I
Если Аракчеев не был рожден для того, чтобы духовно покорять, то и Александр не был рожден для того, чтобы легко отдаваться во власть чужих чар. Александр превосходно сыграл свою роль на жизненной сцене. Недаром Наполеон назвал его «северным Тальма»[434]. Только очень опытный и вдумчивый наблюдательный глаз мог отличать природные краски нравственной физиономии Александра от вечно покрывавшего его художественного грима. В глазах большинства современников и их потомков Александр представлял собою лучезарное видение какой-то небесной духовной красоты. «Это — сущий прельститель», — сказал про него многоопытный Сперанский. Он владел тайной той чарующей улыбки, которая растопляет самые суровые сердца и вмиг рассеивает все предубеждения. И всем, кто испытал на себе магнетическое действие этой улыбки или хотя бы только слышал от других о ее невыразимой прелести, не могло не казаться, что кроткое сердце этого человека способно излучать лишь милость и благоволение, несущее с собой всеобщее счастье. «Ваша душа — лучшая конституция для вашего народа», — сказала Александру ярая конституционалистка г-жа Сталь[435]. Но в таком случае, как же объяснить себе все эти капризные изгибы политики Александра, эту непрерывную цепь противоречий в его начинаниях, в которых возвышенные планы облагодетельствования подданных чередовались с суровыми мерами, сеявшими столько обид, столько горя и несчастий? Для поклонников «сущего прельстителя» возможно было подыскать только одно объяснение этому явлению: исполненный лучших намерений и возвышенных чувств, Александр был слишком впечатлителен и слабоволен и его нежное сердце, как тонкая трость от порывов ветра, беспомощно гнулось под разнообразными и противоположными влияниями. Так создавалось представление о чрезмерной уступчивости, как об основной черте в душевном складе Александра[436]. Опираясь на это представление, легко уже было затем объяснить все мрачные стороны Александрова царствования делом рук влиятельных временщиков с Аракчеевым во главе, оставляя на долю Александра роль жертвы собственного слабоволия.
Я не имею в виду дать здесь исчерпывающую характеристику Александра. Эта трудная задача по силам лишь крупному художнику. Для моей частной цели предстоит исследовать лишь вопрос о степени самостоятельности Александра в выборе своих жизненных путей и своих политических направлений. Однако и для рассмотрения этого частного вопроса неминуемо приходится заглянуть в тот извилистый запутанный лабиринт, каким представляется душевная организация «неразгаданного сфинкса». Темен путь по этому лабиринту. Но одно для меня совершенно ясно: Александр вовсе не обладал сердцем из мягкого воска; столь многими подчеркнутая «уступчивость» его характера — не более как психологический мираж. Александр частью бессознательно казался уступчивым человеком благодаря тому, что он действительно был равнодушен ко многим из тех вопросов, по которым он не настаивал на своем мнении; частью и, может быть, еще в большей мере, он сознательно и с расчетом надевал на себя личину уступчивости как раз в тех случаях, когда он твердо и решительно ставил себе определенные цели и неотступно шел к ним, виртуозно вводя в заблуждение окружающих людей: Александр всего более умел заставлять служить своим планам именно тех лиц, которым он с особой предупредительностью делал видимые уступки. Так, «уступчивость» Александра вовсе не свидетельствовала о слабоволии: в одних случаях она являлась естественным следствием лености и холодности его души; в других — служила тонко отточенным орудием государственной и житейской политики.
Обе указанные основные черты психического склада Александра — тяжеловесность душевных движений и изворотливость при достижении поставленных себе целей — вскрываются перед нами уже с самого раннего его младенчества. До нас дошел ряд писем Екатерины II, рисующих ход начального воспитания Александра Эти письма проникнуты чувством влюбленности старой бабушки в первого внука. Содержание писем — сплошной панегирик «господину Александру», который рисуется пером бабушки как гениальный ребенок, поражающий привлекательностью душевных качеств, безграничными и быстро развивающимися способностями. Екатерина в особенности восторгается одним свойством своего внука: Александр никогда никому не доставляет беспокойства; он никогда не капризничает. Его душа — мягкая глина, из которой можно лепить что угодно. Его ни к чему не приходится принуждать; «нет ни выговоров, ни дурного расположения, ни упрямства, ни слез, ни крика»; читать книжку он готов с таким же удовольствием, как вскочить в лодку, чтобы грести. Эти признания счастливой бабушки как будто подтверждают мнение об уступчивости Александра. Однако надо помнить, что отзывы счастливых бабушек вообще — самый ненадежный источник для характеристики их внуков; из этих отзывов можно брать факты, но за объяснением таких фактов предпочтительно обращаться к другим данным. Драгоценным дополнением и коррективом к письмам Екатерины о младенчестве Александра служат отзывы его первоначальных воспитателей. Здесь меньше восторгов и более беспристрастия и наблюдательности. Один из этих воспитателей дает отзыв, прямо противоположный тому, что читается в письмах Екатерины: «…замечается в Его Высочестве лишнее самолюбие, а от того упорство в мнениях своих и что он во всем будто уверит и переуверит человека, как захочет. Из сего открывается некоторая хитрость, ибо в затмевании истины и в желании быть всегда правым неминуемо нужно приступать к подлогам»[437]. Итак, Александр — ребенок, умеющий упрямиться и упорствовать в своих мнениях, умеющий добиваться того, что составляет предмет его желаний. Почему же перед бабушкой тот же ребенок является каким-то добронравным автоматом? Сопоставление свидетельств Екатерины с показаниями воспитателей наводит на предположение, что Александр либо находил неудобным в чем-либо перечить бабушке, либо просто смотрел с одинаковым равнодушием на каждое из тех занятий, которые она ему предлагала. Все, что мы знаем о личности Александра за все время его жизни, доказывает равномерную допустимость обоих этих предположений. В самом деле, заметки воспитателей Александра рисуют нам его ребенком живым, даровитым, приятным, но неглубоким, легко схватывающим налету новые впечатления, но не способным глубоко сродниться с ними, быстро утомляющимся от последовательных занятий одним и тем же предметом. Александр, по наблюдениям воспитателей, кажется способным ко многому, но ничто в частности не привлекает к себе его серьезного интереса. Эта природная наклонность скользить по поверхности окружающих явлений, оставаясь в глубине души к ним равнодушным и скучая их пристальным изучением, могла только возрасти и укрепиться под влиянием той школы, которую Александру пришлось пройти в годы систематического обучения. Главный ментор Александра, Лагарп[438], составил первоначально довольно обширный план занятий. Предполагалось начать с курса о происхождении обществ, затем — остановиться на ряде поучительных эпизодов из всемирной истории с целью привить Александру некоторые возвышенные принципы, которые могли бы ему быть полезны при последующей государственной деятельности, и, наконец, предполагалось подвести под эти уроки отвлеченной политической морали фундамент более систематического обзора конкретных исторических фактов. Составляя этот план, Лагарп, очевидно, рассчитывал на то, что он будет полным хозяином классного времени и получит возможность не спеша вести учебные занятия со своим воспитанником. Он упустил из виду, что требования дворцового этикета ежеминутно станут врываться в классную комнату великого князя и ход учения придется подчинять многим соображениям, не имеющим ничего общего со школьной систематикой. Во-первых, правильный курс учения Александра очень рано оборвался: частью по педагогическим, частью по династическим соображениям Екатерина слишком поспешила женить внука. Шестнадцати лет Александр уже стал мужем четырнадцатилетней супруги, впоследствии столь несчастной Елизаветы Алексеевны[439]. Разумеется, правильное учение после этого стало невозможным. Во-вторых, и в краткий период систематического учения многочисленные отвлечения постоянно нарушали строгий ход занятий. Приходилось по кускам воровать время для школьной работы от суетливой придворной жизни и в то же время искажать и комкать намеченный учебный план. Какой же частью надлежало пожертвовать? Отбросить воспитательно-моралистическую часть Лагарп не считал возможным. Он призван был воспитать не ученого, а государя. И вот, уже не гоняясь за систематическим изучением, Лагарп спешил воспользоваться свободными для занятий часами, чтобы хотя в общей форме раскрыть перед будущим императором мир своих возвышенных идей. Такое преподавание имело ту отрицательную сторону, что оно потворствовало и без того свойственной натуре Александра наклонности к поверхностному восприятию окружающих впечатлений, которые схватывались им на лету и очень редко задевали самую глубину его расположенной к дремотной лени души. Слушая Лагарпа, Александр усвоил несколько теоретических понятий о свободе, равенстве, общем благе и т. п. Но он не взял этих понятий с бою, не сроднился с ними органически путем самостоятельной упорной мыслительной работы. Он привык чисто эстетически ценить все эти идеи и любоваться их красотой так же пассивно, как любуется турист открывающимися перед его вагонным окном красивыми пейзажами, — любуется и едет дальше. Александр не воспитал в себе жгучей потребности во что бы то ни стало добиться воплощения симпатичных ему идей в действительной жизни. Ему была совершенно чужда та страстность, при которой настоящие борцы за идею отождествляют судьбу своих планов с судьбою своей личности, та страстность, которая внушает человеку бесповоротное решение либо победить, либо умереть. Созерцательный эстетик в политике, Александр любил строить широкие политические планы. Но он всегда предпочитал вынашивать эти, обыкновенно довольно фантастические и далекие от реальных жизненных нужд, замыслы не спеша, в мечтательном спокойствии, заранее отодвигая их практическое осуществление в неопределенную даль будущего. Для всякого пассивного мечтателя тем дороже мечта, чем она отдаленнее от грубого мира действительности; воплотить мечту, не значит ли рассеять окружающее ее обаяние? И Александр говорил о своих любимых планах со спокойным и холодным красноречием, отнюдь не смущаясь полным несоответствием этих отдаленных замыслов своим текущим делам. Этот-то постоянный разлад слова с делом, обещания с выполнением и внушал многим предположение либо о неискренности, либо о слабовольной уступчивости Александра посторонним влияниям. Между тем Александр совершенно искренне любовался своими мечтательными замыслами и совершенно самопроизвольно, помимо какой бы то ни было уступчивости, сплошь и рядом вел политику, на первый взгляд ничего общего с этими замыслами не имевшую. Все дело было в тем, что заманчивые планы относились на счет далекого будущего, а длинный к ним путь лежал в воображении мечтателя как раз через неприглядную действительность текущего дня; так было удобно и приятно — не нарушалась ни целостность мечты, ни душевный покой на каждый данный момент. Эти отдаленные планы, постоянно роившиеся в уме Александра, всегда имели несколько незаконченный, полуоформленный вид. Александр любил оставлять за ними характер грезы, которая начиналась здесь, в рамках осязаемой действительности, и затем неуловимо расплывалась в какой-то туманной неопределенности. И ничем нельзя было прогневать его в большей степени, как попыткой придать теперь же резко определенные черты этим умышленно неясным контурам манивших его воображение идей. Тогда он тотчас же испытывал такое чувство, как будто его грубо сталкивают с берега на опасный простор морских волн, и это оскорбляло его созерцательную мечтательность: он любил всматриваться в беспредельное море своей мечты не иначе, как чувствуя себя на берегу, на крепкой земле привычных и давно налаженных житейских порядков и отношений. Готовясь к вступлению на престол и, затем, в течение первой половины своего царствования, он был увлечен планом благодетельствования России, водворения в ней политической свободы на место прежнего деспотизма Он предавался этой мечте с большим одушевлением, пока на престоле находился его отец и вопрос о практическом осуществлении либеральной политической реформы не мог стать на очередь. Но вот Александр сам сделался императором и в тесном кругу своих друзей и единомышленников, в так называемом «неофициальном комитете»[440] приступил к разработке ближайшего плана преобразований. Отчего же первым решением этого неофициального комитета было отсрочить введение в России народного представительства на неопределенное далекое будущее и заменить первоначальный план конституционной реформы утопическим проектом совмещения политической свободы с неограниченным самодержавием? Была ли это уступка со стороны «слабовольного» Александра? Ничего подобного.
Обнародованный в настоящее время полный текст протоколов неофициального комитета показывает, что среди членов этого комитета, вообще отнюдь не склонных к радикальным преобразованиям, сам Александр был наименее расположен к каким-либо решительным шагам по пути политических нововведений. Может быть, тут действовало жизненное чутье, подсказавшее Александру, — вопреки его предшествующим увлечениям, — ту мысль, что его страна еще не подготовлена к коренному переустройству государственного порядка? И это предположение не объясняет сущности дела, ибо, с одной стороны, Александр не переставал толковать о своем решении уничтожить деспотизм и основанное на нем «безобразное здание нашего правления», а с другой стороны, он не задумывался самодержавно ниспровергать и такие гарантии, которые уже были узаконены и соблюдение которых вовсе не требовало с его стороны борьбы с закоренелыми предрассудками общества. Припомним один характерный эпизод, разыгравшийся как раз в медовый месяц «дней Александровых прекрасного начала». Указом о правах и преимуществах сената этому высшему государственному учреждению было дано право ремонстрации, т. е. доведения до сведения государя указаний на неудобства предполагаемых к изданию законов. В первый же раз, как сенаторы решились осуществить это право, они встретили со стороны Александра самый энергический отпор. Государь принял сенаторов с ледяной холодностью, и вскоре затем последовало разъяснение в том смысле, что упомянутое право сената должно быть относимо лишь к законам, изданным до обнародования указа о правах и преимуществах сената, и не распространяется на будущее время. Иначе говоря, под видом «разъяснения» состоялось полное упразднение только что введенной законодательной нормы — прием, близко знакомый русскому читателю наших дней. Так, Александр, восторгаясь прекрасным призраком политической свободы, с раздражением отгонял от себя всякий намек на воплощение этого призрака в осязательных земных формах. Здесь не было ни искренности, ни слабоволия; здесь была только холодная и праздная любовь к мечте, соединенная с боязнью, что мечта улетучится при первой же действительной попытке к ее реализации. И Александр предпочитал оставаться при неопределенно-расплывчатой формуле неофициального комитета о возможности совместить свободу с самодержавием; неясность, неуловимость этой формулы как раз и составляла главную привлекательность ее в глазах Александра.
Спустя несколько лет тяжелые испытания от неудач первых коалиций против Наполеона поставили ребром вопрос о необходимости политической реформы. Теперь уже не кабинетные размышления о возвышенных принципах, а осязательная практическая потребность, всеобщее недовольство и ропот, финансовый кризис, расшатанность государства настойчиво напоминали о непригодности старых форм правления. И от расплывчатых мечтаний о политической свободе приходилось перейти к составлению точного плана государственного преобразования. Эта потребность выдвинула на авансцену внутренней политики великого систематика — Сперанского. Легко можно представить себе, с каким чувством читал Александр проекты Сперанского! Ведь эти проекты низводили воздушно-бесплотную мечту о политической свободе на степень сухих логических формул, точных определений, законченных параграфов. Все получало полную осязательность, принципы формулировались в учреждения, и железная логика всех этих «уставов» и «наказов» не оставляла места никаким заманчивым недомолвкам и поэтическим неясностям. И главное — план Сперанского был разработан в целях немедленного исполнения, при котором предстояло сейчас же осязательно почувствовать необходимые последствия введения нового порядка на место прежних привычных отношений. План Сперанского должен был возбудить в Александре неприятное чувство более всего именно своею законченностью. И до нас действительно дошли указания на то, что Александр выражал свое недовольство произведением Сперанского и жаловался, что Сперанский исказил первоначальные проекты Лагарпа и слишком определенно ограничил прерогативы монарха[441]. Александр был большой охотник до красноречивых введений в конституционные хартии, но он отнюдь не одобрял точную определенность в параграфах их текста. И не мудрено, что Александр быстро перешел от первоначальной мысли о введении в действие проекта Сперанского целиком к частичному осуществлению лишь некоторых его отрывков.
Падение Сперанского обусловливалось, как известно, многообразными причинами. Но вряд ли мы ошибемся, предположив, что та легкость, с которой Александр пошел навстречу недоброжелателям Сперанского, объясняется в последнем счете глубокой разностью натур этих двух людей. Сперанский испугал Александра, показав ему в конкретно-воплощенном виде его смутную и бесформенную мечту. И сочиненные Сперанским параграфы встали перед умственным, взором Александра как живой укор его мечтательной пассивности, как предъявленный к уплате точно подведенный счет. И вот почему, хотя Александр и цеплялся за Сперанского, повинуясь необходимости, как за незаменимого работника, в то время, когда на очереди стояли конкретные конституционные преобразования, но между ними никогда не могло установиться настоящей интимной душевной близости, как никогда не могут сродниться духом мечтатель и реализатор. Лишь только Сперанский исчез с вершины государственной пирамиды, Александр вновь погрузился в фантасмагорический мир бесформенных мечтаний. Приняв иное направление, эти мечтания не утратили своего прежнего характера. Их отличительной чертой всегда было странно-уродливое совмещение резких противоположностей. Обыкновенно Александр начертывал себе отдаленную цель, которая должна была коренным образом изменить окружающую действительность. Но средством для достижения этой цели он всегда намечал усиленное развитие такой черты этой самой действительности, которая всего более отдаляла ее от задуманной Александром конечной цели.
Так было с общеизвестным планом «Священного союза», так было с гораздо менее известным планом Александра относительно переустройства Российской империи на федеративных началах. Проект «Священного союза»[442], написанный собственноручно Александром, имел целью утверждение политической системы Европы на заветах Спасителя. По обыкновению, Александр не определял точно, в чем именно будет состоять преобразованный на этих началах международный порядок. Зато для него было совершенно ясно, что для достижения этой цели христианские государи должны заключить тесный союз и твердо взять на себя руководство жизнью своих народов. Исход дела общеизвестен. Меттерних[443] посмеялся над мечтательной целью проекта, зато ухватился обеими руками за рекомендованное им средство и сделал из этого «средства» опорный пункт общеевропейской реакции.
В то же время Александр составил не менее своеобразный план и специально для России. Александр еще в молодости обнаруживал интерес к федерализму. Ввиду этого интереса он предпринимал даже попытки к непосредственному сближению с Джефферсоном[444].
Впоследствии ход политических событий привел к образованию на окраинах России двух государств, которые были соединены с Российской империей связью федеративного характера; то были царство Польское и великое княжество Финляндское. Эти события оживили в уме Александра его давний интерес к федерализму. Составленный по поручению государя Новосильцевым[445] проект конституции проникнут явными федералистическими тенденциями. Хотя проект Новосильцева не получил дальнейшего движения, но мысль самого Александра продолжала работать в том же направлении, и, как теперь известно, плодом этой работы явились весьма своеобразные новые планы. Мечтательному уму Александра стала рисоваться Россия в виде группы обособленных областей, из которых каждая имеет свое внутреннее устройство, основанное на свойственном населению данной области коренном жизненном принципе. Таким образом, подобно Польше и Финляндии, и другие окраины должны были получить свои конституции, приноровленные к жизненным особенностям данных местностей. И вот с этой-то федералистической мечтой Александр ухитрился соединить… свой план военных поселений. Подобно окраинам, и внутренние части империи должны были составить компактную, обособленную область, причем в основу ее политической организации должен был лечь строй военных поселений, по мнению Александра, наиболее соответствовавший бытовым особенностям коренного русского населения.
Создав себе этот план, Александр, по обыкновению, не вдумывался в его подробности и не трудился над изысканием способов к его осуществлению во всей совокупности. Предоставляя и то и другое неопределенному будущему, Александр, как всегда, сосредоточился на одной из частностей, и как раз именно на такой, которая стояла в наиболее нелепом противоречии с основной идеей всего замысла. Этой частностью явилось устройство военных поселений, ставшее излюбленным делом Александра во вторую половину его царствования и окончательно закрепившее неограниченный фавор Аракчеева. Такова была удивительная судьба всех кабинетных фантазий Александра: романтическая утопия «Священного союза» дала осязаемый плод в виде «меттерниховщины»; а бесформенные мечты о русских монархических соединенных штатах какими-то непостижимыми зигзагами мысли приводили к торжеству «аракчеевщины». И вопреки распространенному мнению о том, что Александр по слабости характера уступил влиянию Аракчеева, отказываясь от собственных планов, на самом деле Аракчеев с его военными поселениями сам целиком входил в эти планы царственного мечтателя, умевшего, как никто, связывать в своих фантазиях самые противоположные элементы. Известно, что мысль о военных поселениях принадлежала лично Александру, и Аракчеев, не одобрявший этой мысли и возражавший против нее, стал во главе военных поселений только из угождения воле государя.
Так противоречивость действий Александра часто давала иллюзию слабоволия и уступчивости посторонним влияниям, а на самом деле во многих случаях она была просто естественным следствием мечтательного пристрастия этого человека к бесплодной и противоречивой фантастике.
Но это была фантастика особого рода. Александр не противополагал мир действительности миру своих грез, а всегда связывал оба эти мира в какую-то причудливую взаимозависимость. Вот почему и Метгерних и Аракчеев оказывались в его представлении необходимыми и наиболее верными орудиями для подготовления на земле царства евангельской истины и политической свободы.
Легко понять, что столь своеобразный мечтатель вовсе не был беспомощным простаком «не от мира сего» в делах текущей политики и житейской практики. Любуясь отдаленными перспективами своей фантазии, Александр в то же время отлично умел справляться с ближайшими задачами текущей минуты. Здесь во всем блеске развертывался его незаурядный талант к тонким мистификациям. Уже в ранней молодости ему пришлось пройти тяжелую жизненную школу, которая потребовала от него высшего напряжения осторожной изворотливости. С первых шагов его сознательной жизни судьба поставила его между двух враждебных лагерей, между Петербургом и Гатчиной[446], между Екатериной и Павлом. Необходимость беспрерывно лавировать и приспосабливаться, беспрерывно чувствовать себя словно на острие ножа, изощрила присущую ему от природы гибкость души. Хитрость и лукавство, способность носить непроницаемую маску на своем прекрасном лице стали для него сознательным орудием самосохранения. Он бывал и в Петербурге, и в Гатчине, и бывал там и здесь не одним и тем же человеком. В Царском Селе и в Петербурге, в шитом кафтане, шелковых чулках и башмаках с бантами, он читал с бабушкой французскую конституцию 91-го года, восторгался энциклопедистами[447] или присутствовал при распашных беседах Екатерины с Зубовым[448], сидевшим тут же в халате и нередко при Александре зло подсмеивавшимся над «гатчинским чудаком»[449]. А в Гатчине, затянутый в военный мундир, в ботфортах и жестких перчатках, он восхищал отца своим увлечением солдатской муштровкой и любил хвастаться при других своими плац-парадными успехами, приговаривая при этом: «Вот это по-нашему, по-гатчински!». Незадолго до своей кончины Екатерина задала внуку трудную задачу, разрешением которой Александр окончательно сдал экзамен по высшей житейской дипломатии. Как известно, Екатерина в последние годы своей жизни решила устранить Павла от престола и передать корону непосредственно Александру. Екатерина долго не решалась заговорить с внуком об этом щекотливом вопросе и первоначально сделала попытку воспользоваться посредничеством Лагарпа. Однако Лагарп благоразумно уклонился от вмешательство в это дело. В конце концов Екатерина сообщила свои планы Александру. Как принял Александр это сообщение, можно судить по следующему письму, которое он отправил бабушке на другой день после первой беседы с нею по этому вопросу: «Ваше Императорское Величество! Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше Величество соблаговолили почтить меня. Я надеюсь, что Ваше Величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение Ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной мне милости. Даже своею кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще желаете для меня сделать. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было недавно сообщить мне и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам Вашего Императорского Величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью Вашего Императорского Величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук Александр». А накануне отсылки этого письма Екатерине Александр написал другое, Аракчееву, тогда уже первому приближенному Павла в Гатчине, и здесь, еще не дождавшись смерти Екатерины, уже называл отца: «Его Императорским Величеством».
Воспитанный в молодости на таких уроках, Александр навсегда избрал главным оружием в своей жизненной борьбе виртуозную способность строить свои успехи на чужой доверчивости. Он возбуждал к себе эту доверчивость той видимой готовностью к уступкам, той видимой склонностью признавать чужое превосходство над собою и легко очаровываться чужими достоинствами, которые были принимаемы за чистую монету столь многими его современниками и позднейшими историками. Барон Корф[450], имевший возможность черпать сведения об Александре из рассказов людей, превосходно его знавших, пишет об этом императоре: «Подобно Екатерине, Александр I в высшей степени умел покорять себе умы и проникать в души других, утаивая собственные ощущения и помыслы. Он умел принимать вид какой-то вкрадчивой откровенности, даже простосердечия, которым тотчас привлекались сердца»[451].
Графиня Шуазель-Гуфье[452] дает в своих записках такое описание наружности и обхождения Александра, относящееся к 1812 г.: «Несмотря на тонкие и правильные черты и нежный цвет лица, в нем (Александре) прежде всего поражала не красота его, а выражение бесконечной доброты. Выражение это привлекало к нему сердца всех окружающих, сразу внушало полное к нему доверие. Он был хорошо сложен, был высокого роста, осанку имел благородную и величественную. Чисто-голубые глаза его, несмотря на близорукость, смотрели быстро; в них просвечивал ум и какое-то неподражаемое выражение кротости и мягкости. Глаза эти точно улыбались». Из дальнейших слов графини видно, однако, что и от нее не ускользнула черта некоторой преднамеренности во всей этой обаятельной манере Александра держать себя. «В его голосе и манере, — продолжает графиня, — было бесчисленное множество оттенков: в разговоре со значительными особами он принимал величественный вид, хотя был с ними весьма любезен; с приближенными обходился весьма ласково; доброта его доходила иногда до фамильярности; с пожилыми дамами он был почтителен, с молодыми — грациозно-любезен; тонкая улыбка мелькала на губах, глаза его принимали участие в разговоре…»[453]. Это был прирожденный дипломат, подобно тому, как его соперник Наполеон был прирожденный полководец. В области международных дипломатических переговоров эти свойства Александра находили себе наиболее яркое применение. Замечательно метко выразился на этот счет шведский посол в Париже Лагербиелке: «В политике Александр I тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». В сфере дипломатического искусства Александр чувствовал себя в силе померяться силами с самим Наполеоном. До сих пор во многих исторических сочинениях рассказывается старая сказка о том, что в Тильзите[454] Александр весь отдался безотчетной очарованности гением Наполеона. Живучесть этой сказки — лучшее доказательство того мастерства, с каким Александр разыграл тогда умышленно принятую на себя роль влюбленного в Наполеона молодого человека. Мало кто знал в то время, что, уступая сопернику и восторгаясь его величием, Александр готовил ему на будущее тонкие, но опасные сети. Александр открыл тогда свою душу только в письмах к матери, и из этих писем можно видеть, что маской уступчивости и энтузиастического преклонения перед Наполеоном Александр лишь прикрывал холодный и трезвый политический расчет.
Французский посол Лаферроне писал об Александре: «Он рассуждает превосходно, неослабно аргументирует — словом, изъясняется с красноречием и жаром человека, глубоко убежденного. И между тем, частые опыты, история его жизни, все то, чему я был свидетелем, не позволяет ничему этому вполне доверяться». Повторяя ходячее мнение толпы, Лаферроне склонен был объяснять ненадежность заявлений Александра его слабоволием. Но более зоркие наблюдатели судили иначе. Мы имеем отзыв Шатобриана[455]: «Искренний, как человек, Александр был изворотлив как грек, в области политики». Сам Наполеон, размышляя о прошлом на острове Св. Елены, очень определенно охарактеризовал своего соперника: «Александр умен, приятен, образован. Но ему нельзя доверять, он неискренен; это — истинный византиец… тонкий, притворчивый, хитрый». Прикинуться уступчивым простачком и тем подготовить гибель противнику — в этом Александр полагал высшее торжество своего искусства. Можно представить себе, с какой гордой радостью в душе сказал он Ермолову[456] по въезде в Париж в 1814 г.: «12 лет я слыл в Европе посредственным человеком; посмотрим, что они заговорят теперь».
Эта привычка постоянно подходить к человеку с затаенной задней мыслью, постоянно расчетливо играть на слабых струнах чужой души развила в Александре недоверчивость и сухость сердца. Очаровывая всех и каждого обаятельным благоговением, он не любил и презирал людей. «Я не верю никому», — сказал однажды Александр, — я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы». Зрелище чужого энтузиазма оставляло его холодным и равнодушным. По иронии судьбы как раз в его царствование Россия пережила момент великого подъема патриотического народного одушевления в годину Отечественной войны. Александр понял цену этого воодушевления как орудие для борьбы с Наполеоном, но не разделил общенародных чувств, не слился с ними в общем порыве, а, наоборот, как раз в этот момент провел резкую раздельную черту между собой и своим народом. Михайловский-Данилевский[457] сообщает в своем дневнике любопытное указание на то, как не любил Александр вспоминать о Бородинском сражении, о великой народной войне 1812 г. Бывали случаи, когда годовщина Бородинского боя проходила ничем не отмеченной со стороны Александра, хотя бы даже обыкновенным благодарственным молебном. Напротив, Александр чрезвычайно любил вспоминать свой въезд в Париж и никогда не уставал рассказывать про смотр при Вертю[458].
Он как будто противополагал войну 1812 г., как дело ему постороннее, заграничному походу 1813–1814 гг., в котором он лично играл главную роль, не будучи уже заслонен могучим порывом народного движения. В самом Париже, на виду у всей Европы Александр усиленно сторонился от роли национального героя. Русские войска, приветствуемые повсюду как герои, спасшие Европу, только от Александра не получили настоящего признания своей славы. В Париже их изнуряли без всякой нужды бесконечными строевыми учениями и за какую-нибудь мелочную оплошность победителей Наполеона подвергали особенно оскорбительным для национального чувства наказаниям. Дело дошло до. того, что однажды Александр приказал посадить русских офицеров на английскую гауптвахту. Это вызвало острый взрыв ропота в военных кругах, и Ермолов в негодующем тоне сообщил о всеобщем неудовольствии великому князю Николаю Павловичу[459].
Охотно прибегая к изворотливому маскированию своих планов, Александр в то же время не однажды доказал, что он способен настойчиво и решительно идти к своей цели, не уступая противодействию окружающей среды. Шведский посланник Стединг заметил про Александра: «Если его трудно в чем-нибудь убедить, то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая однажды в нем превозобладала». В протоколах неофициального комитета, составленных Строгановым[460], можно найти многочисленные указания на то, как боялись члены комитета упорства государя в принятых им решениях[461]. Эта способность вести свою линию наперекор господствующим вокруг настроениям, — способность, прямо противоположная распространенной легенде об уступчивости Александра, — ярко выразилась в истории его отношения к Наполеону.
Заключив тильзитский союз с Наполеоном, Александр стал в резкую оппозицию и русскому общественному мнению, и могущественным придворным кругам с императрицей Марией Федоровной[462] во главе. Друг сердца Александра, Нарышкина[463], также принадлежала к противо-французской партии, и только отвергнутая супруга Александра, Елизавета Алексеевна, поддерживала в этом вопросе своего мужа. Все кругом Александра вопияло против союза с Наполеоном, все демонстративно повертывались спиной к посланникам нового союзника. Один Александр, зная, что он делает, вел свою линию с несокрушимой настойчивостью. И так же решительно, хотя и в обратном смысле, Александр разошелся со своими ближайшими советниками после занятия Москвы французами. В этот момент воинственная партия Марии Федоровны, охваченная паникой, внезапно отдалась порыву миролюбия, великий князь Константин[464] беспрерывно оглашал залы дворца криками: «мира, мира!», к противникам продолжения войны примкнул и Аракчеев, но Александр твердо повторил в ответ на все эти призывы свое известное обещание не положить оружия, доколе хотя один неприятель будет оставаться в пределах России. Такую же бесповоротную решимость проявил Александр в деле устройства военных поселений. Даже Аракчеев был против этой злосчастной затеи. Кровавый бунт, разразившийся в поселениях, мог бы поколебать решимость и очень твердого человека Но Александр откликнулся на все эти затруднения и препятствия лишь следующими словами: «Военные поселения будут существовать, хотя бы для этого пришлось выложить трупами всю дорогу от Петербурга до Новгорода».
Не достаточно ли приведенных указаний для того, чтобы подвергнуть большому сомнению легенду о слабоволии и уступчивости Александра? Но с устранением этой легенды падает и возможность представлять Александра жертвою посторонних влияний, а в частности, падает возможность объяснять и возникновение «аракчеевщины» тем обстоятельством, что Александр попал в духовный плен к «грузинскому отшельнику». Аракчеев мог стать при Александре лишь тем, что желал в нем иметь сам Александр. Таким образом, история возникновения аракчеевщины требует особого рассмотрения. И прежде всего является вопрос: какими сторонами своей личности мог Аракчеев привлечь к себе доверие и дружбу Александра?
Для ответа на этот вопрос необходимо познакомиться короче с личностью страшного графа.
Глава вторая АРАКЧЕЕВ
I
По наружности Аракчеев был немногим благообразнее Квазимодо[465]. В мемуарах современников Аракчеева находим несколько выразительных описаний его внешности. В записках Гриббе[466], в 1822 г. впервые увидавшего Аракчеева при поступлении в поселенный по р. Волхову полк его имени, читаем: «Фигура графа поразила меня своею непривлекательностью; представьте себе человека среднего роста, сутулого, с темными и густыми, как щетка, волосами, низким волнистым лбом, с небольшими, страшно холодными и мутными глазами, с толстым, весьма неизящным носом формы башмака, довольно длинным подбородком и плотно сжатыми губами, на которых никто, кажется, никогда не видывал улыбки или усмешки. Верхняя губа была чисто выбрита, что придавало его рту еще более неприятное выражение. Прибавьте ко всему этому еще серую куртку, надетую сверх артиллерийского сюртука (так он одевался при осмотре полей, работ поселян). Он говорил сильно в нос и имел привычку не договаривать окончания слов, точно проглатывал их»[467].
Саблуков[468] оставил нам в своих мемуарах еще более наглядное изображение Аракчеева: «По наружности Аракчеев похож на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист; в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было бы изучать анатомию жил, мышц и т. п. Сверх того, он как-то судорожно морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая, безобразная голова, всегда наклоненная в сторону; цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот большой, лоб нависший. Чтобы дорисовать его портрет, — у него были впалые, серые глаза и все выражение его лица представляло странную смесь ума и злости»[469].
В противоположность Квазимодо, Аракчеев не обманывал своею наружностью: его отталкивающей внешности соответствовали крайне непривлекательные душевные качества. Здесь я должен сделать одну оговорку. Изучая личность такого человека, как Аракчеев, который сумел сосредоточить около своего имени необъятное количество острой ненависти, естественно опасаться, что в отзывах современников, рисующих его духовную физиономию, к исторической правде невольно примешалось много всякого рода преувеличений, прикрас или даже сознательных выдумок, продиктованных горьким чувством затаенной обиды. Слишком много ужасов, иногда невероятных, рассказано об этом человеке в исторических мемуарах, чтобы при чтении их не задуматься порою над вопросом: где может быть проведена та черта, которая твердо отделила бы в наших сведениях об Аракчееве правду от вымысла, Wahrheit от Dichtung?
К счастью, мы можем, как мне кажется, принять достаточно надежную меру предосторожности против засорения нашего очерка подробностями сомнительной достоверности. Среди лиц, писавших об Аракчееве, немало таких, которые не только не понесли от Аракчеева какой-либо личной обиды, но, как раз наоборот, находились у него на хорошем счету, пользовались его благоволением и потому не могли иметь особых побуждений к умышленному сгущению мрачных красок при изображении его личности. Если воспоминания этих лиц все-таки дышат горечью и развертывают перед нами зловещие картины, мы имеем полное основание доверять таким показаниям, не рискуя воспроизвести исторической клеветы[470]. На таких именно источниках я основываю нижеследующий очерк личности Аракчеева. Осторожность заставляет меня пожертвовать некоторыми красочными подробностями, но, думается мне, тем более выиграют в своей внушительности отобранные мною данные.
Перечитав многочисленные мемуары, в которых выведен Аракчеев, я останавливаюсь и жду, какие черты его личности, прежде всего, сами собою выделяются в памяти из всей бесконечной вереницы рассказанных мемуаристами фактов. Ответ получается очень ясный и определенный. Сластолюбие, жестокость и до болезненности обостренное тщеславие, несомненно, были основными стихиями несложной душевной организации друга Александра.
Суровый и мрачный граф таил под безобразной наружностью неудержимую падкость до грешных плотских «шалостей», как он сам обыкновенно выражался. Он любил строго преследовать и карать разврат среди подвластных ему людей, и дворня его грузинской вотчины больно испытывала на себе моралистические наклонности графа Только для себя самого он делал любезное исключение. По свидетельству полковника Брадке, мемуары которого являются одним из надежнейших источников, у Аракчеева никогда не переводились многочисленные любовные связи. Сорока лет он, наконец, женился на 18-летней дворянке Хомутовой, миловидной и приятной особе. Брак оказался слишком недолговечным. Аракчеев замучил жену тяжелыми свойствами своего характера и более всего безудержной ревностью. Однажды, выезжая из Петербурга, Аракчеев строжайше приказал слугам следить за тем, чтобы его жена не посещала некоторых знакомых семейств, но самой жене ничего не сообщил об этом распоряжении. Через день после отъезда графа жена его садится в карету и велит везти себя как раз в один из запретных домов. Лакей докладывает, что это невозможно и передает волю графа. «Пошел к матушке!» — кричит оскорбленная графиня; приезжает в дом к матери и более уже не возвращается к мужу.
Так и прервалась семейная жизнь Аракчеева. Возвратившись в столицу, Аракчеев явился за женой. Вместе доехали они в карете до полдороги, затем карета остановилась, жена сошла на тротуар, и супруги расстались навсегда[471]. Преследуя ревностью молодую жену, Аракчеев сам беспрерывно изменял ей. В самый год женитьбы на Хомутовой (1806 г.) граф соорудил в саду грузинского имения чугунную вазу в честь своей любовницы Настасьи Минкиной. Эта Настасья сыграла важную роль в жизни Аракчеева. Он купил ее в свою дворню откуда-то издалека и сделал своей наложницей. Дородная, красивая смуглянка с огненными глазами крепко привязала к себе графа не только красотой, но и силою житейской изворотливости. В течение многих лет, до самой своей трагической смерти (ее убили дворовые, возмущенные ее жестоким с ними обращением), Настасья оставалась доверенной управительницей грузинской вотчины и, можно сказать, всевластно царила в имении графа. Аракчеев был, несомненно, привязан к этой женщине, что в особенности доказывается тем бурным отчаянием, которое овладело им после убийства Минкиной. Аракчеевские крестьяне были глубоко убеждены в том, что Настасья знается с нечистой силой и с ее помощью околдовывает графа. Рассказывали, что к Настасье по ночам прилетал змей, исполнявший ее таинственные поручения. Эти легенды как бы вскрывают то убеждение народа, что естественными путями никому невозможно было привязать к себе каменное сердце Аракчеева. До нас дошла переписка Минкиной с Аракчеевым, и в ней-то находим разгадку долголетней этой связи[472]. Опытная в житейских делах, Минкина действовала на графа разнообразными способами. Она брала свое и хозяйственной деловитостью при управлении имением, и грубой, униженной лестью, и постоянными наружными изъявлениями собачьей преданности. Но при всем этом ее силу составляло также и то, что она никогда не позволяла себе докучать графу ревнивыми жалобами и открыто мирилась с его сердечной ветреностью. В одном из писем от 20 июля 1819 г. она пишет Аракчееву: «Вам не надобно сомневаться в Н., которая не каждую минуту посвящает вам. Скажу, друг мой добрый, что часто в вас сомневаюсь, но все вам прощаю; что делать, что молоденькие берут верх над дружбою, но ваша слуга все будет до конца жизни своей одинакова…». Разумеется, такая уступчивость не стоила Настасье никакой душевной борьбы, и тайно от графа она находила для себя сердечные радости, более заманчивые, нежели аракчеевские объятия. Зато и граф — уже не тайком, а в открытую — не стеснял себя связью с Настасьей и, сохраняя Настасью в Грузине, как свой надежный резерв, никогда не отказывал себе в счастливых атаках на сердца петербургских искательниц графских милостей. Впрочем и в Петербурге, наряду с мимолетными связями, у Аракчеева была также долголетняя подруга — жена бывшего синодского секретаря, Варвара Петровна Пукалова, умная, образованная барыня, игравшая, благодаря связи с Аракчеевым, большую роль в петербургском сановном мире и, по-видимому, очень падкая до участия в служебных интригах. По Петербургу ходила тогда пародия на заповеди блаженства, в которой, между прочим, говорилось: «блажен, чрез Пукалову кто протекции не искал». Тиран Сибири Пестель[473], державшийся Аракчеевым, пресмыкался перед Пукаловой и поселился в одном с нею доме. В одном письме Дениса Давыдова[474] к Закревскому[475] от 10 мая 1820 г. встречаем любопытные строки: «Каким образом Вельяшев, который мостил сундуки свои червонцами, вымостил себе ленту? Неужели послужила к сему та дорога, которую он намостил шалями для прохода Пукаловой к Аракчееву?»[476].
Нет сомнения, что в основе всех этих увлечений Аракчеева лежала грубая чувственность. Всю жизнь он был падок до порнографии. Можно сказать, что в его душе соперничали две страсти — истязать людей и разглядывать неблагопристойные картинки. Эти картинки выписывались для него целыми партиями из-за границы. В садах Грузина, среди различных памятников, поэтических гротов и руин, статуй и беседок, на уединенном острове одного из садовых прудов Аракчеев соорудил таинственный павильон, всегда запертый на ключ. Аракчеев посещал этот павильон или один, или с самыми интимными приятелями. Все стены павильона были заняты зеркалами. При нажатии потаенной пружины зеркала переворачивались, и за ними взорам посетителей открывались громадные картины самого непристойного содержания. На стол Аракчеева иногда подавали сервиз, выписанный из Парижа. Все тарелки этого сервиза были украшены столь же игривыми изображениями, напр.: «Венера на бойне», «Любовь заставляет плясать трех граций» и т. п. Любопытен состав библиотеки этого первого сановника в государстве. Половина библиотеки была наполнена книгами соблазнительно-игривого содержания, напр.: «Любовники и супруги или мужчины и женщины, и то и сие», «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами» и т. д. А вперемежку с этими книгами находились такие, как «Сеятель благочестия», «О воздыхании голубицы и пользе слез», «Великопостный конфект» и проч.[477] Сладострастие и ханжество тесно переплетались в лице Аракчеева.
Отдаваясь наклонностям сладострастного сатира, Аракчеев не стеснялся никакой обстановкой. Любопытную сценку по этой части встречаем в воспоминаниях сенатора Фишера[478]. Это было в 1824 г. В день именин императрицы Марии Федоровны, 22 июля, в Петербурге был дан, как всегда, роскошный праздник. Горела иллюминация. Площадка перед петергофским дворцом против главного фонтана «Самсон» вся была покрыта массою народа. Фишер, тогда 18-летний юноша, привел туда свою сестру, 17-летнюю красавицу. Пробираясь к более удобному месту, они вдруг заметили у самых перил старика в смятой военной фуражке и поношенной шинели, который стоял как-то одиноко, окруженный не занятым никем пространством. Молодой человек, недолго думая, продвинулся с сестрой к свободному месту, и тотчас же генерал-адъютант в полной форме, стоявший за грязным стариком, схватил Фишера за руку и строго сказал: «Нельзя». Однако старик — это и был Аракчеев — взглянув на красавицу, процедил сквозь зубы: «Оставь!». Осмотревшись, Фишер заметил, что за стариком стояли три генерала в полной форме, и публика плотным кольцом облегала тот заповедный круг, среди которого находились только Аракчеев и Фишер с сестрой. И вот при генералах и публике Аракчеев, скривив рот и в упор глядя на красавицу, начал гнусливым голосом отпускать сальные шуточки. «Allons nous en»[479], — шепнул сестре растерявшийся Фишер, и, когда они удалялись от привилегированного соседства, Аракчеев следил за ними с цинично-насмешливой улыбкой, а генералы и публика смотрели на юную пару со смешанным выражением удивления и любопытства[480].
Способный лишь на циничные ласки, Аракчеев был зато необыкновенно разносторонен во всем, что касалось жестокой расправы и оскорбительного издевательства над подвластными ему людьми. Жестокость гнездилась глубоко в его душевной организации и окрашивала собою большую часть поступков и действий этого человека. Характерно, что даже Эйлер, любимец Аракчеева и один из его ближайших сотрудников по военным поселениям, записки которого резко выделяются из всей мемуарной литературы того времени по его панегиристическому отношению к Аракчееву, даже Эйлер, решившийся утверждать, что Аракчеев в течение своей жизни никого не сделал несчастным, все-таки замечает, что его герой «имел одно только дурное качество», и этим качеством оказывается жестокость. Эйлер в преклонении перед Аракчеевым доходит до того, что называет его «одним из лучших граждан России» и даже «деятельнейшим и справедливым заступником России перед престолом монарха». И вот, даже такой явно пристрастный свидетель сознается, что «Аракчеев имел склонность к жестокости»[481]. Правда, Эйлер сейчас же прибавляет, что эта жестокость проявлялась лишь в первом пылу сердца, но на эту оговорку приходится ответить лишь тем, что «первый пыл» растягивался у Аракчеева на весьма продолжительное время. Жестокость Аракчеева проявлялась не только в мгновенных порывах, но и в планомерных и систематических приемах обращения с людьми.
Не говоря уже о полном пренебрежении Аракчеева к чувству человеческого достоинства в подвластных ему людях, он нисколько не щадил и физических сил своих подчиненных, без всякой нужды для дела, доходя в своей требовательности до изысканного истязания. Смертельная болезнь жены или ребенка подчиненного нисколько не останавливали Аракчеева от предъявления строгих требований по службе. Однажды штаб-офицер со слезами объяснял Аракчееву свое промедление в исполнении какого-то поручения внезапной смертью жены. «Какое мне дело до твоей жены?» — вот все, что нашел нужным ответить Аракчеев убитому горем офицеру. Передавая этот случай, Брадке прибавляет к нему другой, которого он был личным свидетелем. Один офицер не мог подняться по лестнице к месту службы вследствие болезни легких и полного изнурения всего организма. «Если он сейчас же не явится, — сказал Аракчеев, — я его запру в каземат». И несчастный со сверхъестественными усилиями взобрался-таки по лестнице и, присев к столу рядом с Брадке, объяснил последнему свою покорность тем справедливым соображением, что в каземате его здоровью было бы не лучше. Брадке довелось и на себе самом испытать тяжелую руку Аракчеева. Во время службы в военных поселениях Брадке заболел нервной горячкой. Едва только он начал вставать с постели, еще не владея как следует ногами, как Аракчеев уже стал заваливать его срочной работой, не давая ему совершенно оправиться, отчего у Брадке остались на много лет сильные нервные страдания[482].
И так поступал Аракчеев с подчиненным, к которому он вообще благоволил и с которым поддерживал личное знакомство.
Если такова была бесчувственная строгость Аракчеева к подвластным ему офицерам, то можно себе представить, как жилось в ежовых рукавицах графа крестьянам его вотчины. Перебирая журналы и брошюры 20-х годов XIX столетия, вы не раз встретитесь с восторженно-слащавыми панегириками, которые в изобилии стряпали тогда услужливые борзописцы в честь несчетных благодеяний, изливаемых Аракчеевым на своих крестьян. Мы увидим далее, что Аракчеев был великим мастером по части сооружения вокруг себя декоративного, показного благоденствия, которое и давало литературным предкам г. Меньшикова[483] формальное основание для печатных славословий. В числе сельских учреждений Аракчеева были и такие, от которых крестьяне действительно получали настоящую пользу, как, например, основанный Аракчеевым в Грузине мирской банк для выдачи крестьянам беспроцентных ссуд на приобретение скота и на хозяйственные постройки; для учреждения этого банка Аракчеев пожертвовал 10 000 руб[484]. Но и такие отдельные благодетельные меры не могли смягчить для аракчеевских крестьян всей тягостности их существования под властью жестокого помещика, что доказывается массовым бегством крестьян из аракчеевских вотчин. Мучительство и тиранство лежало в основании всего управления этими вотчинами. В Грузине всегда стояли кадки с рассолом, в котором мокли палки и прутья, приготовленные для расправы с крестьянами и дворовыми. Весь подбор изощренных наказаний, которые только знала мрачная эпоха крепостничества, нашел свое усердное применение во владениях «грузинского пустынника», как любил себя называть Аракчеев. По неделям и месяцам ходили люди Аракчеева с рогатками на шее, которые не давали им возможность прилечь; рогатки надевались и на женщин, и на девушек, и в таком виде наказанным приказывали являться в собор к церковным службам. С обычной своей аккуратностью Аракчеев составил для своих вотчин целое уложение о наказаниях. За первую вину по этому уложению полагалось сечение на конюшне; за вторую — отсылка в поселенный полк для наказания там «аракчеевскими» толстыми палками[485]; за третью — телесное наказание еще более суровое, которое производилось уже перед окнами господского дома вызванными из полка палачами (почему-то это лобное место Аракчеев определил перед окнами библиотеки); сверх телесного наказания провинившимся грозило еще заключение в домашнюю тюрьму, названную почему-то «Эдикулем», — это было темное холодное здание, сидение в котором причиняло узникам немалые страдания. Исполнителями своей воли по части муштрирования дворни и крестьян Аракчеев избирал людей, не уступавших ему самому в жестокости. Главная управительница Грузина, уже упомянутая выше Минкина, стяжала себе своим обращением с подневольными людьми славу Салтычихи[486] и была убита дворовыми за свою безжалостность. Помощником ее по управлению дворней был архитектор Минут, настоящий зверь, от преследований которого дворовые нередко бросались в пруд и топились. Как-то раз дворня, не выдержав, принесла жалобу Аракчееву на жестокость Минута. Что же Аракчеев? Пришел к Минуту да и говорит с обычной своей гнусавой протяжкой: «Не ладно у тебя, братец, что люди на тебя жалятся, это не дело, не люблю я этого; надо так наказывать, чтобы и жалиться не смели». И стало после этого еще хуже, рассказывали дворовые Грузина. От наказаний не были избавлены и дети, которые боялись Аракчеева больше лешего и буки. При въезде Аракчеева в какую-нибудь принадлежавшую ему деревню нередко разыгрывалась оригинальная сцена: ребятишки, завидев графский экипаж, со всех ног бросались во все стороны, врассыпную; граф, не выносивший такого открытого изъявления нелюбви к нему, в гневе выскакивает из экипажа и сам пускается преследовать ребят, настигает некоторых и принимается их наказывать. Бывало, в добрую минуту давал он ребятам леденцы и пятачки; но юное поколение грузинских селений не хуже взрослого знало непрочность господской ласки. Очевидцы рассказывали, какая бурная радость охватила аракчеевских крестьян при известии о смерти графа; и дети, и мужики, и бабы не могли опомниться от счастья, и только одно опасение несколько туманило общее веселье: «А ну как граф да снова встанет?»[487].
Читатель может заметить, что вся эта суровая и даже жестокая «муштра» и служебных подчиненных, и крепостных людей соответствовала общему уровню нравов той эпохи, и Аракчеев в этом отношении являлся лишь истинным сыном своего века. Однако известны факты, указывающие на то, что Аракчееву было свойственно находить в мучительстве какое-то особенное сладострастное наслаждение. Я склонен думать, что эта черта доходила у него до чисто патологической мании[488]. Толь и Михайловский-Данилевский свидетельствуют, что на разводах в Гатчине при императоре Павле Аракчеев с ревностным увлечением собственноручно вырывал у солдат усы[489]; а близко знавший Аракчеева Мартос[490] сообщает, что в день воцарения императора Павла Аракчеев при разводе откусил у одного солдата ухо[491]. Отсылая дворовых людей для наказания, Аракчеев любил потом лично осматривать их израненные спины, и горе было тем, у кого, по его мнению, оказывалось недостаточно кровавых знаков. Бывало, дворовые, отправляясь после наказания на смотр к графу, резали цыплят и намазывали их кровью свои рубцы для того, чтобы граф остался доволен результатами расправы и не отдал приказа возобновить истязание[492]. Go стороны Аракчеева это была не только предусмотрительность взыскательного барина; это было также удовлетворение безотчетной мрачной страсти наслаждаться чужими мучениями. В причинении кому-нибудь боли — физической и нравственной — Аракчеев находил настоящее душевное удовлетворение. Когда он лежал, разбитый предсмертной болезнью, окружающие, чтобы развлечь его от тяжелых настроений (Аракчеев страшно боялся смерти), сочли наиболее подходящим приводить к нему мальчика-садовника, якобы в чем-нибудь провинившегося, и Аракчеев, равномерно ударяя по носу мальчика аршином, находил в этом занятии отраду и успокоение от мрачной тоски[493].
Мучительство было у Аракчеева нормальной формой обращения с подвластными ему людьми. Грубость его натуры, быть может, в особенной мере сказывалась в том, что он не изменял своих мучительских замашек даже и в тех особых случаях, в которых самая элементарная деликатность требовала бы известной осмотрительности и самоограничения. Приведу два таких случая.
Отец Аракчеева — помещик средней руки, отставной поручик — был по натуре прямой противоположностью своему сыну; это был добрый, привязчивый к своим людям барин. Когда умер один из его любимых слуг, Василий, он, провожая его гроб до могилы, плакал, как ребенок, а сына этого слуги оставил при себе и воспитывал его вместе с собственным сыном — будущим графом; даже мыли их в одном корыте.
И вот этот-то товарищ детства Аракчеева, став впоследствии камердинером графа, всю жизнь терпел от него самое зверское обращение. Аракчеев неустанно его бил, давал ему пощечины, приказывал его сечь. Степан — так звали камердинера — начал хворать и, по отзывам докторов, «впал в меланхолию и стал мучиться разными воображениями». Наконец, он упал перед барином на колени, умоляя не мучить его более, а лучше сослать в Сибирь. Аракчеев ответил: «В Сибирь не сошлю, а сам забью».
Уже на склоне лет, после смерти своего благодетеля императора Александра Павловича, в опале и унылом одиночестве, Аракчеев пользовался дружеским расположением одной харьковской помещицы, которая писала ему письма, наполненные разными утешениями. Наконец, сострадательная дама простерла свою доброту до того, что прислала ходить за Аракчеевым своего лучшего и любимого слугу, Пархомова. К несчастью, этот человек имел очень серьезную, печально-сосредоточенную физиономию. Аракчееву это не нравилось. И вот, отбросив всякую деликатность по отношению к своей утешительнице, он начал изводить чужого слугу, поминутно ругать его, бил по щекам и плевал ему в лицо. В 1831 г. помещица умерла, перед смертью дав Пархомову вольную. Аракчеев долго не отпускал его от себя. Наконец, Пархомов письменно доложил графу, что ранее переносил он все мучительства графа только из уважения к своей госпоже, а теперь, как уже человек свободный, более оставаться у графа не желает. Письмо Пархомова заканчивалось замечательными словами: «Любовь и внимание не строгостью, не угрозами и не клеветою приобретаются, которые, напротив, удаляют и последнюю искру любви гасят». С каким чувством читал Аракчеев это письмо одного из тех дворовых людей, которых он привык трактовать как бессловесную скотину?
До каких пределов могла доходить жестокость Аракчеева, видно по тем неистовствам, которым он предался в Грузине, обезумев от горя после убийства Минкиной. Очевидец этих печальных событий Гриббе пишет: «Целые реки крови пролиты были тогда на берегах Волхова». Примчавшись в Грузино после убийства Минкиной, Аракчеев, еще не разбирая дела, предал всех дворовых страшным пыткам и истязаниям. Грузино сделалось ареной сцен, возмущавших душу беспристрастных свидетелей. А когда закончился немилостивый и неправедный суд над участниками убийства, проведенный с вопиющими нарушениями правил судопроизводства, то в Грузине же была произведена и заключительная экзекуция. Моя рота, описывает эту экзекуцию Гриббе, была приведена на военное положение и назначена к походу в Грузино. Каждому солдату было выдано по 60 патронов. В 9 часов утра рота оцепила в Грузине лобное место среди большой поляны. Кругом стояла толпа народа до 4 000 человек. Посредине поляны был врыт в землю станок, по обеим сторонам которого горели огни ввиду холодного времени. У станка была поставлена огромная бутыль водки, к которой поминутно прикладывались палачи. «Мне еще и теперь, — пишет Гриббе в своих мемуарах, — слышатся резкие, свистящие звуки кнута, страшные стоны и крики истязуемых и глухой, подавленный вздох тысячной толпы народа»[494].
Я уже сказал, что Аракчеев был разносторонен в жестокости. Наряду с кровавым зверством в нем была сильно развита наклонность к изощренному издевательству над слабым, находившимся в его власти противником, и в изобретательности, которую он при этом обнаруживал, сказывалась вся низость его души. Он не удовлетворялся истязанием противника; ему нужно было еще насладиться зрелищем морального унижения того, кто подпал его гневу. Дворовые люди Аракчеева тотчас после перенесенного телесного наказания должны были писать своему барину длинные чувствительные письма, наполнявшиеся подневольной лживой риторикой. В этих письмах говорилось о том, что само Провидение внушило графу справедливый гнев; что наказанный мучится угрызением совести и, чувствуя себя презренным преступником, просит униженно и благоговейно прощения, со слезами и чистым, сокрушенным сердцем. Затем должна была следовать подпись, в которой писавшие именовали себя «презренными, верноподданными рабами» графа[495].
В воспоминаниях Гриббе рассказана, между прочим, интересная история некоего Ефимова. Неграмотный, грубый, неотесанный, он выдвинулся в военном поселении, как самый рьяный «аракчеевец», и дослужился до ротного командира. Аракчеев не чаял в нем души, а он сам зато являлся сущим бичом Божиим для солдат. Вдруг открылись страшные злоупотребления Ефимова по военному хозяйству. Этого Аракчеев не прощал, и Ефимов был разжалован в рядовые. Он перенес этот удар с удивительным самообладанием и, как ни в чем не бывало, из грозного начальника стал образцовым по исполнительности солдатом. Но в его душе мгновенно произошел целый переворот. Вся его суровость исчезла. Он стал истинным другом своих товарищей-солдат, самоотверженно во всем помогал, кому только мог, и скоро приобрел общую сердечную любовь. Это обстоятельство в глазах Аракчеева было, пожалуй, еще большим преступлением, нежели растрата казенных сумм. С этого времени Аракчеев возненавидел Ефимова. В начале 1825 года в той роте, которой некогда командовал Ефимов, произошло резкое столкновение солдат с командиром полка Фрикеном. Ефимов не имел никакого отношения к этой истории, но, помимо всяких оснований, именно его объявили виновником происшествия. Аракчеев велел заковать его в железа наглухо и сам явился присутствовать при унижении своего недавнего приятеля. С последним ударом кузнечного молотка о забиваемые кандалы Аракчеев ударил Ефимова в шею так сильно, что тот едва не грохнулся оземь[496]. В этой отвратительной сцене сказалась вся душа Аракчеева: он был храбр только с безоружными и связанными противниками.
Я привел примеры грубого издевательства Аракчеева над подвластными людьми, при котором не требовалось никакой изобретательности и находчивости и достаточно было одной только душевной низости. Однако Аракчеев умел при случае блеснуть и тонким коварством, умел не без игривости позабавиться над соперником, как кот над мышью. С особенной виртуозностью проявил он таланты этого рода в сношениях со Сперанским. Я еще буду иметь случай коснуться истории отношений между этими сподвижниками императора Александра. Теперь приведу только один относящийся сюда эпизод. В то время, когда звезда Аракчеева всходила все выше по небосклону царских милостей, Сперанский томился в Перми, не переставая тоскливо мечтать о возможности вернуть прошлое. Сперанский прошел при этом всю гамму уступок, которых потребовала от его гордости тягость его положения. Сначала — письма к государю, полные чувства собственного достоинства, свидетельствующие о сознании своей правоты; потом уже просительные, смиренные послания к сильным людям, в том числе и к Аракчееву; а там — личное паломничество в Грузино и даже… печальная апология военных поселений! Аракчеев, никогда не простивший Сперанскому того, что некогда, на краткий момент, Сперанский заслонил от него государя, с торжеством следил теперь за этими печальными усилиями своего былого соперника избавиться от опалы ценою тяжелых моральных уступок. И время от времени Аракчеев подбавлял горечи в душу Сперанского, не уступая случая уколоть его душевные раны тонкой шпилькой ядовитой насмешки. В 1816 г. Сперанскому, наконец, дозволено было оставить Пензу. В ожидании решения своей дальнейшей судьбы он жил в великопольском имении и оттуда написал Аракчееву письмо, которое Погодин по справедливости назвал «образцом ясности, убедительности, краткости, силы». Письма оказалось недостаточно, и Сперанский лично посетил Грузино. Теперь, думалось ему, испытание кончено, и прошлое будет зачеркнуто. И вот, 30 августа 1816 г. состоялось назначение Сперанского губернатором в Пензу, но в указе о назначении была вставлена знаменательная фраза: «Желая преподать ему способ усердною службою очистить себя в полной мере». Вот оно, тонкое острие аракчеевского жала![497] «Тебя принимают на службу, но ты еще не прощен, за тобою все еще следят подозрительные и недоверчивые взоры», — таков смысл этого указа по отношению к Сперанскому. Сперанский отправился в Пензу. Прошло около трех лет. Сперанскому по-прежнему страстно хотелось получить назначение в Петербург, хотя бы на первое время на место сенатора. Он неоднократно просился в отпуск, в столицу, но просьбы эти оставались без уважения. Наконец, в 1819 г. вышло новое назначение, но не в Петербург, а в Сибирь — генерал-губернатором. «Не избежал-таки я Сибири», — писал в одном письме Сперанский, сильно разочарованный этим назначением. При этом-то случае Аракчеев снова дал волю колкой игривости своего пера. Он написал Сперанскому длинное письмо. Письмо начиналось с уверений в том, что Аракчеев всегда душевно любил Сперанского: «Я любил вас душевно тогда, как вы были велики и как вы не смотрели на нашего брата, любил вас и тогда, когда по неисповедимым судьбам Всевышнего страдали». А затем Аракчеев ухищренно бередит душевную рану Сперанского, набрасывая перед ним заведомо несбыточную картину его нового возвышения: «Становясь стар и слаб здоровьем, я должен буду очень скоро основать свое всегдашнее пребывание в своем грузинском монастыре, откуда буду утешаться, как истинно русской, новгородской, неученый дворянин, что дела государственные находятся у умного человека, опытного как по делам государственным, так более еще по делам сует мира сего, и в случае обыкновенного, по несчастью существующего у нас в отечестве, обыкновения беспокоить удалившихся от дел людей, в необходимом только случае отнестись смею и к вам, милостивому государю».
Корф, приведя это письмо, справедливо замечает: «Если припомнить, что эти строки писал возвеличенный временщик к временщику упадшему, баловень милости и счастия к опальному, то нельзя не согласиться, что трудно было вложить в них, под внешнею оболочкою простосердечного добродушия, более язвительной иронии и с тем вместе показать менее великодушия». Сперанский ничего не ответил на это письмо. «Есть мера угодливости и ласкательства, — справедливо говорит тот же Корф, — которую и несчастие краснеет переступить; Сперанский сохранил уважение к самому себе и промолчал — все, что ему позволяло его положение»[498].
Мрачный человеконенавистник, Аракчеев любил принимать от людей в отплату за свою ненависть внешние знаки почета. Тщеславие — иногда самое пустое и суетное — было третьей основной стихией его души наряду со сладострастным цинизмом и жестокостью. Его жестокость к людям вовсе не была проявлением мрачной духовной силы, вовсе не походила на гордую нелюдимость тех избранных натур, у которых мизантропия является лишь следствием ненормально направленной жажды независимости и самостоятельности духа. Аракчеев обладал душою мелкой, дряблой и трусливой. Тиранствуя и злобясь, он был готов, когда нужно, пресмыкаться и низкопоклонничать, лишь бы удержать за собою те внешние почести, которые составляли единственную цель его тщеславных стремлений. Самая аляповатая, явно обнаруженная лесть щекотала его мелкое самолюбие и туманила его голову. Будучи неглупым человеком, он подмечал намерения льстеца и все-таки уступал своей слабости и положительно расцветал от льстивой лжи подобно тому, как иные артисты тешатся рукоплесканиями ими же оплаченной клаки. Об этой черте Аракчеева выразительно рассказал, не пощадив себя самого, генерал Маевский, служивший в военных поселениях. Маевский отчаянно льстил своему начальнику. «Все удивляются вашему всеобъемлющему гению», «ваше сиятельство можете быть причислены к феноменам нашего века», «ваш гений ставит вас выше всех смертных и если кого можно поставить в параллель с вами, то разве только Меттерниха, Веллингтона[499] и Наполеона» — подобные фразы так и сыпались из уст Маевского в беседах с Аракчеевым. Это была лесть, граничившая с глумлением. Но Аракчеев наслаждался и таял от удовольствия[500]. Он готов был искать удовлетворения своему тщеславию в таких формах, которые обнаруживали самую топорную безвкусицу. В январе 1820 года Аракчеев давал в Петербурге костюмированный бал. Во время танцев камергер Кокошкин, замаскированный бурмистром грузинской вотчины, и семья Клейнмихелей[501], одетая крестьянами, бросились в ноги Аракчееву, громко благодаря его за милостивое обхождение с крестьянами и за изливаемое на них добро[502]. Известно, что Аракчеев имел обыкновение отказываться от различных наград, которые ему предлагал император Александр. Аракчеев сам тщательно записал все эти отказы на прокладных листах своего Евангелия, на которые он заносил время от времени автобиографические заметки[503]. Здесь читаем под 14 января 1809 года: «Прислал прусский король с флигель-адъютантом бриллиантовую звезду ордена, но мною не принята, а возвращена обратно»; под 6 сентября 1809 года: «Государь император Александр I изволил прислать к графу Аракчееву по случаю мира с Швецией[504]с флигель-адъютантом орден св. апостола Андрея Первозванного, тот самый, который сам изволил носить, при рескрипте своем; оный орден упросил граф Аракчеев того же числа ввечеру взять обратно, что государем императором милостиво исполнено»; под 31 марта 1814 года: «В Париже государь император Александр I изволил произвести графа Аракчеева в фельдмаршалы вместе с графом Барклаем, о чем и приказ собственноручно был написан, но гр. Аракчеев оного не принял и упросил государя отменить»; под 12 декабря 1815 года: «Государь император Александр I изволил давать графу Аракчееву звание статс-дамы для его матери, но граф оного не принял и упросил оное отменить». Если бы все наши сведения о личности Аракчеева ограничивались этими автобиографическими его заметками, мы могли бы заключить, что Аракчеев был образцом скромности или философом, искренне презиравшим суету мира. Но, сопоставляя эти заметки со всем, что нам известно о жизни их автора, приходится признать, что в этих отказах от наград Аракчеев находил высшее утоление своему тщеславию. Припомним упомянутую уже выше картину петергофского праздника, описанную Фишером. Петергоф залит праздничной толпой, все — в нарядах, в полных парадных формах, сам император в мундире и эполетах, везде звезды, ленты, блестящие султаны. И один только Аракчеев стоит на главном и самом видном месте, распространяя кругом подобострастный трепет, — в старой шинели и поношенной фуражке, «точно денщик, идущий из бани», как выразился Фишер. Разве это — не вызов, разве это — не высшее тщеславие? «Только я один могу являться на царский праздник в таком затрапезном виде; пусть царь дает мне ордена и ленты, я не приму их; но и в затасканной шинели, среди разукрашенных орденами генералов я буду всегда первый, главный и самый могущественный», — такова была философия аракчеевской «скромности», за которой крылась высшая мера дерзости. И надо было видеть, как свирепел этот скромник, лишь только луч царской милости падал на кого-либо, кроме него. Подготовляя Маевского, устраивавшего старорусское военное поселение, к высочайшей аудиенции, Аракчеев всего усиленнее внушал ему, чтобы он поставил государю на вид, что его во всем наставил и научил Аракчеев. «А если ты умней меня, — угрожающе напутствовал Аракчеев Маевского, — то пусть тебя государь назначит начальником поселения вместо меня»[505]. В 1812 году, при начале Отечественной войны, Александр I прибыл в Москву для призвания населения к пожертвованиям на устройство ополчения. В присутствии Аракчеева и Балашова московский главнокомандующий Ростопчин доложил императору, что дворянство и купечество постановили учредить ополчение на 80 000 человек и пожертвовали деньгами 13 млн руб. Александр обнял и поцеловал Ростопчина. При выходе из дворца Аракчеев поздравил Ростопчина со знаком монаршей милости, прибавив: «Он никогда не целовал меня, хотя я служу ему с тех пор, как он царствует». «Будьте уверены, — сказал Ростопчину Балашов, — что Аракчеев никогда не забудет и не простит вам этого поцелуя». Предсказание Балашова, по свидетельству Ростопчина, оправдалось в полной мере[506].
Басаргин[507] рассказывает в своих записках аналогичный эпизод. Возвращаясь с Веронского конгресса, Александр I осмотрел Вторую армию и, оставшись очень доволен ее состоянием, был необыкновенно приветлив и ласков с Киселевым, начальником штаба Второй армии. Он взял с собой Киселева в украинское военное поселение, где государя ожидал Аракчеев. Аракчеев уже знал о триумфе Киселева и не мог с этим примириться. В первое же свидание с Киселевым Аракчеев при многолюдном собрании сказал ему язвительно: «Мне рассказывал государь, как вы угодили ему, Павел Дмитриевич. Он так доволен вами, что я бы желал поучиться у вашего превосходительства, как угождать его величеству. Позвольте мне приехать для этого к вам во 2-ю армию; даже не худо было бы, если бы ваше превосходительство взяли меня на время к себе в адъютанты». Киселев был не робкого десятка и тотчас же отвечал: «Милости просим, граф, я буду очень рад, если вы найдете во 2-й армии что-нибудь такое, что можно было бы применить к военным поселениям. Что же касается до того, чтобы взять Вас в адъютанты, то, извините меня, после этого вы, конечно, захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю». Аракчеев закусил губу и отошел.
Тщеславие Аракчеева находило себе пищу в том трепете, который он внушал всем, без различия чинов и рангов. Смельчаки, вроде Киселева[508], были большою редкостью. Масса дрожала и пресмыкалась. Тот же Басаргин отмечает, что кроме Киселева все остальные царедворцы так подобострастничали перед Аракчеевым, что смешно было на них смотреть. И Аракчеев третировал всех и каждого, не зная пределов надменности и грубой заносчивости.
Еще при самом начале своей карьеры, еще при императоре Павле Аракчеев выказал, до чего могла доходить его дерзкая заносчивость. При первом же разводе по воцарении Павла Аракчеев закричал на гвардейцев: «Что же вы, ракалии, не маршируете; вперед, марш!», а инспектируя по поручению Павла екатеринославский гренадерский полк, дошел до того, что публично назвал знамена этого полка «екатерининскими юбками».
После этого можно себе представить, какой недосягаемостью окружил себя Аракчеев во время наивысшего своего фавора при Александре Павловиче и какие оскорбительные выходки безнаказанно сходили ему с рук! Все, наблюдавшие Аракчеева в то время, единогласно свидетельствуют о том, что его обращение с окружающими выходило за всякие пределы приличия. Он не знал никаких сдержек, и, по-видимому, ему доставляло особенное удовольствие унижать своей грубостью самых крупных сановников. Маевский говорит об этом очень характерно: «Аракчеев не знает различия между людьми и всех считает, как одного. Ему кажется, что уже самое слово «человек» есть злоупотребление»[509]. «Обращение Аракчеева с товарищами по службе, — говорил Брадке, — было повелительное и весьма часто бессовестное и грубое». В сущности, он был только генералом от артиллерии и членом государственного совета. Но в силу его неофициального положения председатель государственного совета кн. Лопухин[510] и т. д., сов. кн. Куракин[511], председательствовавший во многих комитетах, где Аракчеев состоял членом, расстилались перед ним, подчинялись всем его дерзостям, ухаживали за его любовницей. Любопытный образчик этого подобострастия видных сановников перед Аракчеевым приводится в одном письме Ростопчина к Брокеру[512] от 12 января 1815 г. Аракчеев, прогневавшись на министра внутренних дел Козодавлева[513], запретил швейцару принимать его. Несмотря на это, Козодавлев все-таки стал просить у Аракчеева дозволения навестить его в Грузине и получил ответ: «В сем отказать вам не могу, сожалея, что не могу там принять, как в городе». В Грузине Аракчеев любил иногда разыграть гостеприимного хозяина, но применительно к Аракчееву гостеприимство следует понимать в весьма относительном смысле. По свидетельству Брадке, на станции Чудово, верстах в 20 от Грузина, был сооружен флаг, который, поднимаясь и опускаясь, возвещал, принимает ли граф в Грузине или нет, и нередко высшие сановники, проскакав от Петербурга до Чудова, должны были поворачивать оглобли и ни с чем возвращаться в Петербург[514].
В Петербурге официальные приемы Аракчеева стали настоящей притчей во языцех. Уже один внешний вид его приемной залы наводил оторопь на посетителя своей гнетущей мрачностью. Маевский описывает эту залу, точно какое-то страшное капище. Дом, занимаемый Аракчеевым, говорит Маевский (рассказ относится к январю 1823 г.), на углу Кирочной и Литейной, «весьма похож на египетские подземные таинства». В преддверии вас встречает курьер и ведет чрез большие сени в адъютантскую; отсюда направо — собственная канцелярия государя, налево — департамент Аракчеева, а прямо — приемная. «Везде мистика, везде глубокая тишина: на всех физиономиях страх; всякий бежит от вопроса и ответа, всякий движется по мановению колокольчика и почти никто не открывает рта. Это — тайное жилище султана, окруженного немыми прислужниками». «С четырех часов ночи начинали съезжаться сюда министры и другие сановники. Дежурный адъютант на доклад графу о прибытии кого-либо из них не получал никакого ответа, что значило подождать. Нередко и второй доклад был встречаем молчанием графа, по-видимому, погруженного в занятия за письменным столом»[515]. Приемная Аракчеева была великою школою терпения и уничижения. По-видимому, и сам Аракчеев считал себя призванным к воспитательному воздействию на людей в этом направлении. Фишер рассказывает в своих воспоминаниях, что как-то раз, уже при Николае Павловиче, дожидаясь в приемной Клейнмихеля, он проговорил: «Какая скука ждать, не зная, долго ли это будет». Бывший тут же старичок Ольденборгер, директор типографии военных поселений, даже вздрогнул и взглянул на Фишера с трепетом. «Что с вами?» — спросил Фишер. «Ах, — отвечал старичок, — надобно быть очень осторожным в приемных» и рассказал при этом случай, что было с ним в прежние годы: «Ждал я как-то в приемной графа Аракчеева; ждал часа два; ну… молод был, дела было пропасть; вот я и сказал — ах, скоро ли примет меня граф? адъютант входил к графу и выходил, звали и того и другого, а я — жду. Перед обедом уже адъютант объявляет мне, что его сиятельство приказал мне прийти назавтра в 8 часов утра. Пришел. Жду-жду… В 2 часа граф проходит мимо со шляпой, не глядя на меня, едет со двора; в 4 часа возвращается, проходит мимо, не глядит на меня, а я дошел почти до обморока Слышу — сел обедать. В 6 часов приказывает мне явиться завтра к семи часам утра. Я смекнул, в чем дело. Еду на другой день, взял в карман корку хлеба и несколько мятных лепешек. Опять жду, но уже спокойно. Наконец, в 12 часов зовут меня к графу… Когда я вошел в кабинет, граф говорит: «Ну что, любезный, привык?..»[516].
Так «воспитывал» граф своих чиновников, превращая свою приемную чуть ли не в пыточный застенок. Впрочем, не всегда испытание долготерпения своих посетителей Аракчеев практиковал из педагогических соображений. Еще чаще он просто тешил этим способом свое мелкое тщеславие.
Уже не второстепенный чиновник, а генерал-провиантмейстер Мертваго рассказывает, как однажды, приехав к Аракчееву, он принужден был дожидаться в приемной четыре часа, между тем как самая беседа с Аракчеевым была затем покончена в пять минут. В другой день тот же Мертваго дожидался приема одновременно с двумя генералами и одним купцом-поставщиком. Дежурный адъютант вышел к Мертваго с ответом, что граф тотчас едет во дворец и потому не может принять его, и тут же купец был приглашен в кабинет к Аракчееву[517].
Оскорбительные ожидания в приемной были еще наиболее мягкой формой обид, которые приходилось проглатывать тем, кто имел несчастье соприкасаться по службе с Аракчеевым. Аракчеев особенно любил заставлять чиновных и заслуженных людей публично трепетать перед своим гневом. Он был большой мастер устраивать подобные представления в присутствии многочисленных зрителей. Однажды, по сообщению Маевского, он так разбранил генерала Чеодаева перед целой бригадой, что с тем сделались судороги. Маевский замечает, что Аракчеев не чужд был при этом коварной демагогии: нарочно бранил начальников перед подчиненными, чтобы выставить себя самого благодетелем низших служащих. Накричать на начальников при тысячной толпе военных поселян, а потом говорить поселянам: «Видите, как я с ним поступаю; ежели бы не я, у вас давно бы спины гнили от палок; молите Бога за меня», а между тем начальники только исполняли его же требования. Впрочем, и помимо таких коварных хитросплетений, Аракчеев просто сжился с тем убеждением, что он может всем грубить и всех оскорблять. Оскорбления начинались с первого же слова, при первом же знакомстве. Только что назначенный начальником Старо-русского военного поселения, Маевский явился представиться к Аракчееву, и вот то приветствие, которое он услышал от графа для начала знакомства: «Я вас не выбирал, а выбирал государь; по мне выбери государь хоть козла, лишь бы не умничал, а делал то, что я приказываю». В записках Мертваго приводятся любопытные образчики аракчеевских бесед, во время которых Аракчеев, начиная разговор спокойно, затем распалялся от звуков собственного голоса и все более переходил в тон, оскорбительный для собеседника, багровея, делая злые глаза и усиленно ковыряя в носу — обычный признак его гневного возбуждения. Во время таких бесед он позволял себе обращаться с генералами, точно с малыми ребятишками приготовительного класса. Одну из таких сцен приводит Маевский в диалогической форме. Приведу из нее более характерные отрывки.
Аракчеев — Маевскому: «Садитесь, ваше превосходительство; вас Бог одарил остроумием, и вы могли бы быть министром; но у вас такой спорный характер, что вы ни с кем не уживетесь. Чуть вам скажешь слово, у вас на лице формируется намерение солгать, притвориться, вывернуться. Посмотри даже и теперь в зеркало, ты это тотчас заметишь. Вы говорите, что я называю вас всех генераликами. Нет, я постоянно с вами, как генерал с генералом».
Маевский. «Ежели отражение физиономии есть печать чувства, то, ваше сиятельство, согласитесь, что нельзя быть равнодушным когда вы нас браните».
Аракчеев: «Я вас не браню, а взыскиваю (возвыся голос, с сердцем); я — начальник и никто не запретит мне взыскивать».
Маевский встал.
Аракчеев: «Как вы осмеливаетесь делать мне грубость и непослушание, когда я приказываю вам сидеть, а вы встали… Извольте сесть».
Маевский (сел): «Позвольте, наконец, откровенно доложить вашему сиятельству: какая приятность в такой службе, где с самым чистым и пламенным усердием поминутно трепещешь или суда или крепости?»
Аракчеев: «А что же за беда? Я сам был под судом и в крепости, а все я — Аракчеев».
Маевский: «Вас природа одарила и гением, и твердостью души. Я, напротив, не перенесу такого страдательного положения» (встает и отходит к двери).
Аракчеев: «Не думаешь ли ты уйти? Я приказываю вам остаться».
Аракчеев начал читать и писать, а Маевский должен был сидеть молча, точно наказанный мальчик, в ожидании, когда его отпустят. Наконец, гнев графа остыл, и он сказал примирительно: «Хорошо, что я тебя не отпустил; вот идет дождь, ты человек горячий, простудился бы и умер», и, тотчас, опять впадая в гневное раздражение, граф закричал в заключение аудиенции: «Не думаешь ли идти в отставку? нет, от меня дешево не отделаешься!»[518].
Достаточно этого диалога, чтобы понять, какое расстояние полагал Аракчеев между собой и подчиненными ему генералами. Не только в устных беседах, но и в письменном официальном делопроизводстве Аракчеев не знал никакой сдержки в третировании подчиненных. Архитектор Свиязев поступил на службу в военные поселения по газетной публикации, в которой архитектор приглашался на жалованье в 4000 руб. в год. В течение нескольких месяцев жалованье вовсе не выдавалось, а когда Свиязев возбудил об этом вопрос, Аракчеев предложил ему удовлетвориться половинным окладом. Разумеется, Свиязев запротестовал. «Э, братец, — говорил ему Аракчеев, — брось ты свою вольтеровщину и будь истинным христианином». Когда же Свиязев не согласился с таким толкованием христианства и продолжал стоять на своем, то Аракчеев уволил его со службы, начав форменный, официальный приказ об увольнении со службы следующими словами: «Граф Аракчеев весьма удивляется, что господин молодой мальчик Свиязев не уважил того, что граф призывал его лично к себе и объявил решительную свою волю в рассуждении назначения ему жалованья…» и т. д.[519]
Всеобщий молчаливый трепет был ответом на все подобные выходки Аракчеева. Исключение составил лишь Буксгевден[520], который, будучи главнокомандующим во время финской кампании 1809 г., не вытерпел неприличных придирок Аракчеева, занимавшего тогда пост военного министра, и ответил ему обширным резким письмом, исполненным достоинства. В этом письме Аракчееву определенно указывалось неприличие его поведения и незаконность его вторжения в область ведомства главнокомандующего. Зато письмо Буксгевдена и прогремело тогда по всей России; его жадно переписывали и распространяли в публике в многочисленных экземплярах. По видимому, получение такого послания озадачило несколько и самого Аракчеева; у нас есть указания на то, что Аракчеев некоторые пассажи этого письма выучил наизусть[521].
Повелительное и дерзкое обращение Аракчеева с окружающими не было результатом сознания внутренней силы своего духа. Это просто было обычное фанфаронство нахального человека, чувствующего за собой могущественную внешнюю поддержку. Но при малейшем намеке на опасность для себя, этот надменный громовержец в самой жалкой форме обнаруживал трусливость натуры. Аракчеев доказал свою трусость в самых разнообразных жизненных положениях. Страстный охотник до истязаний безоружных или подвластных ему людей, Аракчеев никогда не решался понюхать неприятельского боевого пороха. Он любил из-за печки вмешиваться в военные распоряжения, но, сопровождая государя во многих кампаниях, никогда не показывался на черте выстрелов. Под Аустерлицем[522]государь вздумал было поручить Аракчееву начальство над одной колонной, но Аракчеев пришел в неописуемое волнение и отклонил поручение, ссылаясь на слабость нервов[523]. Но и в мирное время, в обыденной жизни он не отличался мужественностью характера. Врач, присутствовавший при последних часах его жизни, сообщает, что Аракчеев выказал во время предсмертной болезни самый малодушный страх перед смертью и с безграничной тоской и ужасом цеплялся за жизнь[524]. Но и жизнь была для него полна страхов. Саблуков передает, что Аракчеев вечно дрожал за свою безопасность, редко спал две ночи сряду в одной кровати, обед принимал только приготовленный особенно доверенными людьми, и домашний доктор должен был предварительно сам отведывать всякое кушанье[525]. Эта мнительность могла только усилиться со времени убийства его любовницы Минкиной. В последние годы его жизни был с ним такой случай. Он сидел дома, в своем грузинском имении. Ему доложили, что вдали показались быстро скачущие тройки. Он страшно побледнел, схватил заветную шкатулку, кинулся в экипаж, всегда стоящий наготове, и понесся во весь дух. Он скакал без передышки весь день, переночевал у какого-то помещика, перепугав его своим внезапным появлением, и наутро продолжал столь же поспешное бегство. Прилетев в Новгород, он пристал к дому вице-губернатора. И что же оказалось? Мимо грузинского дома просто-напросто ехали с праздника местные священники, которым попались резвые лошади[526].
Такую же малодушную пугливость обнаруживал Аракчеев и на поприще служебных отношений, на котором на первый взгляд он был так уверен в своем могуществе. Суровая заносчивость мгновенно сменялась в нем низким подобострастием, лишь только он чувствовал, что ему могут дать отпор. Когда Мертваго вступил в должность генерал-провиантмейстера, Аракчеев, как военный министр, встретил его волком. Вскоре после первых свиданий Аракчеев пригласил к себе Мертваго и при нем приказал генералу Копьеву читать толстую тетрадь с описанием недостатков по провиантской части, обнаруженных во время кампании в Финляндии. Мертваго, как только что принявший ведомство, не мог быть ответственным за эти недостатки. Тем не менее Аракчеев во время чтения, злобно потупя глаза, проговорил: «Если это правда, так я генерал-провиантмейстера арестую». Мертваго смолчал, но, приехав домой тотчас написал государю просьбу об отставке. Его вызвали во дворец, и там Аракчеев еще в передней комнате «подлейшим образом просил у Мертваго прощения и бранил себя за строптивый свой нрав». Затем последовала высочайшая аудиенция в присутствии Аракчеева, который и при государе просил у Мертваго прощения и кланялся так низко, как только можно. Дело уладилось, и, выходя из дворца, Аракчеев суетился, приказывал принести шубу Мертваго в теплый коридор, требовал, чтобы Мертваго сел в его карету и т. п. Мертваго правильно рассудил, что эта вынужденная угодливость не сулит ничего доброго. «С тех пор, — пишет Мертваго, — Аракчеев непрестанно ставил меня на пробу; мне было ясно, что он хочет меня запутать и погубить»[527]. Аналогичную историю передает из своей практики управляющий Высоцкою волостью поселений Мартос. Когда крестьяне этой волости послали в Петербург депутатов с жалобою государю на Аракчеева, последний страшно рассердился на Мартоса за то, что тот допустил до этого; вызвал Мартоса к себе и несколько дней подряд «ругал его напропалую».
«Ты должен, — кричал он, — считать за честь, что служишь у меня. Аракчеев есть первый человек в государстве; ты должен быть моею правою рукою, а ты хочешь быть добрым человеком, хочешь жить дружно с офицерами, с мужиками; ты должен быть там, как собака на цепи». Вдруг, после нескольких дней таких нотаций полная перемена: «Граф кланяется, извиняется, просит обедать, сердится, что я мало ем, мало пью; просит, чтобы я продолжал службу, коей он всегда был доволен». «Его ласки, — замечает Мартос, — меня ни сколько не удивили; они только обнаружили его характер хуже воробьиного», — дело объяснялось тем, что государь принял во дворце благосклонно волостного голову и писаря и велел им выдать денег на обратный путь[528].
Такие же заискивания пускал в ход Аракчеев и по отношению к тем, в ком он нуждался. Мы видели, как он порывался третировать главнокомандующих. Но когда в 1809 г. ему во что бы то ни стало нужно было побудить Барклая[529] немедленно осуществить идею государя о нападении на Швецию через Кваркен по льду, он написал Барклаю: «На сей раз я желал бы быть не министром, а на вашем месте, ибо министров много, а переход через Кваркен Провидение предоставляет одному Барклаю-де-Толли»[530].
Эти заискивания Аракчеев практиковал и в менее ответственных случаях, вводил их в обычную свою систему. Маевский пишет: «Граф деятелен, как муравей, а ядовит, как тарантул, ежели ему хочется кого связать с собою, то он сначала ласкает, обнадеживает и дает чины и кресты на словах; но как утвердит его на месте, тогда обращается с ним, как с невольником, и позволяет себе все дерзости». Совершенно то же показывает доктор Европеус: «К людям, в которых он нуждается, граф был необыкновенно вежлив и снисходителен; не только с инженерами, архитекторами, но и с простыми мужиками-подрядчиками ходил под руку, выслушивал их советы». Этой-то чертой характера Аракчеева и объясняется та снисходительность, которую он проявлял, по свидетельству Брадке, к своим сотрудникам по введению военных поселений на первых порах, когда он еще нуждался в деятельных помощниках, когда все еще было неверно, в зачатках. Но и Брадке, оттеняя эту снисходительность, замечает неоднократно: «Отлично зная людей и притом специально искусившись в расследовании людских страстей и дурных наклонностей, Аракчеев пользовался этими познаниями с отменной ловкостью и лукавством»; или: «С бесчувственностью Аракчеев соединял низкое лукавство; его правило было: обещать каждому столько, чтобы побудить его к самой сильной деятельности, но не спешить с выполнением обещания, чтобы рвение не охладилось»[531].
Все рассмотренные нами до сих пор свойства личности Аракчеева объясняют, как нельзя лучше, ту острую ненависть, которая скопилась со всех сторон этого человека, и к возбуждению которой по отношению к себе он имел особенную способность. В чувстве ненависти к Аракчееву с полным единодушием сходились самые разнообразные слои общества. Мы видели выше, как ликовали по случаю смерти Аракчеева его крепостные крестьяне. В войске его имя поносили и солдаты и офицеры: солдатские песни и ходившие в среде офицеров сатирические стихи в 20-х годах прошлого столетия часто были посвящены выражению негодующих чувств по адресу Аракчеева[532]. Точно такое же отношение наблюдается и в среде крупных сановников того времени, любопытным примером чему может служить напечатанная переписка между кн. Волконским[533], гр. Закревским, Ермоловым, Киселевым. Все они в своих письмах называют Аракчеева не иначе, как «змей» или «проклятый змей» или «неистовый изверг» и т. п.[534] Наконец, и в широких слоях как столичной, так и провинциальной публики, в тысячеустой молве народной имя Аракчеева произносилось с отвращением и содроганием. Вигель[535] пишет в своих мемуарах, что он в раннем детстве слышал в провинциальном захолустье, как Аракчеева с омерзением и ужасом называли людоедом. Самые популярные остроты, приобретавшие тогда наибольшую распространенность, неизменно посвящались хуле на Аракчеева, и, например, по сообщению Фишера, знаменитый девиз аракчеевского герба «Без лести предан» был переделан публикою в «Бес, лести предан»[536].
Аракчеев пожинал то, что посеял. Он сам сознательно считал способность возбуждать к себе нелюбовь отличительным свойством хорошего администратора. В одном своем письме к Маевскому от 12 мая 1824 г. он пишет между прочим: «У вас есть еще правило и хвастовство, чтобы подчиненные любили командира, мое же правило, дабы подчиненные делали свое дело и боялись бы начальника, а любовниц так много иметь невозможно, ныне и одну любовницу мудрено сыскать, кольми паче много»[537].
Считая себя командиром всей России, Аракчеев и полагал целью своего честолюбия, что его не любили, а боялись. Эта цель была им достигнута в совершенстве.
Но чем объяснить, что император Александр составил в этом отношении столь резкое исключение во всей России? На примере Александра приходится убедиться в том, что Аракчеев умел возбуждать к себе, когда это ему хотелось, не только ненависть, но и любовь или, по крайней мере, доверчивую привязанность. Какими же способами?
Мы рассматривали до сих пор такие черты личности Аракчеева, которые могли лишь отталкивать всех от этого человека. Но не было ли еще других черт, которые он не раскрывал перед подвластными ему людьми, сберегая их для государя? Мы знаем моральный пассив Аракчеева. Каков же был его актив?
II
Прежде всего нужно заметить, что никто из писавших об Аракчееве не отказывает ему в уме и способностях. Эйлер в своих записках утверждает даже, что Аракчеев «обладал умом и способностями необыкновенно высокими, постигал тотчас самые отвлеченные предметы» и был «истинно великим государственным человеком»[538]. Но Эйлер — один из ближайших сотрудников Аракчеева и его безусловный панегирист — в счет не идет. Однако и совершенно беспристрастный Брадке пишет следующее: «Аракчеев был несомненно человеком необыкновенных природных данных, дарований. Быстро охватывая предмет, он не был лишен глубины мышления, когда не увлекался предубеждениями.
В математике и военных науках у него были обширные познания. История и литература промелькнули мимо него, оставив, однако, некоторый след. Но все теории государственного права он почитал бессмыслицей и искусно умел осаживать людей, которые толковали об этом заученными фразами»[539].
Общее мнение знавших Аракчеева сводится к тому, что при крайней скудости образования он обладал природным умом, ясным и точным, тем счастливым здравым смыслом, который и полуневежественного человека ставит несравненно выше образованных бездарей. Мы можем об этом судить не только на основании отзывов мемуаристов, но и на основании прямых и непосредственных следов деятельности Аракчеева. В этом отношении в высшей степени любопытны обнародованные г. Середониным пометки Аракчеева на мемориях комитетов министров, подносимых государю, за то время, когда Аракчеев стал единственным докладчиком государя по делам этого учреждения. Эти пометки Аракчеева, с которыми всегда соглашался государь, несомненно обнаруживают в их авторе острый практический ум, способность сразу ориентироваться в деловых вопросах и намечать наиболее целесообразные выходы из осложнившихся положений. Сличая решения комитета министров с поправками, которые вносил в них Аракчеев, мы не можем не признать, что эти поправки вытекали из существа дела и большею частью свидетельствовали о более глубоком и зрелом взгляде на данные вопросы, нежели заключения Комитета министров. Еще любопытнее отметить, что эти поправки носили иногда печать заботливости о государственной пользе, о справедливости, о правилах гуманности! Это наблюдение может показаться столь неожиданным по отношению к Аракчееву, что я считаю нелишним подкрепить его здесь несколькими фактическими примерами. Рассматривая мемории Комитета министров, Аракчеев зорко следил за выгодами казны и старался предупреждать вредные для казенных интересов поползновения. Совету путей сообщения в 1820 году поведено было обревизовать работы по Московскому шоссе. Главное управление путей сообщения вошло в Комитет министров с представлением о том, что такое обревизование является излишним, так как главный директор уже сам неоднократно осматривал эту часть и в отчете за 1819 год доносил государю о состоянии работ на шоссе. Тогда, как и в наши дни, ведомства предпочитали настоящим ревизиям внутреннюю ведомственную отчетность. Комитет министров пошел навстречу этому домогательству и постановил представление главного управления принять к сведению, но Аракчеев надписал на это мемории комитета: «Не кроется ли тут умысел огромные издержки на шоссе оным самым покрыть», и государь положил резолюцию: «Замечание весьма основательное; можно объявить, что я на сие не согласен». Интересно отметить, что заботливость о казенной деньге в пометках Аракчеева нередко соединяется с отстаиванием принципов справедливости вопреки домогательствам богатых и сильных людей. Умер сенатор Мясоедов до срока окончания назначенной ему аренды. Министр юстиции возбудил ходатайство о том, чтобы выдача аренды была продолжена наследникам Мясоедова до истечения срока. Аракчеев пометил: «Если это московский Мясоедов, то, кажется, он богат», и государь на основании этой пометки потребовал, чтобы министр финансов лично доложил ему об этом деле.
Министр внутренних дел ходатайствовал о дозволении киевскому приказу общественного призрения выдать генерал-лейтенанту Златницкому сверх занятой им суммы еще такую же сумму.
Комитет министров постановил удовлетворить ходатайство, но Аракчеев пометил: «Кажется, богатому выдается много, а для бедного нечего будет выдавать». Нередко Аракчеев для проявления справедливости принимает сторону слабых и в таких случаях, где интересы фиска не были непосредственно затронуты.
Вдова актера Полякова и жена актера Лебедева должны были получить по словесному завещанию их воспитательницы, помещицы Матюшкиной, 10 тыс. рублей. Граф Салтыков[540], к которому перешло это обязательство, уклонялся от этого выполнения и не соглашался представить дело решению совестного суда. Комиссия прошений, куда истицы вошли со всеподданнейшим прошением, нашла, что дело должно быть решено третейским судом. Комитет министров, наоборот, указал, что никто не может быть привлечен к разбирательству дела в третейском или совестном суде. Аракчеев пометил: «Нет ли тут понаровки графу Салтыкову?». В резолюции государя значилось: «Вероятно, но как закон здесь согласен с мнением комитета, то нельзя мне решить вопреки». Арендаторы казенных имений в Белостокской области просили некоторых льгот по расчетам с казной ввиду неурожая и других местных бедствий. Большинство членов комитета высказалось за отклонение этого ходатайства; пять членов, наоборот, находили нужным облегчить положение просителей ввиду стеснительности их обстоятельств. Аракчеев примкнул к более мягкому мнению меньшинства. Приведу, далее, две очень любопытные пометы Аракчеева, свидетельствующие о характере его отношений к положению крестьян. В Динабургском старостве долго тянулись крестьянские волнения из-за недовольства крестьян раскладкой повинностей. Комитет министров утвердил выработанное министерством финансов положение об их повинностях, в котором повинности распределялись уравнительно между крестьянами-пришельцами и коренными белорусами. Аракчеев пометил: «Я думаю, что крестьяне опять будут недовольны, то кажется лучше было бы велеть М. Ф. вытребовать к себе в департамент депутатов и сделать с ними положение и внести в комитет». Резолюция государя гласила: «Непременно». Когда известный откупщик Злобин был объявлен несостоятельным, крестьяне его настойчиво домогались получить разрешение выкупиться на свободу. В течение долгого времени эти домогательства оставались тщетными. Наконец, Комитет министров разрешил допустить их к торгам, обставив, однако, это разрешение крайне тяжелыми для них условиями. Аракчеев пометил: «Кажется, крестьянам все способы преграждены; сие легко может быть для того, чтобы кому-нибудь купить из наших братий; то, по крайней мере, нужно приказать доводить до вашего сведения о покупщиках». На основании этой пометы государь положил резолюцию: «Вообще сие заключение (ком. мин.) сделано с намерением затруднить возможность крестьянам самим себя выкупить и потому я на оное согласиться не могу и требую, чтобы оно было переделано, дав возможные пособия и облегчение крестьянам для собственного выкупа». Наконец, среди помет Аракчеева на мемориях Комитета министров встречаются и такие, в которых страшный и всеми ненавидимый граф высказывается за смягчение предположенных кар. Новгородский губернатор вошел однажды с представлением в сенат о нецелесообразности одного сенатского распоряжения. Сенат положил подтвердить губернатору прежнее распоряжение, а за неосновательность представления сделать выговор, объявив о нем по всем губернским правлениям. Комитет министров согласился с сенатом, но Аракчеев отметил: «Нет ли тут излишнего; за представление делают выговор с объявлением по всему государству за такое дело, которое содержит в себе только одно правило». Государь положил резолюцию: «Весьма согласен, выговор отменить, чем и публикование оного уничтожится»[541].
Приведя все эти и еще некоторые другие, подобные тому, факты, г. Середонин[542] поспешил воздать Аракчееву хвалу, как деятелю, через меру незаслуженно опороченному современниками и историками. Мы думаем, что исследование закулисной стороны каждого из тех дел, к которым относились вышеприведенные пометы Аракчеева, значительно понизило бы благожелательный тон, с каким г. Середонин говорил об Аракчееве. Взять хотя бы гуманную помету Аракчеева по делу о выговоре новгородскому губернатору. Слишком известно, что Аракчеев в качестве новгородского землевладельца и начальника над военными поселениями, расположенными в Новгородской губернии, сажал на пост новгородского губернатора свои креатуры, и еще большой вопрос: что именно защищал Аракчеев в вышеуказанной помете — принцип гуманности или просто своего человека? Так же и оценка всех других помет Аракчеева с точки зрения его личной характеристики должна была бы опираться на предварительное рассмотрение связанных с каждым данным делом личных отношений, счетов и интриг. Признавая, таким образом, высказанное г. Середониным похвальное слово по адресу Аракчеева поспешным и в общей его форме необоснованным, я, тем не менее, вовсе не считаю возможным отрицать за приведенными у г. Середонина фактами всякое значение — Аракчеев не может рисоваться современнику тем оперным злодеем, которому не полагается ни одного симпатичного жеста, ни одного доброго душевного движения, не может хотя бы уже по одному тому, что мы и вообще не допускаем возможность существования таких одноцветных натур. Каковы бы ни были побуждения, водившие рукою Аракчеева при написании этих помет, во всяком случае в них выражаются две черты — рассудительная деловитость, внушаемая практическим здравым смыслом, и похвальная привычка вспоминать о казенном интересе при мотивировке своих предположений.
Не эти ли две черты и вознесли Аракчеева в глазах Александра превыше всей остальной сановной массы, в которой государь так часто встречал поверхностное легкомыслие в государственных вопросах и самое циничное хищничество по отношению к казенным деньгам?
Надо заметить, что все те немногие писатели, которые поднимали свой голос в пользу Аракчеева с желанием смягчить одиум тяготеющей над его памятью репутации[543], всегда усиленно выдвигали именно эти две черты своего героя — энергию, серьезную деловитость и личную честность.
Посмотрим же повнимательнее, какой оттенок принимали эти черты в личности Аракчеева и какую роль могли они сыграть в истории возвышения Аракчеева при императоре Александре.
Аракчеев, бесспорно, умел превосходно «делать дело», когда он этого желал. Его деловитость засвидетельствована рядом фактов из истории его службы. Военные специалисты, на авторитет которых мы в данном случае полагаемся, весьма высоко ставят проведенную Аракчеевым реформу русской артиллерии в бытность его инспектором всей артиллерии. Эта часть русских военных сил находилась к концу XVIII столетия в полном упадке, в полной отсталости от успехов артиллерийского дела на Западе Европы. Аракчеев, по свидетельству военных историков, своими энергичными мероприятиями поднял русскую артиллерию на уровень западноевропейской, и результаты этой реформы ярко сказались во время участия России в коалициях против Наполеона в 1805 и 1807 гг.[544] Другим блестящим проявлением деловитости и энергии Аракчеева считается обыкновенно его деятельность в качестве военного министра во время финляндской кампании 1809 г. В специальной литературе господствует мнение, что только благодаря распорядительности и настойчивости Аракчеева, прибывшего на театр войны, удалось победить все препятствия к подготовке знаменитого перехода русской армии по льду Ботнического залива на шведский берег. Наконец, сопоставим с этим успешное выполнение Аракчеевым поручения иного рода. Я имею в виду составленный Аракчеевым в 1818 г. по поручению государя проект освобождения крепостного крестьянства. Давая Аракчееву это поручение, государь поставил условие, чтобы в его проекте не заключалось никаких мер, стеснительных для помещиков, и чтобы эти меры не представляли ничего насильственного со стороны правительства. Ограниченный этими условиями, Аракчеев все-таки сумел развить в своем проекте вполне обдуманный и осуществимый план последовательного выкупа крепостных крестьян в казну вместе с земельным наделом. В. И. Семевский[545] усматривает в этом аракчеевском проекте начальное зарождение мысли о возможности выкупа крестьян посредством кредитной операции[546].
Так, Аракчеев мог с успехом вести государственные дела разнообразного характера. У него была хорошо устроенная голова и золотые на работу руки. Но эти положительные качества подсекались, мельчали и разменивались благодаря основной черте его натуры и его деятельности: им всегда руководили не стремления государственного человека, а корыстные (в широком смысле этого слова) домогательства царедворца.
Его деловитость зиждилась не на внутреннем влечении к общему благу, а на угодливости, на стремлении отличиться ради укрепления собственного положения. Вот почему он, крепостник в душе, мог, если было приказано, серьезно и плодотворно заняться составлением освободительного проекта и в то же время, будучи противником военных поселений, мог, ввиду желания государя, связать свое имя с самым рьяным и неуклонным насаждением этих учреждений. Прикажут — и он эмансипатор; прикажут иначе — и он бич и гроза подневольного населения.
Эта черта накладывала особый отпечаток и на самую его деловитость. При всей способности Аракчеева вникать в суть дела и схватывать своим пониманием самую его сердцевину, его интерес сплошь и рядом сосредоточивался на показной стороне, на форме и наружности, на второстепенных, иногда до смешного ничтожных мелочах. Он умел делать и настоящее дело, и он больше всего любил пускать пыль и втирать очки в глаза тем, в чьих милостях и благоволении он нуждался. Петр Великий сумел бы выколотить из него, как и из Меншикова, хорошего слугу для государственной работы; Александр Павлович отвел ему для своих личных услуг такую роль, при исполнении которой отрицательные стороны его личности разрастались более пышно, нежели положительные.
Показной характер деловитости Аракчеева особенно ярко сказался в главном деле его жизни — в организации военных поселений. Аракчеев очень гордился внешним блеском этого учреждения и прекрасно понимал, какое значение для его фавора при государе имеет его деятельность по этой части.
И можно сказать, что созданное Аракчеевым бутафорское великолепие военных поселений оставило далеко позади себя даже знаменитые потемкинские декорации, сооруженные во время путешествия в Крым Екатерины II. Сооружения Потемкина были рассчитаны лишь на краткий момент высочайшего проезда… Аракчеевская феерия должна была создавать постоянный, непрерывный оптический обман, на котором Аракчеев строил свою безраздельную силу у царского трона.
Читая воспоминания разных сотрудников Аракчеева по военным поселениям, мы отчетливо видим, в чем состоял секрет той быстроты, с которой Аракчеев осуществлял желания государя. Секрет этот самый несложный. Он сводился к тому, что Аракчеев вовсе не считал нужным изыскивать для выполнения той или другой работы наиболее подготовленных и подходящих к ней людей. Он твердо верил во всемогущество служебной субординации и проповедовал правило, что на службе никто и никогда не может отговариваться незнанием и неумением. Достаточно приказать и взыскать — и любое дело будет сделано.
Любопытные указания на эту аракчеевскую административную магию находим в записках Брадке. В 1817 г. Брадке 20-летним подпоручиком был откомандирован в распоряжение Аракчеева по военным поселениям. Вместе с полковником Паренсовым, также назначенным вновь на службу по военным поселениям, Брадке явился к Аракчееву. Тот любезным тоном объяснил предстоящие им обязанности: определять линии построек, приготовлять поля, луга и пастбища для новых поселенцев, для чего под их команду будет назначено несколько батальонов. Брадке и Паренсов в смущении заявили, что они оба совершенно несведущи в сельском хозяйстве. Аракчеев сразу изменился в лице и сурово ответил, что не привык выслушивать таких возражений и что всякий служащий должен беспрекословно исполнять возлагаемые на него обязанности.
Скрепя сердце, Брадке и Паренсов отправились к месту назначения. Первоначально они занялись обучением офицеров съемкам местностей для определения мест для полковых штабов, рот, полей, дорог и т. п. Эта операция была им знакома и ранее, и дело шло гладко. Скоро, однако, пришлось приниматься за расчистку и осушение болот. Никто из офицеров не имел понятия о таких работах, и, по словам Брадке, начался настоящий хаос. Солдаты кое-как приноровлялись к делу; по вдохновлению, по смекалке, наугад принимались сами изобретать приемы работы, но мудрость их была невелика, и в ходе работ царили бестолковщина и сумбур.
Аракчеев твердил только одно — что «с доброю волей можно достигнуть всего и что всякая нерешительность изобличает только дурное намерение». Брадке и Паренсов указывали ему, что ими все же наделано много важных ошибок, которых легко избежал бы сведущий человек. Аракчеев никак не хотел признать справедливости таких указаний. Летом 1819 г. Аракчеев отправил Брадке в Могилевское военное поселение для приведения в порядок хозяйственных дел. Брадке опять возражал против этого назначения: «Это превышает мои силы и знания, — говорил он, — я не умею отличить овса от ржи». — «Все это глупости, — отвечал Аракчеев, — поручения должны быть исполняемы, коль скоро на нас лежит служебная обязанность». — «Но если я их исполню дурно по своему неведению?» — продолжал обороняться Брадке. — «Тогда я отдам вас под суд», — успокоительным тоном заметил Аракчеев. «И пришлось ехать», — пишет Брадке[547].
Совершенно то же самое рассказывает Свиязев, определившийся в начале 1825 года архитектором в новгородские военные поселения. Свиязеву поручили построить дома для роты австрийского полка и отрядили в его распоряжение для этой цели батальон солдат, в котором большею частью были ярославцы, в уверенности, что всякий ярославец — непременно каменщик. На деле оказалось, что во всем батальоне только один солдат кое-как разумеет по этой части. И пришлось мне, рассказывает Свиязев, отыскивать старые записки, веденные еще в начале практики, и обучать избранного мною кондуктора разбивке строения, приготовлению известкового раствора, поливке кирпича и т. п. Эйлер в своих записках тоже отмечает эту характерную черту службы при Аракчееве, по которой каждый должен уметь делать все, что ему прикажут, независимо от подготовки.
Разумеется, такой упрощенный прием управления громадным и сложным предприятием, каким были военные поселения, не мог приводить к твердым и прочным результатам. Но о прочности результатов Аракчеев как раз и не заботился, была бы только наведена внешняя красота на показные декорации.
Беспристрастный и сдержанный в своих суждениях, Брадке говорит прямо: «В занятиях по военным поселениям — много шуму, много мучений, беготни и суеты, а действительной пользы никакой». В устройстве самих поселений, по отзыву того же автора, «на поверхности был блеск, а внутри уныние и бедствие». На каждом шагу встречались там бестолковые, непроизводительные затраты и отсутствие заботливости о действительной пользе дела. Слепая вера руководителей во всемогущество приказа на каждом шагу побивалась жизнью, но руководители упрямо отвертывались от жизненных уроков.
Самый выбор местностей для устройства поселений, по словам Брадке, был «роковым». В Новгородской губернии под поселения были взяты места, почти сплошь занятые старым, порченым лесом, с обширными и глубокими болотами, негодными для обработки, с населением, мало привычным к земледелию. В Могилевской губернии избрали обширную волость, откуда несколько тысяч человек переселили в Херсонскую губернию, и масса народу погибла при этом переселении от голода, уныния, тоски по родине. А на их место поступил батальон солдат, отвыкших от земледелия, незнакомых с местностью, лишенных знающих руководителей. В первое время они страшно бедствовали. Построили великолепные здания для штабов, провели всюду шоссе, поставили щегольские домики для поселенных солдат, но луга и пастбища оказались расположенными далеко за полями, и скот приходил на пастьбу совершенно изнуренный. Выписали дорогой заграничный скот, когда луга еще не были нарезаны, и скотина падала от голода и злокачественности болотных трав. И ко всем таким тяжелым промахам присоединялась тягостность педантического формализма и бесцельная жестокость в приемах управления. Так характеризует Брадке оборотную сторону показной «деловитости» аракчеевского управления военными поселениями. Подтверждений этой характеристике можно найти сколько угодно в отзывах очевидцев и участников этого дела. В записках Мартоса и Маевского встречаем выразительное описание «благоустройства» тех жилищ или, как их именовали тогда, «связей», которые устраивались для поселенных войск по одинаковому, однажды навсегда утвержденному образцу.
«В сгоревшем селе Высоком, — повествует Мартос, — начали строить дома. Бухмейер был главным строителем, хотя в архитектуре смыслил столько же, как и татарский мурза. Начали громоздить дома, сделали проходные сени, разделяющие связь на два жилья, по бокам — избу для хозяина в 3 кв. сажени, рядом комнату для постояльцев, не более 3 шагов длины, а как поставили печки, так повернуться негде. Все это не мешало снаружи дать симметрию, насыпать бульвар, даже на заслонках, литых на чугунных заводах, изображены купидончики, которые, играючи, коронуют себя веночками, другие малютки из чугуна пускают мыльные пузырьки. Подлинно, что пустили мужикам мыльные пузырьки. Издержка непомерная, но все сии дома, объявившие войну хозяйственному расположению, представляют глазам путешественника приятную деревню»[548].
Вот впечатление Маевского от осмотра поселенного имени Аракчеева полка: «Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения, все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте огромный дом с мезонином, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение — смещение полов без разделения; представьте, что корова содержится, как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; представьте, что капитальные леса сожжены, а на строения покупаются новые из Порхова с тягостною доставкою, что для сохранения одного деревца употребляют сажень дров для обставки его клеткою, — и тогда получите вы понятие о сей государственной экономии». «В этом поселении, — пишет далее Маевский, — повивальные бабки, родильные ванны, носилки, отхожие места — все царские. В больнице полы доведены до паркетов, но больные не смеют прикасаться к ним, чтобы их не замарать, и вместо того, чтобы выходить через дверь, прямо прыгают с кровати в окно. У каждого поселенного полка — богатая мебель и серебряный сервиз. Но мебель хранится, как драгоценность, и на ней никто не смеет сидеть. То же и с офицерами — они не смеют ни ходить, ни сидеть, дабы не обтереть и не замарать того, что дано им для употребления»[549]. Так, показным благополучием прикрывалось полное пренебрежение к нуждам и удобствам поселенных войск. Доктор Европеус, по обязанности объездного врача близко знакомившийся с бытом и нуждами поселян и резервных войск, рисует с натуры картину работы в поселениях: работы были очень обременительны для солдат. Солдаты жили во время работ в сырых мазанках. Больных было много, смертность — значительная; в мазанках не было печей, негде было греться; лихорадки, поносы, цинга, куриная слепота свирепствовали в поселениях. Солдаты возвращались с работы с песнями для начальства, а ночью по всему лагерю слышалось оханье и стоны[550].
Весь быт военных поселений представлял собой цепь фальсификаций. Пьянство и даже просто нормальное употребление вина было там воспрещено под строжайшими карами. Но архитектор Свиязев, поселившийся в одной из «связей» в поселенном полку короля прусского, рассказывает, что ночью его то и дело будили легким стуком в окно, и оказывалось, что к нему стучатся по ошибке, так как в соседнем доме по ночам секретно продается винцо[551]. При объездах военных поселений императором Александром Павловичем все сияло довольством и благосостоянием. Входя в обеденное время в разные дома, государь у каждого поселенца находил на столе жареного поросенка и гуся. Очевидцы рассказывают, однако, что эти гусь с поросенком быстро были переносимы по задворкам из дома в дом по мере того, как государь переходил от одного поселенца к другому. Разумеется, прибавляет к этому рассказу очевидец, ни пустых щей, ни побитых спин государю не показывали[552].
Может возникнуть предположение, что и сам Аракчеев был вводим в заблуждение второстепенными начальниками. Действительно, Аракчеев, при всей его претензии на всезнание, не раз попадался на удочку корыстного обмана. Но что касается системы показного благополучия в военных поселениях, то ее источником, несомненно, служил сам Аракчеев. Маевский, посвященный во все тайны военных поселений, и Брадке, также близко стоявший к администрации этого учреждения, согласно говорят о том, что Аракчеев умышленно и сознательно строил управление поселениями на лжи и фальши. По свидетельству Маевского, Аракчеев требовал щегольства и издержек на украшение фронта. Отлично понимая, что такие издержки падают на солдата, Аракчеев говорил: «Я и сам того мнения, что издержки на украшение фронта падают всегда на солдата под скрытыми видами. Но пока оно негласно, мне нет до того дела». «Иначе говоря, — замечает Маевский, — воруй, да не попадайся», — таково было основание системы. «Аракчеев, — говорит Брадке, — очень хорошо сознавал истинное положение вещей в военных поселениях, но не желал его видеть. То была игрушка, подносимая им государю в виде важного дела, и при этом не останавливались перед тем, что она стоила миллионы и делала несчастными многие тысячи людей».
Движимый стремлениями искательного царедворца, Аракчеев нередко сосредоточивал кипучую энергию не на тех сторонах дела, которые были важнее, но на тех, которые сильнее бросались в глаза. Мы имеем об этом очень важное показание Маевского. Однажды, передавая Маевскому строго проверенный строевой рапорт батальонного командира, кругом исписанный своими замечаниями, Аракчеев в минуту откровенности сказал Маевскому: «Ты скажешь, граф занимается такими пустяками посреди важных государственных занятий; а я скажу, что я важными никогда так не занимаюсь, как пустыми. Когда я найду здесь ошибку, то все скажут: ежели граф занимается и видит ошибки в безделицах, то что же он увидит в важном деле, которое, конечно, читает он с большим напряжением и вниманием». И Маевский замечает, что, по его наблюдениям, Аракчеев действительно пристальнее рассматривал безделицы, нежели важные дела. Впрочем, и помимо житейских расчетов эта мелочность составляла просто непроизвольную черту его натуры. Тот же Маевский отмечает, что Аракчеев со страстью занимается мелочью и дрязгами: ссорит подчиненных, выведывает их тайны и потом, обнаруживая последние, делает их непримиримыми врагами. Быть может, 3/5 всей его деятельности уходили на бесплодную мелочную суетливость, совершенно ненужную для существа дела. Европеус сообщает, что при устройстве больницы Аракчеев убивал массу времени на указания, куда поставить скамейки, где должен находиться ординаторский столик, даже какого формата должно быть перо при чернильнице у ординатора, а именно — непременно без бородки. Раз как-то, увидав перо с бородкою, Аракчеев поднял целую историю, вызвал полковника и врача, прочитал пространные нотации, a фельдшеру велел дать пять розог. И в то же время ряд очень существенных неустройств не привлекал его внимания.
Подмена истинной деловитости бездушной, мелочной формалистикой резко сказывалась и в домашнем хозяйстве Аракчеева; лучшее доказательство того, что здесь мы имеем дело не только с тактическим приемом, но и с непосредственной, природной чертой характера. Истинным наслаждением для Аракчеева было составлять какие-нибудь подробные расписания, положения, регламенты с самым точным распределением каждой мелочи. Колоссальная бумажная работа по государственной службе еще не исчерпывала всей его энергии в этом отношении. И для своего Грузина он составлял и утверждал целые уложения. Так, например, Аракчеев написал особый длиннейший церемониал по пунктам о порядке пасхального богослужения в Грузинском соборе; тут предусмотрено все — вплоть до вопроса о том, какие подсвечники ставить на престол в пасхальную ночь. Аракчеев и у себя в Грузине не знал ни минуты покоя от суетливой хлопотни. Во всех комнатах грузинского дома стояло по чернильнице с опущенными в них перьями, чтобы Аракчееву можно было на лету делать разные заметки. Бесчисленное количество всевозможных записных книжек всегда окружало графа. Кроме того, на главном столе лежал его дневник, в который мельчайшим шрифтом граф заносил тысячи заметок о всякой хозяйственной мелочи. В домашней канцелярии графа в Грузине всегда что-нибудь писали. Если на минуту останавливалась работа, он сейчас же измышлял что-либо новое. В 1820 г., например, «он посвятил весь ноябрь составлению положения о том, сколько нужно для грузинской мызы метелок, лопат, пакли и сколько мякины для птиц и коров». Были произведены подробнейшие исчисления и выкладки. Было исписано громадное количество бумаги. С математической точностью было определено потребное число метел и лопат различных видов и категорий. 21 ноября граф «утвердил» это пространное «положение». Когда граф проживал в Петербурге, ему ежедневно присылались из Грузина кипы рапортов и бумаг о всех мелочах грузинского хозяйства. Все они сортировались, сшивались, и Аракчеев сам надписывал на обложках заглавия «дел» и сдавал их в домашний архив[553]. Трудно решить, какие побуждения в большей мере толкали Аракчеева на все это бумажное крохоборство — плюшкинская скаредность, дрожание за свое добро или просто мания к бездушным бумажным формам делопроизводства.
Аракчеев, несомненно, был маньяком формального, внешнего порядка; всегда и во всем стремился он установить однообразие и монотонное единство и всюду враждебно преследовал ту пестроту и многоцветность, которая порождается свободным движением духа жизни. Все подстричь под общую гребенку, весь окружающий мир превратить в совокупность бездушных автоматических приборов — таков был его идеал, ради которого он готов был развивать неустанную, суетливую деятельность. Чистота и порядок — прекрасные регуляторы общежития, но Аракчеев, как и все фанатики, превращая средство в самоцель, сумел сделать из своего культа чистоты и порядка истинный бич для подвластного населения, обрекавший людей на совершенно нелепые по своей бесцельности неудобства, лишения и тяжелые страдания.
Малейшая пылинка на стене, едва приметная для микроскопического наблюдения, будучи замечена Аракчеевым, вызывала немедленно жестокую расправу — палочные удары для слуги и арест для чиновника. Случалось, что граф, войдя в комнату и окинув взглядом стены и паркет, блестевшие, как зеркало, все же не довольствовался их внешним осмотром и, смочив платок, сам подлезал под диван или под кровать и пробовал платком чистоту пола. И горе было слугам, если на платке оказывалась какая-нибудь пылинка или ниточка. Ради того же фанатического культа чистоты он ломал хозяйственный и домашний быт своих крестьян, не считаясь с их жизненными потребностями. Например, в интересах чистоплотности аракчеевским крестьянам строго воспрещалось держать свиней. К 1 апреля 1816 г. граф приказал перевести всех свиней в своей вотчине под страхом назначения ослушников на работу в господский сад сверх положения. Для получения права держать свинью крестьянин должен был выправлять у Аракчеева особый билет с обязательством никогда не выпускать свинью со двора. Свиньи, вышедшие на улицу, немедленно конфисковывались. Наряду с чистотой Аракчеев заставлял приносить такие же, иногда весьма тяжелые жертвы и на алтарь мертвенной симметрии. Крестьянские дома в селе Грузине были отстроены по одному типу казарменной архитектуры, все были выкрашены в розовую краску и вытянуты в одну шеренгу. Никаких пристроек, столь нужных в хозяйственном обиходе крестьянина, но нарушающих симметричность внешнего вида крестьянского жилья Аракчеев отнюдь не допускал.
Я привожу все эти указания, количество которых можно было бы умножить в значительной степени, лишь для того, чтобы выяснить на конкретных примерах, на какие пустяки, иногда только ненужные, иногда прямо вредные и всегда крайне изнурительные для окружающих, способен был Аракчеев разменивать свою «деловитость». Повторю еще раз: Аракчеев мог, если хотел, деловито разобраться во всяком серьезном вопросе, но истинную энергию, истинное увлечение и душевную страсть он вкладывал как раз не столько в серьезные дела, сколько в мелочные пустяки, которые либо тешили его маньяческие наклонности, либо давали ему возможность выставить напоказ неусыпность своих хлопот, неутомимость и всеобъемлющую распорядительность. Тщеславный честолюбец заслонял в нем серьезного государственного деятеля.
Нам остается теперь разобрать вопрос о честности Аракчеева, о его бескорыстной заботливости о казенном добре. Эту черту Аракчеева не раз отмечают мемуаристы, в том числе иногда и такие, которые не принадлежат к его безусловным хвалителям[554]. Приведенные выше пометки Аракчеева по делам Комитета министров свидетельствуют о том, что Аракчеев действительно умел беречь казенные средства от покушений на них со стороны других лиц. Но оберегал ли он эти средства столь же строго от своих собственных покушений? Думаю, что на этот вопрос нельзя отвечать категорическим утверждением. По-видимому, он не был одним из тех грубых казнокрадов, которых насчитывалось немало в рядах высшей сановной знати того времени. Но отсюда было еще очень далеко до рыцарски честного отношения к казенной копейке. Подоить казну при удобном случае весьма был не прочь и Аракчеев, а для него удобные случаи к тому могли представляться чаще, чем для кого-нибудь другого.
В мемуарах Фишера приводится рассказ одного поставщика сена в казну, которому сам генерал-провиантмейстер Абакумов приказал закупить поставочное сено у Аракчеева в грузинской вотчине. Как видно из этого рассказа, Аракчеев не стеснялся извлекать личные выгоды из казенных поставок. Мертваго, также бывший одно время генерал-провиантмейстером, приводит такие эпизоды из действий Аракчеева в связи с поставками на казну, которые указывают если не на личное корыстолюбие Аракчеева, то на его большую склонность приносить интересы казны в жертву своему своеволию. Лишь бы настоять на своем и показать свою власть, он не останавливался перед такими распоряжениями, которые грозили расстроить капитал провиантского департамента и обременить казну совершенно излишними издержками[555]. Наконец, Аракчеев в самых широких размерах эксплуатировал казну в форме привлечения казенных людей к обязательным работам в своем частном хозяйстве. Еще при императоре Павле Аракчеев отважился выстроить себе дом в Грузине артиллерийскими солдатами. Кутайсов, поссорившись с Аракчеевым, донес об этом Павлу, и в Грузино был послан флигель-адъютант для расследования дела. Эта была сущая правда, но Аракчеев, вовремя предупрежденный Кутлубицким, подготовил все, чтобы истина была скрыта, и императору было донесено, что дом выстроен наемными людьми[556]. В царствование Александра Павловича, в годы своего фавора, Аракчееву уже нечего было опасаться неприятностей по этой части, и произвольное корыстное распоряжение казенными людьми вошло у Аракчеева в систему. Матросы его грузинской яхты получали жалованье от адмиралтейства, а исполняли всякие работы на усадьбу графа; г. Отто нашел в делах грузинского архива много указаний на то, что Аракчеев пользовался для своих частных нужд услугами казенных ведомств. В Грузию массами наряжали казенных инженеров, работников, солдат[557].
Все это не вяжется с попытками представить Аракчеева образцом честности и бескорыстия. Зато подобные факты как нельзя более гармонируют с общеизвестною скупостью Аракчеева, доходившею до скряжничества. Эта скупость сказывалась на каждом шагу в его домашнем обиходе. По шоссейным дорогам, проведенным в разных направлениях по грузинской вотчине, воспрещалось ездить: при выезде и въезде у каждой деревни шоссе запиралось большими чугунными воротами, ключи от которых всегда хранились в графском доме. Штрафы обильным и непрерывным дождем сыпались на грузинских крестьян, и Аракчеев дошел по этой части до такой изобретательности, что установил целую систему штрафов с баб за бесплодие. Каждая баба должна рожать ежегодно и лучше сына, чем дочь, — таково было одно из основных правил практической домашней экономии. За рождение дочери полагался определенный штраф; за мертвого ребенка и за выкидыш — штраф более крупный, а в тот год, когда баба совсем не забеременеет, с нее сверх штрафа требовали еще представления десяти аршин точива (холста). Даже в такие высокоторжественные для грузинского владельца моменты, как в дни пребывания в Грузине императора, Аракчеев не перелагал гнева на милость, и из подарков, которые государь делал грузинской дворне, Аракчеев не забывал производить вычеты в свою пользу с тех, кто в чем-то провинился. На прокладных листах аракчеевского Евангелия, куда Аракчеевым заносились памятные записи о наиболее важных событиях его жизни, под 8 июня 1816 г. находим подробное описание посещения Грузина в этот день императором. И вот, упомянув в этом торжественном описании о том, что государь пожаловал дворовым людям 1000 руб., Аракчеев с обычной пунктуальностью тут же отмечает: «…церковному старосте не выдается за вину, что разбил лампу». Несмотря на громадные доходы, которые имел Аракчеев, на домашнем обиходе его жизни всегда лежала печать скряжничества. За обедом ради экономии вместо жаркого у него подавали соленую телятину, вместо пирожного — гречневую кашу с сахаром. Рюмки для вина подавались самые гомеопатические. Даже за обедом с приглашенными гостями порции каждого блюда были строго определены по числу гостей, и горе было тому, кто отваживался взять лишнюю порцию: он мог рассчитывать на долгое преследование со стороны графа. В воспоминаниях Гриббе находим дышащий невольным юмором рассказ о том, как на Пасху, на Рождество и в день своих именин Аракчеев давал обед гренадерам своего полка — по одному унтер-офицеру и рядовому от каждой роты. Для угощаемых эти обеды были сущим мученьем, от которого каждый старался отделаться. В столовой гренадеры выстраивались в шеренгу. В присутствии хозяина лакей в парадной ливрее вносил поднос, на котором красовались маленький графин с водкой и рюмка синего стекла с дамский наперсток. Гренадеры неловко, со страхом брали эту рюмку, наливали в нее дрожащей рукой водку из графинчика и, выпив несколько капель, удивленно смотрели друг на друга и на лакея. Весь пир ограничивался щами с кислой капустой и кашей. А вместо десерта официант обносил поднос с бумажными свертками в виде колбасок. Каждому давалось по свертку, а в свертке заключалось 10 медных пятаков[558].
Скупость и стяжательность стояли над душой Аракчеева слишком властными призраками, чтобы он мог удержаться на той нравственной высоте в обращении с казенным добром, на которую его готовы возвести некоторые мемуаристы.
Но и оставляя в стороне вопрос о неосторожном прикосновении к казенной собственности, мы должны признать, что в основе духовной природы Аракчеева не было настоящей честности. Он был лжив, несправедлив и лицеприятен. Он вовсе не отличался хотя бы и суровой, но зато для всех одинаковой справедливостью. Когда подготовлялся указ 6 августа 1809 г. об экзаменах для получения чинов гражданских, Аракчеев — единственный человек, кроме Сперанского, посвященный в эту тайну, — не преминул предварительно выпросить чин коллежского асессора некоторым лицам, которым он покровительствовал[559].
Ради своих личных интересов он готов был допускать самые вопиющие нарушения законов. Эта черта ярко выразилась, например, при судебном разбирательстве дела об убийстве Минкиной. Частью в угоду Аракчееву, частью под прямым его давлением названный процесс ознаменовался грубым попранием всех правил судопроизводства и явным нарушением всякой справедливости[560].
Потворствуя близким людям или расправляясь с врагами, Аракчеев нередко шел на прямую ложь. При Павле эта черта довела даже Аракчеева до временной опалы. Из арсенала украли дещи в то время, когда там стоял караул от батальона, которым командовал родной брат Аракчеева. Аракчеев, не долго думая, ложно донес Павлу, что караул в этот день был наряжен от полка генерала Вильде. Император немедленно отставил Вильде от службы. Кутайсов, однако, раскрыл правду, и в последовавшем затем высочайшем указе было сказано: «Генерал-лейтенант Аракчеев I за ложное донесение отставляется от службы»[561]. Перед окончательным укреплением фавора Аракчеева при Александре в Новгороде губернаторствовал Павел Иванович Сумароков, отличавшийся строгой честностью. При подрядах и рекрутских наборах он относился ко всем помещикам губернии с полным беспристрастием. На этой-то почве между ним и грузинским владельцем и не замедлили возникнуть неприятности, ибо Аракчеев никак не мог примириться с тем, что его трактуют совершенно так же, как и других землевладельцев, не делая ему никаких поноровок. Тогда Аракчеев начал совершенно ложно обвинять Сумарокова перед государем в пьянстве, и Сумароков был отставлен от службы и впал в большую бедность[562]. А на пост новгородского губернатора Аракчеев посадил своего дальнего родственника Жеребцова, который во всем угождал своему покровителю. За время своего управления губернией Жеребцов отдал под суд несколько сот человек, прославился необычайной жестокостью и оставил до 11 тысяч нерешенных дел.
Нечего и говорить о том, что родственники Аракчеева постоянно пользовались всякими привилегиями со стороны местных властей. Мать Аракчеева жила в своем имении в Бежецком уезде. Тверские губернаторы, назначая в Бежецк городничих, предписывали им — «быть в точном повиновении у Елизаветы Андреевны». Как-то раз эта дама была проездом в Новгороде, и губернатор, не зная об этом, не представился ей. Какая буря раскаяния и страха поднялась в губернаторской душе, когда ему стал известен этот промах. «Боже мой, — писал он Аракчееву, — как я сокрушаюсь! Виноват! Причитаю какому-либо злобному намерению против только что вступившего губернатора, что лишили меня счастья целовать милостивую руку родительницы моего благодетеля! У меня слезы наслаждения (!) на глазах… Я мучаюсь этим лишением»[563].
Заканчивая на этом рассмотрение личности Аракчеева, я опять ставлю вопрос: какими элементами своей личности мог Аракчеев пленить душу Александра Павловича? В чем можно предположить психологическую почву для их сближения? У нас есть данные, показывающие, что Александр отнюдь не заблуждался относительно душевных свойств своего друга. Император Павел не вынес лживости Аракчеева, как мы только что видели в эпизоде с покражей из арсенала. Как отнесся к этому эпизоду Александр? Узнав на плацу во время развода 6 замене Аракчеева Амбразанцевым, Александр сказал Тучкову[564]: «Слава Богу, могли бы опять попасть на такого мерзавца, как Аракчеев!». И в то же время Александр написал Аракчееву утешительное письмо, в котором читаем: «Я надеюсь, друг мой, что мне нужды нет при сем несчастном случае возобновить уверение в моей непрестанной дружбе; ты имел довольно опытов об оной и я уверен, что ты об ней не сомневаешься. Поверь, что она никогда не переменится»[565].
Все эти факты и наблюдения приводят, на мой взгляд, лишь к одному выводу: Александр приближал к себе Аракчеева не потому, что был пленен его личностью или поддался его влиянию, но потому, что считал Аракчеева необходимым для себя человеком. В чем же заключалась эта необходимость?
На этот вопрос может ответить лишь история постепенного возвышения Аракчеева.
Глава третья ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I И АРАКЧЕЕВ
I
Аракчеев не принадлежал к числу тех людей, которым условия рождения от самой колыбели предуготовляют гладкий и беспрепятственный путь к служебным отличиям и видным государственным постам. Лишь благодаря случайному сцеплению обстоятельств он вынырнул на поверхность государственной жизни России с самого дна провинциального помещичьего захолустья. Вспоминая о годах своей ранней юности, Аракчеев любил подчеркивать резкое различие между выпавшем на его долю с течением времени всемогуществом и той более чем скромной обстановкой, в которой ему приходилось делать первые шаги на поприще самостоятельной жизни. По-видимому, ради эффекта Аракчеев склонен был даже несколько преувеличивать в своих воспоминаниях размеры испытанных им в юности невзгод и затруднений. Генерал Маевский передает, что Аракчеев любил ему рассказывать, как семилетним мальчиком в 1783 г. он был привезен отцом из деревни в Петербург для определения в корпус и как круто пришлось им при этом вследствие материальной нужды. По тогдашним правилам вновь вступающий в корпус кадет должен был иметь свой форменный фрак ценою не более семи рублей. Но у отца Аракчеева таких денег не было. И вот отец с сыном пошли к крыльцу митрополичьего дома в часы, когда митрополит выходил раздавать бедным милостыню, и встали там с прочими нищими. Однако митрополит дал им на бедность всего 1 р. 50 к. Они уже совсем было собрались назад, в деревню, но отец Аракчеева заехал еще к одной знакомой, которая и ссудила его семью рублями[566]. Может быть, что-нибудь в этом роде и произошло в действительности в силу какой-либо случайности. Но в общем положительные данные, имеющиеся в нашем распоряжении, показывают, что семья Аракчеева вовсе не испытывала такой крайней материальной нужды. Когда отец Аракчеева в 1762 г. по манифесту о вольности дворянства вышел в отставку из военной службы с чином поручика и уехал в свои поместья, за Аракчеевыми числилось 500 душ крестьян в Бежецком уезде, два имения в Вышневолоцком уезде, да еще какая-то деревня в Московской губернии. У бабушки Аракчеева было свое порядочное состояние, а мать его, оставшись вдовой, имела более сотни крестьян, жила самостоятельно и почти никогда не просила помощи у родных. Два села и четыре деревни вполне ее обеспечивали[567]. Таким образом, рассказы Аракчеева о том, что его молодость прошла в когтях крайней материальной нужды, сильно отзываются фантастикой. Зато нельзя не согласиться с тем, что Аракчееву, ввиду скромности его происхождения, предстояла нелегкая задача своим горбом пробить себе дорогу к независимому и твердому положению в жизни. Вступив в корпус, он сразу же показал всем своим поведением, что он сумеет разрешить эту задачу как нельзя успешнее. Железное трудолюбие, пунктуальная исполнительность, бессловесная покорность начальству и какая-то мрачная отчужденность от товарищей — вот что прежде всего бросалось в глаза в поведении юного кадета. Товарищи его возненавидели, а начальство не чаяло в нем души, и Аракчеев быстро «пошел в гору». Через семь месяцев он был уже переведен в старшее отделение корпуса с аттестацией примерного кадета, а на третий год он был произведен в сержанты и пожалован вызолоченной медалью за отличие. Его назначили помощником корпусных офицеров, поручали ему надзор за порядком в корпусе и даже производство строевых учений. Тогда уже обнаружился крутой начальственный нрав этого человека. Подчиненные ему младшие товарищи тотчас же почувствовали над собой тяжелую руку его власти; зато в глазах начальства его фонды поднимались все выше. Директор корпуса Меллиссино доставлял ему выгодные уроки в домах вельмож и, последовательно повышая его по службе, выхлопотал ему, наконец, назначение в свой штаб старшим адъютантом с чином капитана армии. Вскоре после того в жизни Аракчеева произошел решительный и важный перелом. Цесаревич Павел Петрович пожелал ознакомиться с тем, как заделывают образовавшуюся в пушке раковину. В те времена это почиталось секретом. По просьбе цесаревича Меллиссино прислал в Гатчину для этой цели секретного мастера вместе со своим адъютантом Аракчеевым. Павел, не избалованный в то время быстрым исполнением своих желаний, привыкший, наоборот, к тому, что петербургские сановники щеголяли равнодушным отношением к опальному цесаревичу, был очень доволен предупредительностью Меллиссино и встретил его адъютанта с необыкновенной любезностью. Аракчеев не преминул воспользоваться хорошим расположением духа цесаревича и подал ему мысль о сформировании в составе гатчинских войск артиллерийской роты. Павел с жаром ухватился за эту идею. Рота была сформирована, и Аракчеев был назначен ее командиром. 4 сентября 1792 г. он вступил в отправление новых обязанностей. На первом же разводе Аракчеев целиком пленил сердце Павла фанатической служебной исполнительностью. Ученье продолжалось 12 часов подряд, не сходя с поля. Павел был в восторге. С этого дня, по словам Саблукова, Аракчеев «стал фактотумом гатчинского гарнизона, страшилищем всех гатчинских жителей и приобрел полное доверие великого князя». Павел осыпал нового любимца отличиями и наградами. Аракчееву было дано право постоянно находиться при обеденном столе цесаревича. В короткое время Аракчеев последовательно был назначен капитаном артиллерии, майором артиллерии, инспектором артиллерии, а затем и пехоты, и, наконец, незадолго уже до воцарения Павла, — гатчинским губернатором и подполковником артиллерии и полковником гатчинских войск. Все дела, касающиеся гатчинских войск, стали проходить через руки Аракчеева. Это видно, например, из письма к Аракчееву великого князя Александра Павловича от 23 сентября 1796 г., в котором Александр Просит Аракчеева о производстве некоторых назначений среди гатчинских унтер-офицеров и офицеров. Названное письмо интересно для нас, как первый по времени письменный след сношений Александра с Аракчеевым, а также и потому, что в этом именно письме Александр именует отца Императорским Величеством, еще не дождавшись его воцарения. Замечательно, что и сам Аракчеев титуловал Павла Императорским Величеством еще до кончины Екатерины. Это наводит на мысль, что незадолго до смерти Екатерины II, в противовес ее планам об устранении Павла от престола, Павел, Александр и Аракчеев составили своего рода триумвират, в основу которого было положено заблаговременное признание Павла законным императором[568]. Так, не было ничего неожиданного и в той знаменитой сцене, которая разыгралась в день кончины Екатерины в тот момент, когда императрица еще томилась в муках агонии. Павел прибыл в Зимний дворец, призвал к себе Александра и Аракчеева, соединил их руки и сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне». Александр взглянул на Аракчеева, прискакавшего из Гатчины в одном мундире и забрызганного грязным снегом от быстрой езды, и позвал его к себе переодеться. Александр дал при этом Аракчееву свою рубашку, которая затем хранилась в Грузине, как драгоценность, в сафьянном футляре и в которой Аракчеев завещал положить себя в могилу. Вскоре после того Павел хотел поручить Аракчееву присматривать за Александром, как за «бабушкиным баловнем», и доносить обо всех его поступках. Аракчеев упросил государя возложить это поручение на кого-либо другого[569]. Аракчеев остался верен той же системе, которой он следовал и раньше: не ссориться с наследником престола, а, напротив, готовить себе в его лице на будущее время могущественного покровителя. При Екатерине Аракчеев тесно связал свою судьбу с Павлом, а при Павле он сумел стать интимным жизненным спутником Александра.
С воцарением императора Павла все почувствовали себя в каком-то мрачном вихре. Ни в чем не было устойчивости. Гнев и милость порывами сменяли друг друга. Даже Аракчееву пришлось испытать на себе последствия этой порывистости. В краткий период павловского царствования Аракчеев дважды срывался с той высоты, на которую он был вознесен личною близостью к императору. Первые полтора года нового царствования были для Аракчеева триумфальным шествием по пути непрерывных служебных возвышений. 6 ноября 1796 г. скончалась Екатерина, а 7 ноября Аракчеев был назначен комендантом Петербурга, 8 ноября — произведен в генерал-майоры, 9 ноября — назначен комендантом сводного гренадерского батальона Преображенского полка, 13 ноября ему пожалована аннинская лента; 12 декабря он получил от Павла в дар столь знаменитую впоследствии Грузинскую волость в Новгородской губернии. Наконец, в апреле 1797 г. он получает титул барона и назначается генерал-квартирмейстером всей армии. Ему была отведена квартира во дворце, в покоях гр. Зубова. Аракчеев праздновал свое возвышение тем, что давал полную волю своему грубому властолюбию. Он неистовствовал на разводах, кичился своим могуществом перед другими сановниками и наводил панику на весь военный мир повальным исключением из службы всех, кто был замечен в малейшей неисправности. Эта строгость имела известные основания. В последние годы екатерининского царствования в военном управлении так же, как и других областях администрации, развелась страшная запущенность и распущенность и материала для чистки и суровых взысканий накопилось немало. Но на действиях Аракчеева лежала печать какой-то кичливости всемогуществом, грубостью, презрением к ничтожности всех людей, кроме него самого. Попытки упорядочения военного управления получали в его руках характер самодурства, в котором чувствовалось стремление не столько к пользе дела, сколько к утолению своего самовластия; потому даже и разумные мероприятия сплошь и рядом были испорчены в его руках бесцельным издевательством над подчиненными ему людьми. На этом поприще он вскоре зарвался настолько, что сам внезапно подпал под гнев государя, и в начале 1798 г. общество вдруг было ошеломлено известием о том, что всемогущий Аракчеев уволен без прошения в чистую отставку. Расточая направо и налево грубую брань и даже пощечины и удары тростью, Аракчеев позволил себе обругать позорнейшими словами подполковника Лена, сподвижника Суворова и георгиевского кавалера. Лен немедленно застрелился. Это обстоятельство и решило судьбу Аракчеева, так как Лен был лично известен императору Павлу. Эта первая опала Аракчеева длилась полгода. 11 августа 1798 г. он снова был принят на службу, восстановлен в прежних должностях и, кроме того, в начале 1799 г. назначен инспектором всей артиллерии, пожалован орденом Иоанна Иерусалимского с командорством, и наконец, 5 мая 1799 г. возведен в графское достоинство, причем на графском гербе его Павел собственноручно написал девиз: «Без лести предан».
Казалось, только что пережитая опала канула в прошлое без остатка. Но Аракчеев недолго продержался на этой высоте. 1 октября 1799 г. он вторично был отставлен от службы, на этот раз уже не за жестокость, а за ложь. В предшествующей главе я уже рассказал этот эпизод с ложным донесением Аракчеева государю относительно обстоятельств покражи из арсенала. Ложь была вызвана желанием прикрыть своего брата и избавить его от страшной ответственности за служебную небрежность. Всего хуже было то, что этой ложью Аракчеев ради спасения брата подвел под тяжелую кару ни в чем не повинного другого человека. На этот раз удаление Аракчеева от службы растянулось уже на три с половиною года. Павел так и не пожелал его видеть более. Лишь при Александре, и то далеко не сразу, Аракчеев возвращается к первенствующей роли в управлении с тем, чтобы сторицею вознаградить себя за это краткое вынужденное затворничество в своем Грузине.
Если Аракчееву не удалось окончательно укрепить за собою милостивого расположения Павла, зато он достиг за это время другой цели: он сумел стать необходимым человеком для Александра. Именно здесь, в условиях павловского режима, таились, по моему убеждению, первоначальные семена интимной близости этих двух людей, давшие впоследствии такой пышный цвет. Вся дальнейшая история отношений между Александром и Аракчеевым была предрешена и может быть объяснена обстоятельствами павловского времени.
Расположение Александра к Аракчееву не испытывало никаких ослаблений в течение всего царствования Павла. Обе опалы Аракчеева, несмотря на поводы, их вызвавшие, сопровождались изъявлениями горячей дружбы к Аракчееву со стороны Александра. Когда Аракчеев сидел в своем Грузине после самоубийства Лена, Александр писал ему: «Душевно бы желал тебя увидеть и сказать тебе изустно, что я такой же верный друг, как и прежде»; далее Александр просит Аракчеева не забывать своего друга и писать о себе, а также не пренебрегать заботами о своем здоровье. Письмо подписано: «Твой верный друг». То же повторилось и в 1799 г., когда Аракчеев, уличенный во лжи и предательстве неповинного человека, опять должен был удалиться в Грузино. Только что назвав Аракчеева за глаза «мерзавцем», Александр, однако, опять шлет ему письмо, наполненное уверениями в дружбе и преданности вместе с заявлениями о том, что он не верит в виновность своего друга. Откуда же такая несокрушимая дружба, как будто не вяжущаяся с заглазными отзывами Александра о личности Аракчеева?
Припомним положение Александра в царствование Павла. Несмотря на все старания Александра заслужить доверие отца и доказать ему свою проникновенность «гатчинским духом», Павел не переставал смотреть на старшего сына, прежде всего, как на «бабушкиного баловня», он считал необходимым иметь за Александром бдительный надзор; мнительные подозрения никогда не иссякали в душе Павла и при его исключительной раздражительности каждую минуту могли разгореться пожаром гневной страсти от любой ничтожной мелочи. Александру приходилось беспрерывно быть начеку, приходилось завоевывать свою безопасность напряженной до последних пределов служебной исполнительностью. А для удовлетворения требовательности Павла в этом отношении нужны были поистине гигантские усилия. Всего труднее было уследить за разными мелочами, между тем как ошибка в мелочах всего более могла воспламенить гнев Павла. Недаром печать мученичества лежала на лице Александра во все время царствования его отца. Одними собственными силами Александр не был бы в состоянии выдержать тягости этой службы, которая равнялась пытке. Здесь-то Аракчеев и взял на себя по отношению к Александру роль самоотверженного дядьки, прикрывающего молодого барчука от грозного отца. Рассказывая уже на склоне лет Мартосу различные эпизоды из своей жизни за время Павла, Аракчеев начертил, между прочим, любопытную картинку. Ежедневно в пять часов утра Павлу подносился рапорт о состоянии Петербурга, который должен был подписывать Александр в качестве военного губернатора столицы. Рапорт подносил Аракчеев, причем предполагалось, что цесаревич к этому времени уже давно на ногах, при исполнении своих обязанностей, которые и должны были ежедневно начинаться с подписания рапорта государю. На самом же деле Аракчеев приносил Александру для подписания рапорт, когда тот еще лежал в постели. Аракчеев входил в спальню цесаревича, супруга Александра Елизавета Алексеевна закрывалась с головой одеялом, а Александр начертывал свою подпись, не поднимаясь с постели. Аракчеев нес рапорт к императору и всегда докладывал последнему, что цесаревич уже встал и занимается делами[570].
До нас дошел от этого времени ряд писем Александра к Аракчееву, ярко рисующих, чем был тогда для Александра Аракчеев, в какой мере Александр нуждался в услугах последнего. В этих письмах Александр не скупится на постоянные изъявления дружеских чувств; говорит о том, что присутствие Аракчеева «заглаживает для него печаль разлуки с женою»; тревожится о здоровье своего друга; выражает нетерпение с ним увидаться и т. д. А вперемежку с этой лирикой встречаем такие пассажи: «Я получил бездну дел, из которых те, на которые я не знаю, какие делать решения, к тебе посылаю, почитая лучше спросить хорошего совета, нежели наделать вздору», и затем следуют 22 пункта, касающиеся различных служебных дел, перед которыми Александр становился в тупик с сознанием беспомощности[571]. В таких-то пассажах я и нахожу объяснительный ключ тому тяготению к Аракчееву, которое обнаруживал Александр в эти годы, закрывая глаза на все отталкивающие черты и возмутительные поступки своего друга и отворачивая слух от всеобщих горьких жалоб на его поведение. Основа связи Александра и Аракчеева в эпоху Павла заключалась в том, что Аракчеев делал за Александра то, что было нужно для угождения Павлу, для предупреждения всякого неудовольствия мнительного Павла на его старшего сына и наследника. Аракчеев подучивал войска, вверенные командованию Александра; рассматривал наиболее трудные служебные дела, по которым Александр должен был постановлять решения; вставал до света, чтобы избавить Александра от раннего вставания и т. п. Одним словом, Александр заслонялся Аракчеевым от отца, и для того-то, чтобы обеспечить себе это столь необходимое и надежное прикрытие, он всячески цеплялся за Аракчеева, расточал ему нежные признания в любви и дружбе и не хотел верить очевидным фактам, которые бросали тень на нравственную личность Аракчеева. Здесь было не ослепление личностью Аракчеева, а расчетливое использование его услуг в интересах самосохранения.
Во все последующее время Аракчеев остается жизненным спутником Александра. Но важно отметить, что в различные моменты александровского царствования этот спутник держится не в одинаковом расстоянии от своей планеты. По письмам Александра к Аракчееву можно заключить, что Александр просто не может отрешиться от непосредственного душевного влечения к Аракчееву, а между тем мы замечаем, что не на словах, а на деле Александр приближает к себе Аракчеева лишь в известные периоды и всегда именно в такие, когда он считает почему-либо особенно необходимым усилить давление власти на общество; наоборот, Аракчеев тотчас же отходит куда-то в тень, поступая временно в резерв, лишь только в текущей политике берут верх стремления сблизить власть с обществом путем проведения либеральных преобразований. Этими колебаниями в служебной карьере Аракчеева в царствование Александра, может быть, всего отчетливее обозначается кривая политического курса александровского правительства.
Не доказывает ли это обстоятельство, что и во все время своего царствования, так же как и в бытность свою наследником престола, Александр являлся в своих отношениях к Аракчееву не жертвою безотчетного увлечения личностью последнего, а, наоборот, господином, сознательно употреблявшим Аракчеева в качестве орудия для осуществления своих самостоятельных планов? Когда Александр был наследником, Аракчеев был нужен, чтобы заслониться им от отца; когда Александр начал царствовать, он приближал к себе Аракчеева каждый раз, когда считал необходимым заслониться им от своих подданных.
Два раза аракчеевская звезда в царствование Александра достигала зенита: в эпоху Тильзитского мира и в эпоху Священного союза. В промежутках между указанными моментами Аракчеев более или менее стушевывался, хотя никогда вполне не исчезал с политической сцены.
II
Очень любопытно, что Александр, взойдя на престол, вовсе не спешил с возвращением из опалы Аракчеева, которому незадолго перед тем он сам же описывал, как нетерпеливо ждет он свидания со своим другом. Целых два года по воцарении Александра Аракчеев продолжал числиться в отставке и жил в Грузине, напрасно ожидая призыва в Петербург. По-видимому, он знал, что это — лишь временная отсрочка возобновления его государственной деятельности, что он не столько в отставке, сколько в резерве. По крайней мере, когда в 1802 г. в его усадьбе была обнаружена покража 12 тысяч рублей, лежавших в грузинской церкви, и он написал письмо олонецкому губернатору с просьбою посодействовать открытию преступников, он, между прочим, счел уместным вставить в это письмо замечание: «Деятельность ваша в оном деле сделает незабвенный в России анекдот»[572].
Аракчеев был убежден уже в то время, что все, касающееся его личности, получит историческое значение. 27 апреля 1803 года Аракчеев, наконец, был вызван в Петербург и вскоре назначен вновь инспектором артиллерии. Любопытно отметить, что возвращение Аракчеева произвело удручающее впечатление на общество. Эйлер передает в своих воспоминаниях, что артиллеристы «интриговали, чтобы удержать от принятия в службу Аракчеева», но безуспешно[573]. Однако это возвращение не сопровождалось восстановлением Аракчеева во всей мере его прежнего значения. Хотя его личная близость к государю и давала себя знать, но все же политическая авансцена оставалась занятой другими людьми; то была эпоха так называемого «Неофициального комитета», и Аракчеев вращался преимущественно в специальной области своего артиллерийского ведомства. Тогда-то были им начаты важные преобразования артиллерии, высоко оцениваемые специалистами. Не ранее как через пять лет после вызова его в Петербург Александром, в его политической карьере совершается крупный поступательный шаг. 13 января 1808 года он назначается военным министром, и все показания современников согласны в том, что это назначение имело особый характер, совпадало с усилением и укреплением его политической роли.
Жозеф де Местр[574], отмечавший в это время в своих письмах главнейшие явления в политической жизни России, записывает в январе 1808 года: «Среди военной олигархии любимцев вдруг (курсив наш) вырос из земли, без всяких предварительных знамений, генерал Аракчеев… Он сделался военным министром и облечен неслыханною властью… Аракчеев имеет против себя лишь обеих императриц, графа Ливена[575], генерала Уварова[576], Толстых[577], словом все, что здесь имеет вес. Он все давит. Перед ним исчезли, как туман, самые заметные влияния. Один высокопоставленный военный человек говорил мне намедни, что дело может кончиться страшным ударом со стороны кого-либо из обиженных, но у русских слишком твердые правила, чтобы убивать министров»[578].
В этом любопытном сообщении Жозефа де Местра подчеркивается внезапность возвышения Аракчеева в 1808 г., крупные размеры приобретенного им политического влияния и вызванное всем этим озлобление сановных вельмож, оттесненных Аракчеевым на второй план. По-видимому, только первая черта подлежит оговорке. Возвышение Аракчеева не было внезапным. В сущности, оно началось еще в 1807 году. 27 июня 1807 г. Аракчеев был произведен в генералы от артиллерии в награду за превосходное состояние артиллерии, обнаружившееся во время военных действий, как прямо было указано в рескрипте; а в декабре того же года состоялся указ, ставивший Аракчеева в совершенно исключительное положение; этот указ гласил: «Объявленные генералом от артиллерии графом Аракчеевым Высочайшие повеления считать именными Нашими указами»; тогда же Аракчеев был назначен присутствовать в военной коллегии и артиллерийской ее экспедиции[579]. Таким образом, назначение Аракчеева в 1808 г. военным министром не носило характера экспромта, но явилось лишь завершительным актом его быстрых служебных повышений, начавшихся тотчас после Тильзита. Эти служебные успехи Аракчеева, как верно отметил де Местр, вызвали страшное озлобление сановных сфер. Александр сам не скрывал того, что он возвышает Аракчеева по причине своего крайнего недовольства всеми другими начальниками, которых государь винил в неудачах только что протекшей кампании. Аракчеев явно и открыто садился на шею другим представителям правящей бюрократии: его успех обозначал их опалу. И он, со своей стороны, не думал маскировать или смягчать этого значения своего возвышения. Принимая военное министерство, он потребовал, чтобы генерал-адъютант гр. Ливен был отстранен от доклада по военным делам и чтобы впредь сами главнокомандующие принимали приказания военного министра. Государь изъявил согласие на все эти требования. У нас имеется ряд совершенно определенных указаний на то, что это возвышение Аракчеева было ответом на распространившееся в различных слоях общества возбужденное недовольство правительственной политикой. Тильзитский мир и союз с Наполеоном был крайне непопулярен в русском обществе. В нем усматривали акт, унизительный для чувства национального достоинства; для иных союз с Наполеоном являлся своего рода религиозным соблазном: ведь Святейший Синод в послании, разосланном перед вступлением России в коалицию с Пруссией против Наполеона, усердно втолковывал населению, что Наполеон — сам антихрист, и борьба с ним есть лучшая заслуга перед Господом. И вдруг теперь оказалось, что русский император, потерпев от этого антихриста поражение на поле брани, не только заключил с ним мир, но даже вступил с ним в союз. Было от чего прийти в смущение простодушным читателям синодских посланий! Наконец, условия Тильзитского соглашения тяжело отзывались на экономическом положении населения. Ведь Тильзитский мир сопровождался обязательным присоединением России к континентальной системе. Результатом этого были: общая дороговизна, расстройство торговых оборотов, серьезные убытки, падавшие как на купечество, так и на землевладельческое дворянство, которое только что начало тогда входить в роль поставщиков на рынок хлебного товара. Так, патриотические чувства, религиозные страхи, экономические-затруднения — все соединилось для того, чтобы привести общество в состояние брожения, вызванного глубоким недовольством существующим положением вещей. Тогда-то Александр снова почувствовал нужду в Аракчееве, как в человеке, за которого он привык укрываться в тяжелые, критические минуты. Жозеф де Местр прямо говорит в цитированной уже мною выше заметке: «В настоящую минуту порядок может быть восстановлен только человеком подобного закала; остается объяснить, как Его Величество решился завести себе визиря, ничто не может быть противнее его характеру и его системе, основное его правило состояло в том, чтобы каждому из своих помощников уделять лишь ограниченную долю доверия; полагаю, что он захотел поставить рядом с собою пугало пострашнее по причте внутреннего брожения, здесь господствующего» (курсив мой. — А.К.). Так писал Жозеф де Местр. Русские наблюдатели тогдашних событий также определенно ставили возвышение Аракчеева в связи с тем взаимным охлаждением, которое произошло в то время между Александром и обществом.
Распространные в тогдашнем обществе толки отчетливо отразилось в записках Энгельгардта[580], который именно подчеркивал то обстоятельство, что возвышение Аракчеева было подготовлено неудачами России в ее первых выступлениях против Наполеона. «Александр, — пишет Энгельгардт, — до того кроткий, доверчивый, ласковый, теперь стал подозрителен, строг, неприступен и не терпел слова правды. К одному только Аракчееву имел он полную доверенность, который по жестокому своему свойству приводил государя в гнев и тем отвлек от него людей, истинно любящих его и Россию». Распорядительность, проявленная Аракчеевым во время финляндской кампании 1808–1809 гг., еще более утвердила блеск его возвышения. Осуществление плана государя о переходе русских войск в Швецищ по льду Ботнического залива приписывали всецело железной настойчивости Аракчеева, который отправился к армии и, не желая слушать никаких возражений, требовал немедленного исполнения этого плана. В обществе ходили тогда слухи, что Аракчееву будет присвоен титул «князя Финского»[581]. Эти слухи оказались неосновательными, но Аракчеев получил другие, неслыханные дотоле почести. Сначала Александр пожаловал Аракчееву орден Андрея Первозванного — тот самый, который государь надевал на себя, но Аракчеев, по принятому им обыкновению, упросил государя взять этот орден обратно. Тогда Александр отдал повеление, чтобы войска отдавали Аракчееву следуемые ему почести даже и в местах Высочайшего пребывания Императорского Величества.
И, однако, все это не было еще окончательным утверждением безраздельного аракчеевского фавора. Весьма знаменательно, что одновременно с возвышением Аракчеева в эпоху Тильзитского союза всходила звезда Сперанского. Александр снова становился в свою любимую позу между двух противоположных течений. Если в первые годы царствования Александр искусно лавировал между «Неофициальным комитетом» и партией старых сенаторов, то теперь, после Тильзита, он поставил себе задачей обеспечить равновесие внутреннего политического курса, возложив на одну чашку весов государственной политики влияние Аракчеева, а на другую — влияние Сперанского. Он решил, по-видимому, сделать попытку одновременного осуществления и «успокоения» и «реформ» и для этой цели считал наиболее целесообразным поделить государственную работу между двумя главными своими сотрудниками: на Аракчеева возлагалась миссия «успокоения» общего брожения умов мерами строгости, а на долю Сперанского доставалась подготовка коренной реформы государственного строя России. Александр, по-видимому, полагал, что оба его сотрудника могут делать каждый свое дело независимо друг от друга. Но такое разделение претило тщеславным стремлениям Аракчеева к безраздельному господству у ступеней трона. И на этой почве между Александром и его давнишним пестуном скоро пробежала тень. Аракчеев бесился по случаю того, что его не посвящали в те таинственные работы, которые были поручены Сперанскому. А работы Сперанского были действительно окружены непроницаемой таинственностью. В ноябре и декабре 1809 г. Сперанский заканчивал проект «Образования Государственного Совета». Государь в это время ездил в Тверь и затем в Москву. Сперанский высылал Александру свою работу отдельными тетрадями, причем тетради передавались в конвертах без адреса, за какою-то вымышленною печатью, камердинеру Мельникову, который затем уже и надписывал их государю в Москву. «Мельников — важный человек!» — злобно иронизировал Аракчеев по этому поводу. Проект показали затем гр. Салтыкову, кн. Лопухину и гр. Кочубею[582] и, наконец, дали взглянуть на него гр. Румянцеву[583], государственному канцлеру. Аракчеев был оставлен в стороне. Он выходил из себя и уже собирался удалиться в Грузино. Наконец, почти уже накануне обнародования реформы, Александр обещал Аракчееву прочесть проект и ему. Был уже назначен для этого день, и Аракчеев дожидался, что его позовут во дворец. Вдруг ему доложили, что приехал Сперанский. Оказалось, что Сперанский привез с собою лишь оглавление проекта с тем, чтобы на словах рассказать существо новой организации. Аракчеев принял это как новое оскорбление, отвечал Сперанскому грубостью, отказался что-либо слушать и тотчас уехал в Грузино, послав государю письмо об отставке. «Я еще не видывал Аракчеева в таком бешенстве», — говорит в своих записках Марченко, вошедший к Аракчееву тотчас после отъезда Сперанского[584]. Три дня прошло после этого в беспрестанной пересылки фельдъегерей между Петербургом и Грузиным.
Нам известны теперь письма, которыми обменялись в этот момент Аракчеев и Александр. Аракчеев принял тон «уничижения паче гордости», ссылался на недостаточность своего образования, называл себя только «ремесленником» в военном деле и, указывая на то, что при вновь заводимых учреждениях потребуются более, нежели он, просвещенные министры, просился в отставку[585]. Александр начал свой ответ прямо с заявления, что все приводимые Аракчеевым мотивы просьбы об отставке он не может принять за настоящие. Затем Александр очень удачно попадает в самое слабое место Аракчеева, подчеркивая, что обидчивость Аракчеева в данном случае идет вразрез с его постоянными уверениями в безграничной и беззаветной личной преданности его Александру, и что он предпочитает пользе империи свое мнимо затронутое честолюбие. Письмо заканчивалось словами: «При первом свидании нашем вы мне решительно объявите, могу ли я в вас видеть того же графа Аракчеева, на привязанность которого, я думал, что твердо мог надеяться, или необходимо мне будет заняться выбором нового военного министра»[586].
Размолвка скоро была улажена. Александр предоставил самому Аракчееву решить, желает ли он и впредь оставаться военным министром или при новом образовании Государственного Совета предпочтет принять пост председателя департамента военных дел в Государственном Совете. Аракчеев отвечал: «Лучше самому быть дядькой, чем иметь над собою дядьку», и сел на председательское место в департаменте Государственного Совета, уступив военное министерство Барклаю де Толли[587]. Александр осыпал Аракчеева милостями и ласками, как бы стараясь изгладить последние следы огорчения в душе Аракчеева от недавней размолвки. Летом того же года (в июле 1810 г.) Александр впервые посетил Грузино, провел там целый день и по возвращении в Петербург подписал рескрипт на имя Аракчеева, наполненный самыми лестными похвалами деятельности графа по устройству «доброго сельского хозяйства», которое есть «первое основание хозяйства государственного»[588].
В непродолжительном времени судьба подготовила Аракчееву новый триумф. Дни господства его соперника по приближенности к государю, Сперанского, были сочтены. До сих пор не найдено документальных следов прямого участия Аракчеева в том комплоте, который работал над свержением Сперанского. По-видимому, Аракчеев не принадлежал к деятельным членам этого комплота, но, несомненно, падение Сперанского лило воду на колеса его мельницы. Впрочем, из позднейших фактов мы знаем, что Аракчеев отлично умел руководить подобными комплотами из-за кулис, не выставляясь на сцену. Как бы то ни было, нельзя обойти вниманием отмеченный еще Погодиным знаменательный факт: подлинный оригинал записки Карамзина «О древней и новой России»[589], сыгравшей решающую роль в падении Сперанского, с собственноручной надписью вел. княг. Екатерины Павловны: «а mon frère seul»[590], был найден в бумагах Аракчеева в Грузине[591]. Это указывает, во всяком случае, на то, что Александр сносился с Аракчеевым при обсуждении участи Сперанского. С другой стороны, мы имеем документ, свидетельствующий о том, что Аракчеев отделял себя от тех кружков чиновной знати, которые пожинали непосредственные плоды падения Сперанского. Это — письмо Аракчеева к брату Петру от 3 апреля 1812 г., в котором находим следующее место, важное для интересующего нас вопроса: «…теперь приступаю к описанию, что, я думаю, известно вам уже, о выезде из Петербурга господина Сперанского и господина Магницкого[592]. На их счет много здесь говорят нехорошего, следовательно, если это так, то они и заслужили свою нынешнюю участь, но вместо оных, теперь партия знатных наших господ сделалась уже чрезвычайно сильна, состоящая из графов Салтыковых, Гурьевых, Толстых и Голицыных. Следовательно, я, не быв с первым в связи, был оставлен без дела, а сими новыми патриотами равномерно не любим, также буду без дела и без доверенности. Сие все меня бы не беспокоило, ибо я уже ничего не хочу, кроме уединения и спокойствия, и предоставляю всем вышеописанным вертеть и делать все то, что к их пользам. Но беспокоит меня то, что при всем оном положении велят мне еще ехать и быть в армии без пользы, а, как кажется, только пугалом мирским, и я уверен, что приятели мои употребят меня при первом возможном случае там, где иметь я буду верный способ потерять жизнь, к чему я и должен быть готов…». Аракчеев подписался под этим письмом так: «Невеселый твой брат и верный друг граф Аракчеев»[593]. Сопоставляя все эти, пока еще отрывочные и скудные данные, можно, кажется, заключить, что Аракчеев в момент падения Сперанского был сам еще не настолько силен, чтобы сыграть видную роль в ниспровержении своего врага, хотя, конечно, он не упустил случая и со своей стороны повредить ему, насколько мог. Опасения, высказанные Аракчеевым в письме к брату относительно грозящей ему печальной участи, должны быть отнесены насчет мнительности и даже трусливости его характера. На самом деле падение Сперанского и открывшаяся вслед за тем война развертывали перед Аракчеевым заманчивые перспективы. Родовитая, сановная знать могла, сколько ей было угодно, коситься на гатчинского выскочку. На его стороне было все его прошлое. Александр, охотно отдаляясь от Аракчеева, пока все шло гладко и ровно, издавна привык цепляться за этого человека, как за пестуна и дядьку, лишь только почва начинала колебаться под ногами и становилось жутко от возможных внезапных опасностей. Война двенадцатого года, бывшая для Александра такой ставкой, на которую человек отваживается только однажды в течение жизни и которая равносильна дилемме «быть или не быть», выдвигала Аракчеева на первый план, возвышала его над всеми партиями и кружками как личного телохранителя царя. И Аракчеев отлично понял эту позицию, которая теперь сама давалась ему в руки как исходная точка дальнейшего возвышения его карьеры. При открытии военных действий в кампанию 1812 года Шишков[594] и Балашов[595] очень хлопотали о том, чтобы уговорить Александра оставить армию и поспешить в Москву. Они составили письмо к государю с увещанием последовать этому совету, и просили Аракчеева присоединиться к их настояниям, говоря, что это — единственное средство спасти отечество. И Аракчеев произнес тогда характерные слова: «Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь долее при армии?»[596]. В этих словах — ключ ко всей последующей истории возвышения Аракчеева. Он возвышался и господствовал не как представитель какой-нибудь партии, программы или того или иного общественного слоя, а как личный телохранитель царя. В этом была его сила, и только этого поста он не хотел разделить ни с кем. Он мог работать и над военными поселениями, и над проектом освобождения крестьян, смотря по тому, что в данный момент было приятно государю. Он мог менять направление своей деятельности в какой угодно степени, но он не мог с этого момента примириться лишь с одним: чтобы у государя явилась мысль, что кто-нибудь другой может выполнять функции телохранителя и личного пестуна лучше или хотя бы даже не хуже, нежели Аракчеев. Этого Аракчеев допустить не мог, ибо он отлично понимал, что именно здесь — единственная опора всего великолепного здания его безграничного всевластия.
III
Войны 1812–1814 годов окончательно скрепили узы, связывавшие Александра и Аракчеева. По свидетельству самого Аракчеева, все распоряжения государя во время Отечественной войны проходили через его руки. В те тяжелые дни, когда Москва находилась во власти Наполеона, Александр уединился от всех и допускал к себе только одного Аракчеева, с которым и занимался делами, — так свидетельствует Михайловский-Данилевский. Весь поход 1813–1814 гг. они провели, не разлучаясь. В Париже, уклоняясь от восторженных оваций населения, Александр решил говеть, и вместе с ним говел и приобщался святых тайн и Аракчеев. Они расстались лишь при отъезде Александра в Англию, куда Аракчеев не последовал, получив отпуск «на все то время, какое нужно будет для поправления его здоровья». Перед этой разлукой Александр и Аракчеев обменялись письмами. В письме Александра говорилось, что он ни к кому не питает такой доверенности, как к Аракчееву, и чувствует себя до крайности огорченным предстоящей с ним разлукой. В ответ на это Аракчеев заверяет Александра в своей беспредельной любви к нему и утверждает, что доверенность государя будет им употребляться не для получения наград и доходов, а для доведения до Высочайшего сведения несчастий, тягостей и обид в любезном отечестве. Изобразив себя в этом письме чем-то вроде маркиза Позы, Аракчеев отправился в Ахен на лечение. Александр, возвращаясь из Англии в Брухзал, где лечилась имп. Елизавета Алексеевна, вызвал к себе по дороге Аракчеева в Кельн для свидания. После заграничного лечения Аракчеев еще некоторое время отдыхал у себя в Грузино, и, наконец, 6 августа 1814 г. был приглашен Александром в Петербург. Исключительное и беспримерное главенство Аракчеева по всем отраслям государственного управления было теперь окончательно закреплено. Александр уже не мог обходиться без Аракчеева, и во время разлуки, например, при поездке своей на Венский конгресс[597], он все время посылал с дороги дружеские записочки оставшемуся в Петербурге Аракчееву[598].
«Аракчеевщина» окончательно вступила в свои права. «У нас теперь только один вельможа — граф Аракчеев», — таков был отзыв Карамзина. «Граф Аракчеев есть душа всех дел», — сказал об этом же времени гр. Ростопчин. Аракчеев стал единственным докладчиком государю всех дел, не исключая даже духовных. Все представления министров, все мнения Государственного Совета восходили к государю не иначе, как через руки Аракчеева. Предварительная явка на поклон к Аракчееву сделалась необходимым шагом для всякого, кто хотел чего-нибудь достигнуть. Даже Карамзин, незадолго до этого прогремевший в высших сферах своей «Запиской о древней и новой России», приехав в 1816 г. в Петербург для представления государю восьми томов своей «Истории», лишь ценою поклона Аракчееву добился высочайшей аудиенции. Он долго дожидался этой аудиенции. Императрицы, великие князья осыпали комплиментами его труд, приглашали к себе историографа на чтение отрывков из «Истории», но вопрос относительно высочайшей аудиенции все оставался открытым. Наконец, Карамзину объяснили, в чем кроется секрет успеха. Историограф надел мундир и поехал-таки к Аракчееву. Аракчеев был милостив и даже сказал Карамзину: «Если бы я был моложе, то стал бы у вас учиться; теперь уже поздно». Тотчас после этого визита Карамзин получил и высочайшую аудиенцию, и утверждение всех его желаний относительно печатания его труда[599].
Новые назначения на государственные посты становятся исключительно делом рук Аракчеева. Он начинает по своему усмотрению расставлять по министерствам свои креатуры, как шашки на шахматной доске. По указанию Аракчеева в 1817 г. министр юстиции Трощинский[600] заменяется кн. Лобановым-Ростовским[601], про которого Вигель в своих записках выразился так: «Не понимаю, как решился государь вручить весы правосудия разъяренной обезьяне, которая кусать могла только невпопад»[602]. Аракчеев же поддерживал сибирского генерал-губернатора Пестеля, этого ужасного правителя Сибири, ознаменовавшего свое правление неслыханными злоупотреблениями и страшной жестокостью. Полковник Шварц[603], жестокое изуверство которого вызвало знаменитый бунт Семеновского полка[604], был ставленником Аракчеева. По его же указаниям кн. Волконский был заменен Дибичем[605], гр. Кочубей — министр внутренних дел — приятелем Аракчеева, Кампенгаузеном[606], у которого Аракчеев занимал деньги; на пост военного министра назначен Татищев[607], а на пост министра финансов вместо Гурьева[608] — гр. Канкрин[609]. Только это последнее назначение должно быть признано полезным для государства, ибо в лице Канкрина во главе управления финансами становился человек, при всех своих недостатках, целою головой превышавший обычный уровень тогдашних министерьяблей по образованности, опытности и серьезному отношению к своим государственным обязанностям. Но это было случайное счастливое исключение, помимо которого все остальные креатуры Аракчеева отличались соединением посредственности с особенною способностью возбуждать против своей деятельности резкое и притом справедливое неудовольствие общества.
Между тем сам Александр оказывал в это время Аракчееву необыкновенные знаки расположения и милости. Государь все чаще приезжает в Грузино. Со времени своего первого посещения Грузина 7 июля 1810 г. Александр был там затем не менее 11 раз[610].
Каждое из этих посещений сопровождалось обменом письмами между Александром и Аракчеевым, наполненными красноречивыми признаниями во взаимной любви[611]. Отправляясь в частные свои поездки по России, государь нередко берет с собою Аракчеева и, видимо, особенно старается о том, чтобы наглядно показать населению, как высоко стоит значение Аракчеева в государстве.
В 1816 г., совершая такую поездку, государь обыкновенно ехал в коляске с кн. Волконским, но перед въездом в города Волконский должен был уступать свое место в коляске государя Аракчееву. В 1818 г. Аракчеев присоединился к кортежу путешествовавшего государя уже среди дороги, в Кишиневе, и Михайловский-Данилевский отметил в своем дневнике, как государь, обрадованный этим свиданием, весь день ехал с графом в одной коляске. Михайловский-Данилевский видел, как государь несколько раз заботливо оправлял своими руками плащ Аракчеева.
Для всех было ясно, что фавор Аракчеева достиг зенита и уже ничем не может быть поколеблен. «Со временем, — писал в это время кн. Волконский Закревскому, — государь узнает все неистовства злодея (так всегда назывался Аракчеев в переписке между названными лицами и другими членами их кружка. — А. К.), коих честному человеку переносить нельзя, открыть же их нет возможности по непонятному ослеплению его к нему. Между тем растеряет он много честных людей, восстановится прежнее лихоимство и беспорядок в ходе дела»[612].
И действительно с этого времени на весь остаток царствования Александра господство Аракчеева в делах управления делается безусловным. Он держит себя всемогущим визирем и устраняет всех, кто думал стать на его пути.
Грузино становится целью беспрерывных паломничеств. Министры скачут из Петербурга в Грузино с докладами. Масса всевозможного люда тянется туда на поклон, за подачкой или просто с целью изъявления восторга и восхищения перед великолепием Грузина, дабы обратить на себя внимание всесильного временщика на будущее время. Чтобы получить что-нибудь в Петербурге, необходимо стало съездить в Грузино и затем излить на письме свои восторжественные чувства от всего там виденного. Типичным образчиком таких панегириков может служить произведение Магницкого «Сон в Грузине» (Русский Архив, 1863 г. № 12), посланное им Аракчееву на другой день после посещения Грузина: грубо-аляповатое, сусальное восхваление красот и диковинок аракчеевской резиденции.
В составленном Дубровиным[613] сборнике писем разных лиц, дошедших до нас от времени царствования Александра I, можно встретить ряд других, подобных же расписок посетителей Грузина в своем искательстве и угодничестве. Прошел по этой дорожке и Сперанский, не миновал ее вполне и Карамзин, также посетивший Грузино, хотя, впрочем, и не оправдавший надежд на то, что и его красноречивое перо отдаст дань общей повинности восторгаться Грузиным и устройством военных поселений. Карамзин был в Грузине и объездил с Аракчеевым поселения по желанию самого государя, который надеялся, что после этого Карамзин изменит свое отрицательное отношение к военным поселениям. Но Карамзин остался при своем и предпочел промолчать. Он писал к Дмитриеву[614] об этой поездке: «Зная милостивое расположение ко мне государя, граф Аракчеев угостил меня с ласкою необыкновенною. Поселения удивительны во многих отношениях… но русский путешественник уже стар и ленив на описания»[615].
Спрашивается теперь, на что именно опиралось это окончательное и бесповоротное утверждение фавора Аракчеева в последние годы царствования Александра I? Объясняли это тем, что в эти годы Александр, распростившись с либеральными увлечениями молодости, усвоил реакционную политику, почему и должны были сойти со сцены все прежние сотрудники. Такое объяснение, не будучи неправильным, страдает неполнотой: оно не разрешает вопроса, почему на смену прежним сотрудникам был выдвинут именно Аракчеев, а не кто-либо иной.
Указывалось не однажды на то, что Александр этой эпохи, погруженный в меланхолию, истерзанный внутренними душевными тревогами, увлеченный мистикой, чувствовал потребность уединиться от докучливых впечатлений окружающей жизни и ухватился за Аракчеева, как за человека, на которого он мог свалить всю тяжесть текущего управления, чтобы самому свободно предаваться переживанию своей личной душевной драмы. Факты не подтверждают такого заключения. Возвышая Аракчеева, Александр вовсе сам не отстранялся от текущей государственной работы. Мы уже знаем, что в душе Александра всякая, в том числе и мистическая, фантастика всегда уживалась со способностью очень реалистически рассматривать различные текущие вопросы и жизненные случаи. Мы имеем и прямые указания на то, что Александр вплоть до кончины принимал деятельное участие в текущем управлении и очень много сам, непосредственно, работал и писал.
Клейнмихель, разбиравший по смерти Аракчеева его бумаги, открыл, что черновики многих повелений и других бумаг, подписанных Аракчеевым, были составлены собственноручно Александром[616].
Значит, Александр возвысил Аракчеева не как своего заместителя в делах текущего управления, а как своего сподручного помощника, как наиболее надежного исполнителя тех дел, которые получали теперь в глазах Александра первостепенную важность. Какие же это были дела?
Здесь приходится прежде всего повторить то, что было сказано выше относительно возвышения Аракчеева в 1808–1809 гг. Теперь, как и тогда, решающим моментом в возвышении Аракчеева явился страх Александра перед опасностью общественного брожения. «Только Аракчеев сможет сдавить своей железной рукой порывы общественного недовольства», — вот к чему сводилась вера Александра в Аракчеева, и вот почему эта вера вспыхивала с особенной силой каждый раз, когда Александру начинало чудиться общественное возмущение. В 1808–1809 гг. Александр ухватился за Аракчеева, испугавшись широко разлившегося в обществе недовольства последствиями Тильзитского соглашения. Теперь, после Отечественной войны и Венского конгресса, в эпоху Священного союза, Александру везде — и на Западе, и у себя дома — чудились призраки заговоров и возмущений, в любом событии он готов был чувствовать следы карбонарского яда, все колебалось и сотрясалось в его глазах, и тем выше всходила звезда Аракчеева, как испытанного и признанного защитника от любой опасности, за которого Александр привык прятаться от всякой грозы, будь то гроза отцовского гнева, будь то гроза политического возмущения подданных. Эти тревоги, возвышавшие фавор Аракчеева, обвеяли душу Александра тотчас по окончании наполеоновских войн. Они питались бурными событиями на западе Европы, но Александр все более сживался с мыслью, что эпидемия карбонаризма не знает преград, что перед ней бессильны пограничные барьеры, что это не местное, а общественное поветрие, от действия которого не ускользнет и Россия.
Он уже заранее, независимо от фактов, готов был истолковать любое происшествие как подтверждение того, что и в России под государственное здание подведена пороховая мина карбонаризма. Весть о возмущении Семеновского полка упала на его душу, как на давно готовую почву. Теперь уже опровергнута старая легенда о том, что Александр взглянул на семеновскую историю, как на политический заговор, по наущению Меттерниха. Нет, он тотчас же, по собственному решению пришел к мысли, что это и есть давно уже ожидаемое обнаружение гнездящейся и в России заразы политического вольнодумства. Напротив, Меттерних держался иного мнения и не склонен был приписывать семеновскую историю политической пропаганде. Петербургские сановники, имевшие возможность близко знать данные произведенного расследования, в один голос отрицали политическую подкладку у этого происшествия. В этом смысле были составлены донесения Васильчикова государю. Закревский в письме к Волконскому, хотя и упоминал о распространении в гвардии духа критики и свободных суждений, однако сейчас же прибавлял: «Впрочем, будьте уверены, почтеннейший князь, что происшествие, в Семеновском полку бывшее, совершенно не имеет никаких побочных причин, как только единственно ненависть к Шварцу»[617].
Один только Аракчеев, сам выдвинувший Шварца, поспешил подтвердить Александру справедливость его предположений о политической подкладке семеновской истории. Александр писал Аракчееву: «Никто на свете меня не убедит, что сие происшествие было вымыслено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он был всегда за хорошего и исправного офицера и командовал с честью полком. Отчего вдруг сделаться ему варваром? По моему убеждению, тут кроются другие причины… тут было внушение чуждое, не военное. Вопрос возникает — какое же? Сие трудно решить. Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которые по доказательствам, которые мы имеем, все в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау[618]. Цель возмущения, кажется, была испугать…»[619]. Аракчеев в ответ на это письмо поддакивает государю: «Думаю так, — писал он, — что сия их работа есть пробная и должно быть осторожным, дабы еще не случилось чего подобного»[620].
Вот эта-то боязнь перед скрытой крамолой и утвердила Александра в решении отдать Россию под диктатуру Аракчеева. Разница с 1808–1809 гг. заключалась в том, что в то время в планы государя входило одновременно подтянуть общество строгостью и подготовить серьезные преобразования, которые удовлетворили бы общественные желания. Потому тогда шло параллельное возвышение и Аракчеева и Сперанского. Теперь у правительства стали на первый плац оборонительные задачи, и Аракчеев оказался единственным всемогущим человеком момента.
Творческие стремления Александра сосредоточились теперь лишь на осуществлении его несчастного замысла о заведении военных поселений. И Аракчеев, твердо решив ни с кем, более не делить своего первенствующего положения, всецело взял на себя дело военных поселений, которому он сам не сочувствовал, против которого первоначально пытался возражать. Это было второе звено, крепко спаявшее теперь Аракчеева с Александром. Я уже говорил в своем месте о том, как мало, в сущности, заботился Аракчеев о действительном благосостоянии военных поселений, в возможность которого он и не верил. Зато он не останавливался ни перед чем, ни перед какими жестокостями, ни перед какими изнурительными для поселенцев экспериментами для того, чтобы довести до совершенства внешний показной блеск и лоск этих поселений, тешивший государя. Один из мемуаристов очень метко сказал, что Аракчеев смотрел на военные поселения как на любимую игрушку Александра, и, руководимый верным расчетом, направлял все силы на то, чтобы игрушка блестела возможно ярче. Достаточно прочитать письма, которыми обменивались Александр и Аракчеев в течение последних семи-восьми лет александровского царствования, чтобы понять, какую роль сыграли военные поселения в истории их взаимных отношений[621].
За указанное время нет почти ни одного письма в этой переписке, в котором не встречалось бы длинных пассажей все об этом предмете. И замечательно, что оба корреспондента упорно твердят при этом одно и то же, чуть ли не буквально повторяя одинаковые фразы и выражения из письма к письму. Как будто без конца восхвалять военные поселения и умиляться над благодетельностью этой меры стало для них такой же потребностью, как для влюбленных — неустанно твердить о любви, не скучая однообразием своих уверений. В каждом письме Аракчеев рисует идиллию райского блаженства, в котором утопают военные поселения.
Любопытно следить при этом, как старается Аракчеев ввести в свой коряво-топорный слог умилительные нотки. В то время, как поселенные солдаты и крестьяне звали Аракчеева людоедом и проливали кровавые слезы над своим положением, он писал Александру, что не налюбуется тем, как обмундированные дети, окончив работы, спешат умыться, вычиститься, и, подтянув свои платья, гуляют кучами из деревни в деревню и при встречах сами с радостью становятся во фрунт и снимают шапки. Точь-в-точь из какой-нибудь статьи г. Меньшикова «о потешных». «Крестьянам, — добавляет Аракчеев, — главное полюбилось, что дети их все почти в один час были одеты в мундиры».
И в ответ на эти письма Александр поет хвалу своему другу и в нежных выражениях расточает свою благодарность.
Бывало, впрочем, что неумолимая жизнь вносила разнообразие в стереотипную монотонность этих излияний. Порою наступали события, ввиду которых даже Аракчееву становилось уже невозможным тянуть о военных поселениях идиллическую канитель и приходилось отписываться на иные темы. В поселениях вспыхивали временами открытые возмущения, которые Аракчееву приходилось подавлять драконовскими мерами. Нужно было докладывать об этом государю после уверений в том, что в поселениях все идет как по маслу. И вот Аракчеев старается в этих случаях сыграть на религиозной струне Александра. В 1819 г. вспыхнул серьезный бунт в Чугуевском военном поселении. Аракчеев, учинив жестокую, кровавую расправу над мятежниками, доносил затем государю (Александр в это время путешествовал по Финляндии), что он перед тем, как приступить к мерам строгости, долго призывал на помощь всемогущего Бога и размышлял, на что решиться: с одной стороны, писал он, я видел, что требуется скорое действие, с другой — «как христианин, останавливался в собственном действии, полагая, что оное, может быть, по несовершенству человеческого творения, признаться может строгим или мщением за покушение на мою жизнь». Из дальнейшего содержания письма оказывалось, что результатом этих философически-религиозных размышлений явилось присуждение виновных к прогнанию сквозь строй через тысячу человек по 12 раз. Что это означало, видно из того, что Аракчеев не счел возможным умолчать в особой приписке, в виде отдельного частного письма, приложенного к формальному донесению, что «несколько преступников после наказания, законом определенного, и умерли», «и я, — добавил Аракчеев, — от всего оного начинаю уставать»[622]. У нас имеется ответ Александра на это донесение. После всегдашних уверений в любви и дружбе к Аракчееву, Александр «искренно, от чистого сердца» благодарит своего друга за понесенные им труды при столь тяжелых происшествиях и при этом замечает: «Мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была терпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился». Мне вспоминается одно письмо Петра Великого к князю-кесарю Ромодановскому[623], который, стоя во главе Преображенского приказа, выдавался зверской расправой с осужденными. Петр, как известно, сам был тяжел на руку, и не одна — не только простонародная, но и сановная — русская спина испытала на себе увесистость его дубинки. Но получив известие о неистовых жестокостях своего фаворита Ромодановского, он в гневе написал этому Аракчееву начала XVIII столетия: «Зверь! Долго ли тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою[624]. Быть от него роже драной».
Александр, в противоположность Петру, на всех сиял кроткой улыбкой милости. Но, получая известия о расправе Аракчеева с поселенцами, он находил в себе сожаления лишь об огорчениях «чувствительной» души… самого палача.
Казалось, таким образом, что Аракчеев мог быть спокоен на счет устойчивости достигнутого им теперь положения. Но он не хотел терпеть даже и тени какого-либо соперничества, какого-либо раздвоения симпатий Александра между ним и кем-либо другим. Жертвами его нетерпимости в этом отношении последовательно пали кн. Волконский и кн. Голицын[625]. Аракчеев ненавидел кн. Волконского, который стоял между ним и государем, как ближайший спутник государя во всех его разъездах, как его наиболее интимный докладчик и собеседник. Аракчеев давно уже держал наготове против этого человека отравленную стрелу. Теперь пришла пора спустить ее с тетивы. В 1824 г. Аракчеев свалил Волконского, воспользовавшись затруднениями при составлении государственной бюджетной росписи. Волконскому было поручено сократить смету военного министерства. Он предложил к сокращению 800000 руб. Аракчеев сейчас же представил проект сокращений на 18 миллионов руб., и это решило отставку Волконского, конечно, уже ранее исподволь подготовленную.
Вместо него начальником штаба Его Величества был назначен по указанию Аракчеева — Дибич.
Сложнее обстояло дело с низложением кн. Голицына. Очень прочные узы связывали кн. Голицына с Александром: личная дружба со времени младенчества и общее увлечение мистицизмом в зрелые годы. Есть указания на то, что именно Голицын своим влиянием окончательно закрепил в душе Александра влечение к мистике. Александр сам рассказывал квакерам Мобиллье и Аллену, что Голицын в эпоху тяжелых испытаний 1812 года первый внушил ему мысль читать Библию. Вскоре Голицын стал во главе министерства народного просвещения и духовных исповеданий и явился главным организатором библейских обществ в России. Это был предмет не менее близкий сердцу Александра, чем военные поселения. Значительность роли Голицына в это время видна хотя бы уже из того, что названные выше квакеры, посетив Петербург в 1818 г., получили такое впечатление, что Голицын был «первым министром». Аракчеев имел основание для тревоги, ибо делить влияние с Голицыным он не желал, а выбор между тем и другим со стороны Александра зависел от того, какой интерес в душе Александра окажется сильнее: к библейским обществам или к военным поселениям?
Борьба между Аракчеевым и Голицыным была неминуема, и она разразилась с чрезвычайной силой. Аракчеев одержал полную победу, но для этого окончательного своего триумфа ему пришлось пустить в дело сложные и настойчивые усилия. Весь план кампании был построен на том, чтобы опорочить мистическое движение с точки зрения политической благонадежности, убедив государя, что библейские общества и другие предприятия Голицына по части духовного просвещения есть та же революция, только прикрытая религиозным флагом. Для этой цели составился целый комплот, душою которого был Аракчеев, не выходивший, правда, на авансцену борьбы, но настойчиво руководивший ею из-за кулис. Из кого состоял комплот?
Тут мы встречаем ряд очень знакомых фигур, типичных для реакционной клики всех эпох, и между ними на первом плане: юркого ренегата в чиновничьем фраке и прикрытого духовной рясой невежественного и дерзкого изувера, опирающегося на поддержку великосветских знатных барынь. Я разумею Магницкого и игумена Фотия[626]. Магницкий начинал карьеру в лучах славы Сперанского. Он держал себя в то время как милый салонный шалун, душа общества, вечно с неистощимым запасом каламбуров и арлекинад. Бойкое перо и острый ум приблизили его к Сперанскому. Опала Сперанского ранила и Магницкого, который также был сослан тогда, только не на восток, а на север. Теперь он явился в столицу искупать грехи прошлого. Салонный арлекин начал разыгрывать роль Савонаролы[627], громить разврат и нечестие века, проповедовать крестовый поход против вольномыслия и светской науки. Его подвиги в этом направлении в качестве попечителя Казанского университета достаточно известны. Конечно, он толкнулся к Аракчееву и тотчас же был замечен и оценен. Аракчеев и митрополит Серафим[628], объединившиеся для совместной работы над низложением Голицына, почувствовали в нем надежного помощника в качестве мастера интриги. Но для успеха заговора необходим был, кроме того, судья-обличитель, с властной, фанатической речью, с авторитетом духовного сана На эту роль и был избран игумен Юрьевского монастыря Фотий, «полуфанатик, полуплут», по определению Пушкина. Фотий действительно отлично умел наблюдать свои выгоды, разыгрывая из себя бесстрашного и вдохновенного свыше изобличителя крамолы и нечестия. Совершенно невежественный, он производил впечатление безудержной дерзостью своих речей, сплошь и рядом переполненных простонародной площадной бранью, но эта брань сходила за сильный ораторский выпад, ибо была направлена на людей, поставленных высоко на чиновной лестнице. Фотий знал, что он может так браниться, не боясь за свою участь, ибо он чувствовал за собой сильную руку своей фанатичной поклонницы, графини Орловой[629], принесшей к ногам грубого и невежественного монаха свое колоссальное состояние и в неудержимости своего поклонения не побоявшейся даже подставить под град насмешек и двусмысленных подозрений свою девическую честь.
Этого-то Фотия аракчеевский кружок и наметил на роль вдохновенного пророка, который должен был сразить Голицына, явившись к Александру, как некогда Сильвестр[630]к Иоанну IV[631], чтобы потрясающей речью открыть императору глаза на окружившие его опасности. Фотий с готовностью взялся за эту роль. Он давно привык выставлять себя чудотворцем, отмеченным Божественной благодатью; всякую мелочь, с ним случившуюся, он тотчас истолковывал как сотворенное им чудо, и, кажется, от частого повторения подобных выдумок в конце концов сам наполовину им поверил, так что, следя за его деятельностью, нередко трудно бывает решить, где в нем кончался симулятор и где начинался фанатик. Теперь по приказу Аракчеева и митрополита Серафима он «восстал на брань» со всем свойственным ему пылом, имея основания ожидать за свое усердие «великие и богатые милости».
Впервые Фотий был вызван из Сковородского монастыря, где он тогда был игуменом, в Петербург, на театр военных действий против Голицына, в апреле 1822 г. Поклонницы Фотия, гр. Орлова, Дарья Державина и другие, возили его по разным аристократическим домам Петербурга на беседу, «а по беседе учреждаемы были в тех домах пития и яствия во славу Божию». После обеда Фотий, наораторствовавшись, ложился на диван, а дамы подходили целовать его руки. Распря между митрополитом Серафимом и Голицыным была уже в полном разгаре. Фотий отнесся свысока к обоим. Серафима он называл в своих записках «муж прост, словом не силен, но ревностен к делу Божию». Голицына даже во время наибольшего обострения своей вражды к нему он признавал в душе кротким и истинным христианином: «другу не изменит, врага не обидит» (письмо Фотия к Павлу в 1823 г.), что не мешало тому же Фотию изрыгать на Голицына публично страшные хулы. Первоначально Фотий повел себя по отношению к Голицыну чисто по-иезуитски. Называя князя на стороне «врагом веры», он делал вид, что хочет примирить его с митрополитом, и так обворожил князя, что тот по простосердечию сам взялся устроить Фотию первую аудиенцию у государя.
Аудиенция состоялась 5 июня 1822 г. и продолжалась полтора часа. Накануне и Серафим и Голицын давали Фотию каждый свои советы о том, что говорить царю. Но Фотий имел собственный план. Об этой аудиенции мы знаем со слов самого Фотия, и, если верить его рассказу, государь казался взволнованным и проникшимся речами Фотия против тайных врагов святой веры. Затем Фотия представили императрице Марии Федоровне, где он также «стоял за Серафима» и резко порицал сотрудников Голицына. Между тем Голицын и не подозревал, куда гнет Фотий, и еще целый год после того вел задушевную переписку и с Фотием, и с Орловой. В этих письмах Голицын восторгается учительными беседами, исходящими из медоточивых уст Фотия, просит его советов по разным вопросам веры, советуется с ним о значении виденных снов[632], пересылается подарками; излияния, поклонения, превознесение духовных совершенств Фотия переполняют эти письма. Таковы же и письма князя за это время к гр. Орловой. И здесь чуть ли не в каждой строке речь идет о Фотии, по благословению которого князь называет графиню «сестрой о Господе». Голицын собственноручно переписывает для Орловой обширный трактат Фотия о смерти[633].
Одним словом, на основании этих писем можно было подумать, что между Голицыным, Фотием и Орловой завязалось истинное духовное братство.
А между тем Фотий, после аудиенции у государя получивший алмазный крест и вскоре — перевод на место игумена в Юрьевский монастырь, лаская Голицына, только ждал знака из столицы, чтобы нанести ему последний удар. Вскоре после аудиенции и под прямым его влиянием вышел указ о закрытии всех тайных обществ и масонских лож. В 1823 г. Магницкий и Аракчеев подняли шумное и нелепое обвинение против сотрудника Голицына, Попова, за участие в переводе на русский язык совершенно невинного богословского сочинения Госнера[634]. Из этого дела состряпали целый процесс, перетревожили массу людей, и уже по воцарении Николая I все дело лопнуло как мыльный пузырь.
Наконец, в апреле 1824 г. Фотий вторично был вызван в Петербург собственноручным письмом Аракчеева[635]. В петербургском доме гр. Орловой собрались Серафим, Аракчеев, Фотий и Магницкий на военный совет. Решено было, что митрополит Серафим поедет к государю требовать отставки Голицына Трижды владыка садился в карету и опять выходил из нее и в волнении возвращался в дом, не решаясь ехать. Наконец, его окончательно уговорили, и вслед за каретой митрополита поехал Магницкий наблюдать, чтобы владыка не свернул с дороги. Беседа государя с митрополитом Серафимом длилась до глубокой ночи. А через три дня Аракчеев устроил высочайшую аудиенцию и Фотию. Фотий введен был во дворец тайным ходом и пробыл с государем в течение трех часов. По словам Фотия, он обратился к Александру с громовой речью о том, что всюду кишат политические заговоры, что библейские общества служат гнездилищем революции и необходимы скорые и решительные меры против этого зла. Александр назвал Фотия посланником Бога и поручил ему изложить письменно все свои предложения. Фотий вышел от царя «с головы до ног, яко водою, потом смочен» и прямо поехал к митрополиту передать радостную весть о выигрыше дела. Через несколько дней митрополит Серафим принял Аракчеева и, сняв свой белый клобук и бросив его на стол, поручил передать государю, что он лучше откажется от сана, но не помирится с Голицыным. Тогда же Фотий отправил государю ряд записок, в которых так формулировал необходимые меры: 1) уничтожить министерство духовных дел, а министерство просвещения и почт отнять у известной особы (Голицына), 2) уничтожить библейское общество, 3) Синоду быть по-прежнему и надзирать за просвещением, 4) выгнать проповедников Госнера, Феслера[636], методистов[637]. И тогда, писал Фотий, будет одержана «победа над Наполеоном духовным в три минуты одною чертою пера».
Между тем сам Голицын, в наивном неведении о всех этих кознях, пришел в дом Орловой навестить Фотия. Произошла поистине дикая сцена. Я стою на молитве, рассказывает Фотий об этом последнем своем свидании с Голицыным, Евангелие раскрыто, дары святые предстоят, горит свеча. Вдруг входит князь, образом, яко зверь рысь. Фотий отказался благословить его за покровительство сектам, лжепророкам, за дело Госнера, и произнес ему анафему. Князь побежал вон, хлопнул дверью, а Фотий кричал ему вслед: «Если не покаешься, снидешь во ад!». Орлова, узнав, что произошло, ужаснулась духом, а Фотий радостно скакал по дому, восклицая: «С нами Бог!».
В тот же день вся столица знала, что Фотий проклял министра духовных дел. Это было равносильно его отставке. 15 мая 1824 г. отставка состоялась.
О бурной радости, охватившей врагов Голицына, свидетельствует письмо Фотия к симоновскому архимандриту Герасиму:
«Порадуйся, старче преподобный! Нечестие пресеклось, армия богохульная дьявола паде, ересей и расколов язык онемел, общества все богопротивные, яко же ад, сокрушились. Министр наш один — Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Ныне я чаю, велия радость и на небесах». А затем идет приписка, в которой и вскрывается тот, кто был истинной душой всего этого дела: «Молися об Алексее Андреевиче Аракчееве. Он явился, раб Божий, за св. Церковь и веру, яко Георгий Победоносец. Спаси его Господи. Все сие про себя знай».
Так расправился Аракчеев со своим последним опасным соперником. Теперь он мог праздновать окончательное наступление своего безраздельного господства. А между тем история его карьеры уже приближалась к печальной развязке.
Через год с небольшим Александр, отправившись в пред-местную поездку на юг России, жил в Таганроге с больной императрицей. В это время в Грузине разразилась катастрофа, потрясшая душу Аракчеева до самой глубины. Его любовница, Настасья Минкина, была зарезана дворовыми. Обезумевший от горя Аракчеев неистовствовал, предавал истязаниям огулом всю свою дворню, плакал, стонал, носил на шее платок, смоченный кровью убитой, и, не испрашивая на то ничьего разрешения, самовольно отстранился от всех дел. В этот момент сказалась мера его преданности государю, о которой он так неустанно твердил всю жизнь.
Незадолго до грузинской катастрофы Шервуд[638] подробно написал Аракчееву все, что он знал о замыслах тайных обществ, и просил немедленно выслать к нему в Харьков кого-нибудь для принятия решительных мер к открытию заговора. Прошло немало дней после отсылки Шервудом этого письма, и он все тщетно ждал ответа. Как оказалось впоследствии, промедление произошло именно из-за того, что Аракчеев после убийства Минкиной забросил самовольно все дела и от всего отстранился. Даже известие о личной опасности, грозившей государю, не побудило Аракчеева вспомнить о тех уверениях в безраздельной преданности «батюшке-государю», которые он так льстиво расточал из своих уст в глаза Александру. В этот действительно критический для Александра момент Аракчеев поставил свое личное горе выше заботливости о безопасности Александра и не ударил палец о палец для того, чтобы ускорилось производство расследования по доносу Шервуда. Не будь этого промедления, писал впоследствии сам Шервуд, «никогда бы возмущение 14 декабря на Исаакиевской площади не случилось[639]; затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы». И Шервуд прибавляет к этому: «Не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяний императором Александром I и которому он был так предан, пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь государя и спокойствие государства, для пьяной, толстой, необразованной, дурного поведения и злой женщины: есть над чем задуматься»[640].
Александр проявил большую заботливость об участи Аракчеева в это время. Помимо различных официальных распоряжений, отданных им в связи с происшествием в Грузине, он писал Аракчееву утешительные письма, писал и близким Аракчееву людям, например, к Фотию, прося их не оставить Аракчеева дружеским уходом в столь страшное для него время, ибо, как выразился государь в письме к Фотию: «Служение Аракчеева драгоценно для отечества». Аракчеев пребывал в устранении от всяких дел вплоть до кончины Александра и тотчас вернулся к исполнению служебных обязанностей, лишь только получил сообщение, что Александра не стало.
Я не буду уже следить за жизнью Аракчеева в царствование Николая I. В сущности, это была уже не жизнь, а унылое прозябание всеми презираемого и ненавистного старика, утратившего со смертью Александра всякую точку опоры для какого бы то ни было значения. Вначале он пытался было заявлять какие-то притязания на признание за ним прежнего исключительного положения. Это были жалкие попытки, тотчас разбивавшиеся о суровую действительность. Один эпизод окончательно уронил его в глазах нового императора. Аракчеев был уличен во лжи: оказалось, что он, вопреки обещанию, данному им Николаю Павловичу, издал за границей письма к нему покойного государя. В конце концов Аракчееву пришлось дойти до унизительного признания во лжи и выдать печатные экземпляры названных писем.
После этого эпизода позиция Аракчеева уже вполне определилась: он был конченым человеком. Характерным образчиком тех чувств, которые он возбуждал к себе со стороны окружающих, может служить хотя бы следующее письмо Закревского к Волконскому, написанное вскоре после кончины Александра: «Если бы вы знали, сколь несносно теперь его (Аракчеева) существование в глазах соотечественников. Мне пишут из Петербурга, что единогласно почти его ненавидят и, как чудовища, пугаются. Он сам теперь раскрыл гнусный свой характер тем, что когда постыдная история с ним случилась, то он забыл совесть и долг отечеству, бросил все и удалился в нору к своим пресмыкающимся тварям, а теперь, когда лишился своего благодетеля, имел столько духу, что выполз из западни и принялся за дела. После столь гнусного поступка не трудно угадать, какие низкие чувства у сего выродка ехидны»[641].
Здесь мы расстанемся с Аракчеевым. Печальный закат его жизни не представляет общеисторического интереса.
* * *
Мне думается, что факты, изложенные выше, устраняют чувство недоумения, которое испытывали многие из тех, кто задумывался над характером отношений, связывавших Александра и Аракчеева. Недоумение это порождалось, главным образом, склонностью многих принимать за чистую монету те восхищения личностью Аракчеева, которые Александр щедро рассыпал в своих к нему письмах. Являлся недоуменный вопрос: как мог Александру нравиться такой человек, как Аракчеев? Теперь мы знаем, что отношения этих двух людей строились на иных основаниях. Александр не был пленником аракчеевского очарования. Он был лишь тем расчетливым хозяином, который считает не лишним держать у своих покоев на цепи злого сторожевого пса.
И все же невозможно объяснить себе столько продолжительной совместной близости между двумя людьми без того, чтобы в их натурах не было никакой точки соприкосновения. И такая точка была. Я вижу ее в том, что и Александр, и Аракчеев по отношению друг к другу все время являлись актерами, одинаково искусно выполняющими принятую на себя роль. В этом заключалось внутреннее сродство их натур. Александр ласкал Аракчеева, считая его в душе «мерзавцем» и даже высказываясь в этом смысле в минуты невольной откровенности с окружающими людьми. Аракчеев всеми доступными для него способами афишировал безграничную преданность Александру и в то же время оказался способным махнуть рукой на донос Шервуда в такой момент, когда над головой Александра скоплялись действительные опасности. В 1812 г. Аракчеев сказал: «Что мне до отечества, был бы лишь в безопасности государь». Во имя полной искренности он мог бы перефразировать это достопамятное изречение и сказать: «Что мне до государя, были бы только для меня самого обеспечены его великие и богатые милости».
Такова именно и была основная сущность политической философии человека, который первый на Руси назвал себя «истинно русским дворянином».
Примечания
1
См. примечания в конце главы.
(обратно)2
Алексей Михайлович (1629–1676) — русский царь с 1645 г.
(обратно)3
Немецкая слобода — место поселения иностранцев в городах России, в Москве в XVI–XVIII вв. слобода в районе реки Яуза.
(обратно)4
Петр Великий (1672–1725) — русский царь с 1682 г. (правил самостоятельно с 1689 г.), 1-й российский император с 1721 г.
(обратно)5
Иоаким (1620–1690) — патриарх с 1674 г.
(обратно)6
Романов Никита Иванович (?—1654) — боярин, родственник царя Михаила Федоровича, участник русско-польской войны за Украину 1654–1667 гг.
(обратно)7
Никон (Минов Никита) (1605–1681) — патриарх с 1652 г. Провел церковные реформы, вызвавшие раскол в православии. Вмешательство в государственные дела вызвало разрыв с царем. В 1658 г. оставил патриаршество, собором 1666–1667 гг. лишен сана патриарха.
(обратно)8
Ртищев Федор Михайлович (1626–1673) — дворецкий, окольничий, воспитатель царевича Алексея Алексеевича. На свои средства открыл ряд больниц, богаделен.
(обратно)9
Ушаков Симон Федорович (1626–1686) — русский живописец и гравер, автор трактата о живописи.
(обратно)10
Вонифатьев Стефан — протопоп московского Благовещенского собора, духовник царя Алексея Михайловича.
(обратно)11
Неронов Иван (1591–1670) — учитель протопопа Аввакума, идеолог раскола. В 1653 г. за выступление против преобразований патриарха Никона сослан. На соборе 1666 г. раскаялся. С 1668 г. архимандрит Даниловского монастыря в Переяславль-Залесском.
(обратно)12
Морозова (Соковнина) Феодосия Прокопьевна (?-1675) — боярыня, сторонница староообрядчества. Состояла в переписке с Аввакумом. В 1671 г. арестована и заточена в Боровский монастырь.
(обратно)13
Федор Алексеевич (1661–1682) — русский царь с 1676 г.
(обратно)14
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен» в 29 томах.
(обратно)15
Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684–1727) — российская императрица с 1725 г., вторая жена Петра Великого.
(обратно)16
Меншиков (Меньшиков) Александр Данилович (1673–1729) — светлейший князь (1707), генералиссимус (1727). В 1718–1724 и 1726–1727 — президент Военной коллегии. В 1725–1727 — фактический правитель России.
(обратно)17
Толстой Петр Андреевич (1645–1729) — граф, государственный деятель. В 1702–1714 — посол в Османской империи. С 1718 — начальник Тайной канцелярии, президент Коммерц-коллегии. С 1726 — член Верховного Тайного Совета. За выступление против А. Д. Меншикова в 1727 заточен в монастырь на Соловках.
(обратно)18
Ягужинский Павел Иванович (1683–1736) — русский государственный деятель, дипломат, генерал-прокурор Сената с 1722 г. С 1735 — кабинет-министр.
(обратно)19
Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737) — князь, один из вождей «верховников», составитель «Кондиций» 1730 г., ограничивавших власть монарха. В 1736 г. осужден по обвинению в заговоре.
(обратно)20
Алексей Петрович (1690–1718) — царевич, сын Петра I. Стоял в оппозиции к отцу. Бежал за границу, был возвращен, осужден и убит.
(обратно)21
Монс Вилим (1688–1724). С 1708 г. служил в Преображенском полку, с 1716 г. камер-юнкер при дворе Екатерины I, ее фаворит.
(обратно)22
Лефорт Иоанн — саксонско-польский посланник в России в 1730–1734 гг.
(обратно)23
Елизавета Петровна (1709–1761/62) — дочь Петра I и Екатерины I, с 1741 г. — российская императрица.
(обратно)24
Вестфален Ганс Георг — дипломат, датский посланник в России в 1722–1733 гг.
(обратно)25
Бахус — латинская форма имени Вакх (одного из имен бога виноградарства и виноделия Диониса). Говоря о культе Бахуса, А. А. Кизеветтер имел в виду пристрастие Петра I и его двора к пьянству.
(обратно)26
Венера — в римской мифологии богиня любви, красоты.
(обратно)27
Левенвольд (Левенвольде) Рейнгольд Густав (1693–1758) — граф, камергер, обер-гофмаршал, фаворит Екатерины I.
(обратно)28
Девьер (Дивьер) Антон Мануйлович (1674(?)-1745) — принят Петром I на русскую службу. Денщик Петра I. С 1718 г. — полицмейстер Санкт-Петербурга, граф. В 1727 г. сослан в Сибирь Меншиковым. В 1743 г. возвращен.
(обратно)29
Сапега Петр — граф, жених дочери А. Д. Меншикова М. А. Меншиковой, камергер, фаворит Екатерины I.
(обратно)30
Кампредон Жан-Жак — французский дипломат, посол в Швеции в годы Северной войны. С 1721 г. — полномочный министр (посол) при Петре I и Екатерине I.
(обратно)31
Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728) — граф, генерал-адмирал, президент Адмиралтейской коллегии, член Верховного Тайного Совета.
(обратно)32
Остерман Андрей Иванович (Генрих-Иоганн-Фридрих) (1686–1747). Уроженец Вестфалии. В 1708 г. принят на русскую службу. С 1723 г. — вице-президент коллегии иностранных дел, тайный советник при Екатерине I, вице-канцлер, член Верховного Тайного Совета, при Петре II — обер-гоф-маршал, в 1734 г. — кабинет-министр, в 1740 г. — генерал-адмирал. В 1741 г. сослан в Сибирь.
(обратно)33
Долгорукий Василий Лукич (1670–1739) — князь, действительный тайный советник, дипломат, член Верховного Тайного Совета, один из инициаторов ограничения самодержавия в 1730 г.
(обратно)34
Макаров Алексей Васильевич (1674–1740) — кабинет-секретарь Петра I, президент Камер-коллегии, тайный советник.
(обратно)35
Головкин Гаврила Иванович (1660–1734) — государственный деятель, дипломат. В 1706–1709 гг. — глава посольского приказа, с 1710 г. — граф, канцлер, президент Коллегии иностранных дел, в 1726–1730 гг. — член Верховного Тайного Совета, при Анне Иоанновне — канцлер Кабинета министров.
(обратно)36
Фридрих (Карл Фридрих) (1700–1739) — герцог Голштинский, сын старшей сестры Карла XII, отец российского императора Петра III.
(обратно)37
Анна Петровна (1708–1728) — дочь Петра I и Екатерины I, с 1725 г. — герцогиня Голштинская, мать Петра III.
(обратно)38
Бассевич Геннинг Фредерик (1680–1749) — граф, политический деятель Голштинского герцогства, руководитель его внешней политики, сторонник союза с Россией, направленного против Дании.
(обратно)39
Лефорт Франц Яковлевич (1658–1699) — друг и соратник Петра I. В России с 1675 г., генерал-адмирал. Командовал флотом в Азовских походах. В 1697 г. стоял во главе «Великого посольства в Европу».
(обратно)40
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.) — римский поэт.
(обратно)41
Милославские — русский дворянский род, идущий от литовского выходца Вячеслава Сигизмундовича. Первой женой царя Алексея Михайловича была Мария Ильинична Милославская. Их дочь Софья возглавила борьбу против Петра, сына Алексея Михайловича от второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной.
(обратно)42
Софья Алексеевна (1658–1704) — царевна, фактическая правительница России с 1682 г. В 1689 г. пострижена в монахини под именем Сусанны.
(обратно)43
Верховный Тайный Совет — высшее совещательное государственное учреждение в России в 1726–1730 гг. Создан Екатериной I, распущен Анной Иоанновной за попытки ограничения самодержавия.
(обратно)44
Анна Иоанновна (1693–1740) — дочь царя Ивана V Алексеевича и Прасковьи Федоровны, с 1710 г. — герцогиня Курляндская. С 1730 г. — русская императрица.
(обратно)45
Бирон Эрнст Иоганн (1697–1772) — граф (с 1730 г.), фаворит императрицы Анны Иоанновны, с 1737 г. — герцог Курляндский. В 1740 г. сослан. Помилован императором Петром III.
(обратно)46
Макиавелли Николо Бернардо (1469–1527) — итальянский политический мыслитель, писатель.
(обратно)47
Томазий Кристиан (1655–1723) — немецкий юрист и философ. Главный труд «Основы естественного права» (1705 г.).
(обратно)48
Гроций Гуго де Гроот (1583–1645) — голландский юрист, государственный деятель, один из создателей теории «естественного права».
(обратно)49
Локк Джон (1632–1704) — английский философ, один из создателей политической доктрины либерализма.
(обратно)50
Пуффендорф Самуэль (1632–1694) — немецкий юрист, представитель естественно-правового учения.
(обратно)51
Фик Генрих — государствовед, вице-президент Коммерц-коллегии.
(обратно)52
Прокопович Феофан (1681–1736) — русский государственный и церковный деятель, писатель, сторонник преобразований Петра I.
(обратно)53
Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ, политический мыслитель. Основное сочинение — «Левиафан» (1651).
(обратно)54
Мальчишка-пирожник — А. Д. Меншиков.
(обратно)55
Пасторская служанка — русская императрица Екатерина I (Марта Скавронская).
(обратно)56
Невежественный, но ловкий и красивый конюх — Эрнст Иоганн Бирон, фаворит Анны Иоанновны.
(обратно)57
Младенец, увенчанный императорской короной, — Иван VI Антонович.
(обратно)58
Фельдмаршал — Миних Бургхард Кристоф (1683–1767) — граф, генерал-фельдмаршал. С 1721 г. — на русской службе. Командовал русской армией в войне 1735–1739 гг. с турками, президент Военной коллегии. В 1742 г. сослан Елизаветой Петровной, возвращен в 1762 г. Петром III.
(обратно)59
«Табель о рангах» — законодательный акт, изданный в 1722 г. Петром I; определял порядок прохождения службы чиновниками. Устанавливал 14 классов (рангов) чинов по 3 видам: военные (сухопутные и морские), придворные и штатские. Действовал до 1917 г.
(обратно)60
Долгорукие (Долгоруковы) — русский княжеский род XY-XX вв. Вел свое начало от святого Михаила Черниговского.
(обратно)61
Голицыны — русский княжеский род, происходящий от Великого князя Литовского Гедемина, сын которого Наримунд (в крещении Глеб) был князем Новгородским, Ладожским.
(обратно)62
Местничество было отменено в 1682 г.
(обратно)63
Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630–1667) — подьячий Посольского приказа. Участник переговоров со Швецией в 1658–1661 гг. В 1664 г. бежал в Литву, затем в Швецию. По заказу шведского правительства написал сочинение, известное под названием «О России в царствование Алексея Михайловича».
(обратно)64
Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — русский историк. Основные труды: «Курс русской истории» (ч. 1–5), «Боярская Дума Древней Руси», исследования по историографии, источниковедению, истории сословий, социально-экономического развития.
(обратно)65
Шафиров Петр Павлович (1669–1733) — русский государственный деятель, дипломат, вице-канцлер, автор трудов по истории Северной войны 1700–1721 гг. Сослан в 1723 г., возвращен Екатериной I.
(обратно)66
Демидов Акинфий Никитич (1678–1745) — заводчик. С 1702 г. управлял Невьянскими заводами, построил 9 заводов, открыл алтайские серебряные рудники.
(обратно)67
Храповицкий Александр Васильевич (1749–1801) — сенатор, статс-секретарь Екатерины II, автор «Памятных записок» (дневника), охватывающих период с 1782 по 1793 г.
(обратно)68
Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771) — граф, генерал-фельдмаршал (1756), участник возведения на престол Елизаветы Петровны в 1741 г. С 1742 г. ее морганатический супруг.
(обратно)69
Сивере Яков Ефимович (1731–1808) — государственный деятель, дипломат. Один из авторов «Учреждения о губерниях» (1775); сенатор (1796).
(обратно)70
Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) — князь, государственный деятель, историк и публицист. Автор «Истории Российской от древнейших времен».
(обратно)71
Шувалов Петр Иванович (1710–1762) — граф, русский государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1761). Участвовал в возведении на престол Елизаветы Петровны, фактический руководитель ее правительства. Выступил инициатором отмены внутрироссийских таможенных пошлин, перевооружения армии.
(обратно)72
Голицын Михаил (Квасник) (1697–1775) — князь, шут Анны Иоанновны.
(обратно)73
Волконский Никита Федорович — князь, шут Анны Иоанновны.
(обратно)74
Апраксин Алексей Петрович— граф, шут Анны Иоанновны.
(обратно)75
Знаменитая комиссия — Уложенная Комиссия 1767–1768 гг. Созвана Екатериной II из представителей сословий для кодификации законов, вышедших после Соборного Уложения 1649 г. Комиссия заседала с 30.07.1767 г. в Кремле, с 18.02.1768 г. — в Зимнем дворце. Прекратила свою работу в связи с началом русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
(обратно)76
Корсаков Дмитрий Александрович (1843–1919) — русский историк.
(обратно)77
Голицын Василий Васильевич (1643–1714) — князь, боярин, судья Посольского приказа, фактический глава правительства во время правления царевны Софьи Алексеевны. При Петре I отправлен в ссылку.
(обратно)78
Федор Иоаннович (1557–1598) — последний русский царь из рода Рюриковичей с 1584 г., сын Ивана IV Грозного.
(обратно)79
Михаил Федорович (1596–1645) — русский царь с 1613 года, первый из династии Романовых. Избран Земским собором 1613 г.
(обратно)80
Алексей Михайлович (1629–1676) — русский царь с 1645 г.
(обратно)81
Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) — боярин, с 1671 г. руководил русской внешней политикой. С 1676 г. — в опале. В 1682 г. возвращен в Москву. Убит во время стрелецкого восстания 1682 г.
(обратно)82
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605–1680) — русский дипломат, боярин. В 1667–1671 гг. руководил русской внешней политикой, Посольским приказом. В 1667 г. заключил Андрусовское перемирие, положившее конец войне с Польшей за Украину. В 1672 г. пострижен и монахи.
(обратно)83
Федор Алексеевич (1661–1682) — русский царь с 1676 г.
(обратно)84
Софья Алексеевна (1658–1704) — царевна, правительница России с 1682 г. В 1689 г. пострижена в монахини под именем Сусанны.
(обратно)85
Шакловитый (Щегловитый) Федор Леонтьевич (?— 1689) — окольничий, фаворит царевны Софьи Алексеевны. С 1673 г. — подьячий Тайного приказа. С 1682 г. — глава Стрелецкого приказа. Казнен по обвинению в заговоре против Петра I.
(обратно)86
Салтыковы — княжеский и графский род. Родоначальник — Михаил Прушанин или Прашанич (по словам летописи «муж честен из Прусс» (XIII век).
(обратно)87
Волынский Артемий Петрович (1689–1740) — государственный деятель, дипломат.
(обратно)88
Салтыков Семен Андреевич (1672–1742) — граф, сенатор, генерал-аншеф, «главнокомандующий Москвы».
(обратно)89
Прутский поход — поход в мае-июне 1711 г. русской армии под командованием Петра I в союзе с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром в Молдавию. Армия Петра была окружена превосходящими силами турок юго-восточнее Ясс. В результате похода был заключен 12.07.1711 г. Прутский мир, по которому Россия возвращала Турции Азов, должна была срыть крепость в Таганроге. Мир с Турцией 1713 г. завершил русско-турецкую войну 1710–1713 гг. и закрепил результаты Прутского мира 1711 г.
(обратно)90
Карл XII (1682–1718) — шведский король с 1697 г., полководец. Одержал ряд побед над русскими, саксонскими, польскими, датскими войсками. В 1709 г. его армия была разгромлена русскими под Полтавой, Карл XII бежал в Турцию. В 1715 г. вернулся в Швецию. Убит в 1718 г. во время похода в Норвегию.
(обратно)91
Мазепа — Колединский Иван Степанович (по данным графа Брюэль-Плятера род. в 1629 г., по остальным источникам — 1644–1709). Гетман Украины (1687–1708). Во время Северной войны 1700–1721 гг. поддержал войска Карла XII, вторгшиеся на Украину. После Полтавской битвы бежал вместе со шведским королем.
(обратно)92
«Великая война со Швецией» — Северная война 1700–1721 гг. Завершилась подписанием Ништадтского мира. Россия приобретала выход к Балтийскому морю, территории Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии (Ижорской земли), острова Эзель, Даго, Моон, часть Карелии.
(обратно)93
Поход в Персию — Персидский (Каспийский) поход. Начался в августе 1722 г. Русские войска заняли прикаспийские владения Ирана в августе 1722—июле 1723 гг. Тяжелое положение русской армии, с одной стороны, и вторжение турецких войск в Закавказье, с другой, вынудили Россию и Иран заключить мирный договор в Санкт-Петербурге. Россия получила Дербент, Баку, провинции Ширван, Гилян, Астрабад, Мазендеран.
(обратно)94
Лопухина Евдокия Федоровна (1669–1731) — жена Петра I с 1689 г., мать царевича Алексея Петровича. В 1698 г. была пострижена в монахини. Привлекалась по делу царевича Алексея в 1718 г., сослана в Новую Ладогу, затем в Шлиссельбург. Освобождена в 1727 г. Петром II.
(обратно)95
Евреинов Матвей Григорьевич — крупный купец, разбогатевший во время войн, ведомых Петром I, на поставках в армию сукна.
(обратно)96
Матюшкин Михаил Афанасьевич (1676–1737) — генерал-аншеф. Учился морскому делу в Италии. Отличился в Персидском походе, возглавив русские войска после отъезда Петра I.
(обратно)97
Петр II Алексеевич (1715–1730) — российский император с 1727 г., сын царевича Алексея Петровича и кронпринцессы Вольфенбютгельской Шарлотты.
(обратно)98
Синод (от греч. — synodos — собрание). Святейший Синод. В 1721–1917 гг. высший орган в Российской империи, ведавший делами Русской православной церкви (толкование религиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовного образования, цензуры, борьбы с еретиками). Синод возглавлял назначаемый императором обер-прокурор.
(обратно)99
Репнин Аникита Иванович (1668–1726) — князь, военный и государственный деятель. Участвовал в Азовских походах 1695–1696 гг., в Северной войне. С 1710 г. — Лифляндский генерал-губернатор. В 1724–1725 гг. — президент Военной коллегии, генерал-фельдмаршал.
(обратно)100
Бутурлин Иван Иванович (1661–1738) — генерал-аншеф, командир Семеновского гвардейского полка.
(обратно)101
Долгорукая (Долгорукова) Екатерина Алексеевна (1712–1745) — княжна, дочь сенатора, фаворита Петра II Алексея Григорьевича Долгорукова. 19 ноября 1723 г. была объявлена невестой Петра II, 30 ноября обручена с ним. После его смерти была сослана в Березов, а в 1739 г. заточена в Воскресенско-Горицкий девичий монастырь. Была освобождена Елизаветой Петровной. В 1745 г. вышла замуж за генерал-аншефа графа Брюса.
(обратно)102
Голиаф — филистимлянский исполин, имя которого увековечено в библейском рассказе о единоборстве с Давидом. В переносном смысле — необычайно сильный противник.
(обратно)103
см. прим. к очерку «Екатерина I» в данном издании.
(обратно)104
см. прим. к очерку «Екатерина I» в данном издании.
(обратно)105
Болтин Иван Никитич (1735–1792) — русский историк, государственный деятель, член Военной коллегии.
(обратно)106
Переговоры с Турцией — проводились в ходе русско-турецкой войны 1735–1738 гг.
(обратно)107
см. прим. к очерку «Екатерина I» в данном издании.
(обратно)108
Куракин Александр Борисович (1697–1749) — князь, дипломат в 1722–1724 гг. — посол во Франции.
(обратно)109
Третьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703–1768) — поэт, филолог, академик Петербургской Академии наук.
(обратно)110
«Ледяной дом» — сооружение напротив Зимнего дворца, построенное в феврале 1740 г. по приказу Анны Иоанновны. Строительство «ледяного дома» было «подарком императрицы» к свадьбе ее шута князя М. Голицына и калмычки Авдотьи Бужениновой. Все предметы «дома» и вокруг него были сделаны из льда. «Молодые» провели ночь в «ледяной спальне».
(обратно)111
Татищев Василий Никитич (1686–1750) — историк и государственный деятель; в 1720–1722 и 1734–1737 гг. — управляющий казенными заводами на Урале, в 1741–1745 — астраханский губернатор.
(обратно)112
Мусин-Пушкин Платон Иванович — граф, сенатор. В 1740 г. был арестован по делу А. П. Волынского, бит кнутом и сослан.
(обратно)113
Суд над Голицыным — в 1736 г. Д. М. Голицын был осужден якобы за участие в заговоре и заключен в Шлиссельбургскую крепость. См. о нем в очерке А. А. Кизееттера «Екатерина I. Меншиков. Толстой. Ягужинский. Дм. Голицын», публикуемом в настоящем сборнике.
(обратно)114
Конюшенный приказ — ведению этого учреждения, основанного в 1496 г., подлежало все, относящееся к царской охоте, конюшне, сборы средств с конюшенных площадей.
(обратно)115
Хрущов Андрей Федорович (1691–1740) — государственный деятель; с 1726 г. — советник адмиралтейской конторы, с 1735 — главный помощник В. Н. Татищева. В конце 1730-х гг. сблизился с А. П. Волынским.
(обратно)116
Еропкин Петр Михайлович (1698–1740) — архитектор, автор первого в России теоретического архитектурного трактата «Должность архитектурной экспедиции».
(обратно)117
Кизеветтер цитирует «Думы» поэта-декабриста Кондратия Федоровича Рылеева (1795–1826), в которых тот создал изрядно идеализированный образ А. П. Волынского.
(обратно)118
Петр III Федорович (1728–1762) — российский император с 1761 г., сын герцога Голштинского Карла-Фридриха и Анны Петровны. Манифест о вольности дворянства, изданный Петром III, полностью освободил дворянство от обязательной государственной службы и установил его монополию на землевладение.
(обратно)119
Фридрих II (Великий) (1712–1786) — прусский король с 1740 г. из династии Гогенцоллернов, крупный полководец.
(обратно)120
Бестужев (Бестужев-Рюмин) Алексей Петрович (1693–1766) — граф, генерал-фельдмаршал, в 1744–1758 гг. — канцлер. Сослан Елизаветой Петровной. В 1762 г. возвращен.
(обратно)121
Среди многочисленных фаворитов Екатерины некоторый след не только в ее сердце и постели, но и в истории оставили дипломат Сергей Васильевич Салтыков (1726-?), который, по мнению некоторых осведомленных современников, был отцом наследника престола Павла Петровича; Станислав Август Понятовский (1732–1798), польский магнат, которому довелось быть в 1764–1795 гг. последним королем Польши; Григорий Григорьевич Орлов (1734–1783) — граф, один из руководителей дворцового переворота 1762 г., генерал-фельдцехмейстер и первый президент Вольного экономического общества; Петр Васильевич Завадовский (1738–1812) — граф, управляющий Дворянским и Ассигнационным банками, министр просвещения в 1802–1810 гг.; Платон Александрович Зубов (1767–1822) — князь, генерал-фельдцехмейстер, начальник Черноморского флота, новороссийский генерал-губернатор (1793), удостоившийся, правда, всех своих титулов и высоких постов уже после того, как угодил в 1789 г. в августейшую постель; несомненно, выдающимся государственным деятелем был светлейший князь Таврический, генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин (1739–1781), о котором см. подробнее в публикуемом в настоящем сборнике биографическом очерке Кизеветтера; трудно сказать что-либо определенное о дарованиях (кроме специфических) сенатора Михаила Павловича Миклашевского (1756–1847), графа, генерал-лейтенанта Семена Гавриловича Зорича (1745–1799), генерал-лейтенанта Александра Петровича Ермолова (1754–1836) (не путать с героем Отечественной войны 1812 г. и «покорителем Кавказа» Алексеем Петровичем Ермоловым), адъютанта Потемкина, графа (1788, т. е. «послепостельного»), генерал-адъютанта и генерал-лейтенанта Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758–1803), генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Ланского (1758–1784), а также Ивана Николаевича Корсакова (1754–1831), Александра Семеновича Васильчикова и других, совсем уже тусклых фигур.
(обратно)122
Теплов Григорий Николаевич (1720–1770) — государственный деятель, писатель, содействовал воцарению Екатерины II. В 1763 г. определен для принятия прошений на высочайшее имя, с 1767 г. — член комиссии о коммерции.
(обратно)123
Мирович Василий Яковлевич (1740–1764) — подпоручик Смоленского полка, пытавшийся освободить из Шлиссельбурга Ивана Антоновича. Казнен.
(обратно)124
Анна Леопольдовна (1718–1746) — правительница России в 1740–1741 гг. при малолетнем Иване Антоновиче, внучка Ивана V Алексеевича. Свергнута в 1741 г., умерла в ссылке.
(обратно)125
Иван VI Антонович (1740–1764) — российский император (1740–1741), правнук Петра I. Свергнут гвардией, заточен в Шлиссельбурге. Убит при попытке освобождения.
(обратно)126
Антон Ульрих Брауншвейгский (1714–1774) — муж Анны Леопольдовны, отец Ивана Антоновича, генералиссимус российских войск. В 1741 г. арестован, находился в ссылке в Холмогорах, эмигрировал по предложению Екатерины II.
(обратно)127
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) — французский писатель, философ-просветитель.
(обратно)128
Минерва — в римской мифологии богиня-покровительница ремесел и искусств. С конца III в. до н. э. почиталась как богиня государственной мудрости.
(обратно)129
Семирамида (ассирийское — Шаммурамат) — царица Ассирии в конце IX в. до н. э., с именем которой связаны походы в Мидию, сооружение одного из семи чудес света — «висячих садов».
(обратно)130
Дидро Дени (1713–1784) — французский философ, писатель. Основатель и редактор «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».
(обратно)131
Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775) — донской казак, участник Семилетней войны 1756–1763 гг. и русско-турецкой 1768–1774 гг. (до 1770 г.), хорунжий. Под именем Петра III Федоровича поднял восстание среди яицких казаков в 1773 г. Предводитель крестьянской войны 1773–1775 гг. В сентябре 1774 г. выдан властям, казнен в январе 1775 г.
(обратно)132
Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало) (1651–1709) — митрополит Ростовский, писатель, составил новую редакцию «Четьи-Миней». Автор антистарообрядческих сочинений.
(обратно)133
Рейналь Гийом Томас Франсуа (1713–1796) — французский историк-просветитель. Сотрудничал в «Энциклопедии» Д. Дидро. Автор «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (т. 1–6).
(обратно)134
Тюрго Анн Робер Жак (1721–1781) — французский государственный деятель, философ-просветитель, экономист. В 1774–1776 гг. на посту генерального контролера финансов провел ряд реформ.
(обратно)135
Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский философ, правовед.
(обратно)136
«Всякая всячина» — еженедельный журнал, выходивший в Петербурге в 1769 г. (52 выпуска) и 1770 г. (18 выпусков) под редакцией Г. В. Козицкого и негласным руководством Екатерины II.
(обратно)137
Панин Никита Иванович (1718–1783) — граф, русский государственный деятель, дипломат. С 1763 г. руководил Коллегией иностранных дел, воспитатель Павла I, с 1781 г. — в отставке.
(обратно)138
Новиков Николай Иванович (1744–1818) — русский просветитель, писатель, публицист. Издавал журналы «Трутень», «Кошелек», «Живописец». В 1770-х гг. примкнул к масонам. В 1792–1796 гг. отбывал заключение в Шлиссельбурге.
(обратно)139
Имеется в виду русско-турецкая война 1768–1774 гг.
(обратно)140
Румянцев Петр Александрович (1725–1796) — выдающийся полководец, генерал-фельдмаршал (1770), граф (с 1774).
(обратно)141
Фонвизин (Фон-Визин) Денис Иванович (1744 или 1745–1792) — русский писатель, создатель социальной комедии, публицист.
(обратно)142
Обрезков (Обресков) Алексей Михайлович (1718–1787) — русский дипломат, резидент в Константинополе в 1752–1768 гг. Участвовал в подписании Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 г.
(обратно)143
Sapienti sat — умному достаточно (лат.).
(обратно)144
Имеется в виду русско-турецкая война 1787–1791 гг.
(обратно)145
Грейг Самуил Карлович (1736–1788) — адмирал. Участвовал в составе эскадры Г. А. Спиридова в Чесменском бою (1770 г.). В русско-шведской войне 1788–1790 гг. командовал Балтийским флотом.
(обратно)146
Храповицкий Александр Васильевич (1749–1801) — сенатор, статс-секретарь Екатерины II, автор записок, охватывающих период 1782–1793 гг.
(обратно)147
Гримм Фредерик Мельхиор (1723–1807) — барон, литератор, дипломат. Участвовал в кружке энциклопедистов. Издавал рукописный журнал «Correspondance literarie, philosophie et critique», подписчицей которого была Екатерина II. С 1773 г. на русской службе.
(обратно)148
Де Линь Шарль Жозеф (1735–1814) — принц, полководец, служил во Франции, с 1752 г. в Австрии, участник осады Очакова в 1788 г. в составе войск Г. А. Потемкина.
(обратно)149
Улисс — у римлян название Одиссея, мифического царя Итаки, участника осады Трои. Славился хитроумием.
(обратно)150
Ахилл (Ахиллес) — в «Илиаде» один из храбрейших героев, участвовавших в осаде Трои. Погиб от стрелы Париса, поразившей его в пятку — единственное уязвимое место.
(обратно)151
Людовик XIV (1638–1715) — французский король из династии Бурбонов с 1643 г.
(обратно)152
Агамемнон — в «Илиаде» царь Микен, предводитель греческого войска, осаждавшего Трою. Был коварно убит собственной женой Клитемнестрой.
(обратно)153
Эстергази Валентин — французский эмигрант-роялист, состоял в переписке с Екатериной II.
(обратно)154
Энгельгардт Лев Николаевич (1766–1838) — генерал-майор, адъютант Г. А. Потемкина, автор «Записок» (опубл. в 1859 г.).
(обратно)155
Державин Гавриил Романович (1743–1816) — поэт, государственный деятель. После сочинения «Оды к Фелице» (1782), обращенной к императрице, был обласкан и награжден Екатериной II. Был кабинет-секретарем Екатерины II (1791–1793), сенатором, министром юстиции (1802–1803).
(обратно)156
Еропкин Петр Дмитриевич (1724–1805) — сенатор, генерал-аншеф, московский военный губернатор. В 1771 г. усмирял чумной бунт в Москве, за что получил 4 000 душ крепостных, но от дара отказался.
(обратно)157
Иосиф II (1741–1790) — австрийский император с 1780 г. В 1765–1780 гг. соправитель императрицы Марии Терезии, император Священной Римской империи. Проводил политику «просвещенного абсолютизма».
(обратно)158
Константин Павлович (1779–1831) — великий князь, второй сын Павла I. С 1814 г. наместник Царства Польского. Участвовал в походах А. В. Суворова и Отечественной войне 1812 г.
(обратно)159
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — князь, дипломат, с 1797 г. — канцлер.
(обратно)160
Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803) — граф, последний гетман Украины (1750–1764), президент Петербургской академии наук (1746–1798).
(обратно)161
Пропилеи — в Афинах парадный вход на Акрополь (437–432 гг. до н. э., архитектор — Мнесикл).
(обратно)162
Воронцов Семен Романович (1744–1832) — граф, дипломат, посол в Лондоне в 1784–1806 гг.
(обратно)163
Фернейский философ — Вольтер.
(обратно)164
Воронцов Александр Романович (1741–1805) — русский государственный деятель, дипломат. В 1762–1764 гг. — полномочный посол в Англии, в 1764–1768 гг. — в Голландии, в 1773–1794 гг. — президент Коммерц-коллегии, в 1802–1804 гг. — канцлер.
(обратно)165
Воронцов Семен Романович (1744–1832) — русский дипломат. С 1782 г. — полномочный министр (посол) в Венеции, в 1784–1806 гг. — в Лондоне, граф (1797).
(обратно)166
Пожарский Дмитрий Михайлович (1579–1642) — князь, боярин с 1613 г., русский полководец. В 1611 г. — участник первого земского ополчения, в 1612 г. — один из руководителей второго земского ополчения, освободившего Москву от польских захватчиков. В 1613–1618 гг. руководил боевыми действиями против польских интервентов.
(обратно)167
Архив князя Воронцова. Кн. VIII. С. 517–518.
(обратно)168
Глинка Сергей Николаевич (1775 или 1776–1847) — писатель, издатель журнала «Русский вестник». Автор «Записок о 1812 годе».
(обратно)169
Русское Чтение. Ч. 1. Спб., 1845.
(обратно)170
Филомелы — соловьи. Слово «филомелы» стало нарицательным благодаря имени дочери афинского царя Пандиона Филомела. Муж сестры Филомелы Проксы Терей обесчестил Филомелу, которая затем была превращена в соловья.
(обратно)171
Девятнадцатый век. Кн. II.
(обратно)172
Волкова Мария Аполлоновна (1776–1859) — фрейлина императрицы Марии Федоровны, дочь тайного советника генерал-полковника A. А. Волкова. Ее переписка с B. И. Ланской, светской дамой, женой графа С. С. Ланского, дает характеристику эпохи Александра I и отношения русского общества к войне 1812 г. Их письма тщательно изучал Л. Н. Толстой в период написания «Войны и мира».
(обратно)173
Русский Архив, 1872 г. Письма М. А. Волковой к В. И. Ланской.
(обратно)174
Ségur: «Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812».
Сегюр Ф. П. Жизнь графа Ростопчина, губернатора Москвы в 1812 году.
(обратно)175
Ségur «Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812». Paris.
(обратно)176
Ann. Domergue: «La Russie pendant les guerres de l’empire».
Домерг A. Россия в период войн Империи.
(обратно)177
Arm. Domergue: «La Russie pendant les guerres de l’empire».
(обратно)178
Кутузов Михаил Илларионович (Голенищев-Кутузов) (1745–1813) — русский полководец, генерал-фельдмаршал (1812), светлейший князь Смоленский (1812). С августа 1812 г. — главнокомандующий русской армией в Отечественной войне.
(обратно)179
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — русский государственный деятель, дипломат. С 1775 г. — секретарь Екатерины II, с 1797 г. — канцлер.
(обратно)180
Архив князя Воронцова. Т. XIII. С. 246.
(обратно)181
Ibid. T. X. № 32.
(обратно)182
Ibid. T. XVII. № 251.
(обратно)183
Екатерина II (1729–1796) — российская императрица с 1762 г.
(обратно)184
Мамонов (Дмитриев-Мамонов) Александр Матвеевич (1758–1803) — граф, генерал-адъютант (1788), фаворит Екатерины II.
(обратно)185
Русская Стар., 1893 г. Т. 77. Биография гр. Ростопчина, составленная Брокером.
(обратно)186
Чарторижский (Чарторийский) Адам Ежи (Адам Адамович) (1770–1861) — князь, член Госсовета, один из ближайших советников Александра I, член так называемого Негласного комитета. В 1804–1806 гг. — министр иностранных дел. Во время польского восстания 1830–1831 гг. — глава Национального польского правительства.
(обратно)187
Павел I (1745–1801) — российский император с 1796 г.
(обратно)188
Мемуары Чарторижского. T. 1. См. русский перевод в издании К. Ф. Некрасова.
(обратно)189
Варнгаген фон Энзе Карл Августович (1785–1858) — прусский дипломат, литератор.
(обратно)190
Принц де Линь — см. прим. к очерку «Потёмкин».
(обратно)191
Гумбольдт Вильгельм (1767–1835) — немецкий филолог, философ, государственный деятель.
(обратно)192
Цитирую по книге Сегюра. См. выше.
(обратно)193
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — князь, товарищ министра народного народного просвещения, поэт, критик, академик Петербургской Академии Наук (1841).
(обратно)194
Русский Архив. 1877. T. И.
(обратно)195
Багратион Петр Иванович (1765–1812) — князь, генерал от инфантерии. В Отечественную войну 1812 г. командовал 2-й русской армией. Смертельно ранен в бою при Бородино.
(обратно)196
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769–1821) — французский император в 1804–1814 гг. и марте 1815 г., полководец.
(обратно)197
en toutes lettres — дословно (фр.).
(обратно)198
См., наприм., начало письма от 6 августа 1812 г. Русская Старина, 1883 г., декабрь.
(обратно)199
Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863) — действительный тайный советник, камергер, директор Московского почтамта. В 1812 г. — личный секретарь Ф. В. Ростопчина.
(обратно)200
Воспоминания А. Я. Булгакова. Старина и Новизна. Кн. VII. 1904.
(обратно)201
Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, философ, публицист.
(обратно)202
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница, общественный деятель, хозяйка литературного салона в Париже.
(обратно)203
Сенат — в России с начала XIX в. высший орган суда и надзора.
(обратно)204
Воспоминания А. Я. Булгакова.
(обратно)205
Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) — крупный чиновник, директор департамента иностранных исповеданий, автор «Воспоминаний».
(обратно)206
Вигель: Воспоминания. Т. IV.
(обратно)207
Москвитянин, 1849. 4.1 и III.
(обратно)208
«В древних философических школах в Греции научились терпению через многие годы, а в нынешние времена прусская почта на расстоянии нескольких миль довела бы до совершенства учеников премудрости. Почта сия есть мучение несносное, а почтмейстер — тиран бесчеловечный. Ни просьбы, ни ласка, ни слезы — ничто его не трогает. Несмотря ни на что, он испускает из себя сквозь дым слово глейх. Сей глейх служит ответом на все и продолжается полтора часа. Иные, рассердясь, хотели их бить, но после были отвезены на той же почте и еще тише обыкновенного под суд и подвергли себя наказанию законов… Древние для изображения скуки представляли время с обрезанными крыльями: лучше бы его одеть прусским почтальонам… с горы, да на гору, песок по колено… от Франкфурта до Берлина 10 миль (70 верст). Я ехал 26 часов и начинал уже думать, что вечно буду ехать, но, к крайнему удивлению, приехал».
(обратно)209
Русская Старина, 1889 г. Кн. XII.
(обратно)210
Александр I (1777–1825) — российский император с 1801 г.
(обратно)211
Эта переписка напечатана в VIII кн. «Архива князей Воронцовых». См. Русский Архив, 1876 г. Кн. 1.
(обратно)212
Эпоха Реставрации во Франции — период вторичного правления династии Бурбонов в 1814–1815 гг. (первая реставрация) и в 1815–1830 гг. (вторая реставрация).
(обратно)213
Зубов Платон Александрович (1767–1822) — государственный деятель, последний фаворит Екатерины II.
(обратно)214
Репнин Николай Васильевич (1734–1801) — князь, генерал-фельдмаршал (1796), дипломат. В 1763–1769 гг. — посол в Польше, участвовал в заключении мирных договоров с Турцией в 1774 и 1791 гг.
(обратно)215
Куракин Александр Борисович (1752–1818) — князь, дипломат. В 1796–1802 гг. — вице-канцлер, президент Коллегии иностранных дел, в 1808–1812 гг. — посол России во Франции.
(обратно)216
Румянцев Николай Петрович (1754–1826) — граф, государственный деятель, дипломат. В 1807–1814 гг. — министр иностранных дел, в 1810–1812 гг. — председатель Госсовета.
(обратно)217
Сивере Яков Ефимович (1731–1808) — государственный деятель, дипломат. Один из авторов «Учреждений о губерниях» (1775), сенатор (1796).
(обратно)218
Русский Архив, 1876 г. Кн. III.
(обратно)219
Русская Старина, 1893 г. T. 77. Письмо от 24 сентября 1813 г.
(обратно)220
M.A. Волкова находила даже, что Ростопчин проигрывал в сравнении со своей женой, женщиной очень интеллигентной, писавшей религиозно-философские рассуждения. В письмах к приятельнице от 1 июля 1812 г. Волкова пишет: «Мы были в гостях у гр. Ростопчиной, которая пленила меня… я была в восторге от беседы. Она мне нравится в миллион раз более мужа своего, который тоже выходил к нам. Он ужасно теряет при сравнении с женой…»//Русск. Архив. 1872 г.
(обратно)221
Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) — литературовед, археограф, профессор Московского университета (с 1859 г.), академик Петербургской Академии Наук (1890).
(обратно)222
«Письма русского путешественника» — первое крупное литературное произведение Н. М. Карамзина. Было написано под впечатлением его путешествия по Европе в 1789–1790 гг. Опубликовано в «Московском журнале» в 1791–1792 гг.
(обратно)223
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — историк, писатель. Редактор «Московского журнала» (1791–1792), «Вестника Европы» (1802–1803). Автор «Истории государства Российского». Создатель современного русского литературного языка.
(обратно)224
Эрмитажные собрания — проводились императрицей Екатериной II. Нуждаясь в отдыхе, она устроила уголок для часов досуга в тесном кругу близких людей. Сначала они собирались в залах Зимнего дворца, а в 1765 г. архитектор Валлен-де-ла Мотт построил особое здание, выходящее фасадом на Неву, — Эрмитаж, где проходили подобного рода собрания. В Эрмитажных собраниях принимали участие ДДидро, Ф. М. Гримм, Г. А. Потемкин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, А. А. Безбородко и другие выдающиеся современники Екатерины II. На собраниях должны были говорить исключительно по-русски, «все чины и звания оставлять у дверей», даже при виде императрицы запрещалось вставать. Несоблюдение правил «неформального общения» влекло за собой денежный штраф.
(обратно)225
Напечатана в Отечественных Записках, 1842 г. T. XXIV.
(обратно)226
«Всякая всячина» — см. прим. к очерку «Екатерина II».
(обратно)227
Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) — писатель, переводчик, литературный критик.
(обратно)228
Полн. собр. соч. T. V. С. 145.
(обратно)229
Записки С. Глинки. С. 234.
(обратно)230
«Русский вестник» — журнал, выходивший ежемесячно в 1808–1824 гг. р Москве.
(обратно)231
Сочинения Ростопчина, 1853 г. С. 137.
(обратно)232
Покровский К. Граф Ростопчин и его комедия// Чтения в Обществе истории и древн. Росс., 1812 г. Кн. I.
(обратно)233
С нее же написаны и Хлестова в «Горе от ума» и Ахросимова в «Войне и мире».
(обратно)234
«Друг детей» — детский журнал, издававшийся в Москве в 1809 г. два раза в месяц Н. И. Ильиным. Многие статьи журнала вошли впоследствии в различные хрестоматии. Ильин Николай Иванович (1777–1823) — драматург, автор пьес «Лиза, или Торжество благодарности», «Великодушие, или Рекрутский набор».
(обратно)235
Фонвизин Денис Иванович — см. прим. к очерку «Потёмкин».
(обратно)236
Уже среди современников Ростопчина были люди, вопреки мнению большинства, не склонные высоко ценить его литературные пробы пера. М. А. Волкова писала приятельнице 7 июня 1812 г.: «Я не признаю в нем (т. е. в Ростопчине) авторского таланта; помнишь, как мы вместе читали его знаменитые творения?»//Русск. Арх. 1872 г.
(обратно)237
Поли. собр. Русск. Летоп. T. VIII. С. 120.
(обратно)238
Segur «Vie du comte Rostopchine».
(обратно)239
В П.С.З. есть указ 1707 г. о ссылке некоего Ростопчина в монастырский приказ для содержания в кандалах за лжесвидетельство, № 2179. Враг Ф. В. Ростопчина Панин* укорял его этим фактом.
*Панин Никита Петрович (1770–1836) — дипломат, вице-канцлер (1799–1800), фактически руководил внешней политикой России в первые месяцы царствования Александра I (до сентября 1801 г.). С декабря 1804 г. — в отставке.
(обратно)240
Русск. Арх. 1868 г. Воспом. Брокера.
(обратно)241
Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875) — историк литературы, библиограф.
(обратно)242
Русск. Арх. 1868 г. Лонгинов. «Материалы для биографии Ростопчина».
(обратно)243
Остерман Иван Андреевич (1725–1811) — граф, дипломат, служил послом в Швеции, вице-канцлер.
(обратно)244
Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) — князь, государственный деятель, дипломат. В 1802–1807 и 1819–1823 гг. — министр внутренних дел. С 1827 г. — председатель Госсовета и Комитета министров.
(обратно)245
Архив кн. Воронцова. Т. IX С. 145. 358.
(обратно)246
Янус — в римской мифологии божество времени, всякого начала и конца. Изображался с двумя лицами, обращенными в прошлое и будущее. Во время войн, ведомых Римской империей, храм Януса открывался.
(обратно)247
Segur «Vie du c.Rostopchine».
(обратно)248
Румянцев Петр Александрович (Задунайский) (1725–1796) — полководец, генерал-фельдмаршал (1770), граф (1774).
(обратно)249
Очаков — турецкая крепость, осажденная в июне 1788 г. русским войсками под командованием фельдмаршала Г. А. Потемкина и взятая штурмом в декабре того же года.
(обратно)250
Суворов Александр Васильевич (1728 или 1730–1800) — полководец, генералиссимус (1799), граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799).
(обратно)251
Архив гр. Воронцова. T. XI. С. 74.
(обратно)252
Арх. кн. Воронцова. Т.34, письмо от 27 июля 1793 г.
(обратно)253
«Проиграть в Гатчине значило тогда укрепить свои шансы в Петербурге и Царском селе». Гатчина — резиденция сына Екатерины II Павла Петровича (будущего императора Павла I). В данном случае географические названия символизировали различные придворные группировки.
(обратно)254
Аракчеев Алексей Андреевич (1739–1812) — государственный деятель, генерал. С 1808 г. — военный министр, с 1810 г. — председатель военного департамента Госсовета. Инициатор создания военных поселений.
(обратно)255
Барятинский Федор Сергеевич (1742–1814) — князь, обер-гофмаршал.
(обратно)256
Maçon «Mémoires secrets sur la Russie».
(обратно)257
Завадовский писал С. Воронцову из Петербурга: «Ростопчин, с которым я был знаком по его к тебе привязанности, хорошо был принят у двора, отличаясь перед своими сверстниками остротою. Таковой тон вывел ею из здравого рассудка. Пренебрегая знатною молодежью, поступил и на то, что стал ругать письменно и вызывать на поединок. За сию непристойную шалость отлучен на год от двора и поехал в свою деревню… наказание легчайшее, а предерзость заслуживала больше»// Арх. Воронц. T. XII. С. 122. Вот еще отзыв придворного доктора Рожерсона в письме его к С. Воронцову: «Письма Ростопчина к друзьям из деревни наполнены восторгами перед женой, в которую он, по-видимому, сильно влюблен, и перед сельской жизнью. Это испытание будет ему полезно. Он имея слишком большую удачу при всех трех дворах, чтобы с его горячей головой не впутаться в какое-либо приключение… вот вина нашего здешнего образования на французский лад; оно возбуждает неистовое стремление блистать и умничать вместо того, чтобы внушать желание хорошо думать и правильно поступать». Арх. Воронцова. T. XXX. С. 54.
(обратно)258
Завадовский Петр Васильевич (1739–1812) — граф, государственный деятель. В 1802–1810 гг. — министр народного просвещения, инициатор либеральных цензурного и университетского уставов (1804).
(обратно)259
Письмо Завадовского от 19 октября 1794 г.: «Только третьего дня получил я твое письмо от Ростопчина, который высиживает в деревне срок своего остракизма»//Архив Воронцова. С. 135.
(обратно)260
Протасова Анна Степановна (1745–1826) — графиня, камер-фрейлина Екатерины II.
(обратно)261
Материалы для жизнеописания гр. Н. П. Панина/Под ред. Брикнера T. VIII. Гл. V.
(обратно)262
Жена Ф. В. Ростопчина — Ростопчина Екатерина Петровна (1775–1859), урожденная Протасова.
(обратно)263
Это описание воспроизведено целиком у Сегюра.
(обратно)264
Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807/08) — граф (1762), генерал-аншеф (1768). Один из организаторов дворцового переворота 1762 г. Командовал русской эскадрой в Средиземном море. В 1770 г. одержал победу над турецким флотом. С 1775 г. — в отставке.
(обратно)265
Петр III Федорович (1728–1762) — принц Карл Петр Ульрих, российский император с 1761 г. Свергнут в результате дворцового переворота и убит. В убийстве, принимал участие А. Г. Орлов.
(обратно)266
Архаров Николай Петрович (1742–1814) — московский обер-полицмейстер.
(обратно)267
Фактически Ростопчин уже в это время был правою рукою Павла по многим делам. В письме к С. Воронцову от 25 февраля 1797 г. он так описывает порядок своею дня: «У меня мною дела, потому что на моих руках вся воинская часть. Я должен рассылать все приказы государя и получать все рапорты для представления и прочтения ему. Зная по опыту, как мало можно иметь доверия к секретарям, я делаю все сам, а секретари только переписывают и держат в порядке книги. Я изменил образ жизни: обедаю всегда дома, ухожу в 4 часа и возвращаюсь в 9. Разобрав бумаги к следующему дню, в 10 часов ложусь спать. Встаю в 5 1/2 часов, а в 6 1/4 я уже у государя, при котором остаюсь почти до часу пополудни, занимаюсь рассылкой приказов и чтением всего поступающего по военной части //Русский Архив, 1876 г. Кн. II.
При дворе и среди самых первых вельмож Ростопчин держал себя в это время уже как всевластный временщик. В октябре 1798 г. Протасов писал Воронцову: «Пестель сказал мне, что Ростопчин в великой милости и имеет большое влияние на военные дела… Однажды Пестель был у Ростопчина, когда тот сидел в постели, будучи болен. Там был Головин и другие: все стояли кругом. Доложили о приходе кн. Репнина. Больной лег. Фельдмаршал, войдя, остался стоять, хотя хозяин тщетно просил его сесть. Тот сел лишь после троекратной просьбы… Ростопчин был чрезвычайно горделив»…//Арх. кн. Воронцова. T. XV. С. 131.
(обратно)268
Вообще Ростопчин стал в резко враждебные отношения к партии Нелидовой* и императрицы Марии Федоровны**. В июне 1797 г. он пишет С. Воронцову, что Мария Федоровна во все вмешивается и «для большей уверенности вступила в союз с Нелидовой, которую справедливо ненавидела и которая сделалась ее близким другом с 6 ноября прошлого года. Нас трое или четверо нетерпимых этими особами, ибо мы служим одному только императору, а этого не любят и не хотят»//Русский Архив, 1876 г. Кн. II. Письмо от 18 июня 1797 г. Адам Чарторижский определенно говорит, что опала Ростопчина была делом партии Нелидовой//Мемуары. T. I.
*Нелидова Екатерина Ивановна (1756–1839) — камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны, любовница Павла I. По свидетельствам современников, ее влияние на Павла I было огромным (например, она спасла от уничтожения орден св. Георгия Победоносца). В 1798 г. удалилась в Смольный монастырь, затем до 1801 г. жила близ Ревеля. После смерти Павла I была вновь приближена ко двору Марии Федоровны.
**Мария Федоровна (Софья Доротея Августа Луиза) (1759–1828) — императрица, жена императора Павла I.
(обратно)269
Пален Петр Алексеевич (1745–1826) — граф, (1799), генерал от кавалерии (1798). В 1798–1801 гг. — генерал-губернатор Санкт-Петербурга, один из организаторов убийства Павла I.
(обратно)270
Маркиз Поза — (здесь) человек, говорящий истину в лицо императору.
(обратно)271
Коцебу Август Фридрих Фердинанд (1761–1818) — немецкий писатель, драматург, неоднократно бывал в России. В 1800 г. был отправлен в ссылку за памфлет на Павла I. В 1802 г. был возвращен, служил главноуправляющим московскими театрами. Вернувшись в Германию, проявил себя сторонником жесткого реакционного курса. Убит студентом К. Зандом.
(обратно)272
Жоржель — аббат, член депутации германского великого приорства ордена св. Иоанна Иерусалимского, чьим магистром был избран 1799 г. Павел I. Автор воспоминаний «Путешествие в Петербург аббата Жоржеля в царствование императора Павла I».
(обратно)273
Русский Архив, 1876 г. Кн. III.
(обратно)274
Русский Архив. 1876. Кн. III.
(обратно)275
Материалы для жизнеопис. гр. Н. П. Панина. T. V.
Разрыв с Австрией и Англией — А. А. Кизеветтер имел в виду поворот во внешней политике России, сделанный 1800 г. Павлом I. В 1799 г. Россия вместе с Англией, Австрией выступали главными силами антифранцузской коалиции. Русские войска под командованием А. В. Суворова действовали в Италии и Швейцарии. Считая позицию союзников предательской по отношению к России, Павел I переориентировал внешнюю политику на союз с наполеоновской Францией, начал подготовку к походу на Индию, «ахиллесову пяту» Британской империи. После смерти Павла I возобладал антифранцузский внешнеполитический курс.
(обратно)276
«Voyage a S.-Petersbouig». Рассказ Жоржеля о том, как Ростопчин расстраивал попытки Дюмурье, общеизвестен, и я не привожу его. «Путешествие в Петербург при Павле I» аббата Жоржеля; пер. Н. И. Соболевского.
(обратно)277
Архив Воронцова. T. XI. С. 180.
(обратно)278
Напечатана в книге II издания «Девятнадцатый век».
Цицианов Павел Дмитриевич (1754–1806) — князь, русский генерал от инфантерии. С 1802 г. — главнокомандующий в Грузии.
(обратно)279
Герцог Энгиенский Луи Антуан Анри де Бурбон Конде (1772–1804) — французский принц, последний представитель дома Конде. В марте 1804 г. был похищен французской конной жандармерией на территории Бадена. По приказу Наполеона герцог предстал перед военным судом по обвинению в получении денег от Англии и в борьбе против Франции. 20 марта 1804 г. он был казнен. Казнь члена династии Бурбонов вызвала шок при дворах европейских государств, увидевших очередное проявление французской революции. Реакция русского высшего общества на убийство герцога Энгиенского блестяще изображена в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
(обратно)280
Румелия — общее название завоеванных в 14–16 вв. Османской империей балканских стран. С конца XVI — начала XVII вв. — название турецкой провинции с центром в Софии.
(обратно)281
Галлофобия — то же, что и франкофобия, т. е. ненависть ко всему французскому.
(обратно)282
Русский Архив. 1892 г. Т. II.
Мартинисты — мистическая секта, основанная в XVIII в. Мартинесом Паскалисом. Ее члены считали себя способными иметь сверхъестественные видения.
(обратно)283
Екатерина Павловна (1788–1819) — четвертая дочь императора Павла I, любимая сестра Александра I. В 1809 г. была выдана замуж за герцога Георга Ольденбургского.
(обратно)284
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — граф, русский государственный деятель, инициатор создания Госсовета (1810). В 1819–1821 гг. — генерал-губернатор Сибири. С 1826 г. занимался кодификацией российских законов.
(обратно)285
Местр Жозеф Мари де (1753–1821) — граф, французский публицист, политический деятель, религиозный философ, один из идеологов борьбы с французской революцией.
(обратно)286
Гудович Иван Васильевич (1741–1820) — граф, генерал-фельдмаршал, член Госсовета, в 1809–1812 гг. главнокомандующий в Москве.
(обратно)287
Русский Архив, 1876 г. T. I. С. 374–375.
(обратно)288
Эта «Записка о мартинистах» действительно была составлена. Она напечатана в Русском Архиве за 1875 г. Т. III. С. 5.
(обратно)289
Попов А. Эпизоды из истории 1812 г.//Русский Архив, 1892 г. T. II.
(обратно)290
Брокер Адам Фомич (1771–1848) — чиновник Московского почтамта, с июля 1812 г. — московский полицмейстер.
(обратно)291
Оденталь Иван Петрович (1776–1813) — чиновник Петербургского почтамта.
(обратно)292
Русский Архив, 1867 г. № II; Русская Старина, 1912 г. Май.
(обратно)293
Бестужев-Рюмин Александр Дмитриевич — второй член Вотчинного департамента Московского присутствия Сената.
(обратно)294
Чтение в Общ. Ист. и Древн., 1859 г. Кн. 2.
(обратно)295
Русский Архив, 1872 г. № 12.
(обратно)296
Русский Архив, 1892 г. Т. 11.
(обратно)297
См., например, его письмо к управляющему его имениями//Русский Архив, 1864 г. № 4.
(обратно)298
Русский Архив, 1872 г.
(обратно)299
Русский Архив, 1912 г.
(обратно)300
«Дело Верещагина» — Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812) — сын купца. Толчком к началу «дела» послужили сочиненные Верещагиным и его товарищем Мешковым прокламации, в которых говорилось об обещании французского императора Наполеона менее чем через неделю быть в Москве и Санкт-Петербурге. Ф. В. Ростопчин использовал эти малограмотные прокламации для обвинения московского почт-директора Ф. П. Ключарева в руководстве заговором масонов. Ф. В. Ростопчин объявил, что прокламации Верещагина не что иное, как переведенное с немецкого языка письмо Наполеона королю Пруссии и князьям Рейнского союза. По его приказу Верещагина арестовали, а 2 сентября 1812 г. он попытался сделать из сочинителя прокламаций «козла отпущения», предложив толпе москвичей «судить Верещагина». Не удовлетворившись замешательством толпы, Ф. В. Ростопчин приказал убить Верещагина унтер-офицерам, находящимся при нем. На самом деле «сочинения» Верещагина не были связаны с какими-либо заговорами и письмами Наполеона I. Французский император такого письма не писал, с подобной речью к прусскому королю и князьям Рейнского союза не обращался. Поступок Верещагина был бессмысленным, но опасным в условиях военного времени. «Дело Верещагина» было использовано Ф. В. Ростопчиным для создания образа «патриота», готового «с корнем вырвать измену». Подробнее см.: Толстой Л. Н. Война и мир. М., 1968. Кн. 2. С. 282–283; Тарле Е. В. 1812 год. М., 1994. С. 183–184, 187–188.
(обратно)301
Русский Архив, 1892 г. T. II; Русская Старина, 1893 г. Т. 77.
(обратно)302
Лонгинов — помещик, состоявший в переписке с влиятельными политическими фигурами Российского государства. Его переписка — прекрасный исторический источник для изучения настроения русского дворянства 1812 года.
(обратно)303
Русский Архив, 1912 г.
(обратно)304
Государственный совет (Госсовет) — высший законосовещательный орган Российской империи в 1810–1906 гг. Рассматривал внесенные министрами законопроекты до их утверждения императором, сметы, штаты госучреждений, а также решал административные и судебные дела, превышавшие компетенцию других государственных органов. Председатель и члены Госсовета назначались императором. Состоял из 4 департаментов канцелярии. Во главе канцелярии — государственный секретарь.
(обратно)305
Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) — граф, государственный деятель. В 1837–1856 гг. возглавлял министерство государственных имуществ, инициировал реформу управления государственными крестьянами.
(обратно)306
Русский Архив. 1863 г. № 12.
(обратно)307
Теплиц (Теплице) — город в Чехии в Рудных горах.
(обратно)308
Карлсбад — город в Чехии, ныне — Карловы Вары.
(обратно)309
Мекка — город в Саудовской Аравии, священный город всех мусульман. Место их паломничества (хаджа). А. А. Кизеветтер использовал слово «Мекка», как нарицательное для обозначения святого места.
(обратно)310
Архив Воронцова. T. VIII. С. 321.
(обратно)311
Тальма Франсуа Жозеф (1763–1726) — французский актер, работавший на сцене Французской комедии. Сторонник полного соответствия декораций и костюмов историческим реалиям.
(обратно)312
Марс Анна Франсуаза Ипполита (наст, фамилия — Буте) (1779–1847) — французская актриса. Исполняла первые роли на сцене Французской комедии, а затем преподавала драматическое искусство в Парижской консерватории.
(обратно)313
Буффон (итал. buffonada) — шут. В цирке буффонада — подчеркнутое внешне комическое преувеличение, окарикатуривание.
(обратно)314
Воспоминания Вигеля. T. V. С. 132–134.
(обратно)315
Архив Воронцова. T. VIII. С. 357–358, 379, 449, 483, 504 и др.
(обратно)316
Там же. С. 472.
(обратно)317
Николай Павлович (1796–1855) — сын императора Павла I, великий князь, российский император с 1825 по 1855 г.
(обратно)318
Начало XX века было, по словам историка В. О. Ключевского, периодом «первого шага от чисто приказного строя» в российской политической жизни. Созыв Государственной Думы в апреле 1906 г., издание «Конституции» — «Основных законов» 23 апреля 1906 г. положили начало парламентаризму и многопартийности в России. Манифест 17 октября 1905 г. даровал населению гражданские права. Ограничение самодержавия, демократизация общества рождали в консервативно-монархических кругах протест. Защитниками неограниченной монархии выступили ультранационалистические организации, эксплуатировавшие идею «особого русского пути», которому чужды парламентская демократия, Конституция, ограниченная правом власть монарха, — «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и др.
(обратно)319
Der Kônig absolut, wenn er unsern Willen thut — Король тогда имеет абсолютную власть, когда он нашу волю выполняет (нем.).
(обратно)320
Архив Воронцова. T. XII. С. 167.
(обратно)321
Кутайсов Иван Павлович (ок. 1759–1834) — граф, камердинер и фаворит Павла I.
(обратно)322
Кн. Ад. Чарторижский: Мемуары. T. I.
Лопухина Анна Петровна (в замужестве Гагарина) (1777–1805) — камер-фрейлина, кавалерственная дама, фаворитка Павла I.
(обратно)323
Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844) — генерал от инфантерии, в 1812 г. был дежурным генералом армии. С 1812 по 1814 г. командовал отдельным отрядом.
(обратно)324
Бенигсен (Беннигсен) Леонтий Леонтьевич (1745–1826) — граф (1812), генерал от кавалерии. Участвовал в убийстве Павла I. В 1807 г. — главнокомандующий русской армией в войне с Францией. В августе-ноябре 1812 г. исполнял обязанности начальника Главного штаба русской армии.
(обратно)325
Волконский Петр Михайлович (1776–1852) — князь, генерал-фельдмаршал. В ходе Отечественной войны 1812 г. был генерал-адъютантом, выполняя поручения императора Александра I в войсках. В 1813–1814 гг. — начальник Главного штаба.
(обратно)326
Русский Архив, 1892 г. T. II.
(обратно)327
Цинциннат — римский патриций, консул 460 г. до н. э. Согласно преданию был образцом скромности. Его имя стало нарицательным.
(обратно)328
Репнин Николай Васильевич (1734–1801) — князь, генерал-фельдмаршал (1796), с 1798 г. — в отставке.
(обратно)329
Салтыков Николай Иванович (1736–1816) — князь, генерал-фельдмаршал, сенатор (1784). С 1812 г. председательствовал в Госсовете и Комитете министров.
(обратно)330
Материалы для жизнеописания Панина. T. V; Русский Архив. 1876 г., Кн. III. Рожерсон в письме кн. С. Воронцову от 22 февраля 1801 г. настаивает на том, что истинным источником опалы Ростопчина послужила вовсе не история с письмом, а размолвка Ростопчина с Кутайсовым. Ростопчин позволил себе отпустить несколько насмешливых острот о любовнице Кутайсова — Шевалье, и Кутайсов решил при первом же удобном случае погубить Ростопчина. Однако и Рожерсон признает, что письмо, о котором вдет речь в тексте, принадлежало Приклонскому//Архив Воронцова. T. XXX. С. 129–130. Вяземский в «Старой записной книжке» приводит и еще один факт злостной подделки Ростопчиным письма, на этот раз с целью погубить своего врага почт-директора Пестеля*. В этом поддельном письме сообщалось о мнимом участии Пестеля в каком-то фантастическом заговоре. Вяземский говорит, что слышал о том от Карамзина//Вяземский. Сочинения. T. VIII. С. 391–392.
*Пестель Иван Борисович (1765–1843) — сибирский генерал-губернатор, сенатор, член Госсовета, отец декабриста П. И. Пестеля. В годы царствования Павла I — почт-директор, президент главного почтового правления Санкт-Петербурга.
(обратно)331
См. Русский Архив, 1876 г. Кн. III.
(обратно)332
Там же, 1875 г.
(обратно)333
Рейнский союз — конфедерация германских государств под протекторатом Наполеона I, созданная в 1806 г. В союз первоначально объединились 16 государств Западной и Южной Германии. Эти государства отделились от Священной Римской империи германской нации (императором был австрийский монарх). В 1811 г. к Рейнскому союзу присоединилось еще 20 государств. Государства Союза были обязаны держать наготове войска и участвовать в наполеоновских войнах. Союз прекратил свое существование в 1813 году.
(обратно)334
Нередко этот поступок Ростопчина объясняют иначе. Говорят, что Ростопчин, прежде чем покинуть свой дом перед входом французов в Москву, натравил толпу на Верещагина для того, чтобы отвлечь от собственной особы толпу, бывшую тогда очень возбужденной против главнокомандующего. Автор статьи сомневается, что Ростопчин сделал это из страха перед толпой. Автор отмечает два обстоятельства: 1) Ростопчин сначала смотрел на толпу с балкона и потом вышел говорить с ней на крыльцо, что указывает на то, что он толпы не боялся, и 2) настроение толпы вовсе и не было страшно: Мутона она не тронула, а Верещагина начала терзать только по призыву Ростопчина.
(обратно)335
Харон — в греческой мифологии перевозчик умерших через реку подземного царства до врат Аида (подземного царства). Для уплаты за перевоз покойнику клали в рот монету. Барка Харона — барка для перевоза умерших.
(обратно)336
Seconde maman — крестная мать.
(обратно)337
Русский архив, 1905 г. T. I, С. 704.
(обратно)338
Ibid, S. 797.
(обратно)339
Русский архив, 1872 г. Очень возможно, что в этих поступках Ростопчина проявилось не корыстолюбие, а просто желание украсить свой дом нарядными вещами. Это не меняет, однако, сущности дела: произвольного присвоения себе Ростопчиным не принадлежавшего ему имущества.
(обратно)340
Mémoires, écrits en dix minutes — Мемуары, написанные за десять минут (франц.).
(обратно)341
Николай Павлович — см. прим. 88; Михаил Павлович (1798–1848) — великий князь, генерал-фельдцехмейстер.
(обратно)342
Кн. Вяземский в своей «Старой записной книжке» сообщает подобный же факт. Ростопчин настойчиво уговаривает Павла не подписывать одного указа. Павел стоял на своем. Вдруг император спросил: «Что готов ты сделать, чтобы я уничтожил эту бумагу?» — «А все, что будет угодно вашему величеству, хотя бы пропеть арию из итальянской оперы», — отвечает Ростопчин. — «А ну-ка спой!» — говорит император. Ростопчин затягивает арию с разными фиоритурами. Император начинает подтягивать и при этом раздирает на клочки уже подписанный им указ//Вяземский. «Сочинения». T. VIII, С. 156. И этот рассказ мог исходить только от самого Ростопчина, ибо дело идет опять о сцене, разыгравшейся между Ростопчиным и Павлом один на один. В другой своей статье «Характеристические заметки и воспоминания о гр. Ростопчине» (Русский Архив, 1677 г. T. II) кн. Вяземский говорит: «Служба Ростопчина при императоре Павле неопровержимо убеждает, что она не заключалась в одном раболепном повиновении. Известно, что он в важных случаях оспаривал со смелостью и самоотвержением, доведенными до последней крайности, мнения и предложения императора, которого оспаривать было дело нелегкое и небезопасное».
(обратно)343
Старина и Новизна. Кн. VII. 1904 г.
(обратно)344
Русский Архив, 1892 г. T. II.
(обратно)345
Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818) — князь, генерал-фельдмаршал (1814). В 1810–1812 гг. — военный министр. В Отечественной войне 1812 г. — командующий 1-й армией, в июле-августе — главнокомандующий. В 1813–1814 гг. — командовал русско-прусской армией.
(обратно)346
В кн. Николай Михайлович: «Переписка имп. Александра I с велик. кн. Екатериной Павловной». С. 87.
(обратно)347
Мирабо Оноре Габриэль Рикети (1749–1791) — граф, деятель Великой Французской революции.
(обратно)348
Юнг — возможно, речь идет о сыне Артура Юнга, автора книги об экономическом положении Франции накануне революции — A. Young. Travels in France during the years 1787, 1788, 1789 (Путешествия no Франции в 1787, 1788, 1789 годах).
(обратно)349
Питт Уильям Младший (1759–1806) — премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг., лидер «новых тори», один из организаторов коалиций против революционной и наполеоновской Франции.
(обратно)350
Девятнадцатый век. T. II. С. 100.
(обратно)351
Констан де Ребек Бенжамен Анри (1767–1830) — французский писатель и публицист либерального направления.
(обратно)352
Вениамин — библейский персонаж (сын десницы), младший сын Иакова от Рахили. Его мать умерла сразу же после его рождения. Отец дат ему имя Вениамин, т. е. сын десницы моей. Вениамин был привязан к своему отцу, доставлял ему много радости. Иаков предсказал будущее Вениамина и его колена перед смертью: «Вениамин хищный волк, утром будет есть ловитву: и вечером будет делить добычу» (Быт. 49, 27).
(обратно)353
Архив кн. Воронцова. T. VIII.
(обратно)354
A la Brutus — подобно Бруту. Брут Луций Юний (ум. в 509 г. до н. э.) — древнеримский герой, первый консул Римской республики, борец с царем Тарквинием Гордым. Брут Марк Юний (85–42 г. до н. э.) — римский политический деятель, республиканец, один из инициаторов убийства Гая Юлия Цезаря. Имя Брута было синонимом борьбы с тиранией.
(обратно)355
Якобинцы — радикальное течение в период Великой Французской революции. В России в монархических кругах слово якобинец стало синонимом революционера, «бунтовщика», готового сломать старые ценности.
(обратно)356
Занд Карл (1795–1820) — студент Йенского университета. Убил правого публициста Ф. Коцебу, как олицетворение реакции.
(обратно)357
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — герцог, кардинал, французский политический деятель, дипломат. Стремился к усилению государственной власти, ее централизации. Во внешней политике добивался «естественных границ Франции» — Пиренеи — на юго-западе, морское побережье — на западе, на востоке — левый берег Рейна.
(обратно)358
Пале-Рояль — резиденция французских королей.
(обратно)359
Русский Архив, 1872 г.
(обратно)360
Стройновский Валериан Венедиктович — граф, сенатор.
(обратно)361
Семевский Василий Иванович (1848/49-1916) — историк, профессор, редактор журнала «Голос минувшего».
(обратно)362
Подробн. см.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России. T. I.
(обратно)363
Указ о вольных хлебопашцах (свободных хлебопашцах) — Указ 1803 г., предполагавший освобождение крестьян от крепостной зависимости с землей на основании добровольного соглашения с помещиками.
(обратно)364
Лагарп Фредерик Сезар де (1754–1838) — швейцарский политический деятель. В 1784–1795 гг. — воспитатель Александра I. В 1798–1800 гг. возглавлял Директорию Гельветической Швейцарской Республики.
(обратно)365
Каразин Василий Назарович (1773–1842) — русский и украинский общественный деятель, просветитель. В 1805 г. основал Харьковский университет.
(обратно)366
Русская Старина, 1893 г. Т. 77.
(обратно)367
Кайсаров Андрей Сергеевич (1782–1813) — историк, просветитель, профессор Дерптского (Тартусского) университета (1811). Автор труда «Об освобождении крепостных в России».
(обратно)368
Строганов Павел Александрович (1772–1817) — граф, государственный деятель, один из инициаторов так называемого Негласного комитета при Александре I, сторонник либеральных преобразований.
(обратно)369
Т. е. без графского титула.
(обратно)370
Конституционные проекты 1730 г. — так называемые «Кондиции», выдвинутые Верховным Тайным Советом с целью ограничения самодержавия. Были разорваны императрицей Анной Иоанновной, опиравшейся на гвардию.
(обратно)371
Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) — князь, историк, депутат Уложенной комиссии 1767–1768 гг., публицист.
(обратно)372
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) — граф, государственный деятель, адмирал. В 1823–1840 гг. — президент Вольного экономического общества. Прославился тем, что единственный из 72 членов суда по делу декабристов проголосовал против смертной казни для участников движения.
(обратно)373
Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский просветитель, правовед, философ. Выступал с идеей «разделения властей».
(обратно)374
Новиков Николай Иванович (1744–1818) — просветитель, писатель, публицист, издатель, организатор библиотек. Издавал журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек».
(обратно)375
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) — писатель, драматург, дипломат.
(обратно)376
Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) — поэт, один из родоначальников анакреонтического направления в русской лирике.
(обратно)377
Гнедич Николаи Иванович (1774–1833) — поэт, переводчик. Переводил Ф. Шиллера, У. Шекспира, Вольтера, «Илиаду» Гомера.
(обратно)378
Русская Старина, 1883 г., май.
(обратно)379
В pendant — в завершение (фр.).
(обратно)380
«Сын Отечества» — исторический, политический, литературный журнал. Основан Н. И. Гречем.
(обратно)381
Перепечатано в Русском Архиве, 1876 г., кн. X.
(обратно)382
Вяземский, знавший лично Ростопчина, пишет про него: «Складом ума, остроумием был он (Ростопчин) ни дать ни взять настоящий француз. Он французов ненавидел и ругал на чисто французском языке»// Русский Архив, 1877 г. T. II.
(обратно)383
Русско-австрийская коалиция — III коалиция, сложившаяся в 1805 г., направленная против Наполеона I. Помимо Австрии и России в нее входили Англия, Швеция, Королевство обеих Сицилий. Распалась после поражения русско-австрийской армии под Аустерлицем.
(обратно)384
Дашкова (Воронцова-Дашкова) Екатерина Романовна (1744–1810) — княгиня. Участвовала в возведении на престол Екатерины II в 1762 г. С 1769 г. более 10 лет проживала за границей. В 1783–1786 гг. — директор Петербургской Академии наук. Президент Российской академии.
(обратно)385
Дидро Дени — см. прим. к очерку «Екатерина II».
(обратно)386
Русско-прусская коалиция — IV коалиция, направленная против наполеоновской Франции. Существовала в 1806–1807 гг. Помимо России и Пруссии коалицию составили Англия, Саксония, Швеция. Распалась после поражения русской армии под Фридландом в 1807 г.
(обратно)387
Тильзитский союз — имеется в виду договор между Россией и Францией, подписанный 25.06.(7.07.)1807 г. Россия обязывалась вывести войска из Дунайских княжеств, соглашалась на создание вассального государства наполеоновской империи — герцогства Варшавского. Одновременно был подписан оборонительно-наступательный союз, направленный против Англии. Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде Англии. С началом Отечественной войны 1812 г. утратил свою силу.
(обратно)388
Русский Архив, 1892 г. T. II.
(обратно)389
Бакунина Варвара Ивановна (1773–1840) — жена петербургского губернатора, писательница, автор работы «Двенадцатый год в записках».
(обратно)390
Фуль (Пфуль) Карл Людвиг Август (1757–1826) — прусский генерал. С 1806 г. — на русской службе, военный советник Александра I, разработчик плана ведения войны 1812 г. 13 июля 1812 г. этот план был отвергнут на военном совете.
(обратно)391
Армфельд (Армфельт) Густав Мориц (1757–1814) — граф, шведский военный деятель. В 1811 г. перешел на русскую службу. В 1812–1813 гг. — генерал-губернатор Финляндии.
(обратно)392
Русская Старина, 1885 г., сентябрь.
(обратно)393
Поздеев Осип Алексеевич (1756–1820) — помещик, имевший широкую корреспонденцию. Среди его корреспондентов были А. К. Разумовский и С. С. Ланской.
(обратно)394
Ланской Сергей Степанович (1787–1862) — граф, русский государственный деятель.
(обратно)395
Пугачев Емельян Иванович — предводитель крестьянской войны 1773–1775 гг.
(обратно)396
Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) — граф, государственный деятель. В 1810–1812 гг. — министр народного просвещения.
(обратно)397
Русский Архив, 1872 г.
(обратно)398
Тургенев Александр Иванович (1784–1845) — общественный деятель, писатель, историк, почетный член Петербургской Академии наук (1818).
(обратно)399
Русский Архив, 1866 г. T. I.
(обратно)400
Русский Архив, 1892 г. T. II.
(обратно)401
Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837) — государственный деятель, с 1810 г. — министр полиции.
(обратно)402
Дубровин. Отечественная война в письмах современников. № 55.
(обратно)403
Глинка С. Записки о 1812 годе. С. 34.
(обратно)404
Русский Архив, 1863 г. № 2. С. 34.
(обратно)405
Русская Старина, 1883 г. № 12.
(обратно)406
Дубровин: Отечественная война в письмах современников. № 62.
(обратно)407
Московская милиция — имеется в виду московское ополчение.
(обратно)408
Русский Архив, 1876 г. T. 1; 1875 г. Т. III. С. 75. Ср. Архив кн. Воронцова. T. XXVI. С. 497–507.
(обратно)409
А. Попов отметил, что Ростопчин путается в своих объяснениях по этому пункту. В одном месте записок он говорит, что спас этих иностранцев, ибо, не будучи высланы, они, наверное, пристали бы к армии Наполеона и погибли бы вместе с нею. В другом месте он заявляет, что, удаляя этих иноземцев из Москвы, он спасал их от ненависти народа.
(обратно)410
Попов Андрей Николаевич (1820–1827?) — военный историк.
(обратно)411
Масоны (франкмасоны) (от французского franc maçon — вольный каменщик) — религиозно-нравственное движение. Возникло в период позднего средневековья. Противопоставляло себя официальной церкви, феодальной государственности. Масоны выступали за создание всемирной организации с целью объединения людей в братском религиозно-нравственном союзе. В России масоны появились в 70-е годы XVIII в. В 1822 г. масонские ложи были закрыты. С конца XVIII в. существует огромная литература, приписывающая масонам тайный заговор, считающая их «силами зла». Возрождение масонства в России начинается в начале XX века.
(обратно)412
Ключарев Федор Петрович (1751–1822) — московский почт-директор, масон.
(обратно)413
Шварц Иван Григорьевич (?-1784) — профессор философии Московского университета.
(обратно)414
Русская Старина, 1912 г. август.
(обратно)415
Еще до начала Верещагинского дела Ростопчин в письме от 7 июня набрасывает тень на Ключарева в глазах государя: «Если вашему величеству угодно почтить меня приказаниями касательно Леппиха*, умоляю доставлять их мне через курьера, так как мне известно, что Ключарев вскрывает все письма и все их читает»//Русский Архив, 1892 г. T. II.
*Леппих — выходец из Германии, предлагавший Ф. В. Ростопчину изготовить воздушный шар, подняться на нем над наполеоновской армией и уничтожить императора французов.
(обратно)416
Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) — сенатор, масон, автор религиозных сочинений и воспоминаний.
(обратно)417
Кутузов Павел Иванович — куратор Московского университета.
(обратно)418
Русский Архив, 1866 г. T. I. с. 692–694.
(обратно)419
Русская Старина, 1897 г. Т. 77.
(обратно)420
Русская Старина, 1889 г. № 12.
(обратно)421
Дубровин. Отечественная война в письмах современников. № 17, 92.
(обратно)422
Me voila content — я удовлетворен (франц.).
(обратно)423
Русский Архив, 1866 г. T. 1. С. 717–718; Старина и Новизна, кн. VII. Воспоминания Булгакова.
(обратно)424
К убедительным соображениям Попова теперь можно присоединить и одно новое документальное указание, обнародование которого, на мой взгляд, должно устранить всякие дальнейшие споры по этому вопросу. В трудах ярославской архивной комиссии графиня В. А. Татищева недавно напечатала отрывок из рукописной биографии Ростопчина, составленный в 60-х годах прошлого столетия старшей дочерью графа — Н. Ф. Нарышкиной. Здесь приводится, между прочим, письмо Ростопчина к жене от 11 сентября 1812 г. (семья графа находилась в это время в Ярославле). В этом письме находим такие строки: «…Моя мысль поджечь город была бы полезной до вступления злодея, но Кутузов меня обманул, и когда он занял позицию в 6 верстах накануне отступления от Москвы, было уже поздно. Французы ничего не нашли в Москве, но они могут сказать, что они ее ограбили и сожгли, что для них торжество, тогда как вид Москвы, превращенной в пепел, возбудил бы ярость в сердцах солдат и они бы увидели — с каким народом имеют дело…». Итак, Ростопчин здесь сожалеет, что не он сжег Москву. Это письмо в высшей степени ценно, как совершенно интимное признание жене, не предназначавшееся для огласки и притом сделанное по самым горячим следам событий, можно сказать, еще при зареве московских пожаров//См. Труды ярославской архивной комиссии. Кн. III. Ярославль, 1912 г. С. 15.
(обратно)425
Платон (в миру Левшин) (1737–1812) — митрополит Московский, славившийся своим красноречием.
(обратно)426
На самом деле Сергий Радонежский (ок. 1321–1391) не участвовал в Куликовской битве 8 сентября 1380 г. Он благословил московского князя Дмитрия Ивановича (1350–1389) перед походом и отпустил с ним двух своих иноков, Пересвета и Ослябю.
(обратно)427
Русская Старина, 1889 г. декабрь.
(обратно)428
С. Глинка. Записки о 1812 годе.
(обратно)429
Анна Иоанновна (1693–1740) — российская императрица в 1730–1740 гг. «Бироновщина» — политический режим, названный по имени Эрнста Иоганна Бирона (1690–1772) — фаворита императрицы Анны Иоанновны.
(обратно)430
Сперанский М. М. — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)431
Пушкин. Отрывки из дневника//Сочинения. М., 1882. T. V. С. 233.
(обратно)432
Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (1826–1889) — русский писатель-сатирик.
(обратно)433
Ормузд и Ариман — персонажи персидской мифологии. Ормузд (Ахурамазда) — олицетворение доброго начала, Ариман (Анхроманьо) — злотворного.
(обратно)434
Тальма Франсуа Жозеф — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)435
Сталь Анна Луиза Жермена де — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)436
Это представление положено в основу и последней по времени появления работы о личности Александра I — Н. Н. Фирсов: «Император Александр I и его душевная драма», 1910 г.
(обратно)437
Русский Архив, 1866 г. С. 99. Заметка помечена апрелем 1792 г.
(обратно)438
Лагарп Фредерик Сезар де — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)439
Елизавета Алексеевна (1779–1826) — императрица, жена императора Александра I.
(обратно)440
«Неофициальный комитет» («Негласный комитет») — неофициальный совещательный орган при императоре Александре I. Членами Совета были Н. Н. Новосильцев, П. А. Строганов, А. Чарторыйский (Чарторижский), В. П. Кочубей. В 1801–1803 гг. подготовил проекты учреждения министерств, реформ Сената, обсуждал конституционные проекты, проблемы государственного устройства Российской империи.
(обратно)441
Сообщение де Санглена — ср. статью Погодина «Сперанский»//Русск. Арх., 1871 г. № 7–8. С. 1168–1169. По свидетельству де Санглена, Александр, выражая недовольство проектом Сперанского, сказал: «Сперанский вовлек меня в глупость».
(обратно)442
«Священный союз» — союз России, Австрии и Пруссии, заключенный в Париже 26 сентября 1815 г. после окончательного поражения Наполеона I. Основной целью Союза было обеспечение незыблемости решений Венско1Ч) конгресса 1814–1815 гг. и устройства посленаполеоновской Европы. В 1815 г. к Союзу присоединилась Франция Бурбонов. В ряде акций Союза принимала участие Великобритания. Союз инициировал подавление австрийскими войсками революций в Неаполе и Пьемонте (1820–1821), французскими войсками — в Испании (1823). В конце 1820-х — нач. 1830-х гг. из-за противоречий между членами Союза он фактически перестал существовать.
(обратно)443
Меттерних Клеменс Лотар Венцель (1773–1859) — князь, австрийский государственный деятель, дипломат. С 1821 по 1848 г. — канцлер.
(обратно)444
Ср. ст. г. Козловского «Александр и Джефферсон»//Русская Мысль, 1910 г. Октябрь.
Джефферсон Томас (1743–1826) — американский просветитель, автор проекта Декларации независимости США, третий президент США (1801–1808), госсекретарь (1790–1793).
(обратно)445
Новосильцев Николай Николаевич (1768–1838) — граф, государственный деятель, член Негласного комитета. С 1832 г. председатель Госсовета и Комитета министров.
(обратно)446
Петербург и Гатчина — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)447
Энциклопедисты — французские просветители, участвовавшие во главе с Д. Дидро в создании «Энциклопедии или Толкового Словаря наук, искусств и ремесел». В 1751–1780 гг. было подготовлено 35 томов «Энциклопедии».
(обратно)448
Зубов — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)449
Русская Старина, 1903 г. Январь. Неизданная глава из книги бар. Корфа17.
(обратно)450
Корф Модест Андреевич (1800–1876) — барон, русский государственный деятель, историк. С 1834 г. — госсекретарь. В 1864–1872 гг. — председатель департамента законов Госсовета. Имеется в виду его книга «Жизнь графа Сперанского».
(обратно)451
Русская Старина, 1903 г. Январь.
(обратно)452
Шуазель-Гуфье (Шуазель-Гуффье) София — фрейлина при дворе императора Александр I, жена французского дипломата, автор мемуаров о русском императорском дворе.
(обратно)453
Русская Старина, 1877 г. Декабрь.
(обратно)454
Тильзит — город, в котором велись переговоры после войны 1805–1807 гг. Тильзитский договор между Россией и Францией был подписан 25.06.(7.07.)1807. Подробнее см. прим. 137 к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)455
Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) — виконт, французский политический деятель, писатель, историк, член французской Академии с 1811 г. В годы Реставрации в 1822–1824 гг. — министр иностранных дел.
(обратно)456
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) — генерал от инфантерии, участник войн с Францией, в 1816–1827 гг. — главнокомандующий в Грузии.
(обратно)457
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848) — генерал, участник Отечественной войны 1812 года. Состоял при Александре I со времен Венского конгресса. Историк, автор трудов по военной истории России, с 1841 г. — член Российской академии.
(обратно)458
Смотр при Вертю происходил 29 августа 1814 г. За три дня до этого — августа, как раз в годовщину Бородинской битвы, — была устроена репетиция предстоящего смотра. Михайловский-Данилевский, описывая эту репетицию в своем дневнике, передает, между прочим, любопытную сценку: генерал Толь*, окидывая взором выстроившуюся армию, сказал государю: «Как приятно, ваше величество, что сегодня память Бородинскому сражению». В тот же момент к государю подъехал лейб-медик Вилье с точно такими же словами. Александр не ответил ни слова и поспешил отвернуться//Шильдер**. Александр I. T. III. прим. 456.
*Толь Карл Федорович (1777–1842) — генерал от инфантерии, граф (1829). В Отечественную войну 1812 г. — генерал-квартирмейстер 1-й армии, затем действующей армии (до 1815 г.). Был начальником штаба русской армии в русско-турецкой войне 1828–1829 гг., при подавлении польского восстания 1830–1831 гг.
**Шильдер Николай Карлович (1842–1902) — историк, директор Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, член-корреспондент Петербургской АН (1900), автор биографий Павла I, Александра I, Э. Н. Тотлебена, Николая I.
(обратно)459
Николай Павлович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)460
Строганов Павел Александрович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)461
Любопытно отметить, что Строганов, задумывая план образования неофициального комитета, рассчитывал первоначально как раз на мнимую уступчивость и мягкость Александра. Во время работы комитета Строганову пришлось, однако, убедиться в том, как неосторожны были эти расчеты.
(обратно)462
Мария Федоровна — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)463
Нарышкина Мария Антоновна (1779–1854) — фаворитка императора Александра I.
(обратно)464
Константин Павлович (1779–1831) — великий князь, второй сын Павла I. Командовал императорской гвардией в 1805–1807 гг., в Отечественной войне 1812 г. командовал V гвардейским корпусом, резервными войсками Главной армии. С 1814 г. наместник Царства Польского.
(обратно)465
Квазимодо — синоним физического урода. Персонаж романа французского писателя В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», в котором Квазимодо — горбатый, глухой, с кривыми ногами.
(обратно)466
Гриббе Александр Карлович (1806–1876) — офицер Гренадерского графа Аракчеева полка, писатель.
(обратно)467
Русская Старина, 1875 г. Январь.
(обратно)468
Саблуков Николай Александрович (1776–1848) — генерал, автор «Записок» о Павле I, Александре I на английском языке для узкого круга лиц. «Записки» попали в печать в 1865 г., а в русском переводе появились в 1869 г. в журнале «Русский Архив».
(обратно)469
Русский Архив, 1869 г. С. 1897.
(обратно)470
Укажу здесь в особенности на воспоминания Кутлубицкого1, который в царствование Павла оберегал Аракчеева от недоброжелательства Кутайсова и пользовался за это во все последующее время особым благоволением Аракчеева; на воспоминания Брадке2, который во время службы в военных поселениях, водил личное, домашнее знакомство с Аракчеевым, хотя и не был в числе его безгласных рабов; воспоминания Маевского3, имевшего еще более тесные и интимные служебные связи с Аракчеевым; на воспоминания Европеуса4, врача в военных поселениях, которого Аракчеев в знак благоволения наградил бриллиантовым перстнем и который во время опалы Аракчеева при Николае Павловиче был домашним врачом графа. В каком свете представлялась личность Аракчеева даже тем, кому он благодетельствовал, всего лучше показывают слова, сказанные П. И. Савваитову5 протоиереем грузинского собора Н. С. Ильинским в объяснение того, что им не были докончены начатые записки об Аракчееве: «Граф делал мне добро, — сказал протоиерей, — но правду писать о нем надобно не чернилами, а кровью» (Русская Старина, 1872 г. Март. С. 471–472). Из сподвижников Аракчеева вполне восторженно отзываются о нем только Эйлер6 и Жиркевич7. Но Эйлер — свидетель, заинтересованный в апологии Аракчеева, а Жиркевич сам выдает наивность своих суждений теми фактами, которыми он их думает подкрепить. Он рассказывает, например, как Аракчеев однажды отдал приказание наказать телесно георгиевских кавалеров и потом под благовидным предлогом простить их. Для Жиркевича это — доказательство незлобивости и отходчивости Аракчеева, между тем ясно, что Аракчеев поспешил лишь выпутаться из невозможного положения, созданного им отдачей такого приказания, которое не могло быть исполнено ввиду его вопиющей противозаконности. Из мемуаров, принадлежащих личным неприятелям Аракчеева, важное значение имеют мемуары Мертваго8, но порукою правдивости сообщаемых в этих мемуарах данных служит известное благородство души их автора.
1 Кутлубицкий Николай Осипович (ум. в 1849 г.) — генерал, адъютант императора Павла I.
2 Брадке Егор Федорович фон (1796–1862) — сенатор, попечитель Киевского и Дерптского учебных округов.
3 Маевский Сергей Иванович (1779–1848) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года. В 1824–1826 гг. служил в военных поселениях.
4 Европеус Иван Исаакович (1794-?) — старший врач новгородских военных поселений, впоследствии служил на Кавказе.
5 Савваитов Павел Иванович (1815–1895) — археолог, автор «Заметок», в которых содержатся сведения об А. А. Аракчееве со слов священника H. С. Ильинского и А. С. Норова.
6 Эйлер Александр Христофорович (1779–1849) — генерал от артиллерии, член Военного совета.
7 Жиркевич Иван Степанович (1789–1848) — генерал-майор артиллерии, симбирский и витебский губернатор.
8 Мертвого Дмитрий Борисович (1760–1824) — сенатор, генерал-провиантмейстер, таврический губернатор.
(обратно)471
Записки Жиркевича//Русская Старина, 1874 г. Февраль.
(обратно)472
Русский архив, 1868 г
(обратно)473
Пестель И. Б. — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)474
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) — военный писатель, поэт. В 1812 г. — полковник, командир Ахтырского гусарского полка, организатор и командир партизанского отряда, впоследствии генерал-лейтенант (1831).
(обратно)475
Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии. В 1828–1831 гг. — министр внутренних дел, в 1848–1859 гг. — московский генерал-губернатор.
(обратно)476
Сборник Русск. Истор. Общ. Т. 73. С. 523.
(обратно)477
Отто. Черты из жизни гр. Аракчеева по документам Грузинского архива//Древняя и Новая Россия.
(обратно)478
Фишер Константин Иванович (1805–1868) — сенатор, управляющий Канцелярией свода морских постановлений, Канцелярией генерал-губернатора, директор Департамента железных дорог.
(обратно)479
Allons nous en — пойдем туда (фр.).
(обратно)480
Записки Фишера//Историч. Вестник, 1908 г. Май.
(обратно)481
«Записки Эйлера»//Русский Архив, 1880 г. Кн. 3.
(обратно)482
«Записки Брадке»//Русский Архив, 1875 г. Кн. 1.
(обратно)483
Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — публицист, гидрограф, сотрудничал в газете «Неделя» в 90-х гг. ХIХ века, испытал влияние идей Л. Н. Толстого. Затем перешел в консервативное «Новое время». Его публицистика стала синонимом реакционности и беспринципности в глазах либеральной общественности.
(обратно)484
Древн. и Новая Россия, 1875 г. Ст. Отго.
(обратно)485
В воспоминаниях Гриббе рассказывается, что в поселенных войсках были особые специалисты по части безжалостного сечения. К ним-то и отсылал Аракчеев своих провинившихся дворовых с записками вроде следующей: «Препровождаемого при сем прогнать через пятьсот человек один раз, поручив исполнение этого майорам Писареву и кн. Енгалычеву». В целях назидания вместе с виновным присылались обыкновенно и несколько зрителей из числа дворни, которые в парадных ливреях должны были идти по той же «зеленой улице», по которой тащили несчастного истязуемого, и притом непосредственно вслед за ним. Воспоминания Гриббе//Русская Старина, 1875 г. Январь.
(обратно)486
Салтычиха (Салтыкова Дарья Николаевна) (1730–1801) — помещица Подольского уезда Московской губернии, замучившая более 100 человек крепостных. В 1768 г. была заключена в монастырскую тюрьму. Салтычиха стала символом жестокости и самодурства, а ее имя стало нарицательным.
(обратно)487
Русская старина.
(обратно)488
Служивший при военных поселениях доктор Европеус говорил, что Аракчеев был человеком с развинченной психикой и страдал глубоким расстройством всей нервной системы. Отсюда — его мнительность, припадки тоски и бессонницы и вспыльчивость до полного умоисступления. Он мог прослезиться при слушании печальной истории и тут же приказать строго наказать 10-летнюю девочку за нечисто выметенную дорожку//Русская Старина, 1872 г. Сентябрь.
(обратно)489
Шильдер. Александр I и его царствование. T. I. С. 181.
(обратно)490
Мартос Иван Романович (1760–1831) — директор департамента министерства юстиции, писатель.
(обратно)491
Записки Мартоса//Русский Архив, 1893 г. T. II.
(обратно)492
Русская Старина, 1884 г. Март. Ст. В. Настасья Федоровна Минкина.
(обратно)493
Русский Архив, 1875 г. Кн. I. Сообщено г. Бартеневым* со слов Кокорева, которому этот рассказ передал сам садовник.
*Бартенев Петр Иванович (1829–1912) — историк, археограф. Основатель и редактор журнала «Русский Архив», публикатор документов по истории России XVIII–XIX веков.
(обратно)494
Воспоминания Гриббе//Русская Старина, 1875 г. Январь.
(обратно)495
Отто. Los. cit.
(обратно)496
Воспоминания Гриббе//Русская Старина, 1875 г.
(обратно)497
О том, что эта фраза была вставлена Аракчеевым, у нас имеется свидетельство самого Сперанского//Корф. Жизнь графа Сперанского, Ч. III. С. 120.
(обратно)498
Корф. Жизнь гр. Сперанского. Ч. II. С. 160–161.
(обратно)499
Веллингтон (Уэллингтон) Артур Уэлесли (1769–1852) — герцог (1814), британский фельдмаршал (1813). В 1815 г. командовал англо-голландской армией в битве с войсками Наполеона I при Ватерлоо.
(обратно)500
Мой век, или История Маевского//Русская Старина, 1873 г.
(обратно)501
Клейнмихель Андрей Андреевич (1757–1815) — граф, генерал-лейтенант, фаворит Павла I; Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869) — граф, государственный деятель. В 1842–1855 гг; — Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.
(обратно)502
Письмо кн. Волконского к Закревскому от 12 января 1820 г.//Сборник Русск. историч. общества. Т. 73. С. 12–13.
(обратно)503
Все эти заметки напечатаны в Русском Архиве, 1866 г. С. 922–927.
(обратно)504
Мир со Швецией — Фридрихсгамский мир 1809 г., завершивший русско-шведскую войну 1808–1809 гг. Согласно статьям мирного договора Финляндия отходила к России на правах княжества.
(обратно)505
Русская Старина, 1873 г. Записки Маевского.
(обратно)506
Русский Архив, 1868 г. С. 1674. Черты из жизни Ростопчина.
(обратно)507
Басаргин Николай Васильевич (1799–1861) — поручик, декабрист, член Южного общества. Осужден на 20 лет каторги.
(обратно)508
Киселев Павел Дмитриевич — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)509
Маевский. Мой век//Русская Старина, 1873 г.
(обратно)510
Лопухин Петр Васильевич (1753–1827) — князь, в 1812 г. председатель Департамента законов Госсовета, впоследствии председатель Госсовета и Комитета министров.
(обратно)511
Куракин Александр Борисович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)512
Брокер Адам Фомич — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)513
Козодавлев Осип Петрович (1751–1819) — государственный деятель, писатель. При Павле I — обер-прокурор Сената. С 1810 г. — министр внутренних дел. Основатель газеты «Северная почта».
(обратно)514
Воспоминания Брадке//Русский Архив, 1875 г. Кн. I; Письмо Ростопчина в Русском Архиве, 1868 г. С. 1875.
(обратно)515
Маевский. Мой век//Русск. Старина, 1873 г.; Шильдер. Lос. cit. T. IV. С. 6.
(обратно)516
Историч. Вестник, 1908 г. Май.
(обратно)517
Записки Мертваго//Русский Архив, 1867 г.
(обратно)518
Маевский. Мой век.
(обратно)519
Воспоминания Свиязева//Русская Старина, 1871 г. Ноябрь.
(обратно)520
Буксгевден Федор Федорович (1750–1811) — граф, генерал, командовал русской армией в первый период шведской кампании 1808–1809 гг.
(обратно)521
Текст письма Буксгевдена напечатан в «Чтениях в Имп. общ. ист. и древн.», 1858. Кн. I. С. 133–137. Ср. об этом письме. Русский Архив. 1871 г… Записки Греча//Русский Архив, 1866 г. С. 1031–1046.
(обратно)522
Аустерлиц — сражение между русско-австрийскими и французскими войсками 20.11.(2.12.)1805 г. во время русско-австро-французской войны 1805 г. Армия Наполеона I (73 000) нанесла поражение армии союзников (86 000). Сражение при Аустерлице решило судьбу войны в пользу наполеоновской Франции.
(обратно)523
Шильдер. Loc. cit.. T. II. С. 138–139.
(обратно)524
Записки Брадке//Русский Архив. 1875 г.
(обратно)525
Записки Саблукова//Русский Архив. 1869. С. 1899–1900.
(обратно)526
См. Отто. Древн. и Нов. Россия, 1875 г.
(обратно)527
Записки Мертваго//Русск. Арх., 1867 г.
(обратно)528
Записки Мартоса//Русск. Арх., 1893 г. T. II
(обратно)529
Барклай-де-Толли Михаил Богданович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)530
Русск. Арх., 1866 г. С. 1034–1046.
(обратно)531
Русский Архив, 1875 г. Записки Брадке.
(обратно)532
См., напр., в Русской Старине, 1872 г. Сентябрь, Ноябрь образцы таких стихов и песен.
(обратно)533
Волконский Петр Михайлович (1776–1852) — князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал. С 1826 г. — министр императорского двора и уделов.
(обратно)534
Сб. Русск. Истор. Общ. Т. 73 и 78.
(обратно)535
Вигель Филипп Филиппович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)536
Исторический Вестник, 1908 г. Май. Ср. известное стихотворение Рылеева «К временщику» (Русская Старина, 1872 г. Февраль) и ст. Пушкина «Всей России притеснитель…».
(обратно)537
Русск. биограф. словарь. T. II. Ст. Аракчеев.
(обратно)538
Русский Архив, 1880 г. Кн. II. С. 386.
(обратно)539
Русский Архив. 1875 г. T. I.
(обратно)540
Салтыков — вероятно, Салтыков Николай Иванович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)541
Середонин С. М. Исторический обзор деятельности комитета министров». T. 1. С. 23–24.
(обратно)542
Середонин Сергей Михайлович (1860–1914) — историк, профессор (1901).
(обратно)543
Эйлер (Русская Арх., 1880 г.), Липранди (Русск. Арх., 1866 г.), автор статьи в «Русском биографическом словаре» и др.
(обратно)544
Адъютант гвардейского артиллерийского батальона Жиркевич так выражается в своих записках: «Об усовершенствованиях артиллерийской части я не буду распространяться: каждый в России знает, что она в настоящем виде создана Аракчеевым и ежели образовалась до совершенства настоящего, то он же всему положил прочное начало»//Русская Старина, 1874 г. Февраль. Надо заметить, что Жиркевич вообще принадлежал к панегиристам Аракчеева.
(обратно)545
Семевский Василий Иванович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)546
Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России. T. 1. С. 483.
(обратно)547
Русский Архив, 1875 г. Записки Брадке.
(обратно)548
Русск. Арх., 1893 г. T. II. Записки Мартоса. Мартос писал свои записки в 1818 г.
(обратно)549
Мой век//Русская Старина, 1873 г.
(обратно)550
Воспоминания Европеуса//Русская Старина, 1872 г. Сентябрь.
(обратно)551
Воспоминания Свиязева//Русская Старина, 1871 г. Ноябрь.
(обратно)552
Воспоминания Гриббе//Русская Старина, 1875 г. Январь.
(обратно)553
См.: Отто. «Древн. и Нов. Россия». 1875 г.
(обратно)554
См. отзывы Гриббе (Русск. Старина, 1875 г.), Жиркевича (Русская Старина, 1874 г.), Саблукова (Русский Архив, 1869 г.).
(обратно)555
Записки Мертваго//Русский Архив, 1867 г.
(обратно)556
Из рассказов генерала Кутлубицкого. Русский Архив, 1856 г.
(обратно)557
Ст. Отто. Древн. и Новая Россия. 1875 г.
(обратно)558
Сообщения Европеуса, Брадке, Гриббе.
(обратно)559
Шильдер. Александр I и его царствование. T. II. Прим. 445.
(обратно)560
Этот процесс подробно изложен на основании подлинного сенатского дела г. Пупаревым в Русской Старине, 1872 г. Сентябрь.
(обратно)561
Шильдер. Loc. cit. T. И. С. 184–185.
(обратно)562
Русский Архив, 1870 г, Кн. III. Из записок Шенига. В 1825 г. Аракчеев, однако, доставил Сумарокову аренду.
(обратно)563
См. Отто. Древн. и Новая Россия.
(обратно)564
Тучков Павел Алексеевич (1776–1858) — генерал-майор, в войну 1812 г. — командир бригады, впоследствии член Госсовета.
(обратно)565
Шильдер. Loc. cit. T. l.C. 186.
(обратно)566
Русская Старина, 1873 г. Маевский. Мой век.
(обратно)567
См. Отто. Древн. и Новая Россия, 1875 г.
(обратно)568
Об Аракчееве в Гатчине. См. главным образом в записках Саблукова (Русский Архив, 1869 г.) и в записках Кутлубицкого (Русск. Архив. 1866 г). Письмо Александра к Аракчееву от 23 сентября 1796 г//Шильдер. Александр I и его царствование. Т. 1. Примеч. 239.
(обратно)569
Рассказ самого Аракчеева Мартосу//Историч. Вестник. 1894 г.
(обратно)570
Историч. Вестник, 1894 г. Октябрь.
(обратно)571
Шильдер. Loc. cit. T. I. С. 178–179, 284.
(обратно)572
Русский Архив, 1866 г. С. 1047.
(обратно)573
Русский Архив, 1880 г. Кн. II С. 352.
(обратно)574
Местр Жозеф Мари де — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)575
Ливен Христофор Андреевич (1774–1838) — генерал, начальник военно-походной канцелярии Александра I, посол в Берлине (1809–1812), в Лондоне (1812–1834).
(обратно)576
Уваров Федор Петрович (1773–1824) — генерал от кавалерии, член Госсовета.
(обратно)577
Толстые — Петр Александрович (1761–1844) — генерал от инфантерии; Матвей Федорович — сенатор.
(обратно)578
Русский Архив, 1871 г. № 6. С. 118.
(обратно)579
Шильдер. Loc. cit. T. II. С. 214 и след.
(обратно)580
Энгельгардт Лев Николаевич (1766–1838) — генерал-майор, мемуарист.
(обратно)581
Письмо Боголюбова к кн. А. Б. Куракину//Русский Архив, 1893 г. T. II. С. 286.
(обратно)582
Кочубей Виктор Павлович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)583
Румянцев Николай Петрович — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)584
Корф. Жизнь гр. Сперанского. T. I. С. 115–116.
(обратно)585
Шильдер. Loc. cit. T. II. Прим. 452.
(обратно)586
Русский Архив, 1869 г. С. 1660–1662.
(обратно)587
В автобиографических записках на прокладных листах своего евангелия Аракчеев записал под 1 января 1810 г.: «В сей день сдал звание военного министра. Советую всем, кто будет иметь сию книгу после меня, помнить, что честному человеку всегда трудно занимать важное место в государстве»//Русск. Арх., 1866 г. С. 922–927.
(обратно)588
Чтение в Общ. истории и древн. Росс. 1868 г. Кн. 4.
(обратно)589
Записка «О древней и новой России» — историко-политический трактат, написанный Н. М. Карамзиным в 1811 г. Идея его написания родилась в декабре 1810 г. во время общения Н. М. Карамзина с великой княгиней Екатериной Павловной. В марте 1811 г. записку «О древней и новой России» прочел император Александр I и воспринял ее отрицательно. Впоследствии по мере эволюции взглядов императора отношение к записке изменилось в лучшую сторону. Трактат Н. М. Карамзина содержал критику преобразований, проводимых М. М. Сперанским, а также критические высказывания в адрес Петра I, Елизаветы, Екатерины II, Павла I. Н. М. Карамзин выступал сторонником сохранения самодержавия в России, оригинал записки был утерян. Ее публикации производились с авторских копий, хранящихся в фондах Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге и Российском государственном архиве литературы и искусства. Подробнее см.: Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.
(обратно)590
A mon frère seul — моему единственному брату (фр.).
(обратно)591
Русск. Архив, 1871 г. № 7–8.
(обратно)592
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) — государственный деятель. В 1819–1826 гг. — попечитель Казанского учебного округа.
(обратно)593
Русская Старина, 1874 г. Май.
(обратно)594
Шишков Александр Семенович (1754–1841) — государственный деятель, адмирал, писатель. С 1812 г. — государственный секретарь, член Комитета по делам ополчения. С 1813 г. — президент Российской академии.
(обратно)595
Балашов Александр Дмитриевич — см. прим. к очерку «Ф. В. Ростопчин».
(обратно)596
Записки гр. Комаровского//Русск. Архив, 1887 г.; Записки Свербеева// Русск. Архив, 1871 г.
(обратно)597
Венский конгресс — конгресс европейских государств (сентябрь 1814-июнь 1815 гг.), завершивший войны коалиций европейских держав против наполеоновской Франции. Заключительный акт Венского конгресса оформил ряд территориальных изменений в Европе и других частях света. Россия, например, закрепила за собой значительную часть Польши с Варшавой. В сентябре 1815 г. постановления Венского конгресса были дополнены актом о создании Священного союза.
(обратно)598
Шильдер. Loc. cit. Т. Ill, passim.
(обратно)599
Шильдер. Loc. cit. Т. ГУ. С. 6–7. Неизданные сочинения и переписка Карамзина. Спб. 1862 г.
(обратно)600
Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829) — государственный деятель, статс-секретарь (1793), член Госсовета. С 1802 по 1806 г. — министр уделов. С 1814 по 1817 г. — министр юстиции.
(обратно)601
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838) — князь, генерал от инфантерии. В 1817–1827 гг. — министр юстиции.
(обратно)602
Вигель. Записки. Ч. 5. С. 66.
(обратно)603
Шварц Федор Ефимович — полковник. Назначен 1 апреля 1820 года командиром Семеновского полка. С 1 мая по 3 октября 1820 г. погибло от наказаний, назначенных им, 44 человека (в том числе участники Отечественной войны 1812 г.). Зверства Шварца привели к восстанию в Семеновском полку в октябре 1820 г. Сам Шварц попал под следствие, предстал перед военным судом и был приговорен к смертной казни, но был помилован Александром I. С 1820 по 1823 г. — в отставке. Впоследствии служил в военных поселениях, на Кавказе, генерал-майор. В 1850 г. был повторно наказан за издевательства над солдатами, уволен из армии без права жительства в обеих столицах (см. подробнее: Лапин В. В. Семеновская история. Л., 1991. С. 94–125).
(обратно)604
Бунт Семеновского полка — восстание старейшего полка русской гвардии в октябре 1820 г. Бунт начался из-за бесчеловечного обращения командира полка Шварца с солдатами. Бунт был жестоко подавлен, полк расформирован, зачинщики прогнаны сквозь строй и сосланы на каторгу либо в дальние гарнизоны.
(обратно)605
Дибич-Забалканский Иван Иванович (1785–1831) — граф (1827), генерал-фельдмаршал (1829). В 1813–1814 гг. — начальник штаба русско-прусских войск. Главнокомандующий в русско-турецкой войне (1829) и при подавлении польского восстания (1830–1831 гг.).
(обратно)606
Кампенгаузен Балтазар Балтазарович (1772–1823) — барон, государственный деятель. В 1823 г. — министр внутренних дел.
(обратно)607
Татищев Александр Иванович (1763–1833) — граф (1826), военный министр в 1824–1827 гг.
(обратно)608
Гурьев Дмитрий Александрович (1751–1825) — граф, директор департамента уделов. В 1810–1823 гг. — министр финансов.
(обратно)609
Канкрин Егор Францевич (1774–1845) — граф, государственный деятель. В 1823–1844 гг. — министр финансов. В 1839–1843 гг. провел финансовую реформу, добился бездефицитности государственного бюджета.
(обратно)610
А именно: 7 июля 1810 г., 8 июня 1816 г., 19 июля 1819 г., 4 марта и 26 июня 1820 г., 22 июня 1821 г., 22 июня 1822 г., 15 марта и 3 июня 1823 г., 24 июля 1824 г. и 26 июня 1825 г.//Русский Архив, 1869 г. С. 1462; Русский Архив, 1866 г. С. 922–927.
(обратно)611
Тексты этих писем см. у Шильдера. T. IV.
(обратно)612
Сборн. Русск. истор. общ. Т. 73. С. 81.
(обратно)613
Дубровин Николай Федорович (1837–1904) — военный историк, генерал от артиллерии, академик Петербургской АН.
(обратно)614
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) — поэт, государственный деятель.
(обратно)615
Письма Карамзина к Дмитриеву. С. 400. Шильдер. Т. IV. С. 246.
(обратно)616
Русская Старина. 1903 г. Январь. Неизданная глава из книги Корфа о Сперанском.
(обратно)617
Сборн. историч. общ. Т. 73. С. 113.
(обратно)618
Работа в Троппау — имеется в виду работа Троппау-Лайбахского конгресса Священного союза с октября 1820 г. по май 1821 г. Конгресс был подготовлен Австрией с целью получения санкций на подавление революции в Неаполе. В конгрессе принимали участие русский, австрийский императоры, прусский король. Конгресс завершился подписанием 12 мая 1821 г. декларации против революции в Пьмонте. В ходе «работы в Троппау» австрийская армия вторглась в Неаполь, восстановив там монархию. Конгресс в Троппау можно назвать «конгрессом К. Меттерниха», который добился всего, что намечала австрийская дипломатия до начала его работы.
(обратно)619
Русская Старина, 1870 г. С. 479–481.
(обратно)620
Шильдер. T. IV. С. 186.
(обратно)621
Тексты этих писем см.: Шильдер. Loc. cit. T. IV, passim.
(обратно)622
Шильдер. Loc. cit. T. IV. С. 170.
(обратно)623
Ромодановский Федор Юрьевич (ок. 1640–1717) — князь, государственный деятель. Фактический правитель России во время отсутствия Петра I. Руководил политическим сыском, возглавлял Преображенский приказ.
(обратно)624
Это значило: «перестань пить». Петр предполагал, что Ромодановский действовал в опьянении//Соловьев. Ист. России. Изд. Общ. пользы. T. III.
(обратно)625
Голицын Александр Николаевич (1773–1844) — князь, государственный деятель, мистик. С 1803 г. — обер-прокурор Синода. С 1813 г. — председатель Российского библейского общества. В 1817–1824 гг. — министр народного просвещения и духовных дел.
(обратно)626
Фотий (Петр Никитич Спасский) (1792–1838) — церковный деятель, писатель, проповедник борьбы с масонами, сектантами, мистиками.
(обратно)627
Савонарола Джироламо (1452–1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Обличал папство и тиранию Медичи. В 1497 г. отлучен от церкви; сожжен на костре как еретик.
(обратно)628
Серафим (Стефан Васильевич Глаголевский) (1763–1843) — митрополит Санкт-Петербургский с 1821 г. Боролся с мистиками.
(обратно)629
Орлова (Орлова-Чесменская) Анна Алексеевна (1785–1848) — графиня, дочь графа, генерал-аншефа А. Г. Орлова-Чесменского. Владела огромным состоянием.
(обратно)630
Сильвестр (? — ок. 1566) — священник московского Благовещенского собора с конца 1540-х гг. Член Избранной Рады. С 1560 г. — в опале.
(обратно)631
Иоанн IV (Иван IV Грозный) (1530–1584) — русский царь с 1547 г.
(обратно)632
Однажды, напр., Голицын увидел во сне, что он прикоснулся ко лбу и вытащил изо лба щетку. Даже и такой сон давал князю повод для мистических размышлений.
(обратно)633
Письма эти напечатаны в Русском Архиве за 1869 г. — к гр. Орловой; Русск. Старина, 1882 г. — к Фотию.
(обратно)634
Госнер (Госснер) Иоанн (1773–1858) — религиозный деятель, мистик, выходец из Баварии. В 1817 г. удален из Баварии за перевод Нового Завета. В 1820 г. был избран директором библейского общества в Санкт-Петербурге. Подвергся гонениям со стороны митрополита Серафима, Магницкого за книгу «Geist des Lebens und der Lehre Jésus» («Дух жизни и учения Иисуса»). В 1824 г. Госнера выслали за границу, а его книгу сожгли. С 1824 г. — литератор, протестантский миссионер.
(обратно)635
Это письмо см. в Русском Архиве, 1868 г.
(обратно)636
Феслер (Фесслер) Игнац-Аврелий (1756–1839) — писатель, историк, общественный деятель. Уроженец Венгрии, член ордена капуцинов, католический теолог; с 1787 г. перешел в протестантизм, с 1796 г. — масон, автор «Собрания писем о масонстве». В 1809 г. получил кафедру восточных языков и философии в Александро-Невской духовной академии в Санкт-Петербурге, служил в комиссии по составлению законов. Был лишен кафедры по обвинению в атеизме, сослан в Саратовскую губернию. С 1820 г. занимался делами евангельско-лютеранских немецких общин.
(обратно)637
Методисты — протестантская конфессия. Возникла в XVIII веке, отделившись от англиканской церкви. Методисты получили свое название из-за приверженности к последовательному, методическому соблюдению религиозных предписаний.
(обратно)638
Шервуд (Шервуд-Верный) Иван Васильевич (1798–1867) — унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, впоследствии подполковник, доносчик по делу декабристов.
(обратно)639
«Возмущение 14 декабря» — выступление декабристов (членов Северного тайного общества) в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г. Выступление было признано декабристами удобным из-за междуцарствия. 19 ноября скончался Александр I, Россия присягала на верность его брату великому князю Константину Павловичу, тайно отрекшемуся от престола в 1823 г., признав императором великого князя Николая Павловича. Подтверждение воли Константина было получено 12 декабря. В день обнародования манифеста и присяги гвардии 14 декабря в Санкт-Петербурге началось восстание. К вечеру того же дня оно было подавлено.
(обратно)640
Исторический Вестник, 1896 г. Январь. Исповедь Шервуда-Верного.
(обратно)641
Сборник Историч. общества. Т. 74. С 184.
(обратно)






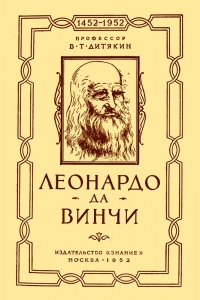

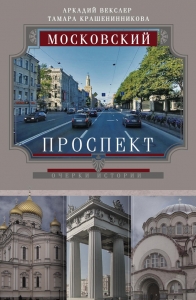
Комментарии к книге «Исторические силуэты», Александр Александрович Кизеветтер
Всего 0 комментариев