Элла Венгерова МЕМУАРЕСКИ
I. Дом России
Все пишут мемуары. С возрастом приходит уверенность, что ты должен уплатить наконец свой долг тем, кто, наполнив твою жизнь, ушел из жизни. Если у этой книжки найдется читатель, он меня поймет. Я надеюсь, что доставлю ему часок-другой пребывания в невозвратном, а потому незыблемом прошедшем времени.
Генеалогическое древо
Года два назад позвонила мне незнакомая дама из Торонто. То есть она живет в Торонто, а звонила из Москвы. Сказала, что приходится мне родственницей. Степень родства не указала, потому что не знает. Но интересуется. Не столько степенью нашего родства, сколько генеалогическим древом всей нашей по всему миру разбросанной фамилии. Я тоже очень смутно представляю себе это древо, и моей жизни уже не хватит, чтобы нарисовать его во всех ветвях и подробностях. Вообще, вопрос открытый. К чему все это? На Земле больше семи миллиардов народу, это ж сколько нужно рисовать деревьев. И даже если нарисовать и засадить в Интернет, все равно получится дурная бесконечность. Но почемуто людям это важно. Нет памяти — нет человечества. Семь миллиардов зомби — тоже не подарок. Парадокс, конечно. А что не парадокс?
Я рассказала даме из Торонто про Семена Афанасьевича Венгерова, который основал в России Книжную палату. Он редактировал энциклопедию Брокгауза (и Ефрона, конечно), вел знаменитый пушкинский семинар в Петербурге, издавал первый в России словарь русских писателей, собрал огромный архив и библиотеку и умер от голода в 1920 году, не продав из нее ни единой книги, но завещав все Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. А погиб он из-за того, что поссорился с Лениным из-за Книжной палаты. Вождь приказал перевести ее в Москву, а С. А. упирался, отлично зная, что московские библиографы классом ниже питерских и могут загубить его любимое детище. Странная легенда, возвышенная, трагическая и чреватая. А может, и не легенда, а чистая правда.
Сестра его, Зинаида Афанасьевна, переводила Новалиса с немецкого и Анатоля Франса с французского, писала для энциклопедии, дружила с мадам Гиппиус и публиковалась в «Вестнике Европы».
Были еще и другие, о которых упоминал отец. Тетка отца, Изабелла, учила музыке (и, кажется, даже самого Вана Клиберна). Крестный, Владимир Григорьевич, богач и меценат, развивал синематограф и основал в Ментоне дом для престарелых французских киноактеров. Александр Яковлевич Таиров приходился отцу дядькой, а с Таировым состоял в родстве Осип Мандельштам. Кузина Жанна во время войны работала на радио в Нью-Йорке.
Уже в мое время в Бохумском театре в Германии и в российских телесериалах играл Геннадий Венгеров. А на скрипке играет Максим (очень внешне похожий на Таирова).
Мама когда-то обронила, что все Венгеровы — родственники. Значит, все перечисленные лица состоят в разной степени родства, но в какой именно — трудно сказать в связи с отсутствием древа. А про моего родного деда, Александра Григорьевича Венгерова, я рассказать той даме не успела. А ведь я его помню.
Сюжет такой. У Григория, выкреста из-под Полтавы, было два сына, Владимир и Александр. Владимир умный, а Александр — за революцию. Владимир был миллионер (тогда еще не было миллиардеров), он построил для Таирова Камерный театр, а для себя кооперативную квартиру в «Доме России» на Сретенском бульваре. Квартира в бельэтаже с камином, прихожей, кухней, ванной и кладовкой была обставлена французским мебельным гарнитуром, увешана картинами передвижников и украшена скульптурами Антокольского. В большой квадратной прихожей на полу лежал ковер, у стены стояло резное деревянное кресло, а на стене висел портрет статной дамы в черном платье с ключами у пояса и старомодной шляпе. (После войны делали ремонт, ковер разрезали, а даму сперли маляры, мы хватились, да поздно.) О хрустальных люстрах, египетских статуэтках, «Библиотеке великих писателей», коллекции старинных монет, горке с китайским фарфором и рояле «Стейнвей» я и не говорю. Владимир уже в 1915 году почуял, куда дует ветер, и свалил во Францию, а квартиру оставил Александру.
Александр Григорьевич Венгеров
Пока Владимир, старый холостяк, делал состояние (он был фармацевт и любитель синематографа), Александр (он тоже был фармацевтом и земским врачом) сделал революцию, женился и родил троих детей. Жена его, а моя бабушка, Прасковья Васильевна Снегирева, была бестужевкой и земским врачом и тоже за революцию. Она дружила с Наденькой Крупской и Володей Ульяновым, и, согласно семейной легенде, Володя Ульянов как-то раз гостил на даче у Венгеровых. И даже говорят, что скрывался он перед революцией не в шалаше, а на этой самой даче под Петербургом, гдето на Карельском перешейке. В революцию Прасковья Васильевна, главный санитарный врач Красной армии, погибла на эпидемии сыпного тифа в Сызрани, как и положено земскому врачу. Дед тоже заболел тифом, но выжил и приехал в Москву, в ту самую квартиру. Роскошный дом на Сретенском бульваре представлялся победившему пролетариату вполне подходящим объек том для уплотнения. Пролетарии уплотняли соседей и распространялись на освободившуюся жилплощадь. И всех недобитых уплотнили. А моего деда не тронули. Потому что Володя Ульянов не забыл гостеприимства Паши Снегиревой и дал доктору Венгерову А. Г. охранную грамоту. За своею личной подписью. И действовал этот документ безотказно в течение всей советской власти вплоть до перестройки.
Документ действовал, но Александр Григорьевич на это ноль внимания. Никто его не трогал, не уплотнял, но он занялся этим благородным делом по собственной инициативе. Он поселил в своей квартире, где уже обретался сам (со второй женой и тремя детьми), семью царского генерала Николая Николаевича Лесевицкого (с его второй женой и тремя детьми), а также великого русского шахматиста Федора Ивановича Дуз-Хотимирского (с женой и сыном). И еще как-то приютил и оставил навсегда некую Машу Самородову, несчастную бывшую хозяйку борделя, женщину неграмотную, но очень умную и неравнодушную к искусству.
К моменту моего рождения в 1936 году квартира выглядела так.
Дед жил в гостиной (три человека), его старший сын Владимир в спальне (три человека), младший сын Игорь в кабинете (два человека), Лесевицкие (четверо, к тому времени генерала арестовали) в столовой, Хотимирские (втроем) в комнате для прислуги, а Маша в кухне на сундуке за дверью.
Прасковья Васильевна Снегирёва
По всему дому шли аресты лишенцев, классово чуждых элементов и старых большевиков. У нас в квартире забрали только Лесевицких, отца и старшего сына. Дед каждую ночь ждал ареста. Он умер в 1939-м от инфаркта, избежав таким образом лагеря или расстрела. Поскольку пролетариев у нас не было, то и доносов писать было некому, и нас оставили в покое и дали дожить до Двадцатого съезда. А если бы дед сам себя не уплотнил, то с нами разобрались бы очень быстро. Так что дед всех, кого мог, спас. Спасибо Владимиру Ильичу.
Похоронен дед на Новодевичьем кладбище, он там соседствует с А. С. Макаренко.
Дед
Дед был писаный красавец, стройный, высокий, усатый, чем-то похожий на запорожца, только не лысый, а, наоборот, с седой волнистой шевелюрой. По утрам он завтракал за большим овальным столом, а мы, то есть я и собака, немецкая легавая Ирма, ходили вокруг стола и клянчили кусочек. Дед выдавал Ирме кружок колбасы, а мне крохотный кусочек селедки. Детей и собак не следовало баловать. Это было ясно как день, хотя мне тогда было всего два года. За эту щедрость мы с Ирмой платили деду беспредельной преданностью, любовью и восхищением. А уж какое было счастье, когда дед укладывался отдыхать, усаживал меня на темно-красное покрывало рытого бархата и разучивал со мной бессмертные строки: «Дело под вечер, зимой, и морозец знатный…» или: «Чижа захлопнула злодейка-западня…»
Собираясь на службу (он был ректором основанного им Фармацевтического института), дед надевал серую тройку, брал палку с экзотическим набалдашником и, взяв меня за руку, становился перед платяным трехстворчатым шкафом красного дерева. Любуясь на нас в зеркало, он объяснял: «Вот видишь, там Серый Волк и Красная Шапочка». Потом к окну подъезжала машина, раздавался сигнал клаксона, и дед удалялся на службу.
За завтраком всегда присутствовала пухлая тетенька, она пила чай из чашки с изображением лезгинки, танцующей лезгинку, и надписью «ВСХВ». Я эту чашку запомнила на всю жизнь, потому что она ассоциировалась у меня с величайшим унижением моей довоенной жизни. Однажды я имела неосторожность назвать пухлую тетеньку бабушкой, но она строго поправила меня, сообщив, что она мне не бабушка, а Анна Васильевна. Она и не была мне бабушкой, она была мачехой моего отца. Я просекла это и запомнила раз и навсегда. Она была истинная, безжалостная, жадная и злая мачеха. Я и это просекла раз и навсегда. Я поняла это раньше, чем отец. И даже раньше, чем мама.
Дед очень редко дарил игрушки, но не куклы, а сборные домики или конструкторы, на елку наряжался
Дедом Морозом, иногда гулял со мной на Сретенском бульваре, а с Ирмой ездил на охоту. Однажды привез с охоты зайца, мне было его жалко, потому что мертвый.
К деду довольно часто приходили гости. Снимали галоши, сваливали на сундук в прихожей пальто, шляпы, зонты и трости и направлялись в комнату деда, где главным центром притяжения был черный «Стейнвей», за которым царил Мотя. После Гражданской войны Мотя имел статус беспризорника, дед подобрал его где-то на вокзале и пристроил в колонию. Мотя оказался очень музыкальным, работал в Театре оперетты и мог сыграть все, что слышал, для того его и приглашали. Дед любил романс «В жизни все неверно, все капризно» и украинскую песню про бандуриста. Еще он любил играть с Дузом в преферанс и шахматы, а также играть на скачках. Еще он любил своих детей, меня как единственную внучку и, возможно, Анну Васильевну (хотя мне не хочется в это верить). Но самое главное — он любил мою маму.
Владимир Александрович Венгеров
Мама и отец познакомились в 24-м году, в первом пионерском отряде, штаб которого располагался в нашем доме, в квартире 78. Отряд отправился в Крым, жил там на полном самообслуживании, пионеры, подражая скаутам, готовили пищу на костре, путешествовали пешком, делали зарядку, соблюдали дисциплину и верили в мировую революцию. Но однажды маму назначили дежурить вис очереди, она обиделась и выключилась из пионеров. Ее чувство справедливости было более архаичным, чем у остальных членов отряда, я бы сказала, ветхозаветным. Отец маминых фанаберий не разделял. Они поссорились на семь долгих лет. Но через семь лет все-таки поставили личное выше общественного и помирились. Насчет женитьбы дело обстояло сложнее. У мамы был жених, еврейский мальчик-сирота, по имени Абраша. Мамины родители взяли его на воспитание еще в самом нежном детском возрасте и предназначили маме в мужья. Мама ценила Абрашу за преданность, но любила-то она не его, а папу. Дедушка Саша просек весь этот расклад и явился к маминым родителям в качестве свата. Бедный дедушка Исаак, бедная бабушка Клара, бедный Абраша! Мало того что их сын Семен женат на русской женщине. Да еще с ребенком. А теперь вот их любимая Рита, такая красивая, такая музыкальная, такая тонкая, как шелковая лента, с огромными прекрасными глазами и двумя черными, как вороново крыло, толстыми длинными косами, собирается замуж за сына русской женщины и выкреста в третьем поколении. Мир, уже однажды перевернувшийся, снова проделал кувырок. Но все еврейские страдания и возражения померкли перед обаянием Александра Григорьевича. Против этого оружия невозможно было устоять. Дед Исаак растаял и сдал позиции. Мама отрезала косы, надела кожаную куртку и красную косынку, и они с отцом поженились и прожили в браке шестьдесят лет. Так что если бы не дедушка Саша, то меня не было бы на свете.
Рита Исааковна Венгерова
После смерти отца в его записной книжке я обнаружила крохотную фотографию мамы, в кожанке и с короткой стрижкой.
Дуз
Федор Иванович Дуз-Хотимирский с женой и сыном жили у нас в кухне. Не совсем, правда, в кухне, а при кухне, в комнате для прислуги. Площадь их обитания составляла не то восемь, не то десять квадратных метров. Там умещалось целых три полезных предмета: кровать, стол и диван. Шкафа не помню. Может, шкаф и был, но такой маленький, что не помню. Над столом висел персональный дузовский телефон, над диваном гитара с красным бантом, а над двуспальной кроватью изображение красивой женщины с заведенными кверху глазами и распущенными волосами. Женщину на картине звали Мария Магдалина, жену Дуза — Софья Ивановна (для меня тетя Соня), а сына — Володя. Володя Хотимирский был моей первой любовью. Ему было тогда лет шестнадцать, а мне три года. Он сажал меня на плечи и отправлялся гулять со мной на Сретенский бульвар. Во время войны он пропал без вести. Остались гитара с красным бантом и его невеста Ксения, красивая, высокая и очень худая. Она так и не вышла замуж и еще долго после войны приходила к Дузам.
Федор Иванович Дуз-Хотимирский
Мария Магдалина висела там неслучайно. Она означала, что тетя Соня и Дуз не состояли в законном браке. Тетя Соня была правоверной католичкой, а Дуз убежденным анархистом. Из всех мыслителей он уважал только Кропоткина и Бакунина и не признавал власти государства над свободной личностью. Во время Гражданской войны белые приговорили его к расстрелу как анархиста, но дежурный офицер, шахматист и большой поклонник Дуза, узнал его и помог сбежать.
Тетю Соню он умыкнул еще в Польше. Она так его любила, что жила с ним невенчанная до самой смерти и винила себя в том, что Володька пропал без вести. И по той же причине тетя Соня всю жизнь проработала гладильщицей в прачечной. Из-за Дузова упрямого анархизма прелестная, добрая, самоотверженная, ласковая, преданная женщина тридцать лет простояла в дымном влажном жарком подвале, орудуя тяжелыми утюгами. Она не позволяла себе, не будучи законной женой, жить на деньги своего сожителя. Соглашалась считать себя грешницей, но не содержанкой. Она кормила его, поила, обстирывала, терпела, понимала и прощала. По ночам Дуз читал ей вслух свои любимые книги. Судя по тому, что я слышала через стенку, их было две: «Три мушкетера» и «Двадцать лет спустя». (После смерти Дуза я выкрала их, переплела и перечитываю до сих пор.)
Да, чуть не забыла. Там жил еще огромный сибирский кот по прозвищу Маленький. Он гулял по всей квартире и никому не мешал. Во время войны Дуз развлекался тем, что гонял его по коридору, хлопал в ладоши и орал: «Сталин, Сталин, Сталин, Сталин, Сталин!»
Дуз был гениальным шахматистом, учителем Алехина. До революции он разъезжал по всей Европе и играл в кафе на деньги и мог выиграть любую партию, если она была интересной. А неинтересную мог запросто проиграть. Он был единственным в мире шахматистом, имевшим странное звание заслуженный мастер спорта по шахматам. Его зачем-то придумали при Луначарском, присвоили Федору Ивановичу и сразу после этого отменили. Дуз работал тренером шахматной команды спортивного общества «Локомотив». Так как общество было железнодорожное, Дуз везде ездил бесплатно. Он разъезжал по всей стране, давая консультации (тогда еще не было понятия мастер-класс) и сеансы одновременной игры. Кроме шахмат Дуз играл во все карточные игры. В пикет, вист, покер, бостон, железку и, конечно, преферанс. Мама очень опасалась его дурного влияния на отца. Он и в самом деле вытворял черт-те что. Лежал целыми днями на кровати, в нижнем белье, часами консультировал по телефону своих подопечных железнодорожных шахматистов, исписывал целые пачки бумаги цифрами, открывая «родственные числа», забывал закрывать дверь в туалет, мог по рассеянности надеть чужую железнодорожную шинель и проходить в ней целую неделю.
А потом к нам в квартиру приходят милиционеры и заявляют, что Дуз украл шинель. Мы им объясняем, что он человек порядочный, но рассеянный, а они говорят: «Как же, рассеянный! Чужую новую надел, а свою старую на вешалке оставил».
Советский Союз был большой, от Москвы до Ташкента поезд шел трое суток, а может, пять. Дядя Федя, накинув на плечи старую шинель, перемещался по вагонам, заглядывая в незапертые купе. Если в купе обнаруживалась компания, расписавшая пульку (а она обнаруживалась непременно), он грустно переминался у двери, всем своим видом вызывая снисходительную жалость и сочувствие игроков, как правило военных. Рано или поздно несчастный старикан удостаивался великодушного приглашения, присоединялся к наивным воякам и обыгрывал их до последнего рубля. Да не было во всех поездах великой державы такого пассажира, который мог бы обштопать Дуза в преферанс! То, что происходило с цифрами в его нечесаной голове, можно сравнить разве что с работой компьютера. Но тогда компьютеров не было и в помине, а шахматные гении ездили в СВ.
А гении математические заседали в академиях, и одному из них, академику по фамилии Виноградов, дядя Федя послал обнаруженные им в бесконечности «родственные числа». Как я поняла, первые четырнадцать этих чисел нашел в свое время Декарт, а дядя Федя довел их количество до шестисот. Академик, разумеется, был человеком умным и опубликовал Дузово открытие под своим великим именем. Дуз жутко на него разозлился, но судиться и доказывать авторство не стал. Во-первых, потому, что наверняка проиграл бы. А во-вторых, потому, что не желал апеллировать к государству, коего в принципе не признавал.
Дуз никогда не пил и не курил, но к женщинам был отнюдь не равнодушен. Иногда в восьмиметровой комнате при кухне помимо Дуза, тети Сони и кота появлялась молодая чернокосая девушка в тюбетейке. Она угощала всех сладкими дынями из Чарджоу. Юное среднеазиатское дарование. Ой ли? Почему-то все женщины в нашей квартире сильно ее недолюбливали, ругали Дуза и жалели тетю Соню.
У меня с Дузом постоянно возникали идеологические расхождения.
— У нас ведь свобода? — спрашивает меня Дуз.
— Да, у нас социализм и свобода, — смело утверждаю я.
— А у них капитализм и никакой свободы?
— Никакой.
— А почему тогда у них можно сесть на поезд и приехать из Парижа в Лондон, а у нас нельзя?
— Зато у нас можно из Москвы приехать в Новосибирск или Владивосток. А это намного дальше.
— Но не в Париж?
— Ну и пусть.
Или вот такой разговор:
— Дядя Федя, вам кто больше нравится Ботвинник или Смыслов?
— Смыслов.
— Но Ботвинник же чемпион мира!
— Вот если бы тебе предложили на выбор: или получишь мешок золота, или получишь по башке, ты бы что выбрала?
— Золото.
— Вот видишь. Ботвинник всегда выигрывает, но играет неинтересно. А Смыслов интересно.
Тогда, признаться, я не очень поняла, что он хотел этим сказать. Сейчас, кажется, понимаю. Но не скажу, слишком долго объяснять.
Хоть Дуз и расхаживал по коммуналке в подштанниках, хоть он и не запирал дверь в туалет, но, пока была жива тетя Соня, от него всегда хорошо пахло. Потому что он пил на ночь йод с молоком. Пару капель йода на стакан теплого молока. Для улучшения памяти. Он помнил все интересные партии, сыгранные на мировых чемпионатах всеми интересовавшими его мастерами: Чигориным, Алехиным, Эйве, Ботвинником, Смысловым, Талем, Бобби Фишером, Глигоричем. По-моему, он знал наизусть всю толстую стопку шахматных журналов, громоздившуюся на диване.
— Дядя Федя, а почему вы никогда не ездите в метро?
— Предпочитаю трамвай.
— Но метро же такое красивое, и быстрое, и удобное. (Тогда еще в метро было свободно.)
— Потому что метро — это подземелье, откуда ничего не видно. Не видно ничего. А трамвай идет по улице, по бульвару, мимо домов и людей. Понимаешь?
Тогда я его совершенно не понимала. А теперь меня охватывает глубокая печаль при воспоминании о транспортной усталости, которую я приобрела за пятьдесят лет езды на работу в этом самом метро.
А что тут интересного? Вот вы, например, видели столько стран. Что вам понравилось больше всего?
Бискайский залив. Ночное небо и звезды над Бискайским заливом.
Тут он сразил меня наповал. У меня не было ни малейших шансов когда-либо в жизни увидеть именно это небо. Или вот: мы приехали из экспедиции, живые и здоровые, сильные, молодые и веселые, сидим теплой компанией, пребываем в полной эйфории, у нас гитара, и мы поем. В дверь заглядывает дядя Федя:
— Это вы поете?
— Мы, Федор Иванович!
— Как плохо!
Ей-богу, мы об этом совершенно не догадывались.
Когда тетя Соня умерла, на Дузовом горизонте появилось и исчезло несколько малопривлекательных дам. Наконец, в комнате при кухне прочно угнездилась противная, вульгарная и жадная тетка. Я даже не помню, как ее звали. Ни рожи, ни кожи, ни души. Одна корысть. Она держала его в черном теле, унижала и обижала. На ней Дуз женился самым что ни на есть законным браком. И как только он сотворил эту беспринципную глупость, она его уморила.
Лесевицкие
Когда Лесевицкие въехали в нашу квартиру, их было пятеро: Николай Николаевич, бывший царский генерал, его вторая жена Анна Борисовна и трое детей: два генеральских сына от первого брака — Николай и Сергей, и дочь Людмила. (Состав семьи — в точности, как у деда. Может, дед потому и вошел в положение несчастного генерала и уступил Лесевицким столовую, из чувства, так сказать, аристократической солидарности. Тоже мне, аристократизм: один русский царский генерал, а другой сын богатого выкреста из-под Полтавы.) Но в таком составе я эту семью никогда не видела. Обоих Николаев посадили еще до войны. Когда в 60-х вернулся отец, сын еще сидел, а к тому времени, когда вернулся сын, отец уже умер. Хотя до войны двери ни в одну из комнат не закрывались и я как самый младший, то есть самый почетный, из жильцов имела неоспоримое право бродить по всей квартире, к Лесевицким меня не слишком тянуло. У них всегда было как-то неуютно: пусто, грустно и печально. Никто меня не привечал, но и не выставлял. Наверное, потому, что однажды я спасла жизнь Николаю-сыну. У него был дифтерит или еще какая-то скарлатина, в общем, нарыв в горле, и он задыхался, а я вроде бы заявилась к ним в комнату и весьма умильно стала клянчить какой-то там пончик, не то пирожок, Николай рассмеялся, поперхнулся, нарыв лопнул. И Коля остался жив. Записано неточно, но с его слов.
Генерал, каким я его запомнила, был тщедушный мужчинка, с прокуренной трубочкой в зубах, личико маленькое, сморщенное, некрасивое, как у бедного карлика. Разве что спина прямая и мудрый взгляд. Он быстро умер, не обмолвившись со мной ни словом.
Анна Борисовна, его вдова, сначала соломенная, а потом и настоящая, работала машинисткой в Наркомате просвещения.
Она варила на кухне совершенно черный кофе и уносила в комнату. По-моему, ничего, кроме кофе, она вообще не варила, то есть не пила и не ела, в квартирных скандалах, сварах и интригах участия не принимала, а только молчала и никогда не улыбалась.
Зато на кухне выступали ее пасынок Сергей и дочь Людмила. Сергей произвел на меня в детстве неизгладимое впечатление, а именно тем, что истово соблюдал посты, во время коих долго и тщательно жарил на плите картошку. Без ничего. Голую картошку на постном масле. Пост у меня в голове не укладывался: как можно отказываться от еды, если она в принципе доступна? Во время войны — понятно, все по карточкам, не разгуляешься, оладушки из очисток, жесткие довоенные пряники, каша манная на воде, суп с вермишелью — все равно здорово. Но после войны? Когда уже отменили карточки, открылся Елисеевский, появились мороженое по тридцать и пирожные по пятьдесят рублей и можно было сварить борщ? Или куриный бульон? Ведь Бог знает, что люди голодали в войну, зачем ему их добровольное голодание? Сергей и так ходит в церковь, и молится, и вообще весь из себя такой правильный, и не чертыхается, и не такой, как другие, никем не интересуется и никому не доверяет. Бледный всегда и непонятный. Зачем ему еще и поститься? Сергей от нас переехал. На улицу Горького в роскошную квартиру в сталинском доме. Я там однажды побывала. Он тогда уже работал секретарем у патриарха Алексия Первого. И мне очень понравились тяжелые красные гардины, хрусталь, фарфор, люстры, кажется, книги и вообще все сто или сколько там квадратных метров. Он взял у меня книжку, которую передала ему Людмила, и я ушла. Наверное, Людмила нарочно меня туда послала: дескать, знай наших!
Людмила была девушка особенная. Она была похожа на голливудскую звезду эпохи немого кино: изящная брюнеточка, с короткой стрижкой, правильными чертами лица, скорее мелкими, чем крупными, обворожительной улыбкой и себе на уме. Свое отношение к советской власти она никогда открыто не выражала. Но ее система ценностей кардинально отличалась от ориентиров на беззаветное служение идеалам коммунизма. Она считала своими неотъемлемыми правами:
• веру в Бога,
• привычку ходить в церковь, святить куличи на Пасху и праздновать Рождество и старый Новый год,
• желание нравиться мужчинам,
• пристрастие к балету,
• любовь к деньгам,
• следование моде.
Людмила умела носить брюки, открытые босоножки, туфли на платформе и чулки с выворотным швом или черной пяткой.
Поэтому она стремилась одновременно достичь нескольких амбициозных целей: стать знаменитой балериной, иметь успех у всех красивых блондинов в Москве и в мире и удачно выйти замуж.
Людмила Лесевицкая
Как ни странно, это ей почти удалось. Правда, в смысле балета она всего лишь пробилась в ансамбль Моисеева и однажды даже пригласила меня на концерт, где танцевала в энной паре и энном ряду справа или слева (не помню). Но в балете она хорошо разбиралась и предпочитала всем хореографам Барышникова и Голейзовского. И я буду по гроб жизни благодарна ей за то, что она повела меня в зал Чайковского и я увидела Нарцисса в исполнении молодого Васильева. Я видела этот танец собственными глазами и до сих пор не могу забыть испытанного тогда потрясения.
Что касается блондинов, то они были всегда. Когда мне было два года и мы с Лесевицкими снимали дачу под Москвой, один из них так торопился на свидание к Милке (ей было тогда пятнадцать), что чуть не сшиб меня велосипедом. После войны тоже приходил к нам в двадцать седьмую квартиру один смазливый блондин, и он тоже мне совсем не нравился. Дело в том, что у Милки в то время появился серьезный поклонник, пожилой, лысоватый, бородатый, пузатый дирижер, он разгуливал по квартире в одних трусах и страшно долго занимал общий телефон. Вот поговорит он по телефону, наденет брюки, очки и шляпу и идет на работу, в консерваторию. Милка его провожает, обнимает и целует и закрывает за ним входную дверь. А через пять минут открывает ту же дверь смазливому блондину. Я за это презирала и Милу, и блондина, а дирижера считала дураком. А мама перед этим пузатым дураком преклонялась. Потому что знала, какой у него слух, и гений, и педагогический талант. Дурой-то оказалась я, а Мила — умницей. Потому что она вышла за своего толстяка, переехала в роскошную отдельную квартиру, завела роскошного пса-боксера по кличке Мамай и однажды повела меня с собой в продуктовый магазин и демонстративно накупила там съестного на такую сумму, которую ни мама, ни отец не заработали бы за год. Знай наших!
А я окончила университет, осталась в комнате одна (мои все переехали) и долго оставалась в одиноких шестидесятницах, пока не нашла себе мужа без кола без двора, но благородных кровей и с богатым лагерным прошлым.
Мила переехала, Анна Борисовна померла, а в квартиру 27 вернулся с Колымы Коля. Вместе с Колей в комнате Лесевицких поселилась Лиза. И я наконец облегченно вздохнула. Потому что теперь бывших каторжников в квартире оказалось трое: Колик, Лизик и мой муж Фред. И самодержавная власть мачехи моего отца, ее стукача-зятя и ее дочери пошатнулась. Все они боялись Лизика. Лизик в свое время ограбила инкассаторскую машину, убила инкассатора, села, загремела в штрафбат, прошла войну и угодила на Колыму, где и познакомилась с Коликом. Отмотав срок, Лизик и Колик сохранили лагерные привычки к труду и спиртному. Колик серебрил крестики в мастерской при патриархии, а Лизик водила такси и сотрудничала с милицией. И хотя она вечно жевала чай, это, похоже, не мешало ей занимать первые места на каких-то престижных гоночных соревнованиях таксистов. Больше всего на свете она, как и я, не любила проституток.
— Пойди, сходи на бульвар, — гордо сообщала она мне. — Ни одной не осталось, всех вчера забрали.
Причина неприязни была очевидной. В дни получки Коля шел по бульвару, набитый деньгами и зело пьяный. А эти прости господи на него охотились.
Лизик никогда не мыла коммунальную плиту. Я тоже перестала мыть совместную с Лизиком плиту из чувства солидарности и назло Анне Васильевне. Анну Васильевну, как санитарного врача, это сильно травмировало. Что и требовалось доказать. Лизик не мыла плиту, не прибиралась в комнате, но любила делать крупные приобретения. Как-то раз она продемонстрировала мне пятьдесят бутылок водки, закупленных ею перед отпуском: они с Коликом отправлялись в трехнедельный тур по реке Волге от Рыбинска до Астрахани, так что нужно было обеспечить культурную программу.
Другим крупным приобретением Лизика на моей памяти был огромный шкаф длиной во всю стену — финская «хельга», страшно в то время модная и дефицитная. Чтобы втащить это сокровище в квартиру 27, пришлось мобилизовать весь благожелательный к Лизику мужской контингент таксистов, а также Фреда. Мужики сняли с петель вышеупомянутую дверь, разобрали «хельгу» на составные части, торжественно проволок ли по коридору, с превеликим трудом внесли в комнату (там был хитрый предбанник), собрали и установили. Потом им пришлось снова вешать на петли входную дверь, потом обмывать это дело, так что вся процедура заняла целое воскресенье. На следующий день у Колика была получка, и он, как всегда, зело нетрезвый и уязвимый, двигался по бульвару, попал в поле зрения одной тамошней особы легкого поведения, и та вскоре оказалась в нашей квартире. И надо же было Лизику в самый неподходящий момент зачем-то заехать с работы домой. Она застает парочку in flagranti и вершит суд скорый и беспощадный. А именно: девушку она немедленно, схватив за волосы, вышвыривает из квартиры, возвращается в комнату, хватает топор… Население квартиры с содроганием наблюдает за этой бурей обиды и ревности, не делая даже попытки предотвратить неизбежную расправу. Лизик заносит страшное орудие и обрушивает его на ни в чем не повинную «хельгу», разносит ее в щепы, а щепы выбрасывает из окна прямо на тротуар под окном. А Колик тем временем пребывает в полной отключке. С тех пор я часто думаю: кто же унес с тротуара останки дефицитной мебели? Уж не Лизик, это точно. А стоила «хельга» бешеных денег. Ну и черт с ними, главное, Колик остался цел и невредим, потому что ничего дороже у Лизика на свете не было.
Последнее мое воспоминание о Лизике. Я приношу из роддома Володьку, кладу его в кроватку и на минуту выхожу их комнаты. Возвращаюсь и вижу Лизика. Она стоит у кроватки, глядит на моего Володьку, ревет и крестится.
Никто из детей генерала Лесевицкого не имел потомства. И старинный род пресекся. А жаль.
Отец
В детстве после купания (такие были смешные оцинкованные ванночки) отец заворачивал меня в лохматую простыню, а другую — гладкую и холодную — согревал двумя горячими утюгами (такие были смешные утюги, уже не с углями, а чугунные, маленькие, но тяжелые). Помню, как катал меня и еще кучу малышей на санках (целый поезд из санок летел вниз под горку по Рождественскому бульвару до самой Трубной площади). Помню, как во время эвакуации он приехал в Казань из какой-то командировки и привез на Новый год кекс с изюмом и плитку шоколада. Шоколад был не просто лакомство, это была радость, вера, надежда, настоящий праздник, а сестра попробовала и выплюнула: горький, говорит.
Летом 43-го мы вернулись. Помню, как отец водил меня на каток «Динамо», Петровка, 26 (мне семь лет, и я уже в первом классе, и это будет мой любимый адрес до окончания университета), а еще в сад «Эрмитаж», где тоже заливали дорожки. Отец всегда сам зашнуровывал мне ботинки, покупал мороженое, учил выписывать на льду восьмерки и тройки и танцевать вальс, польку и фокстрот. Он всему меня учил: решать уравнения («Берешь задачник и решаешь все подряд, ничего не пропуская!»), и плавать, и играть в шарады, и в крокет, и ездить на велосипеде. Жаль, я не очень-то способная, а сестру он научил играть в теннис, а брата — кататься на лыжах, а внука — играть в бильярд. Помню, как жили на даче в Мамонтовке, собирали шишки, ставили самовар, ходили купаться на Учу и через рощу на клязьминский рынок. В 46-м отец купил на этом рынке за 100 рублей и подарил мне толстенный том Пушкина, юбилейный, я читала и читала и разглядывала пушкинские рисунки и портреты пушкинских красавиц с локонами, и мне больше всего нравились анекдоты про Петра Первого и прочие разговоры княгини Загряжской. Помню, как каждую зиму украшали елку, вешая на нее ватных снегурочек и раскрашенные электрические лампочки, как пели у камина. У нас в комнате камин был настоящий, его топили до войны и даже после, но потом дымоход сломался, осталась только керамика, мы уехали из старой дедовской квартиры, а камин разобрали, хотели восстановить, только было негде, так что продали.
Еще помню, как отец рассказывал про Камерный театр и про Таирова (Таиров приходился ему двоюродным дядей) и водил меня на спектакль Алисы Коонен «Привидения». Коонен играла в Доме актера, мне спектакль не очень понравился, было непонятно: почему люди так страдают, если они ни в чем не виноваты? Потом мы пошли за кулисы, и я все ждала, что же изречет великая актриса. А она сидела перед зеркалом, снимая грим, и все жаловалась: «Ох, Володечка, как же плечо болит, и спину ломит, так ломит…»
Всю войну отец работал на авиационном заводе, он был инженер, специалист по гироскопам, на коих держится вся инерционная навигация, ракеты, управляемые снаряды и прочие дорогие удовольствия любознательного двадцатого века. А когда война кончилась, его по доносу выгнали с работы. Состав преступления: в 33-м году он один раз побывал в какой-то компании, где присутствовал какой-то итальянский коммунист. Так что через пятнадцать лет это оказалось чуть ли не изменой Родине. Подсидел отца — под влиянием молодой капризной жены — заместитель, которому нужно было отцовское место. А должность-то всего ничего, завлаб. Я этого заместителя отлично помню: приходил к нам, сидел часами, отец помогал ему сочинять диссертацию. Так бы и пропали мы все тогда: отец целыми днями лежал на диване, отвернувшись к стене, а мы, трое детей, ничего не понимая, ощущали его крутое горе, как нависший над семьей нелепый ужас. Отца спасла мама: пошла к тогдашнему наркому авиации, а тот знал отца и поручился за него в органах, отца восстановили, и с тех пор он еще тридцать пять лет ездил на работу в переполненном метро в один и тот же почтовый ящик.
В десятом классе я страшно боялась экзамена по физике, и отец втолковывал мне ответ на вопрос: «Что такое дифракция и интерференция?», я заливалась слезами, а он смеялся и утирал мне слезы, не платком, а просто так, рукой. Помню, на третьем курсе, я собралась в поход на Кольский полуостров, это был 56-й год, и жуткий мороз, и отец разыграл (а может, не разыграл?) сердечный приступ и в последний момент удержал меня от этого безумства. На следующий день выяснилось, что молодой человек, из-за которого я собиралась сие безумство совершить, тоже в поход не пошел, остался в Москве и даже назначил мне свидание, первое и единственное в моей жизни. Ей-богу, не вру, такая у отца была легкая рука.
А когда я написала диссертацию, они с мамой целую неделю вклеивали в нее иллюстрации и вносили правку аккуратным чертежным почерком.
А когда я оставалась без денег… А когда я оставалась с носом… А когда я сидела на мели… А когда я вышла замуж… А когда у меня родился сын… А когда я покупала кооперативную квартиру… А когда я в первый раз опубликовала перевод… А когда меня оперировали… А когда меня подставили… А когда меня уволили…
Отец умер в одно мгновение, не заметив смерти. Обширный инфаркт. Вернулся домой из магазина, веселый, ясный, сказал, что голова немного кружится, прилег на кушетку — и все. В одну минуту, в одну секунду, в один миг — все. Ушел. А мы остались. Я осталась.
Дед был земским врачом, и бабушка тоже. Отец не смог. Не выносил вида крови. Написать бы о нем роман. Но роман не получится. Что же это за герой романа, который никому и никогда не завидует, любит свою работу, не предает друзей, не изменяет жене, уважает своих детей, обожает внуков, держит слово?
Такое бывает только в жизни.
Ириша
Имя сестре придумала я. Хотя была тогда совсем еще небольшая (четыре года). Помню, как беременная мама и тетя Женя обсуждали этот весьма актуальный вопрос, а я вмешалась со своим предложением. Имя казалось мне настолько прекрасным, что я ни на минуту не допускала, что они согласятся. А они согласились, и сестру назвали Ириной, и очень скоро началась война, и мы очень быстро уехали в эвакуацию, но провели там, в Казани, всего один год и вернулись в Москву. Возвращались в товарном вагоне, а у Ирины была высокая температура, очень высокая, и она плакала, и мы боялись, что нас ссадят с поезда. Просто чудо, что мы все-таки оказались в Москве.
А потом все было прекрасно: квартира № 27, и двор в «Доме России», и Сретенский бульвар, и школа № 275, и дача в Клязьме, и дача в Мамонтовке, и река Уча, и соседские ребята, и крокет, и книжки Жюля Верна, которыми увлекалась вся моя тогдашняя компания. Я была уже большая (десять лет), а Ирина еще маленькая (шесть лет), но она желала непременно играть с нами. Мы не принимали, а она телепалась, то есть тащилась, за нами и однажды во время игры в прятки подобралась так близко, что мой приятель Димка, двигаясь в траве по-пластунски, нечаянно попал ногой ей в глаз. Господи, какой образовался фингал, красно-синий, огромный, во все лицо. Ужасно. Мне влетело по первое число, и я проклинала и ненавидела себя, пока фингал не исчез.
А Ирина продолжала следовать за мной. Я в школу, и она в школу, я в пионерлагерь (вожатой), и она в тот же пионерлагерь (рядовой пионеркой), я в университет, и она в университет, я на целину, и она на целину… Дура я, дура, рядом со мой были такая любовь и преданность высшей пробы, а мне не до нее. А Ириша взяла и вышла замуж. Она замужем, а я сижу в старых девках. Впрочем, я ее догнала, нашла себе мужа, и все продолжилось. Я защитилась, и Ириша защитилась. Только моя тема была гуманитарная, академическая и никому не нужная: о гутенберговских документах. А Иринина тема была математическая и нужная всем, всему человечеству. Потому что Ирина решила многомерную задачу о ранце. Вот именно что многомерную. (Есть одномерная, но она намного проще.)
Ирина Венгерова
Сейчас объясню: вы собираетесь в поход, перед вами пустой рюкзак (ранец) и куча вещей, которые нужно в него поместить. Вы сидите и перебираете эту кучу. Если вы опытны и сообразительны, то задача худо-бедно решается интуитивно. Ну а если вы начальник морского порта и у вас стоят под разгрузкой сто кораблей, как решить, какие корабли разгружать в первую очередь? Или у вас банк и сто обращений за кредитами, как решить, кого кредитовать в первую очередь, а кого во вторую или в третью? Или, допустим, у вас система нефтяных скважин, а денег мало, какие-то скважины следует закрыть, но какие именно? Нужно определить очередность, экономическую целесообразность, руководствуясь множеством критериев: объемом добычи, качеством нефти, расположением скважин, их состоянием и так далее. Задача универсальная. Ирина нашла алгоритм ее решения. И экспериментально опробовала его в так называемых АСУ, автоматических системах управления. Алгоритм работал. Ирина отправилась на предварительную защиту на один очень-очень-очень почтенный академический продвинутый и свободолюбивый математический семинар. Ах, какие там сидели дарования, какие умы-головы, какие смелые критики пошлой убогой советской действительности. В том числе и один мой старый приятель. Крупный математик. Ученик гениального академика. Почти звезда. Они выслушали Ирину и зарубили ее работу. Потому, видите ли, что все они дружно невзлюбили ее научного руководителя. Ирину с ее решенной многомерной задачкой они бесцеремонно и безжалостно сбросили со счетов. И что теперь делать? Пришлось искать других авторитетов. Не так уж это оказалось и трудно. Мама нажала на отца, отец позвонил своему бывшему сотруднику, который к тому времени стал директором крупного математического центра, и тот согласился прочесть работу и честно сказать отцу: диссертабельна она или нет. И тот прочел и сказал, что с алгоритмом все в порядке. Нужно лишь отредактировать литературную сторону. Ох, как же я Ирину доставала, извлекая из нее объяснения непостижимых для меня формул. И защита состоялась в том самом ныне не существующем математическом центре. И мой старый приятель, крупный математик, ученик гениального академика и почти звезда, дал на нее вполне положительный отзыв. Но на всякий случай поостерегся поставить под ним свою подпись. Вроде бы одобрил, но ответственности не взял. И нашим, и вашим. А содержание работы как бы несущественно. Академическая принципиальность. Руководитель-то Ирины — человек плохой, непорядочный, нерукопожатный. А они все головы-умы — рукопожатные. Через год у них на семинаре с блеском защитился аспирант, решивший задачу о ранце. Одномерную. Так-то.
Ирина хорошо защитилась. Не помню, был ли хоть один черный шар.
Потом была работа, и двое сыновей, и любящий муж, и путешествия по разным странам, и горные лыжи, и коньки, и теннис (чуть ли не каждый день), и гости, и друзья, и веселые дни рождения, и праздники, и юбилеи, но писать об этом не могу. Потому что Ира умерла. И не стало на свете человека, который любил меня, уже старую и мало кому интересную, больше всех на свете.
Двор
До войны я гуляла на бульваре. В «немецкой группе». Старушка-немка из нашего дома собирала детишек в количестве трех — пяти штук и водила нас на бульвар. Там была палатка, где продавались кефир и французские булки. Закончив прогулку, мы поглощали этот роскошный завтрак и возвращались в крохотную комнатушку нашей воспитательницы. Там мы пели по-немецки «Wir waschen, wir waschen…» Чем кончалась строчка, не помню. Больше ничего по-немецки с того времени у меня в голове не удержалось. Старушку выселили, началась война, мы уехали в эвакуацию, в Казань. Там, где мы жили, в каком-то подвале, было голодно и неуютно, по вечерам горела самодельная масляная лампадка (коптилка), а радиоприемник передавал сводки Информбюро, и я слушала, и слышала, и знала, что немецко-фашистские оккупанты бомбят города, жгут деревни, вешают партизан, что они взяли Киев, что наши войска отступают. Но ни я и никто вокруг меня ни на минуту не сомневались, что скоро все будет наоборот. А о чем же пели по радио Краснознаменный ансамбль, и Русланова, и Ирма Яунзем, и Нечаев, и Бунчиков? А знаете, что именно пел Бунчиков?
Раз возвращаюсь домой я к себе,
Улица пьяною кажется мне…
Очень мне нравилась эта песня, в ней подмигивали фонари из какой-то пусть не сегодняшней, но правильной, нормальной человеческой жизни.
На Новый год в Казани случился мороз: 51 градус. Мама, в короткой каракулевой курточке, фильдеперсовых довоенных чулочках и фетровых ботиках, еле успела добежать до заводской проходной 122-го авиационного завода. Опоздание регламентом не предусматривалось. Она, чуть не потеряв сознание, свалилась в проходной, и главный инженер завода собственноручно оттер ее спиртом. Этот главный инженер, Володя Одиноков, был мужем ее лучшей подруги. Он-то и забрал нас в эвакуацию. Он спас маму. Он вообще был потрясающий. Красивый и сильный. А мамина подруга потом, после войны, с ним развелась. Я бы ни за что не развелась. Я бы им гордилась, хоть он и пил. Папа был парторгом на этом заводе. А главным конструктором был Туполев, которого водили по цехам под охраной. Но об этом мама рассказала мне много позже, когда Туполев стал свободным и знаменитым.
В Казани я ходила в детский сад, где успешно продолжила свое гуманитарное образование. Нам читали вслух интересные сказки про Машу и медведя, и про лису и петуха, и про волка, как он хвостом ловил рыбу, и басни Крылова. Играть тоже было интересно:
— Бояре, а мы к вам пришли, молодые, а мы к вам пришли!
— Бояре, а зачем пришли, молодые, а зачем пришли?
— Бояре, мы невесту выбирать, молодые, мы невесту выбирать!
— Бояре, а какая вам нужна, молодые, а какая вам нужна?
Дальше указывалась невеста, ее нужно было отнять у бояр, происходила куча-мала, и все начиналось сначала. Весело и полезно для здоровья.
Был более энергичный вариант действа:
— А мы просо сеяли-сеяли!
— А мы просо вытопчем-вытопчем!
В Казани, на летней ярмарке (сорок второй год!), я впервые увидела кукольный театр с Петрушкой. Самый потрясающий театральный шедевр в моей жизни.
Мы вернулись в Москву в сорок третьем. И я стала гулять во дворе. Во дворе было все ясно. Главных девочек было трое. Валя Горелова из подвала в подворотне, Лилька Ракова из подвала во дворе второго корпуса и Жека Дегтярева из подвала, выходившего окном в наш двор. Валя была спокойная, самая старшая и самая достойная. Она царствовала, но не правила. Правила Лилька, потому что лучше всех играла в двенадцать палочек, в штандер, в подшибалочку, в мяч (все игры) и лучше всех прыгала через веревку, то есть обладала монопольным правом принимать или не принимать в игру желающих. А Жека Дегтярева появлялась во дворе редко. Она не царствовала, не правила, она властвовала. Вообще-то она была добрая, делилась семечками и леденцами, просто так не ярилась. Но открытого сопротивления не выносила. У нее на этот случай имелась фраза, не допускавшая возражений: «Такая стала?» Услышав от Жеки это обвинение, все во дворе уступали ее требованиям. Отдавали мяч, баранку, конфету, игрушку, веревку или велосипед.
Веревку она отобрала у Вальки Берлин из тридцать шестой квартиры. Хорошая белая бельевая веревка. Валька вынесла ее во двор и собралась прыгать. Одна. А Жека потребовала предоставить ее в коллективное пользование. Валька пожилилась, а Жека отобрала веревку, пару раз хлестнула Вальку и швырнула веревку ей в морду. Валька разревелась, она и так была рыжая, а тут совсем стала красная от обиды и боли. Больше она во двор не выходила.
А велосипед был мой. Я получила его на день рождения. Папа в один день научил меня кататься, но это было на бульваре. Когда я появилась с велосипедом во дворе, Жека сказала:
— Дай прокатиться один круг.
— Но Жека, — промямлила я, — я ведь еще ни разу во дворе…
— Такая стала?
Я такая не стала, дала ей велосипед. Она сделала ровно один круг и проколола шину. Кажется, я рыдала. А может, и нет. Но я продолжала выходить во двор.
Играли в «Ручеек», в «Кольцо, кольцо, ко мне!» и «Ходи в петлю, ходи в рай…»:
Ходи в петлю, ходи в рай, Ходи в дедушкин сарай, Там и пиво, там и мед, Там и дедушка живет. Первый раз прощается, Второй запрещается, А на третий навсегда Запираем ворота.Мы водили хороводы, а уж как эти реликты языческих обрядов добрались до нашего двора в «Доме России», возведенном к 300-летию дома Романовых в стиле ложного Ренессанса, до этого нам дела не было.
Чтобы игра началась, нужно было определить водящего, то есть рассчитаться. И не какой-нибудь ерундой вроде «Ниточка-иголочка, тити-улети!» или «Стакан-лимон, выйди вон!». Нет. Нужно было выдать престижную, достаточно длинную считалку. Самая длинная была такая:
Цынцы-брынцы, два кольца, Повенчали молодца. На Святой неделе Вешали качели, Качели упали, На Кузьму сказали. Кузьма божится: Не я! Балалаечка моя! Балалаечка-гудок Заломила весь домок. Девочки-татарочки Взяли все по палочке, Побежали к мосту, Стукнули об доски. Там сидели ермаки, Все посияли колпаки. Один ермак Не снял колпак. Шишел-вышел, вон пошел, Красну шапочку нашел.Считалка сразу запомнилась, но смысл ее дошел до меня много позже. Я расшифровываю ее так: цынцы-брынцы — это звон обручальных колец. На Святой неделе состоялась свадьба с увеселениями, для чего были повешены качели, каковые почему-то упали. Было проведено расследование, под подозрение попал некий Кузьма, который побожился, что виноват не он, а виновата громкая игра его балалайки, которая не только сорвала качели, но и сотрясла весь дом. Откуда взялись девочки-татарочки, не знаю. Но они, взяв по палочке (дом-то разрушен!), отправились к мосту и принялись стучать, привлекая внимание ермаков. Ермаки — это, наверное, холостые крутые парни, потенциальные женихи. Поэтому они общаются с татарочками вежливо, снимая головные уборы. То есть соглашаются вступить в законный брак. А тот, кто из-за своей нелюбезности (не снял колпак) получил от ворот поворот (шишел-вышел, вон пошел), отнюдь не женился на Красной шапочке, а загремел в армию (красну шапочку нашел).
А девочки-татарочки жили у нас во дворе, в подвале шестого подъезда. Одну из них звали Ожара. Ожара Бедрединова, внучка главного дворника. И вот, рассчитались мы, играем в штандер, Ожарка водит. Ей нужно поймать мяч, когда Жека Дегтярева его подкинет, а нам в это время отбежать как можно дальше. Если Ожарка мяч поймает, она подкинет его, выкрикнув чье-то имя, и отбежит. А если не поймает, то ей положена кара. Ожарка не успевает словить мяч, Жека ее казнит, то есть бьет мячом в спину, пока Ожарка не попросит пощады. Обычная кара — ударов десять, от силы пятнадцать. Мяч теннисный, процедура довольно болезненная. Жека бьет, Ожарка молчит, мы стоим вокруг, наблюдаем. Пять ударов, десять, пятнадцать. Ожарка молчит, Жека бьет. Ожарка маленькая, тоненькая, нос краснеет, на глазах слезы. Двадцать ударов, двадцать пять. Ожарка молчит, Жека бьет. Мы просим Жеку остановиться, а Ожарку попросить пощады. Жека не слушает, бьет. Ожарка вся дрожит, слезы ручьем, но молчит. Пятьдесят ударов, пятьдесят пять. У Ожарки дрожат колени, худенькое тельце содрогается, но она молчит. Она не для того вытерпела шестьдесят ударов, чтобы просить пощады. На девяностом она свалилась, потеряв сознание. Жека швырнула мяч и ушла. Такие игры закаляют и развращают.
Ожарка окончила школу, потом экономический факультет МГУ. Уже поступив в аспирантуру, она мыла лестницы и окна в нашем подъезде. Помогала матери-уборщице.
Жека связалась с бандой уголовников, которая ограбила квартиру наркома финансов по фамилии Зверев. Банду взяли, Жека села. Больше она во дворе не появлялась.
Азы воспитания
У нас во дворе гуляла одна девчонка из 17-й квартиры, Галька Кривицкая. Она была чуть старше меня, года на два. Выхожу я как-то во двор, а Галька показывает мне забавную такую штуковинку, стеклянную и блестящую вроде бусинки на нитке. Я поглядела на нее и думаю: «Ерундовая бусинка».
Дело в том, что мама недавно сняла с потолка хрустальную люстру, оставшуюся от довоенных времен, и повесила над столом оранжевый шелковый абажур. А старомодную огромную люстру разобрала на составные части, то есть на проволоки с нанизанными на них гранеными хрусталиками различной величины, и сложила эти проволоки в нижний ящик шкафа.
— Подумаешь, — говорю я Гальке. — У меня таких шариков — завались.
— Врешь, — не верит Галька.
— А вот и не вру.
— Тогда вынеси шарик. Слабо?
А вот и не слабо, — гордо заявляю я. Разворачиваюсь и бегу домой, прямо к шкафу, к упомянутому нижнему ящику. Обстоятельства благоприятствуют. В комнате никого нет, отец на работе, мама готовит обед на кухне, сестра и брат не в счет. Я открываю ящик, снимаю с проволоки крайний шарик (средней величины), кладу его в карман и начинаю продвигаться в обратном направлении — через коридор, кухню, к черному ходу. Осталось только открыть дверь, выскользнуть на черную лестницу — и во двор. Галька умрет от зависти при виде моего шарика. Ведь он не стеклянный, а хрустальный, граненый, переливается и больше Галькиной бусины в три раза.
— Подойди сюда, — говорит мама.
— Я подхожу.
— Что у тебя в кармане?
Я некоторое время колеблюсь, потом все же вытаскиваю шарик.
— Идем, — говорит мама и берет меня за руку.
Мы идем. Возвращаемся в комнату. Я уже поняла, что жизнь моя кончилась величайшим позором и я навсегда останусь в глазах мамы гнусной воровкой.
— Ложись, — командует мама.
Я укладываюсь на кровать.
— На живот, — уточняет мама. Потом, не говоря ни слова, открывает шкаф, вытаскивает ремень из отцовских брюк, задирает подол моего платья и угощает меня раз этак двенадцать. По заднице, с оттяжечкой. И пока я реву от боли, ко мне возвращаются жизнь и вера в будущее, и в мозгу расцветает счастливая мысль, что я хоть и воровка, но не навсегда.
Так с тех пор и не ворую.
Все уже пошли в школу, а меня мама решила подержать еще годик дома. Двор опустел, я затосковала от стыда и одиночества, уговорила маму, и она все-таки отвела меня по адресу: улица Мархлевского, дом 18, где находилась школа № 275. Раньше рядом со школой находился польский костел, но его разбомбили во время войны, остались только руины, где можно было побродить, порыться и раскопать какой-нибудь потускневший медный подсвечник. Впрочем, я этим не увлекалась, там все интересное уже растащили.
Дальше по улице Мархлевского находились школа № 276, мужская, и еще один польский костел, но он раньше был французский. Он и сейчас действует. Неудачный глагол. А как — правильно? Функционирует? Служит? Работает?
Улица Мархлевского — революционное название. До революции это был Милютинский переулок, так он и назывался во дворе. Когда ходишь в школу — улица Мархлевского, когда идешь во двор — Милютинский переулок. Мы помнили, что улица Кирова — это Мясницкая, что улица Дзержинского — Лубянка, что Колхозная площадь — Сухаревская. Два названия никого не травмировали. (Это потом, когда переименовывали Покровку, Серпуховку, Гагаринский переулок, Манежную площадь, Калужское шоссе, Камерный театр и так далее, меня каждый раз охватывало отнюдь не христианское, а просто какое-то первобытное чувство злобного отвращения к дебилам из Моссовета.)
В школе было здорово, все сорок пять девочек из нашего класса обожали нашу учительницу Ату Михайловну Васильеву. После уроков многие провожали ее домой. Я к ним не присоединялась. Ревновала, наверное. Она была вся как бы прозрачная. Маленькая седая старушка, строгая, мудрая и красивая. Выцветшие синие глаза, короткая стрижка, пергаментная кожа. Жила она на Малой Лубянке, в коммуналке, в комнате сестры, где спала на сундуке. Из ее одежды я запомнила белую пуховую шаль, а из уроков русского языка — упражнение на корни «свят» и «свет». Святой, святыня, святость, священный, освящение, посвящение, Святогор, святить, свят-свят… Свет, светило, светлый, светить, светиться, освещение, просвещение, просвет, рассвет, светло, засветло…
А война еще идет, все время хочется есть. На третьем уроке мы строимся и чинно выходим из класса в буфет, каждая получает бублик и большую жесткую конфету-карамель к бледно-желтому чаю.
В той жизни не было ничего интересней, чем уроки родной речи, чистописания и арифметики. Однажды я решила задачу по арифметике, но написала в ответе: «едЕница». Ата Михайловна влепила мне кол, и с тех пор я не делаю орфографических ошибок. Моя так называемая врожденная грамотность вовсе не врожденная.
После уроков мы оставались в школе, и Ата Михайловна читала нам вслух. Про Леньку Пантелеева, проглоченный пакет, про честное слово и про Нильса, который летал с гусями. Мы и сами много читали. Брали в школьной библиотеке тоненькие книжки-тетрадки из серии «Книга за книгой». И читали сказки Пушкина, сказки братьев Гримм, Житкова, Маршака, Осееву, Кассиля… А один раз я попала в дом к Галке Копыловой, самой-самой бедной и самой грустной девчонке из нашего класса. Галкин отец был художник. А мама у нее умерла. В комнате, где она жила, не было ничего, только голые стены, пустой стол без скатерти, кровать, сундук и стул. На стуле сидел ее отец, немного пьяный, худющий и лохматый, с дивными синими глазами. Увидев нас, он обрадовался, усадил нас на сундук и стал читать вслух «Хижину дяди Тома». И так жалко мне было их всех, и дядю Тома, и Галку, и ее чахоточного отца, что я разревелась. За несколько дней он прочел нам всю книжку. И я хлюпала носом до самого конца истории.
В средней школе тоже было неплохо. И становилось все лучше. Война кончилась. Карточки отменили. На Лубянке открылся довоенный магазин «Рыба», на Кировской — довоенное «Чаеуправление». В «Рыбе» продавались бутерброды с черной и красной икрой. Лежали на подносе и продавались по десять копеек, правда недолго. Еще там были живая рыба в большом стеклянном аквариуме, угри, миноги, вязига, белужий бок, семга, стерлядь и прочие деликатесы, правда тоже недолго. А в «Чаеуправлении», где стояли две роскошные китайские вазы и весь интерьер был оформлен в стиле китайского императорского дворца, появились пирожные, печенье, конфеты, лимоны, мандарины, чай и так божественно запахло молотым кофе, что само стояние в очереди стало счастьем и наслаждением. В Филипповской булочной на углу Кировской красовались буханки черного и бородинского, караваи ситного, сайки, плюшки, рогалики, кренделя, баранки, ванильные сухари, витые халы, украинские поляницы, армянские лаваши. К нам в квартиру по утрам приходила девушка в накрахмаленном кокошнике и фартучке, с корзиной французских булок и продавала с наценкой в одну копейку, но это продолжалось всего полгода. Изобилие пищи телесной сопровождалось изобилием пищи духовной. Мы читали дома, на бульваре, в пионерлагере, в гостях и на скучных уроках, держа книжку на коленках и заглядывая под парту. Читали все, что удавалось обнаружить дома, выклянчить у знакомых, взять в библиотеке, получить в порядке обмена у одноклассниц. И даже, так сказать, нелегальную литературу. Есенина, например. Или Жорж Санд. Я не помню ни одного случая, когда кого-нибудь в нашей школе наказали за подобный криминал.
У меня под подушкой лежала Лидия Чарская. Я ее зачитала у дальней родственницы, печальной женщины по имени Буба (она приходилась родней репрессированному наркому просвещения Бубнову). Думаю, Буба простила мне это воровство. Про Чарскую хоть и говорили, что она запрещенная и в школу ее лучше не приносить (я и не приносила), но ее буржуазно-дворянское происхождение нисколько меня не отталкивало. Нравилась мне Лидия Чарская. И «Дом шалунов», и «Княжна Джаваха», и «Ради семьи». Ну да, там классная дама обращается к девицам «Mesdemoiselles!» и, прежде чем прыгнуть в ледяную воду, осеняет себя крестным знамением. Но она же спасает бедную воспитанницу, сиганувшую в пруд не от хорошей жизни. А что все они верят в Бога, боятся греха и вообще наивные, дела не меняет. Те ребята, что описаны в «Кондуите и Швамбрании», или в «Республике Шкид», или в «Двух капитанах», были просто другие.
Потом место под подушкой занял Фенимор Купер («Кожаный чулок», иллюстрированное переложение для детей, издательство Кнебель), а Купера сменил Диккенс. Это был первый том несостоявшегося довоенного издания с «Романом, сочиненным на каникулах» и криминальными повестями, написанными в соавторстве с Уилки Коллинзом. Его я тоже зачитала во всех смыслах. Зачитала у знакомых и до дыр.
Морозовы
Во время войны все парадные подъезды в доме были заколочены, их открыли только после войны. Морозовы жили в квартире двенадцать, на одной с нами площадке черного хода, так что Таня Морозова была моей ближайшей соседкой и ближайшей подругой. В любой момент можно было постучать и войти. Я не замечала, что только я одна из всего нашего класса была вхожа в эту странную квартиру. Да она и не казалась мне странной. Никто меня там ни разу не обидел, не турнул, не рявкнул на меня, не посмотрел косо. Просто одни ее обитатели были контактны, а другие практически не входили ни в какие разговоры, не задавали вопросов и вообще существовали как бы за закрытыми дверьми. А народу там обитало немало. В кухне, в комнате для прислуги, жила Юля, седая, задрипанная старуха. Она там разводила Цыплят. Но она была добрая и иногда приглядывала за нами, когда все родители уходили на работу, и даже вычесывала нам вшей, за что ей большое спасибо. Оставалось еще четыре комнаты. В одной жила Аполлинария Владиславовна. Эта старуха была не чета Юлии. Она была главная, властная и непререкаемая. Ее нельзя было ослушаться, и это она выгоняла всех девчонок из нашего класса, которые по недомыслию пытались зайти за Таней, чтобы позвать ее гулять или узнать домашнее задание. В трех остальных комнатах жили трое детей Аполлинарии: Анжелика, Владимир, Калерия. Анжелика с сыном Мишкой занимали маленькую, Владимир с женой Тамарой и двумя сыновьями — среднюю, а Калерия с дочкой Таней — самую большую.
Анжелика немного учила меня музыке. Она объяснила мне, что такое скрипичный и басовый ключи, как устроены линейки и как нужно читать нотные значки, одновременно нажимая на клавиши. Она недурно владела инструментом, и уроки (даваемые от великой бедности) вызывали у нее глубокое отвращение, которое она умело скрывала. Потому что была истинной дамой. Говорили, что ее муж сидит. Мишка потом тоже сел, а когда вышел, мы с ним немного общались, но он, видимо, узнал такое, что общение со мной казалось ему верхом нелепости, а я этого не понимала и задавала вопросы, которые вызывали у него мудрую улыбку и страх выразиться нецензурно в присутствии столь забавной малолетки.
У Владимира была жена Тамара и двое мальчишек: Володька и Мишка. Отсюда можно было сделать вывод, что этого Мишку, как и его кузена, назвали в честь деда, то есть что деда их звали Михаил Морозов. Это имя никогда не упоминалось. Из чего много позже я сделала второй вывод, что он был репрессирован. А поскольку Морозовы, как и мы, жили в бельэтаже «Дома России», можно было сделать третий вывод, а именно тот, что до революции они были богаты, но придерживались революционных взглядов на русское самодержавие. И кажется, вместе с моими дедом и бабкой творили революцию в Сызрани. Может, поэтому я и была вхожа в эту странную квартиру. Владимир, как и его сестры и мать, никогда не улыбался. Зато Тамара, жена Владимира, была женщиной нормальной, работящей, ясной и веселой. Мужику с ней здорово повезло. Но почему-то он этого не понял и привел в квартиру другую. И дальше произошло нечто, что почти невозможно себе представить и что привело в восхищение мою маму. Квартирный вопрос, как известно, в то время не имел разрешения. Поэтому Тамара осталась в той же квартире (не представляю, где она там ютилась? в комнате Аполлинарии?), но абсолютно устранилась от заботы о детях. Как ей это удалось, тоже совсем не представляю. У нее хватило духу, не вмешиваясь, наблюдать, как недоедают, паршивеют и скукоживаются ненавидимые мачехой мальчишки. В общем, Владимир, этот угрюмый, высокий, молчаливый красавец не выдержал, выгнал мачеху и вернул себе жену. Вернулся к жене. Такая вот поэма.
Как у всех Морозовых, у мальчишек был абсолютный слух, и все они были хороши собой и вообще талантливы. И все в какой-то момент дурнели и съезжали с катушек. Такое произошло и с младшим Володькой. Тот однажды из-за несчастной любви чуть не разгромил всю квартиру. Тамара прибежала к нам и попросила меня позвонить ему по телефону. И дальше произошло нечто, что почти невозможно себе представить. Я позвонила. И надо же такому случиться, что я оказалась тезкой его пассии. Услышав по телефону мое имя, парень решил, что пассия вернула ему свою благосклонность, и успокоился. Квартира осталась цела, а Володька… Я давно потеряла их всех из виду.
Калерия, мать Тани, была высокой, серой, бесконечно занудной, всегда унылой женщиной. Она постоянно была чем-то недовольна и требовала беспрекословного послушания. Мне было непонятно: почему она никогда не поднимает голоса? Хоть бы раз крикнула, вышла из себя, улыбнулась, рассмеялась, нахмурилась. Но нет, она только страдальчески упрекала Таню за любой недогляд: если тетрадка оказалась не на месте, если книжка упала на пол, если стул сдвинулся, если соль рассыпалась, если стакан разбился… В огромной пустой комнате не было ничего, кроме нескольких этажерок с книгами, стола без скатерти, кровати и комода, над которым висела гравюра с изображением античной похоронной процессии (шкафа не помню). В комнате царил безупречный порядок, а у Тани все руки потрескались и кровоточили от неизлечимой экземы. На нервной почве. Однажды в комнате появилась Люба, старшая дочь Калерии. Вообще-то она жила в сумасшедшем доме, но иногда ее болезнь отступала, и Любу отпускали домой. Ненадолго. Так что унылость Калерии, которая регулярно ездила в лечебницу к дочери, имела, в частности, и эту причину. Другими причинами, возможно, были разочарование в революции, репрессированный отец и развод с мужем, отцом Татьяны. Но я все-таки не могла себе представить, что в 1915 году в Швейцарии Калерия заняла первое место на конкурсе красоты среди русских социал-демократических эмигранток. Ей тогда было всего пятнадцать лет, и она была необыкновенно хороша собой, кудрява, талантлива и музыкальна.
Таня, как все дети Морозовых, тоже была красивой, кудрявой, музыкальной и талантливой. Она играла на скрипке, легко решала задачи по арифметике, читала стихи и писала прекрасным почерком без ошибок. Ее сразу приняли в городской Дом пионеров, в кружок художественного слова, а меня забраковали. В нее с ходу влюбился Сашка Красновский, по которому я сохла с трех лет. Помню, в седьмом классе он приволок ей букет цветов, такой огромный, что я навсегда оставила надежду привлечь его внимание к моей скромной особе. Впрочем, через неделю букет увял, и мы с Таней выкинули его в помойное ведро, а когда выкидывали, я все решала неразрешимую задачу: как такой сильный запах гнили согласуется с горячим чувством со стороны Сашки? На мои отношения с Таней ни ее прямое попадание в Дом пионеров, ни предпочтение, оказанное ей Сашкой, ничуть не повлияли. Мы сидели за одной партой, читали одни и те же книги, вместе ходили гулять во двор и на бульвар и готовили уроки. Арифметику я у Тани списывала, и здесь проблем не было. Что же касается русского языка, то эти задания приходилось делать вместе. Русский язык преподавала нам некая провинциалка по прозвищу Мартышка. То ли фамилия ее была Мартынова то ли отчество — Мартыновна, не помню. Мы ее недолюбливали за дотошность. Она требовала, чтобы мы на каждое правило подыскивали примеры из русской литературы. Вообще, в учебнике русского языка (Бархударов под редакцией Щербы) все примеры были взяты из отечественной классики. Под всеми стояли подписи классиков. И только один, а именно «Пятак упал, звеня и подпрыгивая», фигурировал анонимно. (Помню, как я сама спустя много лет подпрыгнула от изумления, обнаружив и этот безымянный пример у Достоевского.) Занятие это было страшно трудоемким. Чтобы подобрать десяток примеров на тот же деепричастный оборот, мы часами листали томики Крылова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Маяковского. Заканчивая восьмой класс, мы знали все пять томиков наизусть: любую басню Крылова, любую строку из Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Такое вот было пресловутое всеобщее среднее совковое образование.
В восьмом классе Таня разорвала нашу дружбу. Без объяснений и пояснений. Вдруг. Ни с того ни с сего. Решительно и бесповоротно. Я ничего не могла понять. Во время контрольной по алгебре она не разрешила мне взять ее ластик. Не дала перышка. Не дала карандаша. И не позволила списать контрольную. Это была необъяснимая и роковая катастрофа. Мне не пришло в голову, что я перед ней виновата. В чем? Я сломала голову, а ответа не нашла. Когда я его нашла, было уже поздно. А ларчик открывался просто. Я осмелилась нанести светский визит одной новенькой из нашего класса. Новенькую звали Эмма, она была генеральская дочь, выглядела весьма авантажно и чем-то меня заинтриговала. Она пригласила меня в гости, я приняла приглашение и целый вечер помирала со скуки, рассматривая собак и слоников на генеральском трофейном пианино и слушая, как Эмма на этом пианино исполняет в мою честь трудную фортепьянную пьесу под названием, кажется, «Баба-яга». Черт меня дернул связаться с этой противной Эммой! Впрочем, я с ней и не связывалась, сходила в гости один раз. А Таня отвернулась от меня навсегда. Таня получила золотую медаль и, как все наши золотые медалистки, поступила в Институт стали и сплавов. Туда брали толковых выпускников далее с сомнительными анкетами. В шестидесятых я несколько раз случайно встречала Таню на Сретенском бульваре. К тому времени она стала модно и элегантно одеваться (видимо, в сундуках Аполлинарии нашелся кое-какой загашник) и держаться высокомерно и снисходительно. Она пользовалась неизменным успехом у мужчин и сделала отличную профессиональную карьеру. Переехав в спальный район, я потеряла ее из виду, как и всех, кто еще оставался в пределах Бульварного кольца. Но я переезжала одной из последних.
Таня позвонила мне позавчера и пригласила в свой загородный дом. Или на виллу? Не знаю и никогда не узнаю. Потому что, если она хочет меня видеть, пусть приезжает ко мне в Коньково. Я живу в брежневской кооперативной девятиэтажке на первом этаже. У нас тут тоже хорошо. И Тропаревский парк рядом.
Стратилатовы
В драмкружок меня записала мама. Располагался он в Доме пионеров, а Дом пионеров располагался на Первой Мещанской, ехать туда на девятом троллейбусе от магазина «Рыба» на Дзержинской, то есть Большой Лубянке, до Грохольского переулка, а там, как сойдешь, сразу, чуть правее, такой прелестный белый особняк, в нем большой холл с бюстом Ленина и комнаты, где кружки. Фотокружок и туристический меня не волновали, а театральный волновал. Там были зал с бархатным занавесом несказанно красивого золотистого цвета и голландская печка. Можно прислониться спиной и стоять и смотреть, как Виктор Александрович Стратилатов ведет репетицию. Он худой-худой, и, когда закидывает ногу на ногу, заметно, что колени у него острые. Но все равно, он красивый, умный и потрясающе интеллигентный. Костюм, конечно, поношенный, честно говоря, даже старый, и это тоже как-то внушает доверие.
Мне с тех пор все такое старое, немного поношенное, даже затрапезное и бедное внушает доверие. А богатое не внушает, сама не знаю почему. Так вот, Виктор Александрович репетирует «Машеньку» Афиногенова. В главных ролях заняты Никита (Масловский, если я правильно помню), Игорь Поляков и Галя Самородова. Они все трое такие несказанно красивые, умные и интеллигентные. А мы, младшая группа, заняты в массовке, где одноклассники приходят в гости к бедной Машеньке, так безнадежно влюбленной в героического, щедрого, красивого и благородного геолога. Ну и дальше все по сюжету. На спектаклях полно народу, то есть ребят из нашего Щербаковского района. То есть сначала он был Ростокинский, а потом уже, когда Щербаков умер, стал Щербаковским. И Мещанскую после фестиваля молодежи тоже переименовали в проспект Мира, а потом обратно в Мещанскую. Или нет еще? Ну, все равно, Мещанская она и есть Мещанская.
У нашего драмкружка в репертуаре, кроме «Машеньки», была еще воспитательная пьеса «С тобой товарищи» против эгоизма, индивидуализма и прочего себялюбия. За коллективизм. В ней была занята младшая группа, и я получила главную положительную роль. А отрицательного героя играл Сашка Забелин. Успех у нашей воспитательной пьесы был такой, что, когда мы с Сашкой после спектакля шли по Мещанской, пионеры Щербаковского района, впечатленные нашей игрой, кричали нам вслед: «Эй ты, единоличник!» Они, конечно, имели в виду Сашку. Он был рыжий, красивый и вежливый и немного за мной ухлестывал. Мог, например, явиться в коммунальную квартиру в шесть утра под тем предлогом, что занимал очередь, уж не помню за чем, и страшно замерз. Мама его впускала, поила горячим чаем и держала в комнате, пока не согреется. Но что Сашка! Он был мой ровесник и обыкновенный. Необыкновенными были юноши из старшей группы Никита и Игорь. Никита однажды, во время перерыва репетиции, страшно меня унасекомил. Он упомянул Кола Брюньона и, заметив мой недоуменный взгляд, покровительственно молвил:
— Как, Элла, вы не читали Ромена Роллана?
Я чуть не померла со стыда. Бросилась в библиотеку и прочла. А какое было великолепное издание! С дивными иллюстрациями Кибрика. Я этот разговор с Никитой на всю жизнь запомнила. В том смысле, что есть потрясающие красоты, о которых мы понятия не имеем. Прямо по Шекспиру: «Есть многое на свете, друг Горацио…» И что узнать о них можно только от людей, которые внушают доверие и почтение. А если искать их по официальным источникам, то получится слишком много неизвестного. Это бездонный и безбрежный океан знаний, в котором можно только тонуть, все глубже погружаясь в комплекс неполноценности. Дурная бесконечность. Короче, сарафанное радио авторитетнее и полезнее всякого другого. Эффективней. Никита умер молодым, не успев даже окончить школу. У него был туберкулез.
А Игорь Поляков безраздельно принадлежал Гале Самородовой, хотя один раз на елке пригласил меня на танец. Елка была вся в зеленых лампочках, и паркет в зале сиял, и пахло, как положено, хвоей. И народу было немного — только наш драмкружок, человек двадцать. Пригласил он меня не на вальс, конечно, всего лишь на краковяк, но зато как же мы с ним весело отплясывали. Пожалуй, это был пик радости во всем моем счастливом совковом детстве. Кстати, Виктор Александрович на той елке (1951? 1952 год?) научил нас танцевать мазурку. Это было что-то вроде крамолы. Мазурка — это вам не падеспань какой-нибудь, не падепатинер, не венгерка, не краковяк, тем более не фокстрот.
Жена Виктора Александровича Екатерина Николаевна, в отличие от мужа, была дама хоть и совсем беззубая, но страшно строгая. И с огромным чувством юмора. В жизни я так не хохотала, как на читке «Женитьбы Бальзаминова». Но это было уже где-то в восьмом классе, когда я стала совсем толстая и некрасивая, и героини мне уже не светили, а только роль Матрены в пьесе Островского. Даже свахи я не удостоилась. А какой там великолепный текст. Помните?
«Благородного человека сейчас видать…»
«— Шайка разбойников на Москве объявилась… и все на ходулях разбойники, а атаман в турецком платье.
— Зачем на ходулях?
— Для скорости, ну и для страху…»
«Что такое чай? Вода. А вода, ведь она вред делает, мельницы ломает…»
Екатерина Николаевна объясняла нам, что нужно все себе представлять как будто оно настоящее, и что босиком по сцене не ходят, и женщина, когда она сидит на стуле, должна держать ноги так и так, а не вот так и вот так, и что нужно тренировать скороговорки и не опаздывать на репетиции и вообще — всю систему Станиславского. Про систему я долго пыталась усвоить, и мемуары театральные читала, и записи репетиций, и самого Станиславского. А осталось у меня в голове только въедливое отношение к реплике и ремарке, к тексту, который способен таить множество смыслов. Как текст Грибоедова. Или Пушкина. Или Островского. Или Чехова. Или Гете. Или Шекспира. Или Лопе де Веги. Все равно. Лишь бы стоящий, лишь бы настоящий. И тогда — тысячи поворотов и тысячи интонаций. Тысячи красок.
Гришка Гейшерик из конкурирующего кружка 281-й школы утверждал, что Стратилатовы допотопные и старомодные, и что система устарела (это в 1953 году!), и что нужно играть совсем не так и совсем не то. Ну и пусть. А я все равно любила свой драмкружок и Стратилатовых, потому что ничто в моем детстве не доставляло мне большей радости, чем репетиции в Грохольском. Мы встречались там каждый год, пока были живы старики. Последний раз я была там в 70-х годах, когда вышел из печати отдельной книгой мой перевод пьесы Дитера Форте «Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии». Десять печатных листов. Я еще успела принести ее на встречу и подарить Виктору Александровичу.
Стратилатовы происходили из Ленинградского ТЮЗа. Они были ученики Брянцева, за ними числилось какоето идеологическое прегрешение, поэтому они а перебрались в Москву и, прозябая на нищенскую зарплату, каким-то невероятным чудом сеяли разумное, доброе, вечное. В самом прямом, самом буквальном евангельском смысле. Хотя они были, конечно, верными ленинцами и атеистами. Им я обязана лучшими минутами моей внешкольной жизни.
Такой вот драмкружок в Доме пионеров. Районном.
Лина
Лина была нашей пионервожатой. Собственно, вожатых было две: Таня и Лина. Они дружили. Обе учились в педвузе и все никак не могли его окончить. Впрочем, Таня, кажется, окончила, а у Лины ушло на это дело лет десять, никак не меньше. Но какое это имело значение? Ведь обе они с утра до ночи работали в школе. Пионерская комната, с горном, барабаном, знаменем и множеством кукол, была нашим клубом, и приютом, и репетиционным залом, и избой-читальней. Туда мог прийти каждый, кому хотелось побыть среди своих, где тебе все рады и дверь всегда открыта. Таня была голубоглазой тяжеловесной блондинкой с пышными формами, медленной, правильной речью, суховатым чувством юмора и обыкновенной фамилией Полякова. Лина же — совсем напротив — худой, легкой на подъем брюнеткой с черными горящими глазами, оспинами на скуластом лице и тонкими легкими пальцами.
Как ни странно, рисовала, лепила и шила не Лина, а Таня, она придумывала и создавала куклы, организовала кукольный театр и вместе с пионерками сочиняла для него сюжеты. Увы, я к этому театру относилась безразлично. Я любила общаться с Линой. Лина читала нам вслух не входившие в школьную программу стихи и водила нас в походы, где пела с нами экзотические песни.
Например, про мальчика-машиниста, влюбленного в свой паровоз:
Ты лети, лети, моя машина, Сколько много вертится колес! И какая дивная картина, Когда по рельсам мчится паровоз! Или про юнгу, влюбленного в девушку из Нагасаки: Он юнга, его родина — Марсель, Он обожает пьянку, шум и драки, Он курит трубку, пьет английский эль И любит девушку из Нагасаки.Сюжет кончается тем, что бедную японочку убивает злодей-клиент, а бедный юнга никак не может утешиться. Между прочим, слова песенки написала Вера Инбер. Боюсь, что теперь это самое известное из ее произведений.
Или про даму, которая плыла на пароходе в Стамбул и влюбилась в куклу-турка. А он оказался весьма привлекательным и далее страстным мужчиной.
Из тысячи фигурок Понравился мне турок, Глаза его горели, как алмаз. Я наглядеться не могу на бравый вид, И тут мне турок с улыбкой говорит: «Разрешите, мадам, Заменить мужа вам, Если муж ваш уехал по делам».Так вот, Лина носила загадочную фамилию Тапси (а молено — Тапеси) и говорила, что ее папа был турецкий подданный. И что самое удивительное, ее покойный папа в самом деле был турецким подданным, булочником. Он поверил в мировую революцию, приехал в Россию и женился на русской леенщине. А леенщина эта была фанатичной религиозной сектанткой-евангелисткой и дала своей дочери суперхристианское имя — Евангелина. А сына назвала по-турецки: Али. В семье его звали Аликом, а во дворе — Халой.
Мы, приличные, правильные, воспитанные девочки, отличницы и пионерки, приезжали к Лине на день рождения, девятого сентября. И когда еще учились в школе, и потом, много лет подряд. Это был другой мир и другая жизнь. Квартира (коммунальная) находилась в дохрущовской трущобе, вход из подворотни, лестница насквозь прогнила. Молодые обитатели коммуналки, соседи Лины и Халы и их приятели со двора располагаются в общей кухне, приносят чудом раздобытую колбасу, хлеб и зелень (спиртного не помню), курят, играют на гитаре и поют. Никогда никто из этих ребят не сказал нам ни одного грубого или пошлого слова. Линина мамаша, злобно хлопнув дверью, удаляется в свою каморку. Наверное, она там молится, призывая на нас все кары небесные. А ребята поют:
Нам электричество Злую тьму разбудит. Нам электричество Решать задачи будет. Нам электричество сделает дела. Нажал на кнопку — чик-чирик! — поехала, пошла!Ах, как они поют. Жизнь обретает краски, дыхание — свободу, душа — чистое, незамутненное веселье.
Не будет докторов, Мы будем так лечиться. Не будет пап и мам — Мы будем так родиться. Не будет акушеров, врачей, профессоров. Нажал на кнопку — чик-чирик! — и человек готов!В девятом классе мы ездили с Линой в зимний лагерь. Катались на лыжах, санках и коньках. Один парень из 281-й школы, Витя Гайдученя, как-то по дороге на каток взял у меня коньки. Он хотел за мной поухаживать. Ну и досталось же нам от Лины за эти пережитки. Все идут на каток коллективом, а Витька позволяет себе такой неуместный, такой буржуазный жест. Мы с Витькой чуть не сгорели со стыда. Но взаимную симпатию сохранили.
Мы окончили школу, ушли, а Лина осталась. Преподавала там биологию. Нам стало не до школы. Начались вуз и все привходящие возрастные и прочие обстоятельства.
Потом Лина влюбилась. Ее избранник, Толиком его звали, красивый высокий парень с дивным голосом (сейчас сказали бы: мачо!) довольно быстро сел.
Вернулся он испитым чиферистом и наркоманом. Лина не могла смотреть, как он страдает от ломки. Пришла ко мне, попросила достать наркотик. Я достала. Через соседку, таксистку Лизу. Та тоже свое отсидела и все понимала. Хала тоже сел, оставив в коммуналке молодую жену и двоих маленьких детей. Потом вернулся. Мы пришли к Лине на день рождения, а Хала уже не в себе. Обзывает нас жидовочками и немочками и матерится.
Больше я к Лине не приезжала. А коммуналку, кажется, расселили.
Когда Лина умерла, ей не было и пятидесяти.
— Ваша Лина — святая! — говорила о ней моя мама.
Таня дожила до глубокой старости, и мы продолжали с ней созваниваться и встречаться.
Маяковский
Маяковского мы проходили всегда. «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха…»
В самом деле: что такое хорошо и что такое плохо? И почему в детстве есть ответы, а потом их все меньше и меньше? К концу жизни сохранить ориентацию в этих двух соснах становится совсем трудно. Если это удается, то еще можно как-то держаться на плаву. Но на что прикажете ориентироваться во времена перемен, в эпохи социальных, сексуальных, технологических, технократических, информационных и прочих революций? В моменты катаклизмов, катастроф, тупиков, разбродов, шатаний? Что дальше? Сброс, культурная революция — и все сначала.
Говорят, первая культурная революция в Китае произошла в десятом веке до нашей эры. А хунвейбины уже на моем веку. И где они теперь? И снова китайцы интересуются у Конфуция: что такое хорошо и что такое плохо.
Маяковский знал ответы на все вопросы. Для начала бесстрашно плюнул Богу в Его седую бороду. Потом надел желтую кофту и принялся орать «Про это» и скандалить с глупой публикой. Потом влюбился до потери пульса. Потом открыл окна РОСТа, потом почистил себя под Лениным и восхитился Моссельпромом и милицией, и освещенными витринами магазинов, и подвигом товарища Нетте, и въездом товарища Кострова в новую квартиру со всеми удобствами. И зачем он располагал свои строки лесенкой? И употреблял нецензурные слова и вообще добывал радий и вылизывал чахоткины плевки? Мне он не нравился. Мне, скорее, нравился Владик Маркович, из тридцать второй квартиры. Родители Владика были репрессированы (о чем никто никогда не упоминал), и он жил у приемных родителей. Вернее, приемные родители приняли его вместе с квартирой, и даже неплохо к нему относились, и купили ему велосипед марки «Диамант», а это была лучшая марка, и я Владику безумно завидовала. Так вот, Владику-то как раз нравился Маяковский. И я однажды услышала, как он декламирует (какое слово! увы, совсем забытое) стихи Маяковского:
Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза…И столько веры, и правды, и убежденности было в этом гордом заявлении, что мое отношение к поэту круто переменилось.
А потом еще наша пионервожатая Лина прочла мне вслух «Облако…»:
«Приду в четыре», — сказала Мария. Восемь, девять, десять.Нет, это, конечно, не Пушкин:
…Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я…Но ведь это такое же настоящее, подумала я. И простила бедному футуристу его б… с хулиганом и сифилис.
А «Клопа» и «Баню» уж я сама немедленно взяла в школьной библиотеке.
Вообще, мне всегда его было безумно жалко. Чем громче он кричал, тем жальче. А потом эта его Лиля уже в 60-х опубликовала его телеграммы, подписанные жалким ником Щен. Подло она поступила, просто сердце разрывается.
А его пулю в лоб, да к тому же после нелепых упреков Есенину, считаю поступком настоящего стоика, достойным великого поэта.
Великие поэты, как и библейские пророки, вообще обречены. На анафему, безумие, изгнание, тюрьму, казнь, безвременную смерть. В Древнем Риме: Сенека и Овидий; в Италии: Данте и Торквато Тассо; в Германии: Гельдерлин, Бюхнер, Гейне, Томас Манн, Брехт; во Франции: Виньон, Вольтер, Шенье, Гюго; в Англии: Марлоу, Байрон, Уайльд; в России: Пушкин, Лермонтов, Блок, Ахматова, Гумилев, Есенин, Маяковский, Цветаева, Мандельштам, Шаламов, Высоцкий, Бродский…
Что ни имя, то чудо.
Похороны Сталина
Когда умер Сталин, все девочки в классе плакали и переживали. Лидка Ионова, была у нас такая девчонка с огромными глазами и пушистыми косами, вдруг буркнула: «Слава богу, сдох». И я донесла на нее нашей классной, Нине Алексеевне. Та сказала мне, не повышая голоса и не моргнув глазом: «Иди и не думай об этом. Я разберусь». Классная была классная, она никому больше на Лидку не донесла. А я с тех пор не устаю благодарить Бога, что из-за моего идиотского доноса никто не пострадал. И перед Лидой стыдно до сих пор. В день похорон я болела гриппом, но уже вроде шла на поправку. Приходят девчонки из класса, говорят: «Идем. Все идут прощаться со Сталиным в Колонный зал». Мама говорит: «У тебя грипп, сиди дома». Я говорю: «Мама, все идут». Мама говорит: «А ты сиди дома, у тебя грипп». Я говорю: «Ну знаешь, мама, это уже слишком». И пошла. Мы идем по Рождественскому бульвару к Трубной площади и вдруг слышим шум. Странный. Я такого никогда не слыхала. И вдруг весь бульвар заполнился черной человеческой массой, и она катится прямо на нас. Очень быстро. И от нее не убежать. Но она по бульвару, а я от нее не вперед, а налево, через ограду, ограда низкая, и улица тоже вся запружена толпой. Меня вдавило в какую-то подворотню, а масса прокатилась вперед, оставляя за собой темные кучки, человеческие останки. Наверное. Но я не успела рассмотреть, потому что какую-то женщину тоже вдавило в подворотню, и она упала и лежит. Пожилая, полная женщина лежит прямо рядом. И ее надо в «скорую» или в больницу. Я помню, что на углу Рождественского и Петровского бульваров есть аптека, а как ее туда дотащить? Толпа еще не схлынула, но поредела. И смотрю, рядом стоит какой-то парень. Лица я сейчас не помню, помню зеленые глаза и что звали его Женей и был он милиционер. Мы с ним переглянулись, схватили эту женщину под мышки и потащили. И пока мы ее тащили, у меня в голове вертелась такая мысль: «Если Сталин был человек хороший, то почему его смерть вызвала это безумие? Так не может быть. Вон небо голубое, солнце светит, а на бульваре валяются эти черные кучки. Так не может быть. То есть не должно быть. И значит, не был он хорошим человеком и не был лингвистическим гением. И значит, я свободна от любви к нему. Ведь небо все равно голубое, и солнце светит».
В аптеке тетка пришла немного в себя. Мы оставили ее на лавке в этой аптеке на углу, где произошло мое прозрение, и я вернулась домой по уже пустому Рождественскому бульвару. И с тех пор совершенно точно никогда не поверю, если мне скажут, что кто-то гений и корифей всех времен и народов. Мне бы хотелось о нем забыть. И чтобы все забыли. И чтобы никогда больше. Но не получается.
II. Через тернии к звездам
Как я поступила на филфак
По блату, конечно. Медаль у меня была всего лишь серебряная, а там и золотых-то не брали, хотя и были обязаны брать. По закону.
Меня зачислили, а Карельский — сын сельского учителя из-под Тамбова — сдавал экзамены, выбил двадцать пять очков из двадцати пяти возможных. И хотя я совсем недавно, в первом туре олимпиады для школьников, тоже набрала свои восемнадцать очков из двадцати, а больше не набрал никто, муки моей совести были почти невыносимыми. Но я их стойко вынесла и про блат до сих пор никому не проболталась. Где-то к пятому курсу до меня дошло, что не я одна, процентов этак девяносто народу с нашего курса тоже были либо блатные, либо номенклатурные. Зато остальные десять процентов из рабочих и крестьян. Факультет-то не резиновый, а номенклатурных детей множество, и все жаждут знаний.
А теперь спросите меня, какой нужен был блат, чтобы девочка из семьи инженера, с еврейской мамой и всего лишь с серебряной медалью смогла оказаться на филфаке МГУ, да еще и на романо-германском отделении? Знакомый из числа преподавателей? Из деканата? Из ректората? Из Союза писателей СССР? Или Союза композиторов? Из Большого театра? Из ЦК партии? Вот и не угадали. Меня воткнул на факультет сам эксминистр высшего образования. Я даже и фамилию его помню: Кафтанов. Конечно, он меня в глаза не видел, но за меня похлопотали. Кто нужно, тот и похлопотал. Но я знаю совершенно точно, что экс-министр ни единой копейки и ни даже самого маленького борзого щенка за свою доброту не взял.
Там, на вожделенном факультете, были просторные аудитории, которые никогда от нас не запирались, высокие окна, стенгазета, студенческое научное общество, волейбольная секция, шахматная секция, секция художественного слова, испанский хор, эстрадный театр, студенческий театр, каждое воскресенье турпоходы, каждую осень по две недели колхоз в Можайском районе и пр. И разумеется, там работали битые и недобитые преподаватели. Не все, конечно, талантливые или гениальные. Некоторые преподавали истмат, диамат и соцреализм, но при этом учили ворочать мозгами, так что мы очень быстро научились проводить различия между литературой и халтурой, между наукой и ритуальным бормотанием. Такой вот был позорный совковый менталитет, и жизненный сюжет, и университет, и факультет.
Альберт Карельский
И с этим проклятым прошлым теперь навсегда покончено. Теперь в университет, кстати, вовсе не коммерческий, а Российский, и Государственный, и Гуманитарный, можно поступить без всякого блата. Просто за денежку. И там получить диплом. Тоже без блата и за денежку, кстати немалую. Там грязный туалет, дорогой буфет, платный Интернет. Аудитории запираются, но не всегда убираются, и там свобода. Можно приходить на лекции, а можно не приходить. Можно пропустить преподавателя в очереди к двери, а можно не пропустить. Можно здороваться, а можно не здороваться. Можно употреблять наркотики, а можно не употреблять. Конечно, можно питать иллюзии и верить в идеалы. А можно и не верить. Тем более что преподаватели высоких материй всячески предостерегают студенческий контингент от веры в мифы и иллюзии проклятого прошлого. И наконец, самое главное и драгоценное завоевание эпохи передового постмодерна: можно пользоваться нецензурной лексикой вслух и при всех. Хотя можно и не пользоваться. Свобода, блин. Матерись сколько, и когда, и при ком хочешь. Ты ведь студент продвинутый: денежку заплатил, обул лаковые туфли, надел белый костюм «версаче-армани», добрался в свой Гуманитарный университет сквозь пробки на своем «мерсе». Неужели после всего этого ты наступишь на горло своей песне, своему русскому шансону-мату, своему блатному мировоззрению?
Все мы блатные.
Филфак
Я поступила в МГУ как раз в тот год, когда открылась высотка на Ленгорах. Красотища там была неописуемая. Все сверкало и сияло: шпиль на самом верху, белые стены главного корпуса, деревянные панели вестибюлей, кабины лифтов, латунные ручки и поручни, таблички на дверях, и столы, и стулья в аудиториях, и оборудование лабораторий, и физиономии всех, кто там находился в день открытия: 1 сентября 1953 года. Лифты рвались ввысь с такой скоростью, что нас с непривычки тошнило, и мы, вызывая лифт, даже глотали какие-то пастилки от головокружения. Правда, через пять лет, когда мы выпускались, красотища немного поблекла, слегка запылилась, обтрепалась и потускнела, но еще лет десять выглядела прилично, пока не обнаружилось, что такую махину держать в порядке страшно дорого и практически невозможно.
Впрочем, гуманитарные факультеты пока что оставались на Моховой, в старом здании, где лифтов вообще не было, и мы без проблем взбегали по лестнице на пятый этаж. И карабкались на высоты гуманитарного знания. Суть образования заключалась в том, что наши разрозненные, вкусовые, незрелые и поверхностные впечатления от прочитанных книжек постепенно укладывались в сундуки заданных схем. И пусть этикетки на схемах были нелепыми, вульгарно-социологическими и Далеко не всегда отражали содержимое сундуков, но богатство все-таки потихоньку копилось. И мы сознавали себя его обладателями. Помещение ценностей в ту или иную емкость было всегда проблематичным, а перемещение из одной в другую почти невозможным. Ну, например: вот сундук с прогрессивными романтиками, в нем хранятся Гейне, Гервег, и Фрейлиграт, и другие политически ангажированные поэты, в основном второго ряда. А вот сундук с романтиками реакционными: в нем, допустим, Ките, Ламартин и Брентано и кое-кто еще. А что делать с Гофманом? Он вроде бы и там, и там, то есть ни в каком сундуке. И те, кто не влезают в тот или иной сундук с этикеткой, оказываются самыми крупными, самыми живыми, изворотливыми и безразмерными. Короче, классиками. На этот случай имелась всеобъемлющая формула: имярек был писатель противоречивый. А дальше все просто:
Был великий гуманист И великий реалист, За свободу был борец, Тут и песенке конец.Но сами-то они, писатели, не молчали. Они говорили с нами о том, что волновало их в свое время. И нас в наше время. И ни один самый великий литературовед не мог их переспорить, приписать им чего не было. А список обязательного чтения был огромный. Так что если кто нас и просвещал, то в первую очередь сам материал. Идеологические нашлепки на классиках не держались, они соскальзывали сами собой. Другое дело — те лекторы, кто с пиететом и восторгом вместе с нами рассматривал картины мира, созданные умами прошлого. Они открывали нам в текстах такие глубины, уровни, аспекты и красоты, о которых мы в свои семнадцать лет не имели ни малейшего представления. И на этих лекциях время неслось вскачь, и расширялись горизонты, и у мозгов вырастали крылья, и мы умнели, взрослели и потихоньку проникались к себе уважением, которого из нас не выхолостили потом никакие жизненные коллизии.
На первом, втором, третьем курсах мне лично все удавалось. Профессора внушали почтение, словари открывались на нужных статьях, библиотечные каталоги благоухали. Легко запоминались даты, имена и реалии, немецкие идиомы и латинские исключения. Укладывались в голове античные мифы, средневековые поэмы, ренессансные драмы. Пятерки на экзаменах, пятерки за курсовые, досрочная сдача почти всех сессий. И где-то на четвертом курсе — облом. Двойка по экономике социализма. Ну невозможно было постичь, в чем ее суть, как она устроена, как она работает. Вместо концепций и аргументации — постановления съездов, а разве их запомнишь? Ух, как я рыдала. Прощай повышенная стипендия.
Дальше — хуже. Я чуть не завалила диплом. Тема была про соцреализм в творчестве одного немецкого писателя. Нужно было доказать, что этот немец — яркий представитель соцреализма. А я, в своей беспримерной наивности, взялась выяснять, что такое этот самый соцреализм. Проштудировала все передовые статьи журнала «Вопросы литературы» (в просторечии «Вопли»), которых к тому времени вышло номеров этак сорок, точно не помню, и, к своему восторгу, выяснила, что все определения нестрогие, потому что не опираются на сколько-нибудь внятную аксиоматику. Отсюда я сделала вывод, что нет такого метода. А если и есть, то всего лишь направление под такой этикеткой, каковое началось в тридцатые годы и на Западе, вероятно, уже исчерпало себя. Я упоенно толкую об этом на защите, а физиономии у членов комиссии мрачнеют и чернеют. Очень-очень хотел оставить меня без диплома один из этих членов. Проморгал меня мой научный руководитель. Он вообще мной не интересовался, был человеком больным, замкнутым, слабым и ко всему, кроме своих физических страданий, глубоко безразличным. Меня попросили выйти из аудитории, где шла защита, и Роман Михайлович Самарин, у которого я слушала курс по литературе эпохи Возрождения, властью декана и зав. кафедрой отстоял мою тройку. Спасибо ему, старому прожженному антисемиту. И прощай, красный диплом. И черт с тобой. Университет я все-таки окончила.
Алые паруса
Первые два курса немецкий вела Нина Ивановна Власова. Она была худенькая, некрасивая, корректная и романтичная.
Мы читали «Туннель» Келлермана. Роман так себе, но что она могла поделать? Кого читать? Анна Зегерс, Фейхтвангер и Томас Манн были для нас трудноваты, ждали нас на третьем курсе, Белля тогда еще не было, то есть был, но никто из германистов о нем понятия не имел, прямолинейная литература ГДР ее не вдохновляла — слишком слабо в стилистическом отношении. О пацифисте Ремарке не могло быть и речи. Так что пусть уж будет Келлерман. По крайней мере, антифашист. Однажды она пригласила нас к себе в гости, в крошечную, опрятную квартирку, где жила со старушкой-матерью, и под страшным секретом поведала о своей запрещенной и крамольной любви к писателю Александру Грину и его роману «Алые паруса». И дала почитать. Я с восторгом сообщила об этом событии дома. Мама сказала, что давным-давно прочла Грина и ничего против него не имеет.
Спустя лет десять, уже во времена «оттепели», я побывала в Старом Крыму, в доме почти уже не запрещенного, но все еще сомнительного писателя Александра Грина и встретила там его тайных приверженцев, так называемых гринян. Вдова писателя была еще жива. Сидела в шезлонге, окруженная восторженным поклонением гринян, и раздавала благословения. Да-да, благословляла каждого экскурсанта, покидавшего дом. Экскурсанты тоже были все еще «левые», неофициальные, и экскурсия тоже квазикрамольная.
Пожилая гринянка, водившая нас по домику, разрыдалась, рассказывая нам о кончине писателя вот на этой кровати, в этом самом домике, с этой самой нищенской меблировкой и пр. Стоптанные босоножки, под ногтями чернота, по изможденному морщинистому лицу бегут самые натуральные горькие слезы. Я у нее поинтересовалась, была ли она лично знакома с автором «Алых парусов», но ответ получила, увы, отрицательный.
В мое время люди способны были влюбиться, умилиться, растрогаться, расплакаться навзрыд при одной мысли об алых парусах. А теперь целые толпы выпускников каждый год плывут на корабле под алыми парусами под гром салюта во время гламурного праздника на Неве. Интересно, они читали Грина?
Латынь на первом курсе
У нас никогда не возникали сомнения в их компетенции. Они знали все. А мы ничего. Ничего из того, что знали они. Они были все такие разные.
Старый латинист Майер ходил с палкой. У палки набалдашник из слоновой кости. У Майера безупречные манеры, спокойная интонация и неподдельное удовольствие от общения с нами. Так что учить латинские глаголы и бесконечные исключения из правил их спряжения не составляло никакой проблемы. За это полагалась награда, состоявшая в проникновении в текст. В тексте обнаруживался смысл. Иногда даже смысл жизни. Латинские пословицы формулировали правила поведения. В здоровом теле здоровый дух. Через тернии к звездам. Не называй имен, а то наживешь неприятностей. Доколе же нам терпеть разные безобразия?
Благодаря Майеру мы узнали, например, про Муция Сцеволу, как он сжигал себе руку в знак своей верности Риму, или про несчастную Лукрецию, заколовшую себя кинжалом. Она же не была виновата, это Тарквиний ее изнасиловал, но она все равно закололась, потому что была женой патриция, а римские патриции и патрицианки берегли свою честь.
Но пожалуй, самой долгоиграющей историей оказалась история о Горациях и Куриациях. О том, как древние римляне казнили своего героя и спасителя, когда он нарушил закон Рима. И какие у них возникли проблемы с похоронами и воздаянием почестей казненному преступнику.
Лет через пятнадцать я перевела стихотворение на этот исторический сюжет, написанное Хайнером Мюллером. И очень удивилась, когда машинистка, которая его перепечатывала, попросила разрешения взять себе экземпляр.
Мне даже в голову не пришло, что это про мавзолей и про Ленина-Сталина. Я тогда думала, что Рим отдельно, Москва отдельно. Оказалось — ничего подобного. В Третьем Риме те же неразрешимые вопросы, что и в Первом. Вот она латынь на первом курсе. Спасибо Майеру.
Михеева
На третьем курсе появилась Ольга Николаевна Михеева, грузноватая, пожилая, с пухловатыми щеками, мясистым носом, с крашенными хной волосами. Она носила бесформенные юбки и кофты и шагала по коридорам факультета какой-то мягкой, даже жеманной поступью. Она была полной противоположностью элегантным преподавательницам французского, а уж тем более шикарной красавице Ахмановой, которая вела у нас английский. Михеева не знала жалости и не пускала в аудиторию после звонка. Даже если ты опаздывал на какие-то полминуты. Опоздал? Гуляй по коридору, пока идет занятие. Ох, сколько раз я гуляла. Она вообще демонстративно имела в группе любимчиков и особо жаловала Тамарочку Сарану, а меня почему-то недолюбливала. Однажды, разбирая большой, сильно закрученный пассаж из Фейхтвангера, она резюмировала: «Старик Томас Манн никогда бы так слабо не написал». Я спросила, откуда она это знает. Я хотела, чтобы она сформулировала критерии оценки и вовсе не собиралась ее обижать. Но как же она разъярилась, какой устроила мне разнос… (Между прочим, Тамарочка, которую она так жаловала, никогда не перевела и не опубликовала ни строчки: вышла замуж за иностранца, завела кафе и преуспела в бизнесе.)
Нам всем было известно о ее безнадежной любви к одному из преподавателей, хромому, веселому красавцу — ветерану войны. Помню, как он, уже весьма поддатый, на какой-то вечеринке (кажется, по случаю нашего благополучного возвращения с целины) объяснялся в чувствах миловидной второкурснице-узбечке: «Счастье только в твоих глазах, Париза!»
И все-таки именно Михеева научила нас вхождению в сложный, многозначный текст, поиску единственно точного слова, уважению к русскому языку как неисчерпаемому кладезю смыслов. Именно она проявила ко мне снисхождение на госэкзамене по немецкому и натянула четвертак, хотя красная цена моему ответу была — слабая тройка.
Карельского она любила, но, когда он стал ее коллегой, куда более успешным, чем она сама, Михеева лишила его своего благоволения, сочла карьеристом и ренегатом. Ее положение на факультете к тому времени сильно пошатнулось. Чудом уцелевшие ветеранки старой филологической гвардии тогда пришлись не ко двору. Их стали убирать одну за другой, заменяя номенклатурными дочками, профессионально уступавшими старухам по всем параметрам. И только Карельский вступился за Михееву на заседании ученого совета, когда ее перемещали с очного отделения на заочное. Потом ее вообще упрятали на русское вечернее отделение и вынудили уйти на пенсию. Но у нее было достаточно благородства, чтобы оценить преданное великодушие Карельского, принести ему свои извинения и примириться с ним, теперь уже навсегда.
Карельский находил для нее заказы: предложил ей переводить переписку Георга Бюхнера для сборника, который редактировал в издательстве «Искусство», и мы трое оказались в нем соавторами.
Со мной она тоже примирилась через много лет. И только тогда я поняла причину ее неприязни. Я для нее была столичная, блатная, подозрительная, слишком благополучная. А Тамарочка — из провинции, и в семье У нее кто-то был репрессирован. К тому же бедная девочка умела подольститься. А Ольга Николаевна плохо различала искреннюю симпатию и грубую лесть. Сама она была из саратовских немцев и от советской власти натерпелась. Узнав, что я вышла замуж за репрессированного, она неожиданно прониклась ко мне симпатией, стала называть баронессочкой и даже разрешила однажды нанести ей визит. К тому времени я уже окончила университет и искала смысла в жизни и подходящей работы. И мне был нужен ее совет. Потому что она была на голову крупнее всех известных мне преподавателей. Она жила в Баковке (или в Немчиновке?), на старой просторной даче, где стоял покрытый пылью большой рояль, а на рояле громоздилась стопка дешевеньких изданий тогдашней поэзии, настолько плохой, что в этом семействе читали эти стишата вслух, хохотали до колик, а потом торжественно отправляли в туалет для соответствующего употребления.
Михальчи
Средневековую литературу читал Дмитрий Евгеньевич Михальчи, худой, желчный, отстраненный и непроницаемый. Он просто не обращал внимания на факт нашей абсолютной неподготовленности к восприятию неведомого нам материала. Не снисходил — и все. Приходилось самим докапываться. Благо в Горьковке, университетской библиотеке, имелись все тексты первого ряда и вся дополнительная или, как говорят немцы, «вторичная» литература (то есть история, критика и аналитика). До чего-то мы докапывались, до чего-то — нет, но все положенные по программе средневековые эпосы, поэмы, шванки, фарсы, всех трубадуров, миннезингеров и прочих бардов пришлось перелопатить. Мне бы вот сейчас прослушать его курс. Если бы молодость знала, если бы старость могла…
Самарин
Роман Михайлович Самарин, декан и заведующий кафедрой зарубежной литературы, читал нам Возрождение, Просвещение и спецкурс по литературе модерна. Слушать его было легко и интересно.
Первая фраза, которую мы услышали от него, звучала так: «Вы думаете, что ничего не знаете и ничего не можете? Нет. Вы многое знаете и многое можете». Конечно, его курс казался элементарным, поверхностным и даже несерьезным. Он мог, например, нарисовать на доске каблук какого-нибудь мушкетерского сапога. Зарубежные (читай: западноевропейские) классики анализировались без затей, по классической схеме: такой-то и такой-то был писатель противоречивый. И далее по списку: гуманист, реалист, борец за свободу… Серьезных монографий за ним не числилось. Так, кое-что. Статьи, предисловия, послесловия. Когда вышел сборник Артура Шницлера (где-то в 60-х), я, помнится, сразу позвонила Карельскому:
— Алик, какое шикарное предисловие к Шницлеру накатал Роман!
— А ты диплом Юрки Архипова читала? — поинтересовался Алик.
Но кто, как не Самарин, затеял и осуществил грандиозный замысел издания двухсоттомной Библиотеки всемирной литературы? И откуда бы взялся в Интернете весь ее бесценный контент?
Компьютер, конечно, вещь хорошая, но сам-то он «Песнь о Нибелунгах» не переведет, как его ни программируй. Отцифровать — это пожалуйста, было бы что оцифровывать. И ЕГЭ, может, вещь и хорошая, да только… было бы кого и что тестировать.
Гуманитарные знания, не освященные личностью учителя, немногого стоят. Хорошо бы объяснить это наробразу с его дистанционными проектами. Вот, например, когда я на экзамене пролепетала Самарину, что мне нравятся философские повести Вольтера, потому что они такие «живописные», он спокойно меня поправил: «Вы хотели сказать, графичные. Ведь они вам кажутся черно-белыми, так?» А однажды на семинаре для германистов он прочел нам часовую лекцию о Кафке, а именно о повести «Превращение». Для нас это было потрясением. Человек-насекомое, человек-жук, прячущийся под кроватью от родных, отвратительный себе и близким, мерзкое, ничтожное, жалкое создание. Это вам не Гамлет, не маркиз Поза, не Фауст и даже не Мефистофель. Не Альцест, не Онегин, не Чацкий и даже не Молчалин. А как же «Человек — это звучит гордо»?
После перемены Самарин, войдя на кафедру (семинар проходил на кафедре), запер дверь (честное слово, как сейчас помню, меня это тогда поразило) и начал лекцию с вопроса:
— А если человек болен?
А мы были веселые, здоровые, позитивные, перспективные, полные надежд и окруженные любовью. С этого-то вопроса и началось наше знакомство с литературой модерна. И это Самарин указал нам настоящие ориентиры, и первым таким ориентиром был Кафка, а за ним Томас Манн с его гениально больным доктором Фаустусом.
Обращался он с нами со снисходительной фамильярностью:
— Венгерова, Белоконева, не болтайте!
Однажды Дагмара Кучерова дала мне поносить черные висячие клипсы. Сижу на лекции Самарина, демонстративно заглядываю в глаза, надеясь на одобрение. А он:
— Вы что, Венгерова? Хотите понравиться нашим братьям-неграм? Снять немедленно!
Когда у Борьки Абакумова с русского отделения сперли пальто и парень остался без верхней одежды (зимой 56-го в Москве стоял лютый мороз), Самарин просто взял и купил ему пальто.
Однажды наш Роман, такой важный, такой солидный, с этой его трубкой и запахом «Золотого руна» на всю кафедру, угодил в самую настоящую лужу. То есть лажу. Обругал каких-то девчонок за брючные костюмы: поднял этих модниц с мест и ругательски отчитал при всей честной аудитории. А модницы оказались чешками, и пришлось нашему декану приносить извинения иностранным гражданкам из братской страны.
Когда на целине у нашей команды начался понос, я дала ему телеграмму: «Лечим романтику фталазолом». Он все понял, и на следующий же день к нам на целинный стан прикатил секретарь местного Каскеленского райкома (или обкома?) и навел порядок с водой.
Вообще, студентов он любил. Газета «Комсомолия», которая при нем выходила на факультете, склеивалась из энного количества листов ватмана. Иногда их число доходило до пятидесяти, и тогда номер газеты протягивался от одного конца коридора до другого. Работали семь или шесть сменных редакций. Заметки и фотографии наклеивали на ватман. Рисунки рисовали прямо на нем. Публикация в «Комсомолии» считалась делом престижным, и халтура там не допускалась. Иду я однажды по коридору, а Самарин окликает меня и велит зайти на кафедру.
— Венгерова, это вы написали заметку о новом учебнике грамматики немецкого языка?
— Да.
— Очень плохо.
А что такого я там написала?
— А вы написали: «представляет из себя». Стыдитесь. Не «представляет из себя», а «представляет собой». Зарубите себе на носу.
Еще рассказывали историю об одной влиятельной даме с нашего факультета. Дама была профессор и славилась тем, что она одна умудрялась получать гонорары за свои публикации в университетской прессе. Она была очень даже не глупая и не бедная. Но овдовела, а это было не престижно. И она во время прогулок со своим псом присмотрела себе одного собачника, майора, и увела его у жены. Разъяренная жена пришла жаловаться на факультет, и Самарин дал ей мудрый совет: не поднимать никому не нужного скандала, не подавать заявления в партком, взять за уведенного мужа отступные (сто тысяч) и оставить его в покое. Говорят, что наша партийная профессорша нашла этот выход приемлемым, и все уладилось к общему удовольствию: жене — машина и квартира майора, а нашей профессорше — сам майор.
А если серьезно… Всерьез все произошло в начале «оттепели», когда факультет обсуждал роман Дудинцева «Не хлебом единым». Были общие собрания, бурные споры, крики, боевые клики и призывы: «Бей в барабан и не бойся!» Дальше — больше. Произошла эта история с несостоявшейся Нобелевской премией Пастернака. Самарину пришлось принести в жертву трех преподавателей, в том числе гениального Кому Иванова.
У него был нюх на диссиду. Он, например, прочтя в «Комсомолии» всего лишь рецензию Алика Жолковского на роман Хемингуэя «За рекой в тени деревьев», завелся так, что не допустил Алика к работе на фестивале молодежи. И конечно, Алик при первой возможности эмигрировал, профессорствует в Штатах.
Роман гнобил Мельчука, талантливее которого за всю историю факультета были разве что Кома и Андрей Зализняк. Мельчука, уже окончившего курс, Самарин запретил пускать на факультет. Мельчук, конечно, тоже эмигрировал, профессорствует в Канаде.
А вполне себе лояльного Карельского, несмотря на его одаренность, Самарин, как мог, поощрял. Карельский потом профессорствовал на нашем же факультете.
Роман даже Зализняка не гнобил: послал его по обмену в Париж. Как будто заранее знал, что Андрей останется в России и прочтет новгородские берестяные грамоты.
Все-таки умный был мужчина, Роман Михайлович Самарин. Очень.
Бонди
Сергей Михайлович Бонди читал на русском отделении. Он был, что называется, старого закала и петербургского разлива и в гардеробе всегда занимал очередь за пальто. Это страшно льстило всей очереди, и она радостно пропускала его вперед. Он был из старой когорты пушкинистов, а курс его был посвящен русской поэзии. Мы, с романо-германского отделения, бегали к нему на лекции в Коммунистическую аудиторию. Бегали всего два раза. На третий раз нам это было строго запрещено, ведь по расписанию нам полагалось в это время сидеть на семинаре Неустроева и слушать про Клопштока. Есть такое уважаемое имя в истории немецкой литературы. Перу его принадлежит длиннющая религиозная поэма под названием «Мессиада», которую не то что прочесть, но даже перелистать невозможно. Такая она скучная. Ничего скучнее Клопштока в немецкой литературе нет и не будет. Это было ясно еще в восемнадцатом веке.
О, сколько Клопштока хвалили! Читали Клопштока? Едва ли. Пусть нас бы так не возносили, Зато прилежнее читали, —писал о нем Лессинг.
А Бонди объяснял, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Конечно, Ахматову на общей лекции он еще не цитировал. Ни Ахматовой, ни Цветаевой, ни даже Пастернака в программах русского отделения филологического факультета еще не было. А уж о Мандельштаме вообще никто никогда не заикался. Студенты-русисты, конечно, эти имена знали. Например, Саша Морозов (он был на несколько курсов старше нас) вообще был помешан на поэзии Мандельштама и знал наизусть все, что тогда можно было где-то как-то раздобыть.
Что ж, оставался Блок. «Представьте себе, — говорил Бонди, — вы поссорились с женой, она разозлилась и хлопнула дверью. Что пишет по этому поводу поэт?
Ты в синий плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла.Вот вам ключ к любой истинной поэзии».
Поэзия возникает тогда, когда поэт страдает. А не тогда, когда он конструирует из слов строки, уповая на то, что из этих конструкций, пусть даже ловко зарифмованных, сами собой возникнут смыслы. После той лекции Бонди мне стало это ясно раз и навсегда.
Сергей Михайлович Бонди
Между прочим, мне попалась в руки программа курса по русской литературе XX века, который читали в то время в Сорбонне. Весь советский период был представлен лишь одной позицией: Иван Шмелев. «Человек из ресторана». Прекрасное имя и великолепный роман. Но в советской литературе были и другие имена.
Кома
Кома — это ласковое прозвище. Дано было Вячеславу Всеволодовичу Иванову в детстве, потому что есть в его облике нечто шарообразное: а именно круглая большая голова, вмещающая уникальный, глобально функционирующий интеллект. Кома знает множество языков, расшифровал хеттские и тохарские клинописные памятники, и вообще он лингвист номер один urbi et orbi. Докторскую он получил сразу, как только раскрыл рот на защите кандидатской. Такова была, во всяком случае, легенда, ходившая по факультету.
А еще он был агитатором в нашей группе. Именно в нашей. Я по сей день горжусь этим обстоятельством. Агитатор (их теперь называют тьюторами) ни за что не агитировал, но был обязан проводить регулярные политинформации. А Кома их не проводил, но, встречая любого из нас в коридорах, всегда здоровался. Что само по себе было великой честью, и я по сей день горжусь этим обстоятельством. А однажды он поздоровался со мной, но не прошел мимо, а удивленно спросил:
— Что случилось?
— Ничего, Вячеслав Всеволодович.
— Ну как же ничего. Вы были единственным человеком на факультете, который на вопрос: «Как дела?» отвечал: «Хорошо». А сегодня вы сказали: «Так себе».
Когда на факультете, как и во всей стране, началась эта дикая свистопляска вокруг «Доктора Живаго», Иванов не отрекся от Пастернака, отказался его осуждать. Не потому, что был с детства знаком с поэтом, а просто потому, что он не отрекся бы ни от кого другого, оказавшегося в положении Пастернака. Несколько лет спустя я присутствовала на заседании в Институте славяноведения, где ученый совет несправедливо заваливал моего научного консультанта — специалиста по истории книги, дотошного, добросовестного и бесконечно трудолюбивого знатока своего предмета. Иванов был единственным, кто решительно встал на защиту бедного докторанта.
В 2013 году Иванов выступал в клубе «Читалка» на Покровке с чтением своих переводов. Я, конечно, бросилась туда, понимая, что у меня есть шанс еще раз в жизни увидеть самого гениального лингвиста советской и постсоветской эпохи. У меня возник один вопрос, и мне важно было услышать ответ именно от него. Прежде чем я потеряю интерес ко всему на свете. Для начала я представилась, он меня узнал и вспомнил всю нашу группу: Ирину Белоконеву, Алика Карельского, Лешку Леонтьева.
— Вячеслав Всеволодович, — вопросила я, — как, по-вашему, есть ли у человечества шанс сохранить знания и способы их передачи от человека к человеку? Или информация, скапливаемая в Интернете, растворит их в море дурной бесконечности?
Иванов вздохнул, собрался ответить, но промолчал. Потом еще раз собрался с духом — и опять промолчал. А в третий раз только взглянул в зал. И в зале повисла долгая пауза. Я не стала длить эту пытку.
— Спасибо, Вячеслав Всеволодович, — сказала я. — Я вас поняла.
Такой вот был у меня с ним философский диспут.
Вячеслав Всеволодович Иванов
Либан
Николай Иванович Либан вел семинары по русской литературе девятнадцатого века. Услышав от меня имя Либана, мама сказала: «Надо же, Колька Либан. Из нашей школы. Мы с ним из одной бригады. Нас обучали по бригадному методу, один мог отвечать за всех. Колька
— Либан за всю бригаду отвечал по литературе и истории. Передай ему от меня привет».
Он не был ни кандидатом, ни доктором, ни профессором. Может, потому и дожил до глубокой старости. Другое дело, что русскую литературу он знал и преподавал лучше и интереснее, чем кто-либо еще. Мне довелось прослушать только одну его лекцию — о «Выстреле» Пушкина. Из нее я поняла, что прелесть Пушкина — не только в музыкальности слова, но и в геометрическом изяществе мышления. Что в основе любого пушкинского текста лежит совершенный, завершенный рисунок замысла, некое золотое сечение, незаметное читательскому восприятию, но тем сильнее воздействующее на него. Либан называл меня «потомком» (он имел в виду мою фамилию) и предлагал написать у него курсовую. О Чернышевском. Я попыталась. Для начала прочла диссертацию Чернышевского о понятии прекрасного и с грустью убедилась, что с аксиоматикой у нашего мученика слабовато. Какое-то подростковое гегельянство. «Прекрасное есть жизнь». Разве это дефиниция? Я сдала позиции. Я уже писала курсовую на своей кафедре и две курсовые не потянула. Если бы хоть не Чернышевский…
Чемоданов
Николай Степанович Чемоданов преподавал готский, старый-престарый немецкий, очень похожий на современный. Настолько похожий, что мы уже на втором курсе легко прочитывали весь «Серебряный кодекс», датируемый пятым веком нашей эры. Тем более что кроме как в этом кодексе, чудом сохранившемся крошечном отрывке из Евангелия, этот самый готский и не существовал. Про Чемоданова было известно, что сначала он был марристом, потом отрекся от Марра в пользу великого корифея Сталина, а потом отрекся от сталинской теории языкознания, которая была вовсе не сталинская, но заимствована корифеем у известного русиста Чикобавы и кого-то еще. Но нам было не до того. Мне лично
Чемоданов нравился, потому что он научил меня читать эТот самый кодекс. А о том, какую трагедию пережил этот мягкий, благожелательный профессор, чтобы сохранить возможность читать мне курс готского, я тогда не задумывалась и не догадывалась.
Я недавно купила составленную им «Хрестоматию по истории немецкого языка». Эта книжка, вышедшая в 1953 году, представляет собой истинный шедевр издательского ремесла. Сколько в ней страниц, напечатанных старинным готическим шрифтом с надстрочными и подстрочными знаками, лигатурами и нестандартными интервалами! Сколько иллюстраций, примечаний, пояснений, сносок, грамматических таблиц, словарных статей! Просто дух захватывает. Это какая же нужна была образованность и скрупулезность, чтобы такое чудо появилось на свет в те докомпьютерные времена. Я только теперь сообразила, что именно Чемоданов привил мне интерес к Гутенбергу и эпохе Реформации. Если бы не он, как бы я сумела перевести Хельмаспергеровский нотариальный акт (XV в.) и листовки, написанные Мартином Лютером и Томасом Мюнцером (XVI в.). Господи, как эгоистична, самоуверенна, высокомерна и глупа юность…
В старой книжке не указано имя-отчество Чемоданова, только инициалы, и ни слова о его научной заслуге. Это еще объяснимо, все-таки 1953 год. Но и Википедия его не знает. Благодарные потомки вовсе не благодарные. А самодовольные и необразованные.
В поисках радости
Мама купила мне путевку на курорт. Я отправилась туда в обществе моей дачной приятельницы и однокурсницы Инны Говоровой со славянского отделения. Дом отдыха располагался в Туапсе. К морю вела крутая лестница. По ней спускаться — одно удовольствие. Переться обратно вверх — удовольствие сомнительное. Никто и ничто мне там не нравилось. Жариться на солнце — тоска зеленая. Во время экскурсии на озеро Рица меня тошнило. Само озеро, конечно, красивое, но убогая и не слишком опрятная шашлычная на берегу не внушала доверия. Шашлык какой-то подозрительный, кажется, свиной. Зато на столике стоял стакан с соусом «ткемали». Я спрашиваю у мальчишки-официанта:
— Сколько можно взять соуса?
— Сколько хотите.
И я поглотила все содержимое полного стакана. Никогда не ела и не пила ничего вкуснее. Таково мое единственное приятное воспоминание о поездке на курорт и об экскурсии на красивое высокогорное озеро Рица.
Мы с Инной гуляли под зонтиком по аллеям, и я терзалась угрызениями совести. Ну как ей сказать, что я помираю здесь со скуки? Но я все-таки сказала, вымолила прощение, продала путевку и тайно вернулась в Москву в надежде, что еще успею в колхоз.
О колхозе я прочитала в факультетской стенгазете «Комсомолия». Отчет о мероприятии принадлежал перу Инны Тертерян с четвертого курса. (Она потом стала крупным литературоведом и знаменитой переводчицей с испанского.) Может, ее литературный дар оказал на меня такое вдохновляющее воздействие, а может, курортное прозябание, но я вернулась в Москву. Все мои были на даче, комната, на счастье, пустовала. Не сообщив о своем побеге родителям, не тратя времени даром, я бросила у порога чемодан и помчалась на факультет. Мне повезло. Факультетская бригада уезжала на следующий день, меня включили в список, где красовались целых пять фамилий: Мельчук, Зализняк, Падучева, Федорцова, Шапошникова, и утром я уже сидела в автобусе, отбывающем в Можайский район. В автобус поместились две бригады: шестеро филологов и человек двадцать математиков (мы их называли мехматянами).
Рыжий, веснушчатый, словоохотливый и веселый Игорь Мельчук с ходу пообещал рассказать нам семьсот четырнадцать анекдотов, каковое обещание впоследствии выполнил и даже намного перевыполнил. Мы приехали в колхоз под Можайском, и началось настоящее дистиллированное счастье, которое продолжалось целых две недели. Помню, как по утрам Андрей Зализняк (он был бригадиром) будил нас зычным возгласом: «Пыыыдъем!», и мы выскакивали из палатки, радостные и полные энтузиазма. Помню ведро (восемь литров парного молока, из коих четыре выдувал один Игорь). Ровные полосы поблескивающего на солнце скошенного льна (мы вязали из стебельков маленькие пучки и оставляли их лежать на земле, это и была наша работа). Ученые диспуты на льняном поле на глобально-лингвистические темы. Красивую армянскую легенду об Эчмиадзинском монастыре (однажды ночью нам поведал ее Игорь). Полученную от него же шокирующую информацию о существовании таких наук, как генетика и кибернетика (как все-таки это ужасно — залезать своими несовершенными мозгами в тайны природы). Чувство острой зависти к Падучевой (ей одной была доверена ребятами ответственная работа на комбайне). Тепло подмосковного лета. Тепло взаимных симпатий. Тепло доверия к жизни, к будущему, к друзьям и подругам и всему прекрасному миру под Можайском и под Луной. Чего только не перечувствуешь в девятнадцать лет…
Потом был еще один колхоз, в тот же год, в начале первого семестра. Работали тоже под Можайском, но уже на картошке. И погода была дождливая, и земля грязная и мокрая, и картошка отнюдь не поблескивала на солнце, и бригада из двадцати или тридцати человек была с нашего курса и потому никакого особенного интереса для меня не представляла. По вечерам играли в карты (не на деньги, конечно, так просто — в кинга). Никто особенно не спорил на филологические темы. Мой зычный крик по утрам (я была бригадиром) никого не вдохновлял на трудовые подвиги. Борька Абакумов подбивал всю бригаду бунтовать и манкировать, отдыхать и отлынивать, а по возвращении состряпал капустник, где вывел меня под именем Бригодяйки и где я орала истошным голосом: «Пыыыдъем!», не вызывая у публики ни малейшего энтузиазма.
Языкознание
Андрей Зализняк поступил на факультет, уже зная с десяток языков. В том числе латынь. Как я несколько позже выяснила, латынь он изучил из интереса к непристойным эпиграммам Марциала.
Он жил в старой одноэтажной развалюхе, превращенной в коммунальную квартиру, в комнате с печкой, низким потолком и огромной картой мира на стене. Однажды он, стоя пред этой картой и водя по ней школьной указкой, прочел мне лекцию по языкознанию. И пока он говорил о том, как перемещались по этой карте эти непостижимые субстанции, называемые языками, как они видоизменялись, влияли друг на друга, размножались, сливались и разъединялись, возникали, взрослели, старели, консервировались, умирали, исчезали из мира, я чувствовала себя гениальной, все постигающей и суперполноценной личностью. Никогда больше ничего похожего я не переживала. Но это так, к слову.
Андрей Анатольевич Зализняк
А по существу, для иллюстрации тогдашнего нашего мироощущения, могу привести следующую историю. Был у Андрея одноклассник Мишка Рачек. Он учился, кажется, в Нефтяном, но в науках не был силен. Зато обладал несравненным обаянием, перед которым не могли устоять даже институтские преподаватели. Они жалостливо натягивали ему оценки, в частности по английскому. Но английский Рачеку никак не давался. Однажды он даже заявил, что если сдаст английский в очередную сессию, то женится. Приходит Рачек на экзамен, но плавает. Как говорится, ни в зуб ногой. Комиссия переглядывается и великодушно предлагает:
Приведите нам хоть одно английское существительное с суффиксом — merit, и мы вам, так и быть, поставим тройку.
Рачек глубоко задумывается, вероятно вспомнив свое матримониальное обязательство, и наконец выкладывает козырного туза:
— Джентльмент!
Понятное дело, в тот раз он так и не женился.
Ну вот. Приходит Мишка к Андрею и требует:
— Андрей, скажи слово «Бог» на всех языках, какие знаешь.
Андрей перечисляет, Мишка загибает пальцы, считает языки. Досчитал до пятидесяти двух, кажется. Андрей вроде бы иссяк. Мишка кривит рожу, раскрывает принесенный с собой номер журнала «Наука и жизнь» и тычет в него пальцем:
— Вот здесь пишут, что был один кардинал, который мог с ходу произнести это слово на пятидесяти шести языках! И не стыдно тебе, Андрей? Не дотянул до какого-то кардинала!
Видимо, в статье шла речь о гениальном полиглоте Франциске Ксавье, иезуите-миссионере, причисленном к лику святых.
Андрей обиделся:
— Так ведь слово «Бог» для кардинала — профессиональный термин. Предложи ты мне сказать слово «член», я бы тебе его на ста языках назвал!
Приподнятая целина
В общем, в поисках утраченного восторга я при первой возможности отправилась на целину. Стояло жаркое лето 56 года, до Казахстана товарный поезд, битком набитый студентами, тащился десять дней. Пять дней мы кружили вокруг Москвы, пять дней пересекали бескрайние просторы Союза. В вагонах, устланных сеном, было темновато, тесновато и душновато, и от всего этого долгого путешествия в памяти остался лишь один эпизод, впрочем чреватый грустными последствиями. Подкатывает ко мне Стас Рассадин с русского отделения и говорит: «У меня тут есть одна книжка. Прочти». Я и прочла, а это оказался запрещенный Бабель. Рассказ «Соль» так долбанул меня по душе, и сердцу, и голове, что я с ужасом вернула книжку Стасу, и он запрезирал и возненавидел меня навек и навсегда.
Ну вот. Мы приехали в Казахстан, в Каскеленский район, там степь да степь кругом, и вокруг, и везде, и повсюду. Едем в грузовике, солнце жарит, дорога длинная, густая пыль толстым слоем покрывает лицо и конечности, впереди милые такие белые домики, но это еще не наша точка назначения, просто местный лепрозорий. Кто-то разлил по кружкам спирт, мне тоже досталась кружка, я выпила без всякого результата и наружного эффекта. Кто-то удивился, а я не поняла, чему и почему. Теперь и сама удивляюсь. Еще мы обнаружили в грузовике ящик сгущенки, принадлежавший лично нашему комсомольскому вождю, Артуру Ермакову. Он вез его конкретно и приватно для своей персональной, скажем так, спутницы.
Это обстоятельство вызвало у нас социальный протест. Мы проткнули все банки, кажется, найденным в грузовике гвоздем и высосали каждую банку, все до единой. Банки остались лежать в ящике, а комсомольский вождь, как ни в чем не бывало, сглотнул этот факт. Он был умный парень. В зрелом возрасте редактировал аж всю Советскую энциклопедию.
Приехав на полевой стан, мы разместились в больших палатках-балаганах и приступили к сбору урожая. Работали, например, на току. Зерно, привезенное с полей, нужно было лопатить и лопатить, чтобы оно не сгорело, то есть не испортилось, не сгнило, не проросло, прежде чем его ссыплют в бурты и развезут по элеваторам. Позволю себе напомнить, что температура воздуха в тот урожайный год достигала пятидесяти одного градуса по Цельсию, от чего некоторые чувствительные барышни-филологини иногда даже падали в обморок. Тени не было вообще. Мы создавали ее, втыкая лопату в зерно, но под такой тенью трудно было уместиться.
Мне и Кларке Янович с русского отделения досталась работа на комбайне. Вот когда я переплюнула Лену Падучеву. Она стояла на комбайне всего ничего: денька три по восемь часов, а мы с Кларкой — целых три недели по восемнадцать часов в сутки. Потому что наш комбайнер с Украины был Герой Соцтруда, приехал на сезон и спешил зашибить длинную деньгу. Он не удосужился починить педаль на копнителе, педаль заедадо нам приходилось прыгать в копнитель и выскальзывать из него вместе с половой, а потом догонять бегом уходивший вперед комбайн. Честно признаюсь, я иногда не успевала, поэтому Кларка героически исполняла этот трюк вместо меня. За что я ей буду признательна по гроб жизни. Но Клара — это отдельная песня.
Особая трудность нашего труда состояла в том, что колючие остья сыпались на нас с трубы копнителя и застревали в лифчике, причиняя страшные неудобства. Нам понадобилось дней пять, чтобы отменить ношение этого совершенно ненужного аксессуара и надеть ковбойки на голое тело.
Однажды мы с Кларкой дезертировали с трудового фронта. Был уже второй час ночи, труба копнителя начала двоиться у нас в глазах, голова пошла кругом, руки-ноги задрожали. И когда за зерном приехал благосклонный к нам шофер Сашка, мы малодушно оставили трудовой пост и сиганули к нему в грузовик. И уехали на полевой стан. Мы не сомневались, что покрыли себя вечным позором и нам грозит исключение из комсомола и всеобщее осуждение. Каково же было наше ликование, когда утром за нами прибыл наш герой труда и, как ни в чем не бывало, поинтересовался: «Ну что, выспались, девушки?» Девушки выспались и радостно возобновили трудовую деятельность.
Мне понравилось на целине: мы собрали огромный урожай, я заработала восемьсот рублей. Нас свозили на экскурсию в уютный город Алма-Ату, где я на эти астрономические деньги (почти две повышенные стипендии!) накупила книг, которых невозможно было достать в Москве. Нас встречали под звуки оркестра объятиями и цветами.
На следующий год я опять поехала на целину. В этот раз мы спокойно доехали нормальным поездом всего за пять дней. Поезд пересек просторы нашей Родины, миновал тогда еще не до конца высохшее море Арал и углубился в бескрайние казахстанские степи. В открытые окна поезда широкими волнами вливалась сладкая вонь гниющих буртов сгоревшей прошлогодней пшеницы, так и не вывезенной на элеваторы.
Может, поэтому я и завалила в тот год экзамен по экономике социализма. Рассталась с надеждой на получение красного диплома и на построение социализма в какой бы то ни было стране.
Неля Дубровская
Неля Дубровская одевалась лучше всех. Прелестные шелковые блузы и платья с асимметричными декольте шила ей мама-генеральша. Но Неля никогда не выпендривалась, держалась естественно и просто, испытывая к окружающим и вообще ко всему человечеству необъяснимое доверие, которое легко было принять за чувство юмора. Приходит она, к примеру, на экзамен по зарубежке.
— Вы прочитали всю рекомендованную литературу? — строго спрашивает Самарин.
— Да, — скромно потупляет глаза Неля. — Только Маркса и Энгельса не успела.
Самарин, конечно, сразу же ставит ей неуд и выгоняет из аудитории, но зато этот ее самоубийственный ответ вся группа вспоминала перед каждым экзаменом.
Однажды, уже на пятом курсе, к нам в аудиторию заглянула, кажется, Майка Заволокина из французской группы и поинтересовалась:
— Девочки, кто хочет замуж за Толю-китаиста?
Толя учился в МГИМО, а там неженатых выпускников за границу не распределяли. Никто из нас его в глаза не видел. И вдруг Неля совершенно спокойно заявляет:
— Я хочу.
И вышла замуж за Толю-китаиста. А отношения с Китаем тогда вконец испортились. И пришлось Неле со своим китаистом ехать в Африку.
Изредка наезжая в Москву, Неля делилась африканскими впечатлениями.
Толя служил культурным атташе, сначала в Гвинее, потом в Гане. Или наоборот.
У них с Нелей там были своя вилла, бой и садовник. В стране было два воюющих между собой племени: одно племя соглашалось только на работу шоферов, а второе отлично служило садовниками. Толя сочинял красивые речи для советского посла и развлекался, общаясь с местной элитой. Приходит, например, к нему по делу местный африканский царек. Ехидный Толя заставляет его ожидать в саду, а сам тем временем врубает зажигательную негритянскую музыку и наблюдает, как важный пожилой дядька, будучи не в силах удержаться, начинает отплясывать на глазах у восхищенной публики (в лице Нели, самого Толика, боя и садовника).
У местного царька было одиннадцать жен. Десять из них целый день толкли зерно в доисторических ступках, пекли лепешки в доисторических печках и рожали детей. А одна жена приехала из Австрии, где была известным скульптором. В сухой сезон она создавала из местной глины шедевры фантастической красоты. Приезжали журналисты и искусствоведы из разных высокоразвитых стран, чтобы сфотографировать их для вечности. Потом начинался сезон дождей, и шедевры исчезали с лица земли.
Каждое утро Неля отправлялась любоваться «деревяшками» (масками из драгоценных пород дерева) на местный рынок, где туземки все порывались пощупать ее волосы — гладкие и белокурые (пусть даже крашеные). Такие волосы считались там верхом красоты и пределом мечтаний, и красавицы африканки прилагали неимоверные усилия, чтобы соответственно изуродовать свои густые, курчавые, блестящие шевелюры.
В остальное время Неля вязала кофты из роскошного мохера, поддерживала светские отношения с посольскими дамами и потихоньку изучала образовательные системы в странах третьего мира, то есть собирала материал для диссертации.
На супружеском фронте дела обстояли намного хуже. Толя пил, и Неле приходилось его вытрезвлять и скрывать от посольских взоров. Это ее страшно напрягало. Она даже хотела развестись, но все не решалась нанести пьянице-мужу смертельный удар. Развод грозил Толе увольнением, а ей — одиночеством и поисками работы. А где прикажете жить? Возвращаться домой к родителям? Они и так ее достали. Всю жизнь прожили как кошка с собакой. Даже не разговаривали друг с другом. Потому-то она и связалась с Толей, что готова была бежать из дому хоть на край света. Строить кооперативную квартиру? На какие шиши?
И тут меня осенило.
— Слушай, Нелька, — сказала я, — а пусть Толя платит тебе зарплату. Ты ведь на него пашешь в этой африканской дыре. Два года потерпишь, этого хватит на кооператив.
Я думала, что удачно пошутила. А Неля так и поступила. Потребовала у китаиста зарплату, накопила на квартиру, развелась, защитила диссертацию и вышла замуж. По любви. За скромного, но порядочного инженера.
Карельский
С Карельским трудно было поссориться. Он не опускался до ссор. Просто переставал общаться с людьми, которые его чем-то обижали или шокировали. Вот, например, сказал ему однажды при встрече Лешка Леонтьев, что у него, у Лешки, нет времени на друзей. И Алик перестал с ним контачить. И вся наша группа тоже.
Но я умудрялась все-таки расходиться с Аликом во мнениях. Таких эпизодов набирается три или четыре.
Первый раз он не согласился со мной, когда я публично обнаружила свое преклонение перед Диккенсом. Вся группа вслед за лидером дружно осудила мой недостойный инфантилизм. Это было досадно, но не смертельно.
Во второй раз конфликт произошел по морально-этической линии. Я была старостой группы, и в мою обязанность входила отчетность. Присутствие студентов на лекциях я должна была отмечать в журнале крестиком. А отсутствие соответственно минусом. Карельский химичил. Придет на первый час, я поставлю крестик, а он со второго часа смывается. Я на это закрывала глаза, от меня требовался только один знак, а не два. Но тут он однажды подкатывается ко мне с возмутительным требованием:
— Слушай, поставь мне крест, мне нужно на вокзал, маму встретить.
Я, разумеется, логично ему возражаю:
— Тебе надо, ты езжай на вокзал. А я поставлю минус.
Алик в полном шоке:
— Говорю же тебе, мама приезжает.
А я не понимаю:
— Неужели ты даже ради мамы не можешь позволить себе хоть один минус в журнале?
Я поставила минус, он уехал на вокзал, а на следующий день группа единодушно переизбрала меня. Выбрала старостой Раечку Корнюхину. Что это на них нашло? Я не сразу поняла. Но страшно обрадовалась. Вовсе мне не нравилась эта бюрократическая возня с крестиками-ноликами. И наши отношения только облагородились. А Раечка до сих пор держит связь между теми, кто еще жив: звонит, пишет письма за границу, справляется о здоровье. А когда я в перестройку чуть не обнищала, Раечка нашла мне работу, на которой я продержалась семнадцать лет.
Третий случай касался Высоцкого. Я сразу просекла, что он настоящий поэт уже по самым первым псевдоблатным песням про того, кто раньше с нею был, и про Нинку с Ордынки, которая наводчица и всегда одета как уборщица. А Карельский просек это только после появления песни про чудо-юдо с сюжетом из Рильке. А уж когда Высоцкий спел про привередливых коней, Алька купил пластинку и пригласил меня послушать. Я, конечно, сразу прискакала и попыталась ему напомнить, как я была права и как он был неправ, но он напрочь об этом позабыл.
Насчет Диккенса он кардинально изменил точку зрения.
Ну и, наконец, был еще сюжет — про Гете и его опасных связях. Но это уже другая песня.
Белоконева
Ирина была красотка и золотая медалистка. Чернокосая, кареглазая, с осиной талией, что называется, все при ней. С ней было хорошо готовиться к экзаменам: я жаворонок, она сова, я расталкиваю ее утром, она меня вечером. И конспекты у нее были самые лучшие, и память блестящая, и немецкий она знала не хуже Алика Карельского. Носила красное пальто с черной меховой опушкой на пелеринке, пользовалась неизменным успехом у ребят не только с нашего, но и со старших курсов и любила назначать им свидания: одному на первом этаже галереи, другому — на втором. Одновременно. А мы всей группой наблюдаем, как они там томятся в ожидании. Ее проблема заключалась в трудности выбора. Она, даже выходя с факультета после занятий, не всегда знала, в какую сторону идти. Мне это было непонятно. Я, как и полагается рабочей лошадке с шорами на глазах, знала только свой круговой маршрут: дом, метро, факультет, читалка, метро, дом. А Ирина могла зайти в холл гостиницы «Москва» и выпить чашку кофе. А могла и не зайти. Она каждый раз задумывалась, чего ей больше хочется. То ли ей нравится Вадим с философского, то ли болгарин Богомил с нашего факультета. Конечно, роковая страсть настигла и ее. Однажды она обратила мое внимание на двух высоких парней в какихто странных коротких пальто с капюшонами. Мы тогда еще не знали слова «анорак», но слово «куртка» было более-менее знакомо. Парни оказались иностранцами из Исландии. Вот один из этих исландцев, Арни Бергман, с первого взгляда разбил ей сердце. Воспитание у нее было такое, что речь могла идти только и единственно о законном браке. До сексуальной революции было еще далеко, а до КГБ и крупных неприятностей за связь с иностранцем даже из братских стран ох как близко. А уж исландский вариант… Она едва осталась жива от безнадежно взаимной любви. Но тут ее послали учиться в Германию, а пока она там продолжала сходить с ума, Арни женился на Лене Тувиной, белокурой голубоглазой номенклатурной девочке из провинции, и увез ее в Исландию.
Ирина осталась на бобах, но просидела на них не так уж долго. Потому что встретила своего настоящего. Тоже иностранца и весьма преуспевающего писателя и культурного функционера. Она сказала мне еще на втором курсе:
— Вот выйду замуж, будет у меня вилла и на первом этаже просторная гостиная с креслами, роялем и торшером. Буду сидеть в кресле под приглушенным светом торшера, чтобы не видно было морщин.
Проходит несколько лет, я приезжаю в Берлин и наношу визит Ирине. Она живет в двухэтажной вилле, в Панкове. В гостиной на первом этаже белый рояль, кресла и торшер. Какие морщины? Нам тогда было всего-то по тридцать шесть лет. Но свет все-таки приглушенный.
А к Ирине я с тех пор приезжала много-много раз. Она меня познакомила и с Хаксом, и с Мюллером, так что ей я обязана лучшими моими авторами. Бог даст, выберусь в Берлин и опять воспользуюсь ее гостеприимством. Правильно мама говорила: настоящих друзей заводишь только в юности.
Красный проект
Я еще раз отправилась на целину, потому что в Москве намечался всемирный фестиваль молодежи. И как-то мне не хотелось снова оказаться в толпе. После похорон Сталина я дала себе слово, что буду избегать массовых мероприятий, сколько хватит моих слабых сил.
Но, как известно, нельзя дважды войти в одну и ту же эйфорию. Урожай 1957 года совсем не уродился, поля не золотились и не колосились, а имели довольно бледный вид. И все-таки Кустанайская степь дарила нам дивные закаты и благоухала местной полынью — суданкой, она была уже скошена, и нам досталась лучшая в мире работа — копнить. Я научилась закидывать охапку сена, поддетую на вилы, высоко-высоко, на самый верх огромной продолговатой скирды, где ее перехватывал и укладывал ровным слоем Левка Воскресенский. Мы даже устроили соцсоревнование с конкурирующей парой и одержали в нем блестящую победу. Левка был курсом младше, но и с ним тоже можно было потолковать о великом. Однажды он выдвинул довольно оригинальную гипотезу, что при коммунизме все люди будут не говорить, а петь. И сам пел нам украинские думки, которых мы до этого никогда не слышали, и песни, хорошо известные в исполнении Козловского.
Нiч яка мicячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, Хоч на хвилиночку в гай.Вообще-то слово «Украина» всегда вызывало у меня чувство романтического умиления. И дед родился под Полтавой, и «Вечера на хуторе…» были моей любимой книжкой, и Киев казался советским Парижем, и Наталия Ужвий гениально играла Юлию в «Последней жертве» Островского, и не было на свете места лучше Коктебеля под Феодосией, разве только Новый Свет над Судаком. Да что говорить.
Когда мы возвратились в Москву, Левка пригласил меня в гости. Он жил с родителями в Немчиновке, в своем доме, темном и каком-то грустном, но все-таки уютном. Меня поили чаем, и Левкина мама очень настойчиво уговаривала меня подумать о душе, для чего обратиться к хорошим людям — баптистам. Они смиренны, набожны, заботятся друг о друге, собираются в молельном доме и хором поют псалмы. И мама, и отец Левки были свято убеждены, что Украину ждет счастливое, незалежное будущее и за него надо бороться. Они, конечно, были западенцы, но этого слова тогда еще никто вслух не произносил.
По-моему, Левка не совсем разделял убеждения своей мамы. Он интересовался сочинениями Бухарина и даже организовал какую-то (подпольную?) группу сокурсников, исповедовавших правильный марксизм — не то меньшевистский, не то уклонистский, не то ревизионистский. Они и меня туда звали, но особенно не настаивали, так что я уклонилась.
Левка умер рано, лет сорок тому назад. Ни он и никто из нас не дожил до реализации «красного проекта». Мы не построили коммунизм ни в одной, ни в другой и в никакой отдельно взятой стране. А баптистский проект в 2014 году получил украинскую реализацию. Набожный баптист, глава незалежной Украины, приказал бомбить украинские города.
И мировые СМИ толкуют мне про терроризм, про то, что ополченцы — это бандиты, хулиганы и отморозки. Но они-то у себя дома, в Донецке, а американский баптист — в Киеве. Настолько он набожный. Дважды два — все-таки четыре. Глядишь, и «красный проект» осуществится. В одной, отдельно взятой Америке.
III. Как хорошо мы плохо жили
Беба
В шестом классе за мою парту села новенькая. Увидев ее, я глазам своим не поверила. Она выглядела в точности как страшная ведьма из сказок братьев Гримм, такой у нее был нос: страшный, длинный, крючковатый, чуть ли не до подбородка. Звали новенькую Беатриче. Большего противоречия между именем и убойной внешностью нельзя было вообразить. Мне показалось, что она старше меня на сорок лет. А она вдруг предложила всему классу передвинуть все парты поближе к доске (или отодвинуть немного от доски, точно не помню), и парты немедленно пришли в движение и оказались не на своих местах. Мы устроили такой тарарам, как будто по классу прошел Мамай. Несомненный организационный талант Бебы получил немедленное признание.
Беба жила в соседнем доме, на низком первом этаже, в коммуналке, переоборудованной из дореволюционного магазина. Дверь длинного темного коридора выходила не в подъезд, а почти сразу на улицу. В квартире всегда было холодно и влажно, зато туда очень удобно было забегать в гости. Я и забегала. Мы с Бебой легко нашли общий язык и зацепились за него лет на двадцать. Старший брат Бебы, Ульян, учился в десятом классе и шел на золотую медаль. Мать их умерла, отец болел туберкулезом. Все хозяйство — кормежка, стирка, уборка — лежало на Бебе. В доме поддерживался образцовый, чуть ли не стерильный порядок, стол застилался глаженой простыней, никаких чаев-кофеев не подавалось. Кроме тех случаев, когда комнату временно оккупировали армянские родственники, приезжавшие в Москву за покупками. В этих случаях Бебу обязывал закон гостеприимства, и она вкалывала по двадцать четыре часа в сутки. В качестве домоправительницы, официантки и горничной. Эта роль отнюдь не была унизительной, напротив — почетной. Армянская девушка — дочь хозяина, кузина, сестра товарища, хозяйка дома — лицо священное и неприкосновенное. Армянские кузены доверительно рассказывали ей о своих финансовых проблемах и романах. Армянские кузины радостно демонстрировали ей золотые кольца, приобретенные в московских комиссионках. А русские друзья Ульяна (десятиклассники из соседней школы, а потом студенты из МИФИ) не смели не только приблизиться к ней, но даже пристально поглядеть в ее сторону. Со временем это обстоятельство стало ее тяготить. Беба, с ее бешеным южным темпераментом и менеджерскими талантами, изнемогала под тяжестью беспросветного одиночества и затянувшегося целомудрия. Она окончила финансовый вуз, устроилась на работу, стала взбивать высокие прически («вшивый домик», «воронье гнездо») и носить глубокие декольте. Как итальянские кинозвезды эпохи неореализма. Увы, до Джины Лоллобриджиды ей было далеко.
Однажды она пришла ко мне за советом в совершенно растрепанных чувствах.
— Представляешь, — заявила она с порога, — я влюбилась. В Юру Лаптева из нашего отдела.
— А он?
— И он.
— И что?
— Его родные против. Они считают, я ему не пара.
— Почему?
— Потому.
Примерно через полгода она появилась снова. Сияя от счастья.
— Я вышла замуж.
— За Юру?
— Ну да.
— А как же его родные?
— Они меня обожают.
— С чего бы это?
— А ты ничего не замечаешь?
— А что я должны замечать? Вижу, что ты сияешь, как медный самовар.
Ты что, не видишь моего носа? Я же его подрезала! Пластическая операция! Я теперь могу не взбивать «вшивый домик» и не носить эти жуткие декольте. И его родные сообразили наконец, что никакая я не проститутка! Я теперь настоящая Лаптева!
А я уже много лет совершенно не обращала внимания на форму и длину ее обонятельного органа. Я просто его не замечала. И не заметила, как замечательно она его усовершенствовала.
Наши за границей
На курсе было четыре отделения: большое — русское, славянское — намного меньше, романо-германское — маленькое и классическое — совсем уж крошечное. Классическое — особая статья, там-то и учились настоящие, стопроцентные филологини, не питавшие надежд на удачное замужество.
А на других отделениях почти все девицы собирались рано или поздно выскочить замуж за иностранца. Некоторые успевали это сделать еще во время учебы. Известно, например, что Ирина Березина из французской группы шокировала членов комиссии по распределению решительным отказом ехать на село: «Я не поеду. Потому что мой муж — чехословак!» Надо же такое ляпнуть. Он был просто словаком.
Ира Березина вышла за словака, Марина Орлова за датчанина, Тамара Сарана за чеха, Лена Тувина за исландца, Ира Белоконева за немца, Вера Коннова за англичанина, Клара Янович за итальянца…
Между группами существовала некая взаимовыручка. Всегда можно было одолжить конспект или учебник или попросить об услуге. После окончания университета отношения качественно не изменились. Мы продолжали держать друг друга в поле зрения и в курсе текущих событий.
Марина в Дании преподавала русский. Тамара в Канаде (куда она перебралась со своим чехом) содержала студенческую столовую. Лена в Исландии работала сиделкой в сумасшедшем доме, вязала классические исландские свитера и таким образом некоторое время содержала всю исландскую компартию. Ира в ГДР блистала на писательских конгрессах. Клара блистала на дипломатических раутах. Про остальных не знаю, но наши девушки лицом в грязь не ударили. Эх, Франек, Иржи, Богомил, Арни, Стефан, Витторио, вам здорово повезло. А я всех вас упустила.
Эля в Дании
Эля Переслегина из английской группы съездила на стажировку в Данию и привезла оттуда кучу впечатлений. Она рассказывала, что ее туалет — черный деловой костюм, сшитый на заказ, и туфли-лодочки — не нашел одобрения в датском королевстве.
И тогда жена советского посла взяла нашу Элю за руку и привела (или привезла?) в простой столичный универмаг. И там она купила Эле соответствующий гардероб: лохматую цветную юбку apres ski (такую хорошо носить на зимнем курорте), шерстяные вязаные гольфы и туфли на толстой платформе. Выходя из универмага, жена посла уступила дорогу некой даме, каковую приветствовала глубоким книксеном. Дама благожелательно улыбнулась и кивнула. «Ваше величество, — сказала жена посла, — позвольте представить вам мою молодую приятельницу». Ошарашенная Эля, кажется, тоже попыталась изобразить глубокий книксен. Она была тронута, несмотря на все свое марксистское воспитание. Трудно представить себе королеву, которая ходит в универмаг за покупками. Это что-то такое из сказки Андерсена. Все-таки датская королева — самая лучшая из королев. И датский король — самый лучший из королей. Эля поведала нам, что он дирижирует оркестром легкой (sic!) музыки и живет на доход от собачьего налога, то есть налога на собак. Чем выше собака в холке, тем выше налог. Поэтому верноподданные, но экономные датчане научились скрещивать датского дога с таксой. И все налоги уменьшились, и все доги поумнели.
Конгресс
Звонит мне как-то Димка Урнов. В свое время он произвел на меня неизгладимое впечатление. Случилось это на комсомольском собрании по поводу постановления ЦК КПСС об очередном подъеме сельского хозяйства, где Димка сделал весьма содержательный доклад, искусно связав аграрную проблематику в СССР с толстовской повестью о Холстомере. Подобный ассоциативный ход показался мне сомнительным. То ли Димка дурак, то ли слишком остроумен. На самом же деле все объяснялось очень просто: Димка питал интерес лишь к двум предметам — Шекспиру и конному спорту. И писал он о скачках ничуть не хуже, чем о Шекспире, и мы даже когда-то сочинили ему мадригал, из коего я запомнила только одну строчку:
Твоя иппическая лира затмила самого Шекспира…Так вот, звонит он в коммунальную квартиру в два часа ночи и сообщает, что в восемь утра на ипподроме (что на Беговой) начинается конгресс коневодов из соцстран, рабочий язык — немецкий, а переводчик заболел. И чтобы я приехала туда переводить на конгрессе.
Я и поехала. Не имея ни малейшего представления об опасности, которой себя подвергаю, об аудитории и терминологии.
Об опасности — увлечься игрой на бегах — меня предупредили жокеи, с которыми я встретилась на бесплатном обеде в столовке. Ей-богу, они взяли с меня честное слово, что я никогда-никогда не стану играть на бегах.
Аудитория конгрессменов состояла из пожилых мужиков, помешанных на коннозаводстве. Я им понравилась, они хлопали меня по спине и острили про отличный круп. Немецким они владели свободно, а главное, непринужденно, понимали друг друга с полуслова, предавались трогательным воспоминаниям о породистых лошадях, состязаниях и победах. Переводить было легко и приятно; если я не знала термина, они хором подсказывали, о чем речь. В общем, все сливались в экстазе.
Но конгресс собрался не просто так, а с конкретной целью. Дело в том, что все кони в странах победившего социализма, несмотря на превосходство коммунистической идеологии, бегали хуже капиталистических и терпели позорные поражения. Никак им не удавалось выиграть дерби или скачки на приз Дианы. В Америке, в Италии, в ФРГ вошло в моду внутриплеменное скрещивание и вовсю функционировали многочисленные ипподромы, а у нас… Эх, да что говорить. Уж очень дорогое это дело, конный спорт. Чтобы покрыть перспективную кобылу, нужно уплатить бешеные деньги владельцам породистого жеребца. И тут сельскохозяйственные начальники из СЭВа родили гениальную идею: пусть все соцстраны скинутся и отвезут советскую кобылу на покрытие к американскому производителю. PI обойдется это всего-то в какой-нибудь миллион долларов. Но лошадники из стран народной демократии уперлись рогом и давай приводить неоспоримые аргументы против этого гениального плана. Ведь скидываться всем, а кобыла-то одна-единственная. А что, если она в пути занеможет? Захворает? А что, если на обратном пути ее растрясет и родится какой-нибудь урод? Ведь для жеребой кобылы лететь через океан не такое уж обычное Дело. А когда она прилетит обратно и ожеребится потенциальным рекордсменом, кому достанутся лавры?
Одному Советскому Союзу. Так зачем же им скидываться? И они отказались. Конгресс провалился. По-моему, ко всеобщему удовольствию. Нашим лошадникам тоже не больно-то хотелось унижаться в Америке.
А я обогатила свой словарь словечком Inzucht, что означает внутриплеменное скрещивание.
Димка меня поблагодарил и предложил привезти презент из Англии, куда он отправлялся отнюдь не на стажировку по Шекспиру, но покупать каких-то коней. Я попросила открытку с жокеем. И он привез и подарил. До сих пор храню.
Рейтинг
Зазвонил домашний телефон. Я обрадовалась и сняла трубку. Голос ошибся номером. И какой голос! Во-первых, бархатный, во-вторых, интеллигентный, прямо как у молодого Юрия Яковлева, в-третьих, знакомый. Вот только чей? А голос и говорит:
— Старенькая, это ты?
Друг юности, профессор-доктор-академик (или член-корр?). Последний раз мы с ним виделись лет пять назад.
А первый раз мы с ним увиделись в университетском автобусе, на третьем курсе, мы с филфака, они с мехмата, ехали в колхоз под Можайском, где и провели две недели неописуемо счастливого времени в палатке и трудовом порыве. Однажды мехматяне прибыли к нам с визитом. Приехали в грузовике на льняное поле. И он первым выпрыгнул из кузова. Стоит такой весь из себя загорелый красавец, красивее всех на свете, и смотрит прямо на меня, можно сказать, в упор. Наш духовный лидер Игорь Мельчук уверенно поставил диагноз: дескать, брюнет, влюблен, и именно в меня. А я и поверила.
Через две недели неописуемое счастье кончилось. Но не совсем. Мы вернулись в Москву, возобновили контакты, перезнакомились домами. У друга юности был самый теплый, самый гостеприимный, самый веселый, и милый, и уютный и тому подобный дом. В Камергерском, где висит доска, что в этом доме и даже в том же подъезде жил Собинов. Собинов на шестом, а друг юности, кажется, на пятом. Точно не помню.
Жил он с мамой. В коммунальной квартире, в комнате с овальным огромным столом, тяжелыми гардинами, пианино и огромным множеством книг и журналов по математике.
«Если бы никто в мире, — сказал однажды друг юности, — не занимался математикой, я бы занимался ею один». И эту фразу, которую он услышал от своего шефа, академика Колмогорова, я запомнила на всю жизнь. Очень она мне пригодилась в разные моменты. Особенно когда я теряла работу. Планка была высокая, пока дотянешься, всю жизнь ухлопаешь. Но зато не зря. Гости друга юности пили кофе (об алкоголе и речи не было, никто не пил, да и не испытывал в спиртном ни малейшей нужды), играли в шахматы, играли в буриме, играли на пианино, играли в шарады. Был, правда, во всех этих разговорах и состязаниях один, как бы это сказать, момент, который ставил меня в тупик. Все его друзья-математики строили всех, о ком говорили, по ранжиру. И выдавали места: этот первый, этот второй, а дальше — несущественно. Слово «рейтинг» тогда еще не употребляли.
Однажды позвали в гости Елизавету Ауэрбах, актрису из МХАТа, которая прочла сочиненные ею прелестные байки-рассказики из личной жизни. Во МХАТе ей не давали ролей, вот она и придумала себе новое амплуа и средство к существованию. О чем это я? Ну да. Об актрисе из МХАТа. На это суаре с актрисой пришла худенькая девчонка с огромными печальными глазами. Скромная, элегантная, немногословная и высокомерная. И вся наша компания на ее фоне потеряла смысл. Поскольку она была дочерью академика, ей полагалось первое место в рейтинге. А дальше…
Ах, эта «оттепель». Всех клонило налево. Во Франции и Германии уже почти закончили бунтовать, а у нас все еще только начиналось. В доме у моего друга пели Городницкого, обсуждали Двадцатый съезд, следили за шахматными чемпионатами, травили политические анекдоты и вспоминали поездки в альплагерь.
Потом произошел знаменитый на всю Москву скандал на мехмате. Мехматяне (в том числе друг юности) выпустили газету с отрывками из Джона Рида («Десять дней, которые…»), с изображением рабочего, разрывающего цепи капитализма, и декадентскими стишками:
Тогда еще нас волновали мало Погибший Пруст и гибнущий Верлен.За это идеологически выдержанные активисты с физфака их строго осудили. После чего некоторые любители Верлена были исключены из университета. Друга юности не исключили, но репрессировали: выдали ему вместо сталинской стипендии стипендию имени Ньютона.
У нас, на филфаке, события эти страстно обсуждались, что немало способствовало активизации нашего общения и моего интереса к его особе. И мне даже показалось, что и он вроде бы относится ко мне с некоторой серьезностью. Правда, когда однажды мы с ним шли куда-то по какому-то из московских переулков и ему зачем-то понадобилось заглянуть к приятелю, он — на всякий случай — оставил меня ждать его на улице. Как теперь говорят, я была в шоке. Но, я думаю, что он и не мог поступить иначе. Я ведь была недоразвита и очень плохо одета.
Произошло еще одно достопамятное событие. Друг юности и его мама нанесли светский визит моим родителям. И мои родители на этих смотринах блистательно провалились. Соответственно и я. Но в силу своей недоразвитости я в тот момент этого не сообразила и, как ни в чем не бывало, отправилась в поход, поскольку в поход отправилась вся колхозная компания, и друг юности в том числе. А в лесу (буквально) повстречалась нам другая группа туристов, в составе коей обнаружилась вышеупомянутая академическая дочка. Друг юности оставил мне (на память?) свою гитару, а сам развернулся и рванул вслед за удачей.
Он очень скоро на ней женился. И очень быстро с ней развелся.
И женился опять. И опять не на мне, а на брошенной возлюбленной великого человека. Это же еще круче, чем дочь академика. Так ей и надо. Такая вот я везучая. Ведь если бы он женился на мне, то очень быстро развелся бы со мной. И все равно женился бы на первой строчке рейтинга.
Почтовый ящик
В почтовый ящик я попала по распределению и героически продержалась в нем три года. Меня взяли в отдел информации (ОНТИ) и назначили зав. сектором. Я честно-благородно исполняла свою секретную службу (у меня был допуск по первой форме) и считала дничасы-минуты, когда можно будет вырваться на свободу из душной клетки ящика. Дело в том, что я ненавидела свою работу, за которую мне платили аж 1200 рублей. Заключалась она в следующем: в отдел поступали заграничные журналы, инженеры почтового ящика их просматривали, размечали, а мы, то есть сотрудницы ОНТИ, переводили выбранные инженерами статьи.
Но во-первых, я терпеть не могла эти самые журналы. И больше всего глянцевый американский журнал «Управляемые снаряды и ракеты». Великолепная бумага, удобный шрифт, на обложке гламурные красавицы стюардессы в элегантной летной форме, а внутри снаряды и ракеты, снаряды и ракеты: «земля — земля», «земля — воздух», «воздух — воздух». Меня от этого прямо мутило.
Во-вторых, переводить было неинтересно. Хотя тогда машинный перевод еще не практиковался так широко, как нынче, с такими текстами могла бы справиться любая машина. Но все-таки перевод сугубо технического текста мне лично не доставлял ни малейшей позитивной эмоции. Проще говоря, переводить эту жуть, жесть и мерзость про земля — земля и т. д. было скучно и тошно.
В-третьих, инженеры, которым могла пригодиться информация, содержавшаяся в поступавшей прессе, и так знакомились с ней первыми. Что обессмысливало все дальнейшие манипуляции. Ну к чему было переводить извлеченные из журналов статьи, перепечатывать их на машинке, отдавать на редактуру тем же инженерам, копировать фотографии и перерисовывать чертежи? Чтобы изготовить машинописную копию на дешевой бумаге? И направить наверх, начальству, которое было настолько необразованным, что не могло даже прочесть эти мерзкие «Управляемые снаряды и ракеты» в оригинале? Никакой обратной связи с министерскими адресатами не существовало. Пригодилась ли им хоть одна строчка наших переводов для принятия хоть одного делового решения — неизвестно.
В-четвертых, журнал публиковал иногда вещи, поистине оскорбительные. Уедет, например, наш главный конструктор в командировку неизвестно куда и неизвестно, на какой срок. Мы понятия не имеем, куда он ездил. Разве что придет в отдел начальник, товарищ Сафарьянц, и радостно воскликнет: «Наше изделие полетело!» И пообещает премию. Секретность есть секретность, за нее-то нам и платят. А тут поступает американский глянцевый журнал и называет нашего главного по имени-отчеству-фамилии, и сообщает, что в такое-то время он находился на таком-то полигоне, где производился запуск такого-то снаряда. И как этот запуск прошел. Так бы и разорвала на мелкие клочки эти самые снаряды и ракеты.
От трехлетнего пребывания на секретной службе в моей памяти сохранились всего три различимых пятна.
Самое светлое воспоминание — о коллективной вылазке на каток «Динамо», где я услышала очаровательную частушку про секретность. Там блистал один парень из заводских, Толя Черкасов. Подкатывает он на своих острых «канадах», поддатый, румяный, веселый, и орет на всю Петровку 26:
Как задумал я жениться Числа двадцать пятого, Мать женилку оторвала И куда-то спрятала!Второе воспоминание — о командировке в Саратов, где товарищ Сафарьянц с гордостью представил меня тамошним коллегам:
— Знакомьтесь. Это товарищ Венгерова, зав. сектором нашего отдела. Переводит с трех языков. Настоящий троглодит!
Третий эпизод — самый незначительный и знаменательный. Широкая волна сотрудников выплескивается из здания Министерства авиации и растекается по Кировской. У ворот ошивается какой-то городской сумасшедший (теперь сказали бы — бомж) и приговаривает вслед толпе:
— Писарей-то, писарей! Сколько писарей-то развелось!
«Альпинист СССР»
В пору моей безоблачной юности была модной смешная песенка, которая начиналась словами:
Умный в гору не пойдет, не пойдет, не пойдет. Умный гору обойдет, обойдет. Да.Но я умом не блистала. Я вообще по результатам одного домашнего соцопроса попала в категорию «дитя с неразвитым вкусом». (Боюсь, что так навсегда в ней и осталась.) Поэтому и оказалась в альплагере. Не сразу, конечно, и не по спортивному влечению, а из-за комплекса неполноценности. Альпинисты всегда казались мне титанами духа, недостижимо прекрасными, мужественными и благородными высшими существами, пребывающими в заоблачных высотах. Но тут выяснилось, что не только гениальный Мельчук и героическая Лена Падучева побывали в альплагере, совершили положенные восхождения, получили значок «Альпинист СССР» и благополучно вернулись из-под заоблачных высот на землю. Оказалось, что обладателем того же значка является мой поклонник Ленечка Волевич, юноша отнюдь не глупый, но весьма и весьма упитанный и совершенно не в моем вкусе. Вот это было уж слишком. Так что я записалась в секцию альпинизма, целый год посещала теоретические занятия, вязала узлы, ездила на тренировки в Царицыно, училась перемещаться по полуразрушенной стене царицынского дворца, соблюдать правило трех точек и прочее. Год занятий давал мне право на приобретение путевки на Кавказ.
Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Возвращаешься в Европу — солнце снова светит в глаз.И вот я отправляюсь на Кавказ, в Боксанское ущелье, в лагерь Адыл-Су, пусть не такой знаменитый, как соседний Алибек, но все-таки очень живописный и престижный. Две недели я бегаю, прыгаю, таскаю рюкзак, скольжу по травяным, ледяным и песчаным склонам, перескакиваю через трещины и пропасти, шагаю по горным дорогам, форсирую горные речки, любуюсь пейзажами, влюбляюсь в героических, загорелых и недосягаемых инструкторов, поднимаюсь на вершины…
Все это я проделывала в страшной спешке, а то бы умерла со страху. В столовке, в душе, на зарядке, на тренировке Галина Чернова (тренер по мотоциклетному спорту с завода «ЗИЛ»), сочувствуя моей неопытности и неуклюжести, то и дело подгоняла меня жестким окриком: «Элка, не чешись!» Две недели пролетели, как прекрасный страшный сон. И тут, на неделю раньше срока, нас выперли из лагеря, потому что готовились принять новую смену в сто человек и организовать массовое восхождение на Эльбрус. А нас решили препроводить через Бечойский перевал в Сухуми, откуда мы сможем разъехаться по домам. Я выполнила норму (1Б), получила значок и решила, что приеду сюда на следующий год повышать разряд.
И вот мы движемся по знаменитой Ингурской (Бечойской) тропе, и в голове у меня крутится мотив длиннющей альпинистской песенки:
Очками на солнце сверкая, Надев самый модный рюкзак, Ингурской тропою шагая, Вступал я с Маруською в брак. Навстречу нам четыре свана. Связали мне руки назад. Четыре здоровые зуба Наружу уже не торчат. И вот уж больше нет Маруси, Во рте моем зубья и кровь. А сверху лишь крик раздается: «Ты помни про нашу любовь!» Четыре мучительных года Давал я невестам отказ. На пятый женился и с ходу Отправился вновь на Кавказ. Иду я все той же тропою, Вокруг меня те же места. Старушка сидит под скалою, А рядом четыре креста. Никак ты родных потеряла? — Я бабушке этой сказал. А женщина-сван хохотала, И в ней я Марусю узнал. В гробу лежат четыре мужа, Остались от них сыновья. Кормилец младенчикам нужен, И я выхожу за тебя. Ах, бог с вами, Марья Иванна, Ведь я на другой уж женат! Четыре младенчика-свана Связали мне руки назад. Опять летят четыре зуба. И я остаюся в Бечо. Служу я на почте кассиром И ем вместо супа харчо. Теперь мой рот — сплошная рана. Никто мне не в силах помочь. Четыре младенчика-свана Меня стерегут день и ночь.Такой красоты, как в Сванетии, невозможно, кажется, вообразить. А я видела ее своими глазами. Но при спуске с так называемой Курьей грудки у меня порвались треники. Как раз на пятой точке. Поэтому я старалась держаться позади всех, дабы не оскорблять взор моих спутников (и обожаемого инструктора) зрелищем непристойной дыры на самом неподходящем месте. И конечно, все время отставала. Иногда Галина оборачивалась и подгоняла меня жестким окриком: «Элка, не чешись!» Но я все-таки плелась в самом конце. Хорошо, хоть не одна, а в обществе рыжего парня по имени Борис. В лагерь он приехал по чужой путевке и значился под чужой фамилией. Он был боксер и молчальник, дыра на моей пятой точке его не шокировала. Я не была в него влюблена, так что не особенно стеснялась. Честно говоря, если бы не он, я бы, наверное, навсегда осталась в Сванетии. Как герой приведенной выше песенки.
Мы добрались до Сухуми, разместились, не помню где, и ринулись на пляж. В три часа дня пополудни. Пляж назывался почему-то Медицинским и был усыпан острой галькой. Кто-то меня окликнул, я бросилась на зов, пробежала метров этак триста по острым камням, никого не обнаружила, но сбила ноги в кровь и поняла, что возвращаться по камням не смогу. Вдоль пляжа шла широкая высокая стена, я залезла по лестничке на стену и зашагала назад. Шла-шла, дошла до края, а лестнички нет. Нужно спускаться по вертикальной стене. Или прыгать в море. Или возвращаться. По стене боюсь. Прыгать тоже боюсь, потому что плавать не умею. Стою и думаю. А солнце тем временем поджаривает мою спину. И я чуть не вою от боли. А рядом со мной местные ребята ловко карабкаются на стену и прыгают с нее в море между торчащими из воды большущими камнями. Потом опять карабкаются наверх, обмениваются выразительными репликами:
— Есть мандраж?
— Есть!
И снова прыгают.
Не знаю, сколько времени продолжалась эта мука. Может, полчаса, а может, час или пять минут. Спасатели, проплывавшие мимо на лодке, при виде этой картины заорали на меня благим матом:
— Ты куда смотришь, дура? Они же могут разбиться!
Спасатели прогнали ребят, я осталась совсем одна на этой чертовой стенке, заплакала и малодушно возопила:
— Галя-аа! Сними меня отсюда!
Прибежала Галина, в момент вскарабкалась наверх и осторожно спустила меня вниз.
Я вытерла слезы, но продолжала сгорать от стыда. Нашла в рюкзаке значок «Альпинист СССР» и подарила его первому встречному мальчишке.
Из Сухуми на теплоходе «Абхазия» мы переправились в Одессу. Рыжий Борис составил мне компанию. Всю дорогу я пыталась выяснить у него, как это он может бить живого человека под дых и по лицу и как он сам может выдерживать подобные удары?
В Одессе мы купили два билета до Москвы в общем вагоне и два бублика. На этом деньги кончились, их не хватило даже на постельное белье. Пришлось тайком стащить с третьей полки не слишком опрятные матрасы и целые сутки поститься.
На вокзале я даже не спросила у Бориса его фамилии. Кивнула парню на прощанье и ушла. До сих пор терзаюсь угрызениями. Такой кадр упустила. Рыжий. Молчаливый. Верный. Сильный. Боксер. Скромница. Ну где были мои глаза? Впрочем, мое воспитание исключало брак по расчету. Надеюсь, ему повезло с другой, не столь близорукой альпинисткой.
Прямо с вокзала я заявилась в гости к подруге Верочке Конновой. Она жила рядом, в Оружейном переулке. Соседи и родные уехали на дачу, сиял паркет, сияли тарелки и чашки на столе, пахло сосисками и лапшой. Вера приготовила ванну. Когда я из этой ванны вышла, все дно было устлано моей облезшей кожей. Все дно. В Два слоя. Потом я целый год бегала по утрам по Бульварному кольцу. Тренировалась. Научилась пробегать от Яузских Ворот до памятника Пушкину.
Но однажды ночью мне вдруг приснились все пропасти, трещины, ледяные, травяные и прочие склоны, песчаные осыпи, острые камни, рвущиеся тросы, вылезающие из скал крюки… Все было кончено. С тех пор я так боюсь высоты, что не выхожу на балкон даже на третьем этаже. А альпинистов по-прежнему считаю титанами духа etc. См. выше.
«Спутник»
Как только прошли мои три тоскливых года в почтовом ящике, я вылетела оттуда пулей. Так что мне пришлось срочно искать работу. Во-первых, потому, что нужно же было зарабатывать на жизнь. А во-вторых, чтобы не оказаться тунеядкой. В СССР все люди имели статус трудящихся. Это означало, что ты или работник, или тунеядец и чуть ли не враг народа. Я преподавала свой законный дипломный немецкий на истфаке в МГУ (почасовая оплата), в Энергетическом (почасовая), в Геолого-разведочном (полставки), в Полиграфическом (полная ставка). Зато сколько вдруг появилось свободы. Ведь в вузе расписание совсем не такое, как в ящике. Работаешь не каждый день, посреди рабочего дня возникают «окна», каникулы длятся два месяца. Отдыхай, если есть на что. Или работай, если есть где. Летом на каникулах я подрабатывала в «Спутнике».
«Спутник» — название туристической фирмы. Какая может быть фирма в Союзе? Комсомольская. Фирма занималась молодежным туризмом. Приезжали группы из братских, и не только, стран, их возили на курорты — в Крым и на Кавказ. В группе на двоих гидов примерно шестьдесят человек. Я нанялась в «Спутник» летом 61-го. Условия очень даже неплохие: ездишь по курортам, сопровождаешь иностранцев, получаешь рубль в день (суточные). На всем готовом. Ну и работаешь, конечно. Объясняешь, что к чему и почему, размещаешь, сопровождаешь, переводишь. И они еще капризничают: то им клопы в гостинице досаждают, то автобус опоздал, то в поезде слишком душно. Избалованные. Ты это все глотаешь и мотаешь на ус. А потом, при случае, припоминаешь. Привозишь их в ресторан, к примеру, гостиницы «Москва». Там зеленые мраморные колонны, высокие окна и потолки, белые скатерти. Разложены меню: на первое молочная лапша, на второе сосиски с горошком, на третье — арбуз. Представляете? Я первого не ем, довольствуюсь сосисками. Беру кусок черного хлеба, мажу даровой горчицей. Проглатываю, не моргнув глазом. Иностранцы, уже съевшие лапшу, следуют моему примеру. У них брызжут слезы из глаз, им не до сосисок. Они набрасываются на арбуз. Представляете? Я помалкиваю не из вредности, а из этакого патриотического чувства. Ну что, взяли? Так вам и надо, избалованным. Но и мне приходится шестьдесят раз ответить на вопрос: «Где здесь туалет?» Но это так, к слову. В основном отношения гидов с туристами были вполне дружеские.
В Гурзуфе я работала с немцами. Они попали в Крым как в некий рай на земле. В самом деле: Черное море, из окна вид на Аделяры, две чудные скалы среди бескрайних просторов, солнце, тепло, пляж. Рядом с пляжем парк — тот, где фонтан «Ночь». Перед входом сидит дедуля в валенках и никого не пускает. Немцы недоумевают: почему он в валенках? Почему нельзя войти? Ну как им объяснишь, что парк принадлежит Министерству обороны и вход запрещен?
Или вот: на набережной продается мороженое, но, чтобы его купить, нужно надеть на купальник что-нибудь с длинными рукавами, сарафан не годится, слишком открытый. Почему нельзя в сарафане? Ну как им объяснишь про нашу столь высокую нравственность?
Или вот еще: плавки и полотенца нужно высушить, но повесить их на балконе нельзя. Почему нельзя? Ну как им объяснишь, что это портит вид новенького, с иголочки, корпуса? А почему директор лагеря в сорокаградусную жару щеголяет в черном парадном шерстяном костюме? Ну как им объяснишь, что он — ответственный работник?
Но и мне тоже многое было в новинку. Известно, например, что немцы скупые. Купили арбуз, позвали на угощенье, разрезали арбуз на энное количество долек. Эдит говорит:
— С тебя пять копеек.
Вот жмоты. А перед отъездом домой та же Эдит дарит мне на память роскошный шерстяной свитер. Я интересуюсь:
— Эдит, ты слупила с меня пять копеек за какой-то жалкий кусок арбуза, а теперь даришь этот дивный свитер. Как это понять?
— Очень просто, — ответствует Эдит. — Арбуз мы брали в складчину, а свитер я сама связала.
Или вот: мы входим в метро, там стоит автомат с газировкой. Я покупаю стакан себе и тому парню, который оказывается рядом. Пока мы пьем, за мной выстраивается в очередь вся группа. Им, видите ли, не приходит в голову, что я могу угостить туриста на свои. А раз на казенные, то всем положено. И они выстраиваются в очередь.
В Адлере отдыхали всего три группы, русские, немцы и поляки. Там я пользовалась большим успехом, так как говорила на всех трех языках и все объяснения между гостями из СССР, Польши и ГДР шли через меня. Размещаешь их в гостинице, жаришься на пляже, переводишь глупые разговоры, в том числе и объяснения в любви, организуешь из них хор, проводишь концертные выступления, соревнования и экскурсии, помогаешь выяснять отношения с администрацией, весь день носишься как угорелая. Подъем в шесть, отбой в одиннадцать.
В конце срока проводили спортивные соревнования. Бежали эстафету: десять немцев и десять поляков. Приз: бутылка шампанского. Пока немцы бежали, пятеро поляков незаметно выскользнули из очереди за эстафетн0й палочкой, а остальные пятеро быстренько переместились вперед и получили приз. Пока немцы качали права, поляки успели распить бутылку.
Прощальный концерт. Поляки входят в зал парами под звуки полонеза. У сцены пары раскланиваются, расходятся в разные стороны и, поднявшись на сцену, выстраиваются, образуя хор. Они исполняют польские народные песни. Если сбиваются, то смеются, переглядываются, начинают сначала. Потом спускаются со сцены, становятся в пары и под звуки того же полонеза выходят из зала.
Немцы все это наблюдают. На следующий день прощальный концерт дают они. Входят в зал двумя шеренгами, не глядя друг на друга, под звуки военного марша. Маршируют до сцены, делают поворот — правое плечо вперед, левое плечо вперед, выстраиваются на сцене, исполняют свои народные песни. Когда сбиваются, приходят в состояние ступора. Для немцев нет ничего хуже, чем sich blamieren, дать маху, опростоволоситься. Это для них психологическая травма и мука мученическая. Наконец, они разворачиваются в марше и, гулко печатая шаг, погадают зал.
Таможня. Зал с рядами откидных стульев, как в кино. Я собираю у туристов паспорта и отношу их в паспортный контроль. Если это польская группа, то туристы немедленно разбиваются на маленькие группки, располагаются в разных углах помещения и режутся в карты или фарцуют что-то друг у друга вплоть до моего возвращения.
Но вот я привожу в зал немецкую группу, забираю у них паспорта и, не говоря ни слова, удаляюсь. А когда возвращаюсь, все шестьдесят человек все еще стоят в проходе между рядами откидных стульев. Ни один не осмелился сесть. Хотя это вовсе не запрещено. Но приказа не было.
Конечно, рубль в день — это не фонтан. Но зато я могла сравнивать особенности национального характера.
Приятельница моя, Галка рыжая, влюбилась в англичанина. То ли аспиранта, то ли стажера, звали его Патрик. Галка пригласила его в гости на Масленицу. Напекли блинов, накупили на рынке сметаны, водка была, икорка была, была рыбка, зелень и нас четверо: три девицы под окном — Галка, Майка, я (мы с Майкой для компании и антуражу) и этот самый Патрик. Мы все съели, все выпили, рассказали все байки и анекдоты, спели про черного кота, про потерянное бирюзовое колечко, про два туза и дамочку вразрез. Когда исчерпали репертуар, мы с Майкой ушли, а их оставили тет-а-тет. Галка была очень секси. Она говорила, что ей достаточно шевельнуть бедром и любой мужик растает. И это было чистой правдой, потому что один мой знакомый, весьма пожилой мужчина, оставшись с Галкой наедине, закурил, хотя бросил курить сразу после войны, а с тех пор проскочило уже пятнадцать лет. Так вот, этот чертов Патрик, оставшись с Галкой тет-а-тет, в совершенно пустой комнате, даже не развязал галстука. Каков мерзавец! У него, видите ли, была невеста-немка.
Но все-таки Галка произвела на Патрика настолько сильное впечатление, что он перестал этой невесте писать, та почуяла неладное и рванула в Москву. Патрику потребовалось алиби, и этим алиби он назначил как раз меня. Он мне позвонил и сказал, что желает познакомить меня со своей невестой. Или невесту со мной. И я, по молодости и глупости, сказала ему, что пусть они приезжают ко мне на файф-о-клок, то бишь попить чайку. Я расстаралась, купила в Филипповской булочной «невский» пирог, заварила чай и жду. Через полчаса после назначенного времени они являются ко мне, в коммунальную квартиру № 27. Патрик при своем оксфордском шарфе, а невеста в синем вельветовом платье с большим отложным белым воротником. Сама благопристойность. Сидим, пьем чай, нащупываем почву для светской беседы, и вдруг звонит телефон. И строгий голос в трубке интересуется, кто это пожаловал ко мне в гости и зачем. Я, конечно, затряслась от ужаса, что-то пробормотала в ответ и повесила трубку. Выглядываю в окно, а там стоит огромный лимузин с дипломатическим флажком Федеративной Республики Германии. Спрашиваю гостей, чей экипаж. Оказывается, что невеста — племянница посла и не придумала ничего умнее, чем приехать на Сретенский бульвар в посольской машине. Настроение мое упало ниже всякого плинтуса, гости удалились восвояси, а меня пригласили в некую гостиницу и предложили сотрудничать с органами. Всего-то от меня требуется ежемесячный отчетец о настроении студенчества в университете, а мне за это аспирантура и академическая карьера. Вот когда я ужаснулась по-настоящему. Мне дали неделю на размышление. Через неделю я пришла в гостиницу (другую) и честно призналась товарищу из органов, что хочу выйти замуж и родить ребенка. При этом я дала себе волю и самым искренним образом разрыдалась. Дядя все понял, взял подписку о неразглашении (срок действия — 25 лет, которые давно миновали) и отпустил меня с чувством облегчения и некоторой брезгливости. Без всякой надежды на аспирантуру и академическую карьеру.
Георомантика
После истории с Патриком «Спутник» для меня накрылся, то есть закрылся. И я бросилась за помощью к Татьяне Баженовой.
Татьяна Баженова была начальником геологического отряда Енисейской экспедиции МГУ. У нее имелось два прозвища: Хозяйка Сибирской платформы и Баженщина. Оба очень меткие. Она писала диссертацию о перспективах нахождения нефти на Крайнем Севере. Познакомила меня с ней одна общая знакомая с химфака. Однажды они поздно вечером завалились ко мне на Сретенский бульвар. Татьяну сопровождала целая свита поклонников, и они всю ночь читали стихи. Между прочим, там был Гога Полонский — тот, что написал сценарий «Доживем до понедельника». Стихи были хорошие. О ревности.
Лестница, лестница, лестница, лестница, Лестница, лестница книзу ступенится. Мир перебесится, мир остепенится, И к концу месяца мир переменится…Еще там был Игорь Барсков, он теперь светило по части палеонтологии.
Держите, девки, подолы До самых каблуков. Сегодня ночью флот приплыл Голодных мужиков. Четыре месяца в тайге — Не трали-вали вам. Все в бороде, все в матюге, И гривы — как у льва… Лабаз разворотил медведь, Продуктов куль — ку-ку! Пятнадцать дней пришлось переть На собственном соку. Не танцы-францы по углам. Но кончился поход. Сегодня парень будет пьян, А завтра в клуб придет. Придет, почищен и побрит, В сиянье сапогов, Тебя на танец пригласит С галантностью богов, А после танцев, за полночь, Не глядя на росу, Всегда готов тебе помочь Искать грибы в лесу.И Фред тоже был и тоже читал:
Нету спасения мне от романтики. Несовременный я, знать, человек. Чудится, где-то в просторах Атлантики Якорь бросает шестнадцатый век.Я полагаю, что все геологи писали стихи, а некоторые их даже публиковали. Геология была чем-то вроде заповедника свободы. Геологи питали иллюзию служения Родине и науке, сочиняли песни и пели их у костра под гитару, погружались в эйфорию свободного творчества.
Татьяна взяла меня коллектором в свой отряд, хотя я ничего не умела: ни растапливать печь, ни разжигать костер, ни варить на костре, ни жарить на костре, ни вскрывать консервные банки, ни печь оладьи, ни забрасывать спиннинг, ни укладывать рюкзак, ни хранить спички в презервативе. Впрочем, я всему этому довольно быстро обучилась в полевых условиях, пока мы работали на Хантайке.
Хантайка
В отряде четыре человека: Серега Кащенко (начальник отряда) и три коллектора (Женя, Борька и я). Мы сплавляемся на моторной лодке по реке Хантайке, свято соблюдая сухой закон и бережно сохраняя в загашнике неприкосновенный запас — бутылку чистого спирта. Ночи нет, все время светло, так что рабочий день не имеет временных ограничений. Вчера Женя показал, как забрасывать спиннинг, сунул мне его подержать, а сам удалился на минуту. В эту самую минуту я и поймала огромного тайменя, ровно такого, какого обычно демонстрируют на фотографиях (12 кг). Увы, я не сумела его вытянуть, заорала, прибежал Женька, тайменя мы вытащили, но спиннинг сломался.
Женька очень сильно выразился в мой адрес, цитировать не буду.
Ребята уходят в маршрут, я остаюсь в лагере готовить еду. Нужно поджарить выловленного тайменя, напечь оладий и сварить компот. Если придет медведь, следует постучать по железному ведру, он испугается и уйдет. Вокруг просторная поляна, несказанная тишина, безжалостная жара, безжалостный комар, моя физиономия обмазана вонючей жидкостью от комаров, но при приближении к костру она (жидкость) растекается и ничуть не облегчает моих страданий. А радостный голос Клавдии Шульженко, доносящийся с проходящего мимо парохода, их только усиливает. Я дома в жизни не готовила, но стараюсь изо всех сил. Тем более что ребята и так имеют на меня зуб за то, что ни черта не умею, сломала спиннинг, а к тому же курю, претендуя на четверть общего запаса «Беломора». Костер горит, воздух струится и дрожит, на широком пне лежит большущий рыбий хвост, я отрезаю от него кусок, а кусок дергается и чуть ли не выпрыгивает из рук. Я думаю, что мне померещилось, что это галлюцинация, вызванная жарой, и повторяю операцию. И второй кусок тоже дергается и тоже как-то извивается у меня в руках. Но ведь рыба же мертва, ее нет, это только хвост. Сейчас я от ужаса сойду с ума. И тут на опушку леса выходит медведь, за ним второй, я вижу спасительное ведро, но сомневаюсь, что успею добежать до него быстрей, чем меня растерзают медведи. Пот застилает мой взор, воздух струится и дрожит, а медведи при ближайшем рассмотрении оказываются вовсе не медведями, а обычными охотниками. Это мальчуган лет семи в накомарнике и его отец, молодой парень и даже без накомарника. По-моему, я никогда не испытывала такого восторга при виде посторонних мужиков, искусанных комарами. Закон-тайга: я угостила их оладьями, напоила компотом, а они объяснили мне про рыбу: она прыгает, потому что срабатывает животное электричество. Мне же рассказывали в школе про этот феномен, обнаруженный у препарируемых лягушек. Но физика всегда давалась мне с трудом.
Мы ищем место для лагеря, чтобы была ненаселенка, чтобы берег не слишком низкий, не слишком высокий, чтобы обзор, удобный спуск к реке, желательно ручей и бог весть что еще. На берегу изба, около нее стоят двое стариков и машут нам, чтобы причаливали. Но нам населенка не подходит, мы высокомерно проплываем мимо. Мы с утра уже прошли четыреста километров, еле живы от усталости, ведь рабочий день не кончается, солнце светит, но подходящего места на берегу не находится, и мы поворачиваем назад. Старики все стоят и машут, мы пристаем, а они уже истопили баньку, накрыли стол, осталось только разгрузиться и довериться гостеприимным хозяевам. Пока ставим палатку, узнаем, что это водомерный пост. Старики живут здесь круглый год. Ей семьдесят, ему семьдесят пять. Ее зовут Сара, его — Абрам. Вот это да. Впрочем, изумление наше оказывается беспредметным. Они коренные сибиряки, чалдоны, а имена у многих староверов ветхозаветные. Век живи, век учись. Они нас приветили, накормили и в баньку пригласили. После баньки осталось только залезть в палатку и завалиться спать.
Но солнце светит, день не кончается, мы все четверо пребываем в состоянии полного блаженства. Серега приказывает распечатать энзэ, мы принимаем по стакану дефицитного спирта, и я впервые за все время в тундре перестаю ощущать комариные укусы. Это — счастье, но длится оно недолго, потому что стакан спирта производит соответствующее действие, мой организм, непривычный к такого рода стрессу, категорически отвергает дефицитный продукт, и я готова провалиться сквозь землю после столь очевидного конфуза. Слава богу, старики парятся в баньке и моего позора не наблюдают. И тут происходит нечто абсолютно для меня непредставимое. Все трое парней кидаются ко мне на помощь. Исполнившись сострадания, они утирают мне слезы, приносят воды и вообще приводят меня в человеческий вид. После чего сами валятся наземь, сраженные все тем же дефицитным продуктом. Но я уже в форме. Так что затащить их всех троих (по очереди) в палатку, предварительно приведя в человеческий вид, для меня вопрос какого-то получаса. Сара и Абрам после баньки уже спят в избе и моего героизма не наблюдают.
Абрам и сара
Абрам и Сара оставили дочери квартиру в Красноярске и перебрались в тайгу. Сначала построили баню, потом избу. Живут здесь круглый год. Зимой нет дня. Летом нет ночи. До ближайшего поселка — километров двести, а может, триста. Утром Абрам снаряжается, идет к реке, садится в лодку. Сара, натянув болотные сапоги, стаскивает лодку в воду, дед берется за весла. Сара машет вслед рукой, возвращается к домашним обязанностям. Перед избой сушатся сети, растянутые метров этак на десять. Она вынимает сухие водоросли из каждой ячейки. И так изо дня в день. Моему уму непостижимо. А Сара только смеется. У нее тридцать два белоснежных зуба, ни разу не оскверненных зубным порошком. Она с детства жует серу и только один раз была в кино. Смотрела фильм про некую несчастную венгерскую графиню и всю жизнь всей душой ей сочувствует. Дед рыбачит и прячет от рыбнадзора добытую икру. Сара держит козу, прядет козью шерсть и вяжет из нее платки. Она рассказывает, что однажды связала красивую шалёночку и собралась продать ее в поселке. Ведь у дочки в Красноярске двое детей, им деньги нужны. Договорилась с молодым мотористом из рыбнадзора, что тот отвезет ее на моторке в поселок. Время осеннее, по реке идет шуга, а моторист пьяный был и лодку перевернул, опрокинул бабку в воду и сам чуть не потонул. Пришлось бабе Саре в ледяной воде переворачивать лодку в надлежащее положение и вытаскивать за шиворот пьяного моториста.
— Шалёночка-то пропала! — вспоминает она, чуть не плача от горя. — А я хотела за нее четыреста рублей взять.
Баженщина
Мы торчали в Туруханске, соблюдая сухой закон и ожидая прибытия нашей начальницы, чье величественное прозвище — Баженщина — вызывало что-то вроде священного трепета. Татьяна обладала ненасытной жаждой знаний, власти и острых ощущений. То есть бесспорным авторитетом, иначе говоря, харизмой. Рассказывали, например, что у нее был короткий роман с Городницким, а когда роман завершился (по инициативе Городницкого), Татьяна поручила своим поклонникам — Валюхе Селиверстову по кличке Буйвол и Фреду — «набить морду Алиньке». Что они покорно и выполнили. Двое дюжих мужиков — на одного трепетного интеллигентного барда. Они по требованию Татьяны даже пародию на него накатали, а сами пели его песни. Собственно говоря, только его песни они и пели.
Наконец в Турух приходит пароход, на нем прибывает Татьяна, сухой закон отменяется. Татьяна арендует катер «Лось» для трех отрядов Енисейской экспедиции и собирается в тот же вечер выходить в маршрут. Команда «Лося» (капитан, машинист и два матроса) отправляется в магазин и возвращается с четырьмя авоськами, полными спиртного.
— Таня, — говорю я, — ты погляди, у них четыре авоськи.
— Кто не пьет, тот родину не любит, — отрубает Татьяна. И добавляет: — Пошли смотреть закат.
— Холодно, — трусливо возражаю я.
Но Татьяна неумолима. А полярное лето уже кончилось, осень. Закат и впрямь великолепный: облака красно-желто-пурпурно-малиновые. Не могу описать. В общем, я плетусь за ней. А там, на Енисее, вокруг «Лося» скопилось множество бревен, их вроде бы сплавляют плотами, но плоты все какие-то расхлябанные. Татьяна в испанской двурогой пилотке с красной кисточкой на черных распущенных волосах, в легких тапочках с помпончиками, легких брючках, легкой ковбойке ступает на скользкие бревна и проваливается в дыру между бревнами, в ледяную енисейскую водичку. Тут все бросаются ее спасать, бережно вынимают из воды, она стучит зубами, выжимает мокрые волосы, глотает стопку-другую и отдает приказ выходить в маршрут.
«Лось» начинает движение, мы в кубрике начинаем укладываться спать. Татьяна на диване, я выбираю тихое место на койке в углу, но Татьяне оно кажется более достойным ее командного статуса. Мне что? Меняемся местами. Татьяна передумывает, и мы возвращаемся на прежние места. Но Татьяна желает снова поменять диспозицию. Я глотаю слезы унижения, но подчиняюсь и снова перемещаюсь на диван, поелику она моя начальница и благодетельница. Я засыпаю, мне снится атомная война, я просыпаюсь, вся в крови, «Лось» остановился, с палубы доносятся нецензурная лексика и истошный крик жены капитана: «Ой, Женечки нет, а сапог-то плавает!» Впрочем, пропали только один сапог, один вьючник и собака Белка (она потом нашла нас на берегу). Но все, кто напился и оказался не на своих местах (жена капитана, например, под койкой коллектора Женечки), целы и невредимы. И только я, трезвая как стекло, сижу на чертовом диване, залитая кровью. Прибегает наш Женечка, по профессии фельдшер, выстригает мне волосы на голове, бинтует череп, и я становлюсь похожа на раненого бойца из военного кинофильма. Нецензурная атмосфера несколько смягчается, и «Лось» возобновляет движение.
А произошло вот что. Капитан, стоя за штурвалом, прислушивался к стукам и звукам из машинного отделения, но они вдруг стихли. Капитан подозвал Владика Высоцкого, начальника второго отряда все той же нашей экспедиции.
— Машину водишь? — спрашивает капитан.
— Вожу, — гордо ответствует Владик, которому отец только недавно подарил «жигули».
— Подержи штурвал, — просит сильно поддатый капитан. — Схожу в машинное, посмотрю, что у них там заколдобило.
Капитан спускается в машинное отделение, обнаруживает машиниста и матросов в полной отключке, а так как в машинном страшная жара, он тоже отключается.
Владька стоит за штурвалом, не видит ни зги и, не заметив сигнальных огней, врезается во встречную баржу. Хорошо, хоть на малой скорости. Плохо, что на Енисее шириной в двенадцать километров.
Назавтра приходим на Сухую, Татьяна оставляет меня и Женечку на берегу (там была брошенная баржа, не та, с которой поцеловался «Лось», а другая), а сама с двумя подчиненными отправляется в маршрут искать красноцветы. Если она их найдет, значит, где-то поблизости есть нефть. И она находит. Но эта уже другая история.
Лет семь тому назад, когда Фред очень тяжело болел, я прихожу к нему в больницу и встречаю там Валю Буйвола с какой-то тонной дамой. Она сидит, молчит, смотрит на меня с некоторым высокомерием. Строгий костюм, гладкая прическа, узел на затылке, прямой пробор. Похожа на председательницу какой-то важной комиссии. Или даже комитета. Мы просидели у койки полчаса, но я не узнала Татьяну. Ничто во мне не дрогнуло, не подсказало, не напомнило. А ведь это она подарила мне драгоценный афоризм: «Кто не пьет, тот родину не любит».
Ошибочка вышла
Мы приплыли в устье речки Сухой и разместились на пустовавшей барже. Народ ушел в маршрут, а нас с Женькой оставили сторожить баржу и имущество. И тут прилетел вертолет, и вертолетчик сказал, что может забрать одного из нас в Туруханск. Сейчас я совершенно не помню, почему это не было нарушением дисциплины, а напротив, действием во всех отношениях желательным. Короче, мы тянули жребий, длинная спичка досталась мне, я села в вертолет и очень скоро очутилась в Туруханске, в маленьком деревянном здании местного аэропорта, точно таком, как оно описано У Городницкого:
Кожаные куртки, брошенные в угол, Тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга. В маленькой гостинице пусто и темно.Оставалось только выспаться в чистой постели, являвшей собою разительный контраст со спальным меш ком, прилететь в Красноярск, разыскать Фреда, чей буровой отряд вроде бы работал в районе Получеремхова, и втолковать ему, что он должен на мне жениться.
Самолет на Красноярск вылетел утром. Правда, не пассажирский, а грузовой, то есть без кресел. Пассажиров было немного. В пустом салоне (я бы сказала, кузове) на узлах и чемоданах уютно расположились несколько местных женщин с ребятишками и каких-то сезонников с рюкзаками, вроде меня. Лететь предстояло часов пять. Два часа мы спокойно спали, потом началась тряска. Дети заплакали, бабы проснулись, рюкзаки, узлы и чемоданы заскользили по полу, раздались нецензурные выкрики, за стеклом иллюминатора засверкали молнии, все это оживление продолжалось часа три. Наконец наш грузовик приземлился. Обратно в Туруханске. Так что я еще раз выспалась в чистой постели, прежде чем все-таки села на нормальный рейсовый самолет, прилетела в Красноярск и отправилась искать это самое Получеремхово и буровой отряд Енисейской экспедиции МГУ. А его нигде не было. То есть Получеремхово-то было, и даже Черемхово было, и даже не одно, но отряда не было. Я перемещалась на попутных лесовозах, которые курсировали между леспромхозами: садилась у ворот и терпеливо ждала, пока кто-нибудь из шоферов не забросит меня в очередное Черемхово. Денег с меня почти не брали. Один шофер даже распахнул ватник и, вытащив из внутреннего кармана пачку десяток, помахал ею у меня под носом:
— Видала?
Я задавала свой сакраментальный вопрос о местонахождении вышеупомянутого коллектива всем встречным и поперечным. В одном леспромхозе я даже услышала нечто обнадеживающее:
— Московские геологи? Те, что на Троицу свою буровую на березу повесили? Да были они тут, но уехали.
В другом леспромхозе я обнаружила убедительные следы их пребывания в виде пустых бутылок и остатков еды под столом. Но этого было недостаточно.
И вот, когда я совсем отчаялась, навстречу нашему лесовозу попалась наконец машина с буровой установкой. Наш шофер посигналил встречному, машины остановились. Из кабины вылез Фред, я сразу его узнала по усам, бороде, зеленой панамке с пером, изображавшей тирольскую шляпу, и огромным сапогам-гестапочкам. Я выскочила из кабины лесовоза, заорала диким голосом:
— Фред!
Фред церемонно поклонился, поцеловал мне руку и торжественно представил столпившимся в кузове пьяным буровикам:
— Знакомьтесь. Моя невеста — Элеонора Викторовна.
— Вообще-то меня зовут Элла Владимировна. А Элеонора Викторовна — это его приятельница и выдающаяся геологиня Элька Чайковская. Ну, перепутал. Что с пьяного возьмешь?
Я пересаживаюсь в кабину к шоферу и Фреду. Спускается вечер, машина все прет и прет по таежной гати. Начинается дождь, сначала мелкий, потом проливной. В мутном свете фар дорогу перебегают зайцы, за окном посверкивают молнии. В кабине царит сосредоточенное молчание. Мы едем в базовый лагерь, где продолжим буровые работы под руководством начальника партии Кирилла Вайнера. А дорога длинная и очень скользкая.
Я высказала робкое предложение остановиться и переждать грозу, но Фред так на меня цыкнул, в том смысле, чтобы я не лезла не в свое дело, что я заткнулась раз и навсегда. Как в том анекдоте:
— Мадам, вы вчера отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Вы прожили счастливую жизнь?
— О да, ведь мы с мужем никогда не ссорились.
— Как вам это удалось?
— Очень просто. Когда мы после венчанья ехали из Церкви, одна из лошадей споткнулась. Муж сказал: «Раз!» А лошадь опять споткнулась. Муж сказал: «Два!» А лошадь споткнулась в третий раз. Муж сказал: «Три!» Вытащил пистолет и пристрелил бедное создание. Я воскликнула: «Что ты наделал?» Муж сказал: «Раз!» Вот с тех пор мы и не ссорились. Прошло не меньше часа, дорога совсем размокла, машина еле-еле ползла и, наконец, застряла окончательно. Шофер вышел из кабины, огляделся, открыл дверцу с моей стороны и рявкнул:
— Мать твою! Ты куда нас завезла?!
Так мы и заснули, под шум дождя. Утром взошло солнце, и оказалось, что стоит наша буровая на самой вершине Ловинского утеса, под которым разбила лагерь партия Вайнера. Они там, внизу, разожгли костер, завтракают, болтают, укладывают рюкзаки. А мы тут, на вершине, недоумеваем: как это нам удалось остаться в живых? До них рукой подать, но, увы, развернуться невозможно. И пришлось нам часа два, не меньше, по сантиметру задним ходом сползать с Ловинского утеса. Наконец мы благополучно приземляемся. Кирилл Вайнер, неотразимой красоты брюнет с синими глазами, отвешивает мне элегантный поклон и незабываемый комплимент:
— А вы похожи на черный гладиолус.
Фред взял меня с собой в маршрут. Он меня на пятнадцать сантиметров выше, у него сорок седьмой размер сапог и ноги длинные, как у журавля, а я за ним прыгаю, как перепелка. Стоит июль месяц, жарища, тайжища, буреломы, рюкзак тяжеленный, пот с меня ручьем, ноги стерла. В чаще, наверное, медведи, но, поскольку лето хорошее, они сыты и не нападут. Ни медведи, ни волки, ни лисы, ни рыси, ни лоси. Другое дело — оводы, эти пощады не знают. Каждый укус — как электрошок. В общем, все полевые удовольствия в одном флаконе. И вдруг перед нами деревня. Улица, избы, заборы. Только мертвая тишина, и людей нет. Ни собак, ни кошек, ни клуба, ни сельпо, ставни заколочены, заборы покосились. Никого. Лишь из одной трубы — дым. Мы туда. Из избы выходит вальяжный такой, неторопливый старикан, останавливается у забора. Разговорились. Выясняется, что он из ссыльных поляков, живет здесь давно, разводит пчел. Рассказывает, что раньше тут был леспромхоз, но они свой участок выработали и переехали. Все переехали, а он остался. У него тут ульи, как же он бросит своих пчел? Раз в месяц приезжает грузовик, подбрасывает еду.
— И зимой?
— Ив зиме.
— Почему вы с ними не уехали?
— Не хце.
— Так ведь одиноко же одному!
— Але тутай естем пан ситуации.
Привет от Сципиона Африканского. Тот тоже, одержав великие победы, бросил столичную жизнь и похоронил себя в глубокой провинции. Но зато в собственном поместье. И тоже чувствовал себя хозяином положения. Вот он, истинный римский стоицизм.
Фред этому старику потом всю жизнь завидовал. Он с детства мечтал стать лесником или лесничим, как его прадед в своей Лифляндии. Не вышло. Разве что иногда он слегка походил на лешего.
Как я выходила замуж
В любви мне не везло. Ни в школе, ни в университете. Допустим, дружу я с мальчиком из соседней мужской школы. Мы с ним занимаемся в одном театральном кружке, ходим вместе на каток, он меня ожидаетвстречает-провожает. Ну вот, думаю я, окончим школу, поступим в институт, получим дипломы, устроимся на работу, друг детства сделает мне предложение, мама и папа согласятся, я скажу ему «да», и мы поженимся. Мне и в голову не могло прийти, что он как-то иначе себе это представляет. Он пытается меня поцеловать, а я ему из Чернышевского, дескать, умри, но не давай поцелуя без любви. Мне и в голову не могло прийти, что я его обидела. Я даже очень гордилась своей принципиальностью. И, кстати говоря, я его, возможно, любила. Потому что между передними верхними зубами у меня имелась дырка, а она, как утверждала моя бабушка, была несомненным признаком влюбчивости. И все шло по плану, до тех пор, пока я, случайно войдя в подъезд, не обнаружила там друга детства, который, минуя дверь моей квартиры, поднимался на третий этаж, то есть в гости к Тамарке Севостьяновой. Где собирались некоторые девчонки из нашего класса, не разделявшие моего преклонения перед Чернышевским. В том числе Алка Лебедева, та самая, которая уже в четвертом классе надела на руку часы и в таком виде явилась в класс. Ата Михайловна пристыдила ее за этот снобизм, и Алка часы сняла. Но в девятом классе ее уже никто не мог удержать. После каникул она приехала с юга такая стройная, такая загорелая, такая веселая и неотразимая, что я только вздохнула от лютой зависти и сдала позиции. В конце концов, через каких-нибудь шесть лет, друг моего детства на ней женился. Правда, она была генеральская дочь, а он не мог похвастаться благородством происхождения. Папа у него был не слишком известный актер, мама имела пятый пункт, так что, по слухам, друг моего детства не пришелся к генеральскому двору и развелся с Алкой.
Все мои дальнейшие попытки выйти замуж оканчивались провалом. Олега Михайлова отбила у меня Юлька Мушкатина, Юрку Железнова увела Сонька Эпштейн, Алика Карельского заблокировала Тамарка Сарана, Сашку Розанова… Да что там говорить.
Никто, никто не брал меня замуж. Я уж университет окончила, уж отработала по распределению три года в почтовом ящике, уж в аспирантуру поступила. Годы летят, продвинутые подруги стыдят меня за непристойное увлечение Чернышевским, все как-то не складывается. И тут на моем горизонте появляется Фред. Мама при виде Фреда (усы, борода до пояса, ковбойка, штормовка, брюки клеш из довоенного бостона, железные зубы и пр.) чуть не грохнулась в обморок. И когда мы остались на кухне с ней вдвоем, подвела итог своим впечатлениям:
— Я бы с таким рядом не встала.
Соседка Милка Лесевицкая ехидно поинтересовалась:
— Что, на породу потянуло?
Потянуло. И я вышла замуж. Но чего мне это стоило! Пришлось ехать в Сибирь, ходить в тяжелые маршруты, кормить-поить своей кровью комаров, терпеть разного рода намеки и шуточки геологов, вытаскивать Фреда из веселых компаний, которые обожали слушать его стихи и угощать его водкой.
— Все предлагают выпить, — проговорился он однажды. — Хоть бы кто предложил поесть.
В общем, я собрала всех любителей поэтических бдений — моих друзей, его друзей, собутыльников и поклонниц (человек девять нас было) — и говорю:
— Ребята, он не хочет на мне жениться.
— Фред, — говорят они, — женись на ней. Ведь она тебя любит.
Фред молчит.
— Фред, — говорят они, — женись на ней. Ведь ты ее любишь.
Фред молчит.
— Фред, — говорят они, — у тебя будет жилье. Сколько можно торчать в подвале экспедиции? Ночевать на камеральном столе в спальном мешке! Не иметь ни кола, ни двора, ни крыши над головой! Ты получишь московскую прописку!
Фред молчит.
— Фред, — говорят они, — ты поступишь в МГУ!
Фред молчит.
— И запишешься в Ленинскую библиотеку!
Этот аргумент оказался решающим. Крыть было нечем, и Фред принял мое предложение. Но оставалась опасность, что он передумает. Подруга Галка Девятникова выразительно толкнула меня в бок, и мы с ней, оставив теплую компанию обсуждать перспективы предстоящей свадьбы, тут же бросились в справочное бюро узнавать адрес ближайшего загса. Был уже седьмой час вечера, а справочные работали до семи.
Галина Девятникова
Я вышла наконец замуж и решила, что достигла цели стремлений. Но оказалось, что жизнь в счастливом браке — не такое уж простое дело. Самая грубая ошибка — пребывать в убеждении, что обожаемый супруг правильно истолкует твои поступки и интенции.
Подвернулась мне работа в Геолого-разведочном институте. Собственно говоря, она не подвернулась, а мне ее подкинул Валя Горькаев, старый приятель еще с университетских времен. Знакомство наше состоялось в турпоходе, куда я — против обыкновения — отправилась с незнакомой группой ребят из Иняза (Институт иностранных языков на Остоженке). По ходу дела выяснилось, что ребята эти прихватили с собой бутылку водки, чтобы отметить майские праздники. А у нас на филфаке в походах ничего подобного не практиковалось. Игорь Мельчук, душа наших туристических мероприятий, был строгим трезвенником, не брал в рот ни капли спиртного. И я, по простоте душевной, считала, что в походах не место пьянке, и потому вылила содержимое бутылки на землю. И очень удивилась, что ребятам из Иняза это почему-то не понравилось. Я думаю, этого неосторожного жеста они не простили мне до конца своих дней. А Валя отнесся к моему неосмотрительному поступку снисходительно и продолжал поддерживать наше шапочное знакомство. Звонил иногда по телефону, приглашал в кино, а однажды, уже в Геолого-разведочном, приволок на кафедру огромный букет сирени.
Игорь Мельчук
Валя иногда заходил на Сретенский бульвар в гости. С Фредом они отлично ладили и не упускали случая побеседовать о высоком и раздавить бутылку «Столичной».
А тут вдруг Фред спрашивает:
— Что это Горькаев давно у нас не появляется?
— Соскучился? — спрашиваю. — Значит, зайдет.
И я при первой же возможности притащила Валентина к нам на Сретенский бульвар. Вот сидим мы, беседуем о высоком, давим на троих бутылку «Столичной», и вдруг звонок. Фред выходит в коридор и произносит по телефону примерно такую тираду:
— А если ты, сука-падла, еще раз наберешь этот номер, я погляжу, какого цвета твои подлючие потроха.
После чего бросает трубку и с торжествующим видом возвращается в комнату. На наши недоуменные вопросы он отвечает, что звонила наша коллега с кафедры, вероятно имевшая виды на Горькаева и подозревавшая его в опасной связи со мной. И так она все себе ярко вообразила, что стала постоянно звонить Фреду и убеждать его в том, что он рогат.
— Ну хорошо, — говорю я Фреду. — Допустим, она дура непроходимая. Но ты-то с чего так взъярился? И что за ужасные вещи ты нес по телефону? Сука-падла — понятно. Но подлючие потроха… Неужели ты способен на такое?
— Ах, это! — смеется Фред. — Про потроха я вычитал в «Острове сокровищ» у Стивенсона.
Капр
Я наконец вышла замуж. Пора было заводить ребенка. А у мужа зарплата младшего научного плюс (минус!) алименты, и у меня тоже — слезы. Значит, нужно защищаться, но аспирантская стипендия еще меньше зарплаты. Значит, нужно сначала защититься, а уж потом заводить, то есть не тянуть с карьерным ростом. Вот я и пробилась в аспирантуру. В МГУ меня не взяли из-за отсутствия партбилета. Меня взял Московский полиграфический институт. Предстоял юбилей: 500 лет со дня смерти изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга (1968), а аспирантов со знанием немецкого на кафедре истории книги не было. Заведующий этой кафедрой взял меня, чтобы соответствовать мировому тренду.
Правда, ректора МПИ скучный гутенберговский вопрос не волновал, и он предлагал актуальную тему об оформлении книжных витрин. Но тут уж я уперлась. Настояла на своем Гутенберге. Зов крови, наверное. Ген книжных червей. Зря, что ли, кузен моего деда, Семен Афанасьевич Венгеров, редактировал энциклопедию Брокгауза, а сестра его, Зинаида Афанасьевна, писала статьи в «Вестник Европы»?
Пятидесятилетний юбилей революции (1967 год) Москва ознаменовала, в частности, проведением Международной книжной выставки в Сокольниках. (До ярмарки тогда еще не додумались.) Павильон был разбит на залы, пересеченные и перегороженные стендами. В этих декорациях царила невыносимая духота. Книжная продукция стран социалистического лагеря была выставлена в открытом доступе, но около стендов маячили любезные дежурные студенты и аспиранты гуманитарных вузов. Они были призваны консультировать посетителей и охранять экспонаты. К сожалению, их бдительность была заметно ослаблена духотой.
В те «оттепельные» времена скоммуниздить книжку считалось хорошим тоном. Техника похищения была до изумления примитивной. Библиофилы работали парами. Пока один отвлекал дежурного, задавая ему праздные вопросы, другой заходил с тыла за любой стенд, исчезал из поля зрения стража и снимал с этого стенда приглянувшийся экспонат. Воры прятали добычу под куртку, засовывали за ремень брюк или просто совали в карман и беззаботно покидали место преступления. Впрочем, их никто особенно не преследовал. Советские устроители гордились высокой культурой книгочеев, а, например, товарищи из Чехословакии прямо заявляли, что не собираются увозить свою экспозицию домой. Дескать, чем больше у них разворуют книг, тем шире распространятся в мире идеи Пражской весны. Немцы из ГДР не были столь легкомысленны. Во-первых, у них существовала строгая отчетность. А во-вторых, их книги действительно отличались очень высоким полиграфическим уровнем и стоили немало. Самым роскошным изданием был огромный зеленый фолиант — учебник для студентов Высшей полиграфической школы под названием «Buchgestaltung». Можно перевести название как «Книжное оформление», а можно как «Формирование книги». В фолианте триста пятьдесят страниц и полторы тысячи иллюстраций. Каждая из пятнадцати глав посвящена одному из элементов оформления (шрифту, бумаге, переплету, иллюстрации и пр.) и содержит историю его формирования от Адама до наших дней. На этот шедевр издательского искусства облизывались все художники, шрифтовики, фотографы, издатели, техреды, букинисты, коллекционеры, книжные спекулянты и прочие посетители выставки. Увы и ах. Такой фолиант не спрячешь под куртку, не засунешь за ремень брюк. Но можно снять со стенда, положить на столик дежурного и осторожно перелистать. А так как я и была дежурным, и к тому же аспиранткой МПИ, и мне предстояло сдавать экзамен по истории книги, то я воспользовалась шансом, положила книгу на свой столик и, урывая сладкие мгновения от своих прямых обязанностей, принялась ее конспектировать. Но мое везение этим не ограничилось. Немцы сказали, что на выставку в качестве члена жюри приезжает создатель шедевра, он же — основатель и ректор вышеупомянутой Высшей школы, он же — великий дизайнер шрифта и историк книги Альберт Капр. И это еще не все. Он проведет экскурсию по экспозиции ГДР, а мне поручено его переводить. Немцы говорили о нем с придыханием, называли не иначе как Kapazitat (светило и авторитет), в общем, трепетали и преклонялись. Даже меня заразили своим трепетом. Я сижу и трепещу: вдруг не справлюсь?
Приехал веселый, умный, без признаков снобизма, обаятельный дядька, провел экскурсию, и я ее перевела, ничуть не напрягаясь и с большой пользой для себя. Из его лекции я, например, узнала, что дешевое карманное издание не должно рассыпаться из-за плохого клея, раздражать серой бумагой и отпугивать большим весом или неряшливым набором, но напротив — легко умещаться в раскрытой ладони, источать приятный запах и ласкать взор. И все в таком духе, с шутками-прибаутками, без дидактики и надувания щек. Капр, потомственный типограф и убежденный социалист, уже в 1946 году переехал в ГДР из Штутгарта. Он называл себя «веселым швабом» и обладал фантастическими деловыми качествами, трудоспособностью и контактностью. В организованной им Высшей школе обучалось всего 25 студентов, но число их преподавателей было в пять раз больше.
После лекции, случайно встретившись в метро, мы с ним немного пообщались на тему о Гутенберге. Выяснилось, что эта тема интересует его уже давно. И у него есть ответ на вопрос, на котором я застопорилась в процессе перевода гутенберговских документов, а именно: что означают два словечка — «книжное дело» — в тексте Хелъмаспергеровского нотариального акта. Этот документ со столь трудно произносимым названием — всего лишь маленький клочок пергамента, фрагмент протокольной записи судебного заседания по иску майнцского богача Фуста к мастеру Гутенбергу. Запись сообщала, что Фуст отсудил у мастера werkderbucher. Вот на этом-то месте и застряли знатоки вопроса: историки материальной культуры, историки литературы, историки книги, филологи, архивисты и юристы. (А вслед за ними и я.) Они триста лет спорили о том, что конкретно являлось предметом тяжбы: то ли первая печатня, то ли тираж первого издания, то ли само изобретение, то ли оборудование и материалы и т. д. А типограф Капр решил задачку. Он исследовал два варианта одной индульгенции и, исходя из различия в шрифтах, доказал существование в Майнце не одной, а двух первых печатен. Одна принадлежала Фусту, а другая — мастеру. Суть тяжбы состояла в том, что Фуст стремился вконец обобрать обогатившего его изобретателя. И вот этой сенсационной новостью Капр преспокойно поделился со мной, прежде чем мы расстались на станции «Охотный ряд».
С Каиром мне здорово повезло. Гипотеза о двух первых типографиях позволила дописать диссертацию, а положительный отзыв, присланный им из Германии, — защитить ее. Он подарил мне заветный зеленый фолиант с дарственной надписью:
«Дорогая товарища Элла Зилинга mit herzlichen Grüßen und in Erinnerungen an unsere guten Gespräche in Moskau. 20. 9. 67 Albert Карr».А его монографию о Гутенберге я перевела (и издала!) лет через сорок. Уже после его смерти. В память о нем.
Горизонтальный дождь
Фред Зилинг
Фреду повезло с родословной. Мать — дочь царского генерала, отец из остзейских немцев, к тому же бывший белогвардеец, лишенец и враг народа. И отец, и мать служили в армии Колчака. Потом работали. Мама — хирургом в томской больнице, отец — чернорабочим в томском ботаническом саду. В начале тридцатых мама вроде бы случайно попала под машину. Отца арестовали еще до войны и расстреляли. И деда арестовали и расстреляли. А Фреда арестовали уже во время войны, взяли со второго курса университета, где он успел два года проучиться на геологическом факультете. Он сидел год в одиночке, сочинял стихи, чтобы не рехнуться. Потом отправили на каторгу. А там было много хороших, интеллигентных, благородных людей. Был, например, один знаменитый эсер. Жаль, не помню имени, хотя Фред мне его называл. Кажется, Михайлов или Михайловский. Так вот, этот эсер во время бунта заключенных в бухте Находка веревками привязал Фреда к койке, чтобы глупый парень не растерзал живьем детей или жен надзирателей и потом, если выживет, всю жизнь не казнил себя за зверство. Фред вкалывал на рудниках и на стройках социализма. В Восточной Сибири, на Чукотке, в Монголии и в пустыне Такла-Макан.
Такла-Макан, Такла-Макан! Кругом песок, песок, песок… Ревет песчаный ураган. Бархан сыпуч, бархан высок. Такла-Макан! Такла-Макан! Твой вид суров. Твой зной жесток. Идет упрямо караван Восьмые сутки сквозь песок. Идти не день еще, не два, Пока Лобнор блеснет вдали. Верблюды движутся едва. Встают барханы на пути. С бархана спустишься, и вновь Опять бархан, опять подъем. Стучит в виски, вскипая, кровь, А мы идем, идем, идем… Верблюдов крик уныл, скрипуч, Пропитан скорбью похорон. Песок горяч, песок сыпуч, Один песок со всех сторон. В твоих песках на сотню ли Не обрести воды стакан За все сокровища земли, Такла-Макан, Такла-Макан! О, скольких драм последний след Засыпал каждый твой бархан! О, скольких ты причина бед, Такла-Макан, Такла-Макан!Карл Оттович Зилинг с внуками Альфредом и Эдуардом
А потом Сталин умер, Фреда выпустили, но не реабилитировали, а только зачли срок. Так и проходил он всю жизнь с клеймом каторжника, с железными (вместо выбитых на допросах) зубами, со сломанным (на допросе) ребром и прочими шрамами, украшающими мужчину. Мне и сейчас непонятно, как он выжил. Климат, наверное, здоровый в этой Сибири и в этой пустыне Такла-Макан. И способствует приобретению ценного жизненного опыта.
Геологи рассказывали, как его отряд застрял однажды в Туруханске, потому что университетское начальство все никак не присылало за людьми вертолет. Говорят, Фред тогда отправил в Москву телеграмму: «Случае невылета стреляюсь почте». А Москва не отреагировала. И Фред сочинил второй фейк: «Зилинг застрелился почте. Что делать телом». Тут уж они явились. И Фред благополучно доставил свой отряд nach Haus.
Альфред Карлович и Татьяна Владимировна Зилинги
Другой случай произошел у него с тетками из бухгалтерии. Они заставили его собирать подписи под финансовым отчетом о полевых работах. В количестве двадцати штук. А когда с него потребовали двадцать первую, он сорвал со стены огнетушитель и направил на мерзких теток с криком: «Опять сяду, но вас порешу!» Тетки испугались и приняли отчет. Но затаили обиду.
На следующий год с отрядом из трех человек Фред работал на Таймыре, а именно на побережье моря Лаптевых. У них была старая списанная резиновая лодка с мотором. Работали они на совесть, в жизни не халтурили, и все, что положено, делали, как положено; ходили в маршруты, ставили палатки, крепили лодку. А с моря Лаптевых налетел ураган, такой сильный, что сорвал лодку, снес палатку, и остались они четверо практически без ничего, на пустынном берегу, под ураганным ветром и проливным дождем. Фред описывал этот осадок как горизонтальный. Горизонтальный дождь с моря при ураганном ветре. И тогда Фред приказал ребятам собирать крупные камни и строить стену. Стену между собой и этим горизонтальным бедствием. И они строили, проклиная Фреда, его бессмысленный приказ и его идиотскую фанаберию. Но остались живы. Потому что цель — ничто, движение — все. Ураган кончился, и они Двинулись на ближайшую погранзаставу, находившуюся на расстоянии каких-нибудь пятидесяти километров. На заставе им несколько удивились, но приняли, накормили, напоили и спать уложили. А по возвращении в Москву тетки из бухгалтерии заявили, что ребята пропили ценное снаряжение. И вкатили Фреду счет на двадцать тысяч тогдашних рублей.
Пришлось Фреду писать на погранзаставу, и погранцы подтвердили, что ураган действительно имел место и что такого урагана в данном районе не наблюдалось сто лет.
Вот когда я поняла, что жизненная ниша, которую ищет или строит каждый человек, может иметь вид собственноручно сложенной каменной стенки на пустынном берегу под ураганным горизонтальным дождем.
Счастливый случай
Иду я как-то по Сретенскому бульвару, а навстречу мне некая Диана. С нашего факультета. Ее, правда, с факультета отчислили, за воровство кажется. Но это уже не имело значения. Остановились, разговорились. Диана сообщила, что фарцует и может одеть меня с головы до пят, в лучшем виде. А я отказалась. То ли побоялась, то ли побрезговала. Надо же было быть такой неисправимой, непробиваемой, недальновидной, непроходимой чистоплюйкой. Да если бы я тогда согласилась, да если бы она достала мне мохеровый свитер, и юбку макси, и юбку годе, и юбку-спираль, и юбку apres ski, и джинсы, и туфли на шпильках, и несколько пар перчаток, и сумку, даже две или три, и кожаное пальто… Я бы стала элегантной, стройной, неотразимой, успешной, эффектной, интересной, красивой женщиной. А я с достоинством удалилась. Потому что денег на все эти роскошества все равно не было. Мне бы залезть в долги, но раздобыть. Ох, сколько раз и как горько я потом жалела, что упустила и потеряла из виду эту Диану.
Была у меня подруга, Нина Карельская. Карельскому она приходилась не родственницей, но всего лишь одyофамилицей. Тем не менее фамилия у нее была хорошая, и мы с ней поддерживали чудные светские отношения. Хотя Нина умела одеваться, а я нет. Я бы тоже могла хорошо одеваться, просто денег не было. Она носила мохеровые свитера, джинсовые брюки и стильные шарфы. И даже успела обзавестись кожаной курткой.
— Я шла к этой куртке десять лет! — с гордостью признавалась Нина.
И ей один знакомый профессор привез из Парижа кожаное пальто. Он приобрел его по случаю, на блошином рынке. Пальто покроя реглан имело солидный стаж и пять больших пуговиц на тонких ниточках. Тогда кожаное пальто считалось большим шиком. В нормальных магазинах их не было, а в комиссионках они шли по бешеным ценам. К сожалению, Нине пальто оказалось велико, и она великодушно продала его мне за какие-то сто старых рублей.
В этом зеленом реглане с выцветшими, чуть ли не белыми от долгой носки швами я чувствовала себя королевой красоты.
В косыгинские времена у нас в Третьем микрорайоне Теплого Стана открылся универсам. Мы и слова-то такого раньше не слыхали. Шикарный магазин: открытый доступ к полкам, на полках товары в красивых упаковках, грузинские, молдавские, узбекские и прочие вина, удобные металлические корзинки, чуть ли не десять касс, и все работают, ни тебе толкучки, ни очередей. Увы, ассортимент товаров и вин очень быстро скукожился, торговый зал разгородили, из открытого доступа исчезли мясные товары, и сосиски стали поступать к покупателям в расфасованном виде. К тому же трудолюбивые продавцы не вручали расфасовки (500 граммов) из рук в руки, но с каким-то садистским наслаждением выбрасывали из соответствующего окошка, а очередь ловила их на лету. Очередь продвигается довольно быстро, но свои 500 граммов нужно все-таки успеть перехватить, не то сомнут те, кто подпирает сзади. Я дисциплинированно продвигалась к заветному окошку, как вдруг какой-то мужик влез в очередь без очереди прямо передо мной. Ну, я взяла его за плечо и мягко так отодвинула. А он взял и грохнулся наземь. То есть на каменный пол универсама. И звук раздался жуткий, похожий на хруст. И мужик лежит пластом на каменном полу и не шевелится. В этот момент я распрощалась с жизнью: перед моим мысленным взором пронеслись суд, приговор, тюрьма, осиротевший Володька, спившийся Фред, мама в инфаркте, отец в сумасшедшем доме, брат в ужасе, сестра в слезах. А мужик вдруг вскочил, набросился на меня, как тигр, рванул ворот моего зеленого кожаного реглана, пуговицы брызнули во все стороны, пальто треснуло и прекратило свое существование. И не было в моей жизни более счастливого момента, чем тот, когда я смотрела на этого ожившего мужика и валявшиеся на полу останки кожаного пальто.
Солнечный берег
Попасть за границу в «оттепельные» времена было очень непросто. Нужно было получить одобрение своей кандидатуры у суровой комиссии, состоявшей из преклонного возраста товарищей, подвергавших тебя пристрастному допросу. Могли, например, спросить: «Кто является генеральным секретарем компартии Уругвая?» И если ты посмеешь пискнуть что-то вроде: «Но я же еду в Болгарию!» — пиши пропало. Не одобрят товарищи твоего развязного поведения, не дадут тебе благословения, не пустят за границу. Так что иди домой и думай, на чем прокололась. Я думала-думала и догадалась. Прокололась я на собственной глупости. И в следующий раз была умнее. Прихожу на комиссию. Они сидят, смотрят, спрашивают:
— Сколько пудов урожая собрано в СССР в нынешнем году?
Ну откуда мне знать? Однако вместо того, чтобы возражать и качать права, я смиренно потупляю взор и лепечу:
— Ой, простите, пожалуйста. Я знала. Но сейчас от волнения забыла. Я обязательно-обязательно вспомню.
В общем, несу покаянную чепуху. И этого оказалось вполне достаточно. Ведь проверка-то шла не на знания, а на лояльность. И я ее выдержала, изобразив величайшую покорность и смирение. И не испытывая при этом ни малейшего стыда или угрызений совести. Отчего бы не подыграть старшим товарищам? Меня пропустили, и я купила турпутевку в Болгарию.
Возглавлял нашу тургруппу товарищ Ходыкин, бывший моряк и командир. Он еще в поезде строго-настрого запретил мне общаться с иностранцами. Потому что я, зная немецкий язык, могла неосторожным высказыванием спровоцировать международный конфликт. Другие члены группы языков не знали и, по логике товарища Ходыкина, ничего дурного спровоцировать не могли.
Солнечный Берег был новым, с иголочки, болгарским курортом, построенным по проекту гениального Николы Николова. В белых виллах, белых коттеджах, белых бунгало в средиземноморском стиле, а также в единственной белой многоэтажке жили только туристы. А местные жили в нормальных деревнях по соседству. Мы, конечно, жили в многоэтажке. На пляже под бесплатными зонтами кроме нас располагались немцы из ФРГ и, кажется, венгры и прочий соцлагерь. Подслушав, о чем говорили немцы (а точнее, немки), я пришла к выводу, что мне говорить с ними не о чем. Они обсуждали детские поносы и прочие болячки и зарплаты своих домработниц. Мы с Ниной Карельской отнюдь не скучали, брали напрокат велосипеды и катались вдоль пляжа, что-то покупали в сувенирных ларьках, заходили в кафе, загорали и вообще предавались лени. Правда, Ходыкин неусыпно ездил за нами и следил, чтобы мы… что? Не знаю.
Однажды за завтраком две наши соседки по столу под страшным секретом проболтались, что посетили нудистский пляж. Я раскрыла рот от изумления, но Нина сильно толкнула меня в бок, и я умерила свое лю бопытство. Нина как бы невзначай поинтересовалась, в каком направлении располагается этот район разврата, девицы сообщили ей нужную информацию, и после завтрака Нина решительно скомандовала:
— Идем!
— Куда? — не врубилась я.
— За кудыкину гору! — отрезала Нина.
И мы двинулись. Идем-идем, все вокруг в купальниках, и я успокоилась. И только я успокоилась, как вдруг в поле моего зрения оказалась совершенно голая троица: парень, девушка и ребенок. Они суетились вокруг лодки, пытаясь сдвинуть ее в воду. Оглянувшись, я заметила и другие обнаженные тела на песке, в тени прибрежных скал и в море.
— Снимай купальник! — командует Нина.
Маминому купальнику, в котором я щеголяла за границей, было лет тридцать. Трикотажное такое выцветшее изделие, бесформенное, старомодное, очень удобное. И мне не хотелось его снимать. Но и оставаться в нем было никак невозможно: пляж-то нудистский, разгуливая по нему в купальниках, мы вели себя вызывающе неприлично. Господи, думаю, а если Ходыкин узнает? Но набралась смелости и сняла свое одеяние. А Нина уже давно ушла вперед. В обнаженном виде. Ейто что. Она сложена, как танагрская статуэтка. А я — совсем другое дело. Я догнала Нину, и мы продолжили экскурсию. И почему-то все поворачивали головы в нашу сторону и пялились на меня. Не на стройную Нину, а как раз на меня. Я совсем истерзалась. И тут подкатывает ко мне какой-то голый тип и говорит по-английски:
— Продайте!
Я чуть в обморок не упала от ужаса.
— Что?
А он тыкает меня в шею и настаивает:
— Вот это!
О Господи, наконец-то я сообразила, почему явилась предметом всеобщего внимания. Я забыла снять свое ожерелье, подарок Фреда. Фред когда-то завалил в тайге медведя, отрезал лапу, сварил, извлек когти, обточил и нанизал на леску, изготовив этакое дикарское ожерелье. Оно было такое легкое, что я носила его всегда и повсюду. И забыла снять, когда сбрасывала мамино трикотажное изделие. Я, конечно, отказалась.
— Не продается! — говорю.
— Сто долларов! — настаивает тип.
— Тысячу! — гордо заявляю я.
Он, разумеется, спасовал. А я заявила Нине, что дальше не ступлю ни шагу, рухнула наземь и зарылась в песок по самое горло. Но, зарывшись в песок, не больного загоришь. Я полезла в воду. Но и в воде обнаружился какой-то ныряльщик подозрительного вида. Я крикнула Нинке, чтобы она бросила мне в воду купальник, а Нинка заупрямилась. Но я так ее умоляла, что она сжалилась, размахнулась и швырнула мне в воду драгоценный мамин трикотаж. Я облачилась (не вылезая из воды) и поплыла назад, к цивилизованному пляжу. Плыть пришлось долго, час наверное. Но я и не торопилась. Я размышляла о Ходыкине и о возможных последствиях нашей безумной эскапады. Решила, что Ходыкин ни о чем не узнает, я же выйду из моря на нашем законном месте, у нашего пансионата. Приплываю, вылезаю, навстречу мне Ходыкин с полотенцем через плечо и с вопросом:
— Вы откуда?
И я, не успев ничего сообразить, точно указываю ему рукой в направлении голого пляжа. Ходыкин многозначительно хмыкнул и многозначительно покачал головой.
На обратном пути в Москву, когда автобус уже подъезжал к аэропорту, как-то нечаянно выяснилось, что там побывала вся наша благонамеренная группа. Включая Ходыкина.
Библиотека
Библиотека иностранной литературы — детище Маргариты Ивановны Рудомино. Она создала ее из своего собственного книжного шкафа, привезенного в Москву из Саратова во время Гражданской войны. Сначала библиотека размещалась в небольшом особнячке на улице Разина, куда мы в течение пяти лет бегали готовиться к экзаменам по зарубежке. Это было дивное место: спокойное, уютное, какое-то даже веселое. Не то что Ленинка, где всегда приходилось стоять в очереди, дышать затхлым воздухом, покупать в буфете отвратительные сардельки и где всегда хотелось спать. Выходя из Ленинки, вы сразу попадали в душное метро, а выходя из Иностранки, двигались по Красной площади вдоль витрин ГУМа. А там были выставлены модельные туфли на высоченных шпильках. Не фабричной, а ручной работы. Их никто не собирался покупать, они стояли для красоты. Одна пара из зеленой замши просто завораживала, гипнотизировала и притягивала мой восхищенный взор чуть ли не на полчаса. Так что посещение Иностранки всегда вызывало у меня сугубо позитивные эмоции и ассоциации.
Маргарита Ивановна Рудомино
А уж когда Маргарита Ивановна возвела модерное, просторное, гостеприимное здание у Яузских Ворот, мое ремесло книговеда и переводчика вообще обрело зримую сферу приложения и престижный социальный статус. Строили библиотеку финские архитекторы по последнему слову науки и техники. С благословения самого главного конструктора Королева, который пробил ее проект в «оттепельном» правительстве. Чего там только не было! Вежливые дежурные у входа, светлые залы, приемлемая яичница в буфете, аккуратные каталоги, отдел новых поступлений, научный отдел, издательский отдел, отдел комплектования, отдел каталогизации, справочный отдел с открытым доступом. И вот там-то мне довелось работать после защиты диссертации.
Возглавляла отдел Инга Кухтерина. Она сидела за начальственным столом с красным карандашом в руке и размечала свежий номер газеты «Правда». На предмет упоминания в нем каких бы то ни было иностранных имен. А в нашу обязанность (нас было человек восемь) входило изготовлять соответствующие карточки и размещать их в каталогах. Так что стараниями Инги и нашего отдела каталог публикаций в прессе ежедневно пополнялся. Но главной нашей работой было письменно отвечать на письменные запросы и устно — на телефонные вопросы реальных, потенциальных, а также иногородних читателей.
Иногородние читатели писали научные работы и диссертации, кандидатские и докторские. А мы составляли для них библиографии и библиографические списки и отправляли их заинтересованным лицам по всему Союзу. В среднем каждая из сотрудниц составляла восемь — двенадцать списков в месяц. К сожалению, у Инги не было степени, а у меня была. И Инга почему-то возомнила, что я только и мечтаю занять ее руководящую должность, взять в руку красный карандаш и размечать-размечать-размечать передовицы «Правды». Между тем эта перспектива вовсе меня не прельщала. А прельщала возможность под предлогом составления списка выскользнуть из отдела и, усевшись за стол в читальном зале, повышать свой образовательный уровень, а именно: рецензировать новые поступления немецкой художественной литературы, за что полагался один день отгула, то есть свободы. Инга об этом догадывалась и, чтобы держать меня на коротком поводке, задавала не по десять, а по двадцать библиографических списков в месяц. А я эту плевую норму все равно выполняла в неделю, а три недели повышала свой образовательный уровень сочинением рецензий.
А однажды Маргарита Ивановна поручила Инге составить какую-то докладную согласно методичке, присланной из Министерства культуры. У Инги не получилось, она свалила это дело на меня, но у меня тоже ничего не получалось, пока я не сообразила, что министерское задание выполнить невозможно, потому что оно неправильно сформулировано. А если его переформулировать, то Инга испугается, окрысится и опять же повесит на меня всех собак. Но другого выхода не было. Я переформулировала задание и выполнила его. Инга чуть со страху не померла, а Маргарита Ивановна оценила и одобрила. Она умела все правильно понимать и никого не боялась.
Когда отмечали юбилей Маргариты Ивановны, я по просьбе отдела написала поздравительные стишки, а Инга их торжественно зачитала на торжественном приеме в министерстве.
Они начинались так:
Вот дом, который построил не Джек. А это ученые дяди и тети, Которые все здесь горят на работе В доме, который построил не Джек. А это прелестная милая дама, Которая всем им папа и мама, Этим ученым дядям и тетям, Которые все здесь горят на работе В доме, который построил не Джек.И т. д.
Увы. Эти вполне невинные, непритязательные, подражательные стишки отнюдь не произвели ожидаемого эффекта. Напротив, они вызвали полное замешательство (точнее, глубокое возмущение) начальства и присутствовавшего на собрании министерского контингента. Собрание усмотрело в них намек на то бесспорное обстоятельство, что библиотека была построена исключительно заботами Маргариты Ивановны, а министерство только и делало, что ставило ей палки в колеса. И бедная Инга попала пальцем в небо и заподозрила злой умысел с моей стороны.
А Маргарита Ивановна оценила мое наивное простодушие и никакой обиды на меня не затаила.
Через некоторое время я, оказавшись в интересном положении, задумала слинять из библиотеки и перескочить в НИИ культуры, где нужно было находиться в присутствии только два дня в неделю. Я пришла к Маргарите Ивановне и выложила ей, как на духу, обуревавшие меня сомнения. Она сразу все просекла и устроила мне перевод, поскольку библиотека и НИИ относились к одному министерству. Так что мне не пришлось увольняться и прерывать стаж.
А я, едва приступив к новой работе, угодила в больницу, и мое интересное положение стало известно директрисе НИИ Таисии Александровне Кудриной. Как же она возмутилась! Ведь она брала меня на работу, а не на оплату декретного отпуска. Таисия Александровна трижды звонила Маргарите Ивановне с требованием убрать, точнее, забрать меня обратно. И трижды Маргарита Ивановна твердо ей возражала:
— Хороший работник. Берите, не пожалеете.
Цитирую точно, потому что эти телефонные переговоры происходили в присутствии моей мамы. Мама приезжала в институт за моей зарплатой, а Таисия Александровна каждый раз выговаривала ей за то, что она так дурно воспитала дочь.
Таисия примирилась с неизбежностью. Беременных тогда с работы не выгоняли.
Командировка в шести частях с прологом и эпилогом
Пролог
НИИ культуры в Москве и НИИ музейного дела в Восточном Берлине совместно составляли словарь музейных терминов и вообще поддерживали научные связи и посылали своих сотрудников друг к другу в командировки. Вот и меня послали. В качестве полезного приложения к зав. отделом музееведения Юрию Петровичу П. по кличке Трепегцулин. В поезде шеф сразу на меня обиделся. Он рассчитывал, что я захвачу с собой жареную курицу, полдюжины вареных яиц, хлебушек, помидорчики, пару огурчиков, соль в пакетике, салфеточки, ножичек и пр., а мне это и в голову не пришло. Ведь не на курорт едем, а в деловую командировку по обмену опытом научной работы. К тому же в поезде имеется вагон-ресторан. Пришлось шефу раскошеливаться в ресторане. Но тамошнее меню оказалось не слишком удачным, последствия не заставили себя ждать, и шеф обиделся еще больше.
В Берлине нас ожидало серьезное испытание: немцы нас не встретили, а денег у нас не было. Вообще. Совсем. Подразумевалось, что мы получим деньги у немецких товарищей. А они куда-то запропастились. Мы стоим на перроне, ждем. Ждем час, два, три, четыре. Над Берлином спустилась ночь, Восточный вокзал обезлюдел, хочется есть, пить, спать, терпение наше лопается. Шеф предлагает обратиться в советское посольство. Мы подхватываем чемоданы, подходим к посольству, оно за высокой оградой, у будки часовой, кругом тишина. Они там, в посольстве, наверное, едят, пьют, спят. Мы чувствуем себя как-то неуверенно и неловко и возвращаемся на вокзал.
— Все, — заявляю я Юрию Петровичу. — Я звоню Ирине. Она здесь живет, на вилле в Панкове. Ирина нас приютит. Хотя бы на ночь.
— Нет, — возражает Юрий Петрович, — неудобно. И денег у вас нет. Как вы будете звонить?
— Так и буду, — говорю. — С почты.
Я иду на вокзальную почту, где одинокая дежурная в окошке встречает меня недоверчивым взглядом. Я ей объясняю, в чем моя проблема, прошу разрешения воспользоваться телефоном. Она пытается протянуть мне в окошко телефонную трубку, но шнур короткий, а телефонный аппарат как-то прикреплен и не сдвигается. Пустить в служебное помещение постороннего человека дежурная не имеет права. Я прошу у нее монетку, чтобы позвонить с автомата. Дежурная приходит в ужас. Наверное, я что-то не то брякнула. Все-таки я в Германии впервые и еще никогда в естественной обстановке с немцами не общалась. Разве что с Каиром и музееведами. Так ведь то было в Москве. Тут на почту является какой-то работяга в синей куртке, экспедитор, кажется. Я бросаюсь к нему. Работяга удивляется, но не пугается.
— Что ей нужно? — спрашивает он дежурную.
— Денег! — вопит бедная женщина, очевидно принявшая меня за бандитку. — Сколько? — интересуется дядька.
— Пятнадцать пфеннигов! — ору я истошным голосом.
— Ну, это не проблема, — добродушно замечает мужик и лезет в карман. Он дарит мне монету и даже набирает номер. И я наконец-то устанавливаю связь. Ирина велит нам брать такси и ехать в Панков. Я приношу радостную весть шефу, но тот еще некоторое время ломается, неудобно ему, видите ли. А торчать всю ночь на пустом вокзале удобно?
Мы благополучно пересекли совершенно безлюдный темный город, подъехали к дому, на крылечке зажегся свет, Ирина сбежала с крылечка, выдала таксисту пятьдесят марок и сформулировала условие:
— Купишь на пятьдесят марок колбасы и отвезешь в Москву моей маме.
Что ж, условие было вполне приемлемым, и я его выполнила в первый же день по возвращении в Москву.
Мы переночевали в уютном доме Штефана Хермлина (писателя, поэта, культурного функционера и мужа Ирины), а утром позвонили в НИИ музейного дела. Немцы извинились за накладку, узнали адрес, услышав известную фамилию, немного занервничали, но очень быстро приехали, забрали нас и повезли в институт. Мы снова ехали по Восточному Берлину, и, хотя было девять утра и светило солнце, город был пуст. Почти так же, как ночью.
— А где люди? — спрашиваю я у шофера.
Вопрос его озадачил.
— Как это где? — удивился он. — На работе.
Немцы строили социализм надолго и всерьез, выходили на работу дружно и одновременно. Те, что орудовали молотом и серпом, — в шесть утра. Те, что с циркулем, — в восемь. Первые кончали работу в три, вторые — в пять. Потом все отоваривались в одинаковых магазинах, ужинали, смотрели телевизор и ложились спать. Все носили брюки и синие куртки. Конечно, и в ГДР имелись исключения. Высокопоставленные функционеры снабжались в распределителях и даже иногда проникали на Запад (муж Ирины, например). На улицах их не было видно, потому что они пользовались служебным или личным транспортом, а по тротуарам почти не ходили. Это в Западном Берлине всю ночь горели огни реклам и шла бурная, разгульная, недоступно-прекрасная, порочная и угрожающая буржуазная жизнь. Впрочем, знаменитая стена загораживала западноберлинский пейзаж. Я хотела взглянуть на него с четвертого этажа отеля «Адлон», где на черной лестнице имелось такое маленькое-маленькое слуховое окошко, из которого было видно, но Юрий Петрович, опасаясь международных трений, категорически мне это запретил.
Часть вторая
Вторую ночь мы провели в очень и очень приличных апартаментах «Адлона». Юрий Петрович даже обратил мое внимание на двуспальную кровать располагающих размеров. Но я не оценила гостеприимного жеста и погасила порыв равнодушным замечанием:
— У меня в номере точно такая же.
— Не думаю, что я так уж сильно его огорчила. Но утром, когда мы встретились за завтраком, он был не в духе.
— Заказывайте завтрак! — потребовал он.
— Здесь шведский стол, — объясняю я. — Нужно взять поднос и перейти на самообслуживание.
— А как расплачиваться?
— Официант к нам подойдет.
— А как он узнает, что мы съели?
— Мы ему скажем.
— И он поверит?
— Поверит.
— Не может быть. Уточните. Хотя бы вон у тех девушек за соседним столом.
Я подчинилась.
— Прошу прощения, девушки. Как здесь расплачиваются?
— Официант к вам подойдет.
— А как он узнает, что мы съели?
— Вы ему скажете.
— И он поверит?
— Поверит.
Мы самообслужились, позавтракали, подходит официант, красавец гренадерского роста и соответственно высокомерный. Там они все такие.
— Что вы брали?
— Кофе, булочки, рыбу.
— У нас не подают рыбу на завтрак.
Это был удар под самый дых. Юрий Петрович чуть не умер от инфаркта. Перед его внутренним взором вновь замаячили крупные международные трения.
— А что же мы ели? — спрашиваю я гренадера.
— Не знаю, — холодно, но вполне логично ответствует красавец мужчина.
— Ну, такие ломтики? Тоненькие? Прозрачные? Соленые?
— Ах, ветчина, — врубается наконец гренадер. Берет наши марки и удаляется.
Кажется, мы забыли дать ему на чай. Мне до сих пор неудобно.
Юрий Петрович переводит дух. Хеппи-энд.
Часть третья
Ознакомившись с положением дел в берлинском НИИ, мы двинули в Веймар. Там только что покрасили и подновили музей Гете, дом Гете, эспланаду (центральную улицу с мемориальной квартирой Шиллера), а также великолепный зеленый парк с домом Листа, искусственными руинами и купами старых деревьев. Красота, покой, гармония. Словом, классика. Обновили и знаменитый отель «Элефант», описанный в романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре». Я и мечтать не смела, что когда-нибудь переступлю его порог. Но переступила. Поскольку зам. директора музея Гете пригласил нас туда на обед. Мы усаживаемся за стол, накрытый крахмальной скатертью, официант приносит меню, зам. директора предлагает заказать черепаховый суп, но Юрий Петрович колеблется.
Спроси его, кто платит?
— Не буду, — упираюсь я. — Это неприлично.
— Тогда переведи ему, что мы первого блюда не берем.
Но официант уже принес супницу с тремя порциями, так что заму достались все три. Ну, может, две. А мы сидим, ждем второго. На второе тартар. Или татар? Приносят тартар, а это сырой телячий фарш с сырым же яйцом. Ни я, ни Юрий Петрович к нему не притронулись. Выпили только какой-то компот или кисель на третье и покинули роскошный ресторан, несолоно хлебавши. А платил за все этот самый зам. Из казенных денег. Он, конечно, был жуткий русофоб, нарочно все так подстроил, чтобы мы остались голодными. И Юрий Петрович тоже хорош. Мог бы рискнуть и согласиться на черепаховый суп.
Едем дальше. В Лейпциг.
Часть четвертая
В Лейпциге, как известно, самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Там проходит промышленная ярмарка (Messe), есть опера, университет, огромное книгохранилище (Deutsche Bücherei), церковь Святого Фомы, где в свое время служил И.-С. Бах, и, разумеется, городской музей в большом здании комплексного назначения. Мы идем по коридору, а навстречу Альберт Капр, чья Высшая полиграфическая школа тоже располагается в этом здании. Капр бросается нам навстречу, обнимает меня, крепко целует и с ходу приглашает всех (меня, Юрия Петровича и сопровождавших нас двух или трех музеологов) в ресторан «Auerbachskeller». И мы отправляемся обедать туда, где Мефистофель поил студентов разнообразным дармовым вином. На стенах фрески с изображением этого незабвенного эпизода, но, чтобы их рассмотреть, мне нужно надеть очки.
Альберт Капр
Очки у меня имеются, но замдиректора Музея Гете в Веймаре при виде их презрительно процедил: «Krankenkassenbrille!» Подтекст этого замечания был такой: «Вы носите бесплатные очки для бедных, чем компрометируете нашу профессию и всю благородную гильдию музеологов. Мой священный долг — указать вам на ваше недостойное поведение». Этот чертов русофоб поселил во мне унизительный комплекс неполноценности. Не стану же я ему объяснять:
• что очки вовсе не бесплатные;
• что куплены они в московской аптеке, то бишь оптике, где никаких других моделей нет и быть не может;
• что без очков я ни черта не вижу и использую их по назначению, а не как модный аксессуар;
• что я уже заказала в Берлине пару модных очков, но они будут готовы только через две недели.
Так что стою я в ресторане, смотрю на фрески, но не решаюсь надеть позорные очки, а потому ничего не вижу. И тогда я излагаю свои сомнения Капру, а он хохочет:
— Na, Ella! Das ist aber die sozialistische Krankenkasse! Ну что вы, Элла! Это же социалистическая касса взаимопомощи!
Часть пятая
После Лейпцига мы еще посетили Росток и его музейные окрестности, а вернувшись в Берлин, наведались в Потсдам, во дворец Сан-Суси. Там шел ремонт. Во дворе валялась куча амурчиков-путти, изваянных из местного песчаника и потому почерневших от времени. ГДР в то время отапливалась бурым углем, дым от него благоухал соответственным образом и загрязнял воздух и окружающую среду. Однако все залы и придворный театр были уже в полном порядке. Посетителей пока не пускали, но нам вручили ключ от всех залов, и мы с Юрием Петровичем получили уникальный шанс обойти без помех и осмотреть королевский дворец. Особенно мне понравился тронный зал. Розовый паркет излучал такой блеск, что я не удержалась и даже сплясала на нем что-то вроде гопака или барыни. А что мне не понравилось, так это зал Вольтера. Серые какие-то стены, унылые, несмотря на рельефчики в стиле рококо. Сразу видно, что Фридрих Великий был великий скупердяй.
А насчет дворцового театра, оперного, камерного и уютного, музейщики нам сообщили, что спектаклей в нем не устраивают.
— Почему? — спрашиваем.
— Потому, что не окупится.
— А если поднять цены? Или продавать билеты туристам за валюту?
— Никак нельзя. Недемократично.
В то время у нас, в Москве, билеты в Большой уже стоили столько, что его посещали в основном только интуристы.
Что ж, немцы всегда отличались последовательностью своей внутренней политики. Но я бы не сказала, что в данном случае мы им позавидовали.
Часть шестая
В Берлине нас опекал директор НИИ музеологии товарищ Киау, он был прямой противоположностью зама из Веймара. Надежный, деловой, умный, настоящий. Его сотрудники рассылали свой бюллетень в двадцать пять заграничных центров, получали взамен двадцать пять различных бюллетеней, реферировали их и составляли из рефератов новый бюллетень. Его они рассылали и т. д. Киау предложил присылать его в наш институт. Эту идею Юрий Петрович, разумеется, великодушно одобрил. Так что мы, ничего не издавая и не реферируя, получали возможность переводить их бюллетень с немецкого на русский и рассылать заинтересованным инстанциям и лицам. В Министерство культуры, например, где его никто никогда не прочтет, и музейщикам на местах, которым он будет весьма интересен.
Таким образом, наша командировка увенчалась успехом и подошла к концу. Киау пригласил нас на прощальный ужин, привез в шикарный ресторан рядом с Оперой, заказывает аперитив и предлагает нам ознакомиться с меню. Себе он выбирает какой-то Hackepeter. Мы с Юрием Петровичем пребываем в такой эйфории, что, не задумываясь, решаем!
— Нам то же самое.
И нам приносят сырой фарш со столь же сырым яйцом.
Эпилог
Обратно мы ехали в СВ, то есть в купе на двоих. Я занимала нижнюю полку, а шеф — верхнюю. Его небрежно свисавшая с полки сильная мужская рука прозрачно намекала на приглашение возвыситься над условностями. Не опускаясь до пошлых объяснений, он великодушно разрешал мне залезть наверх. Я знала его как крупного специалиста по истории русской литературы и поклонника самого бесстрашного писателя XIX века, сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. И потому всю дорогу хихикала, едва удерживаясь, чтобы не расхохотаться вслух. По возвращении он подарил мне оттиск своей статьи со смелой надписью: «Без слов».
Редакторские байки
Если во время работы вы уронили рукопись, непременно сядьте на нее, прежде чем продолжать работу.
Если рукопись не идет, упирается, постарайтесь сбагрить ее другому редактору.
Если важный дядя написал в официальной статье несусветную глупость, ни в коем случае не правьте ее и не ставьте в известность автора. Сохраните перл для вечности.
Если идете с докладом к директору, напишите шпаргалку. Войдя в кабинет, стойте по стойке «смирно» и Держите шпаргалку на виду, пока начальство не удостоит вас взглядом. Открыв рот, сразу сообщите, сколько вам нужно минут (секунд) для изложения своей покорной просьбы. И т. д.
Правила обращения с начальством во все времена одинаковые. Ты начальник — я дурак. Хотя возможны варианты.
Была, например, в Издательстве восточной литературы редактор по имени Ламара Капанадзе. Про нее рассказывали историю, в которую почти невозможно поверить. Некий молодой человек просил принять его на работу. Она дала ему на пробу страницу текста и оставила в кабинете одного.
Через пару минут вернулась.
— Ну, как ваши дела? — спрашивает.
А кандидат ей в ответ:
— Никакой правки я не внес. Текст отредактирован.
Так оно и оказалось, и она его приняла.
И вот эта самая Ламара два раза завернула (отвергла) перевод одной моей подруги. Подруга работала над диссертацией о творчестве великого индийского поэта, писавшего на фарси. Для защиты, а также для выполнения годового плана научной работы ей до зарезу была нужна публикация. Это сейчас публикуй что хочешь, где хочешь: хоть на сайте, хоть на бумаге, за свой или за чужой счет. А тогда каждая публикация ценилась если не читателями, то самими авторами. Подруга обратилась ко мне: дескать, отредактируй, пожалуйста, мои переводы из классика, свои люди — сочтемся. Я ответила, что фарси не знаю, но если она мне все объяснит, то постараюсь. Я вообразила, как будет хорошо, если мое имя будет стоять на титульном листе такого экзотического текста и я получу гонорар за внешнее литературное редактирование.
Подруга принесла мне переводы и рассказала, что это великая поэзия, что почитатели гения собирались на ночные радения и, слушая его стихи, приходили в экстаз. Я читаю русские строки разнообразной длины и никак не могу врубиться: ну, пусть перевод прозаический, пусть корявый, пусть в нем полно чужих реалий и скрытых цитат из Корана, но если поклонники поэта радели, рыдали и приходили в неистовство, то должна же быть тому причина, где-то там должна же прятаться поэзия. Мы сидели долгими часами, пытаясь проникнуть в красоты текста, но так и не поняли, в чем его обаяние. Подруга за мной нежно ухаживала: лечила от мигрени и конъюнктивита и даже дарила коричневую шелковую косынку, хотя я ее не взяла (не заслужила). Но сдавать работу надо, а Ламара Капанадзе — редактор строгий и неподкупный.
Тогда подруга позвала на помощь свою знакомую дикторшу из восточной редакции радио. Жаль, я забыла ее фамилию, но имя помню. Подруга называла ее Милочкой. Так вот эта Милочка и оказалась настоящим знатоком дела. Она стажировалась в Пакистане, где тамошний профессор-гуру часами толковал ей оттенки смыслов и скрытые в тексте реминисценции и аллюзии. И я наконец начала кое-что понимать.
Восточная поэзия устроена иначе, чем европейская. К примеру, пишущий на фарси поэт сочиняет газель (стихотворение), состоящее из восьми двустиший (бейтов), в каждом из которых он на разные лады говорит о любви. Вот бейт:
Ты поднимаешь чадру, И я умираю от восторга.В оригинале эта фраза разбита на две рифмованные строки, записанные на бумаге каллиграфическим почерком. Сама по себе каллиграфическая запись является произведением искусства, уж не говоря о певучести сквозной рифмы, тянущейся сверху вниз по всей длине газели. Но европеец воспримет такое объяснение в любви как банальную фразу. А носитель фарси уловит по меньшей мере три смысла, выраженные одновременно в двух строках. Секрет таится в ключевом слове, каковое означает не только чадру, но и занавеску в бане, и тайну бытия. И любовное объяснение окажется обращенным не только к юной красавице или прелестному отроку для сексуальных услуг, но и к самому Аллаху. Мир в восприятии слушателя заполыхает всеми красками жизни, сладостной, грешной и религиозной. Как тут не прийти в исступление? Они и приходили. А перед нами раскрылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. И через эту пропасть, разделяющую менталитета, нам предстояло перекинуть хлипкий мостик даже не перевода, а приблизительного переложения. Мы, что называется, засучили рукава и давай сколачивать этот самый мостик, заведомо зная о жалкой тщете наших усилий. Решили, что нужно переводить все обнаруженные нами смыслы, даже если текст удлинится минимум в три раза. А чтобы не было претензий со стороны знатоков, поместить в книге оригинальный текст на фарси. И подумать, нет ли вертикальной связи между бейтами. Мы целыми днями корпели над загадочными стихами. За шесть часов работы из каждого двустишия в среднем получалось шесть русских строк. На этот раз Ламара Капанадзе приняла у моей подруги рукопись, а подруга снова подарила мне коричневую шелковую косынку.
Приходит корректура, а на титульном листе красуется фамилия научного руководителя диссертантки. Моя же ютится на последнем листе, где указаны корректор и техред. Что ж, понятно, научный шеф — фигура для защиты необходимая.
— Ладно, — говорю я подруге.
— Свои люди — сочтемся. Черт с ней, со славой. Заплати хоть гонорар.
— Сколько?
— Ну, половину твоего.
— Нет, — говорит она. — Не заплачу.
— Почему? — спрашиваю.
— Потому, — отвечает она. — Если заплачу, то буду знать, что купила у тебя перевод.
Я с ней поссорилась на всю жизнь. А шелковую коричневую косынку затолкала в мусорное ведро.
Как я познакомилась с Хаксом
Ира Белоконева вышла замуж за известного писателя-антифашиста Штефана Хермлина. Он был на двадцать лет старше Ирины, но так хорош собой, вальяжен и начитан, что даже родители Ирины примирились с ее оригинальным выбором и будущим отъездом в ГДР. Штефан томился в Москве в ожидании разрешения на брак, и однажды Ирина притащила его в гости к нам с Фредом, на Сретенский бульвар. И тут я его спросила, кого он считает лучшим драматургом ГДР. И он назвал мне имя: Петер Хакс. Имя ничего мне не сказало, я пошла в библиотеку и нашла пьесу «Мельник из Сан-Суси».
Историю про этого Мельника знает каждый немецкий школьник. Его мельница стояла в парке дворца Сан-Суси и слишком громко хлопала крыльями. Король решил ее снести, но Мельник подал на короля в суд, выиграл тяжбу и воскликнул: «Есть еще честные судьи в Берлине!» Такой вот был справедливый прусский суд, такой героический Мельник и такой законопослушный король.
У Хакса эта история выглядит так. Процесс был нужен Фридриху, чтобы доказать русской царице и французскому королю, то есть Европе, как прекрасно ко всеобщему благу действует только что изданный им свод законов «Кодекс Фридериканус». Мельник вовсе не жаждал судиться с его величеством, а, напротив, упирался, сколько было его слабых сил. Король подослал к Мельнику своих сановников, и те старательно отрепетировали с беднягой роль свободного гражданина в свободной стране.
И все шло хорошо и по плану, но на заседании суда. У Мельника сдали нервы. И, не успев произнести знаменитую заключительную реплику: «Есть еще честные судьи в Берлине!», выигравший тяжбу Мельник падает на колени и ползет к королю, чтобы поцеловать августейший сапог.
Впрочем, все это не имеет никакого значения, потому что листовки с судебным отчетом заготовлены за ранее и вся Пруссия и вся Европа оповещены о сенсационном окончании процесса. То есть о блестящей победе Мельника. Одержавшего победу Мельника Фридрих без всяких хлопот разоряет, так что мельница перестает хлопать крыльями и тревожить сон его величества.
Короче говоря: «Брехт умер, да здравствует Хакс!» Я перевела пьесу.
Тут как раз издательство «Искусство» собралось издавать сборник «Драматургия ГДР», и Валентин Иванович Маликов предложил мне заняться его составлением. Я согласилась с условием, что включу в книгу «Мельника». Маликов условие принял, но Хакс у себя в ГДР ввязался в какой-то конфликт с идеологическим руководством, и «Мельник» чуть не вылетел из сборника. Но тут уж я уперлась и ценой титанических усилий настояла на своем. Книжка вышла в свет, и я, необычайно гордясь собой, при первой возможности привезла ее в Берлин. Ирина упросила Штефана, Штефан позвонил Хаксу, Хакс согласился принять меня.
Полчаса в глубоком трепете и ожидании назначенного времени я брожу по Шенхаузераллее, представляя себе Хакса таким, каким его на картинке в календаре на 1972 год изобразила Хейдрун Хегевальд: старик с высоким лбом, огромным носом, холодными глазами и кривой улыбкой чувственного рта. Гете — не Гете, но вроде того. Я звоню, поднимаюсь на пятый этаж, дверь открывает какой-то парень в рубашке апаш и зеленых вельветовых брюках, красивый, любезный, бешено элегантный. Сын? Внук?
— Могу я видеть господина Хакса? — робко вопрошаю я.
— К вашим услугам, — смеется парень.
Ах, черт. Ведь он же с 28-го года. Могла бы и сама подсчитать. Ему сорок четыре. Выглядит на тридцать.
По длинному коридору (сколько же здесь комнат?) он ведет меня в гостиную. Боковым зрением я фиксирую камин, письменный стол красного дерева, множество картин на стенах. На обеденном овальном столе
сияет золоченый самовар и красуется вазочка с крохотными флорентийскими печеньями. Супруга господина Хакса, фрау Виде, пышная красавица в роскошном туалете, усаживает меня в смешное (с ушами) вольтеровское кресло.
— Вам с коньяком? Или с водкой?
— Чай с водкой. Ох уж эти мне немцы.
— А я представляла себе вас как на том шарже.
— Ах, эта Хейдрун! Злая коза, — хмурится фрау Виде.
Ни ей, ни мне не пришло тогда в голову, что через каких-нибудь тридцать лет портрет станет очень похожим на оригинал.
И вот я сообщаю великому драматургу о своей великой пред ним заслуге.
«Мельник из Сан-Суси»? — спокойно переспрашивает Хакс. — Das ist doch eine Nebensache.
К тому времени, когда мне удалось впервые попасть в Берлин, он уже вышел из брехтианского возраста и считал «Мельника» безделицей, мелочью, второстепенной вещью. Пока я пробивала ее в печать, он успел написать «Морица Тассова», «Магариту в Эксе», «Нуму», «Мир. По Аристофану», «Амфитриона», «Омфалу». И много чего еще, в том числе лучшую свою пьесу — комедию «Адам и Ева». То есть обеспечить меня работой на всю оставшуюся жизнь.
Опасные связи
Библиотека иностранной литературы издавала бюллетень «Современная зарубежная драма». Он печатался тиражом в десять (или двадцать?) экземпляров и отправлялся в ЦК партии. Где его никто никогда не читал. А между тем работа была организована весьма недурно. Сотрудники библиотеки аннотировали все поступавшие в библиотеку новинки зарубежной драматургии за отгулы. Внешние авторы — за смешные гонорары. Но главным стимулом была возможность быть в курсе, право первой ночи. Постепенно у каждого рецензента сложился свой круг авторов. Меня, например интересовал Хакс. В 1974 году он написал пятиактную монодраму с длинным названием «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете». Пятиактная монодрама — сама по себе уникум. А тут еще такой всемирно значимый сюжет: история десятилетних странных отношений между супругой веймарского шталмейстера и молодым Гете.
И так она мне понравилась, что я перевела ее сразу и с ходу. И включила «Разговор…» в сборник пьес Хакса, выходивший в издательстве «Искусство». Составляла сборник я, а редактировал Карельский.
Прочтя мой перевод, Карельский пришел в ужас. Он предложил столько правок, что я предложила ему соавторство. На что он с радостью согласился. К моему изумлению. Потому что он любил романтиков, а к классикам, даже к неоклассикам (а тем более к социалистическим классикам) был равнодушен.
Оказалось, что я, всеми силами стараясь сделать фразы покороче, поемче и поудобнее для произнесения со сцены, просто не заметила изысканной стилизации текста. Обошла, например, трудности, связанные с употреблением старомодных формул учтивости, разорвала витиеватые пассажи на простые предложения и таким образом до неприличия модернизировала и героиню, и ее роман с юным дарованием, то есть с будущим олимпийцем.
А роман-то был загадочный и никому не понятный. О нем стало известно из переписки между Гете и госпожой Штейн. После смерти Гете переписка была опубликована, но не вся, а только наполовину. Свои письма госпожа Штейн уничтожила, но письма Гете для потомства сохранила (примерно 1600 единиц хранения). Немецкие литературоведы набросились на этот архив, как старатели на золотую жилу. Не тут-то было. Все выдвигали гипотезы, но главный вопрос так и остался открытым. Что там между ними было? Или не было?
Петер Хакс
Монодрама Хакса отвечала на этот вопрос так. Молодой Гете приезжает в Веймар, где в течение десяти лет делает блестящую придворную карьеру, чему немало способствует фрейлина и фаворитка вдовствующей герцогини Анны Амалии Саксен-Веймарской и Эйзенахской, эта самая фрау фон Штейн. Она становится его музой, прививает хорошие манеры, вдохновляет на написание знаменитой драмы «Торквато Тассо» и множества стихотворных шедевров. А Гете вдруг срывается с теплого места и без предупреждения уезжает, даже бежит в Италию, оставляя бедняжку в полном недоумении относительно своих будущих жизненных планов. Госпожа Штейн изливает свое горе безучастному супругу (роль коего исполняет сидящее в кресле чучело с трубкой). И по ходу ее монолога, а именно в конце четвертого акта, выясняется, что она очень долго заставляла поэта домогаться своего благоволения, а когда решилась его подарить, было уже поздно. Поэт скиксовал. Не принял ее дара. То ли выпил лишнего, то ли охота прошла. Описывая эту сцену, госпожа Штейн заикается и произносит комичный глагол beglückert. В словаре его нет и быть не может. Хакс образовал его из двух других — beglücken (осчастливить) и bekleckem (обгадить).
Мы с Карельским спорили часа два в поисках компромиссного решения проблемы. Карельский считал, что Гете «взошел», а я — что «не взошел».
Вот что у нас получилось:
«Да, Штейн, с этим мужчиной, с этим поэтом в ту ночь на десятое октября восьмидесятого года впервые в моей жизни я испытала истинное… убиение… убоение… Иосиас Штейн, я оговорилась. Я хочу сказать, с этим германским гением в ночь на десятое октября я испытала истинное упиение…»
А вот мой вариант (подсказанный, честно признаюсь, актрисой Ариной Ардашниковой, которая в безумные времена перестройки умудрилась сыграть эту пьесу):
«Да, Штейн. Этот мужчина, этот человек, этот поэт в ту ночь на десятое октября восьмидесятого года впервые в моей жизни меня облагоделал… то есть обгальделил…. Иосиас Штейн, я оговорилась. Я хочу сказать, этот германский гений в ночь на десятое октября восьмидесятого года невыразимо меня обдельгадил…»
Проходит несколько лет со смерти Хакса, и в Германии учреждается Академия Анны Амалии, и один из академиков, итальянец Этторе Гибеллино, публикует статью, из коей следует, что Гете и впрямь не взошел. Но не по пьянке и не по слабости плоти или духа. А по куда более весомой причине. А именно по той, что эта госпожа фон Штейн была всего лишь ширмой, за которой скрывалась великая и спасительная любовь к германскому гению со стороны самой вдовствующей герцогини Анны Амалии. Современники считали ее старухой, а ей было всего-то тридцать семь лет. И это она назначила поэту пожизненное содержание, и назначила его директором театра, и придворным аниматором, и премьер-министром, и прощала ему все эскапады, и отослала его в Италию во избежание назревающего при дворе скандала. В самом деле, в те времена только любовь просвещенной государыни могла спасти гениального поэта от злобы современников. Да и то не всегда. Вот вам и «Торквато Тассо».
Берлинские хаксиане не одобряют этого открытия. И его автора Этторе Гибеллино. Как литератор он не идет ни в какое сравнение с Хаксом. Но в сущности, подтверждает его правоту. Думаю, Гете стоило немалых усилий не принять дара, предложенного госпожой Штейн. Ведь вполне возможно, что она была влюблена в него не меньше, чем Анна Амалия. Трудно устоять перед обаянием такой неотразимой личности. И тот трагический монолог, что приписал ей Хакс, ничуть не теряет своей убедительности в свете новейших научных открытий.
Филоктет
Про Хайнера Мюллера я прочла у Хакса в апологетическом эссе 1956, по-моему, года. Мюллер написал пьесу под названием «Филоктет», а Хакс отозвался о ней в том смысле, что «эта совершенная трагедия имеет совершенную структуру и написана совершенным языком». Ну, думаю, это каким же надо быть гением, чтобы такой гений, как Хакс, разразился про сплошное совершенство. Раздобыла я «Филоктета» в старом номере «Зинн уНД Форм», прочла и восхитилась не меньше Хакса. Все вроде бы по Софоклу: греки едут воевать Трою, филоктет у них в авторитете, везет с собой полк мирмидонян. Приплывают они на остров Лемнос, там безлюдье, жарища, коршуны летают, начинается противный ветер, нужно приносить жертву не помню какому из злокозненных божеств, герой Филоктет делает свой знаменитый шаг к алтарю, приносит жертву, и тут изпод алтаря выползает ядовитая змеюка. Она его кусает, нога нарывает и воняет, товарищи-соратники зажимают носы и уплывают воевать Трою. А беднягу Филоктета подло бросают на жутком Лемносе. Он живет там один как перст, в обществе коршунов. У него волшебный лук и стрелы, он питается коршунами, а коршуны только и ждут, как бы сожрать его. Ясное дело, весь сюжет про энтузиастов и героев первого призыва и их исключение из партии. Пламенный привет от всех старых большевиков, уклонистов и наивных гнилых интеллигентов, отправленных в лагеря, казненных и преданных своими номенклатурными соратниками. Из этого «Филоктета» (да еще из «Амфитриона» Хакса) выросла вся дивная немецкая неоклассика. И вся она про дела партийные и развитие победоносного социализма. Спасибо Карлу Марксу, который удостоил благосклонным отзывом Античность, дескать, золотое детство человечества. Так что древнеримские греки вошли в образовательный канон, и все социалистическое население с ходу разгадывало намеки. А партийные бонзы морщились и глотали. Классика плохо поддается запретам.
Хайнер Мюллер
Я этот текст попыталась перевести, хотя в нем ни единой запятой, лишь несколько точек на все три акта. А между строк такое мощное излучение, что мне пришлось для начала переложить текст русской прозой. И получилась сплошная нецензурная брань, мат, короче говоря. И тут меня осенило, я наконец поняла, почему знаки препинания Мюллеру даром не нужны. У него каждая строка закончена, влезаешь в размер, фраза готова, запятая не нужна, только тормозит.
Когда Ирина Белоконева познакомила меня с Хайнером, я рассказала ему насчет запятых и мата. Он все сразу понял и одобрил. Вот только перевод никак не мог попасть в печать. То есть попадал, но как-то боком. Сначала только один акт в учебном пособии для германистов. Зато это был третий акт, не такой, как у Софокла. У греков в этом мифе хеппи-энд. На Лемнос прибывают Одиссей и Неоптолем, сын Ахилла, они хотят отобрать у Филоктета лук, без которого им не одолеть Трою. И собираются беднягу убить, тем более что он воняет и ненавидит их. Но тут с небес, то есть из машины, спускается бог, а именно Геракл, и наводит полный порядок. Он велит грекам забрать Филоктета (вместе с его оружием, разумеется) в Трою, где его вылечит Асклепий, после чего греки одержат победу и останутся в истории, описанной Гомером. А у Мюллера финал трагичный. Номенклатурные соратники хитростью выманивают лук, убивают старого большевика и отправляются в Трою, с трупом Филоктета. Там они расскажут ахейцам, что смерть Филоктета — дело рук троянцев. Так что нужно за него мстить. И пусть проклятый Илион исчезнет с лица земли. Что и произошло на самом деле, если верить Шлиману.
Потом полный текст опубликовал журнал «Современная драматургия» таким маленьким тиражом, что мне не досталось даже одного экземпляра. К тому времени Хакс и Мюллер публично разругались, разойдясь в оценке развитого социализма, и не стало у ГДР вторых Диоскуров. Прогрессивный Запад объявил Хаксу бойкот, а Хайнера провозгласил самым гениальным из осей, то есть восточных немцев, граждан ГДР. Хайнер прославился на всю Европу, выступал по западному телевидению и приветствовал объединение. Хакс писал в Берлине ядовитые эпиграммы и предрекал полную моральную деградацию и исламизацию Германии.
В перестройку Хайнер приезжал в Москву и выступал в Доме художника. Книжка с переводами его пьес и эссе уже тогда была совсем на мази, прошла редактуру и корректуру и прямиком вылетела из издательского плана издательства «Радуга» как некоммерческая, неактуальная и совершенно никому в России не нужная. Впрочем, оставалось еще несколько чудаков, которые об этом сожалели: составитель Володя Колязин, редактор Нина Федорова и переводчики, в том числе и я. Мы с Ниной махнули на это дело рукой. Но Колязин! Двадцать долгих лет он прилагал титанические усилия, дабы извлечь из небытия подписанный в печать сборник Хайнера Мюллера. За это время Мюллера даже сыграли на отечественной сцене, а именно «Медею» и «Квартет». Сыграла Алла Демидова, единственная из всех российских актеров воспринимающая его поэтику. Она гастролировала с «Медеей» по Европе и имела большой успех. Но что толку? Мы ведь не Европа. Ну вот, вышел этот толстый том, безупречно изданный, в прекрасном твердом переплете с великолепным портретом Хайнера на обложке: огромный лоб, громадная сигара, интеллектуальные очки, сексуальные губы, одухотворенный взгляд. И кому все это теперь нужно? Предприимчивые потомки номенклатурных ахейцев, отменив развитой социализм, постановили, что Маркс безнадежно устарел. Из населения напрочь вышибли все образовательные каноны, пиетет к античности и уважение к классике. Никому больше не интересно ее играть-ставить-читатьосмыслять. На что она годится? Разве на то, чтобы сделать из нее порно. Когда книжка вышла из печати, Колязин сунулся было в Гете-Институт с предложением устроить презентацию. Дескать, во времена воссоединения Хайнер Мюллер котировался в ФРГ как великий поэт Германии. Не тут-то было. Директор Гете-Института решительно этому воспротивился. И привел неотразимый аргумент:
— Сейчас идет год германо-российской дружбы, и план мероприятий уже сверстан.
Чем-то мне этот Филоктет с его смертоносным луком и стрелами напоминает Андрея Дмитриевича Сахарова.
Испанские сувениры
Министерство культуры РСФСР организовало для своих сотрудников туристическую поездку в Испанию. Предводительницей группы была назначена наша директриса Таисия Александровна Кудрина. Она имела славное комсомольское прошлое и степень доктора исторических наук. Глубоко изучив культурное развитие родного Ставрополья и доказав в своей диссертации несомненные его успехи, она переехала в Москву, где и возглавила единственный на всю страну НИИ культуры. Таисия Александровна пользовалась бесспорным авторитетом у культурного начальства, так как доверенный ей институт весьма эффективно замерял культурный уровень русского села. Уровень замерялся по значимым параметрам, таким, например, как количество клубов и кинотеатров, число посадочных мест в этих клубах и кинотеатрах, число проводимых мероприятий, самодеятельных коллективов, массовиков и затейников, балалаек, баянов и пр. Он неизменно признавался высоким и постоянно повышался. Однажды на заседании ученого совета нашего НИИ я предложила при замерах вышеупомянутого уровня учитывать данные о распространении алкоголизма и преступности в сельских районах. На заседании присутствовал замминистра, и я до сих пор удивляюсь, что еще жива. В отличие от замминистра Таисия была умна, она справедливо приписала мою самоубийственную бестактность моей беспримерной наивности, свернула тему и спасла меня от безвременной гражданской смерти и увольнения.
Вообще, наши с ней отношения сложились не сразу, но к тому времени вполне устаканились. Узнав о том, что она отправится в страну, где ночь лимоном и лавром пахнет, я попросила захватить и меня. И обещала по такому поводу выучить испанский. У меня имелся начальный курс на трех виниловых пластинках, и времени оставалось целых три месяца. Свободного места в группе, разумеется, не было. Но в самую последнюю минуту перед оформлением тура кого-то забраковали, и Таисия включила меня в группу. Я быстренько (подробности сложной процедуры получения денег в количестве двухсот песет я здесь опускаю) сунула в чемодан испанский словарик, надела зеленую штормовку эпохи целины и явилась в аэропорт. Дамы из министерства все как одна красовались в оранжевых и желтых брючных костюмах из кримплена (он тогда только-только входил в моду). Появление инородного тела в потертой штормовке вызвало у них культурный шок, они едва кивнули в ответ на мое радостное приветствие и отвели мне самое последнее место в свите предводительницы. Что меня, конечно, вполне устраивало. Тем более что в группе кроме меня оказалась еще одна сотрудница нашего института, Ольга Балдина, мало того что писаная красавица, но к тому же еще и контактная, и умница. Так что мы всю дорогу держались вместе, отнюдь не страдая от своего ущемленного социального статуса. По пути в Мадрид самолет делал остановку в княжестве Лихтенштейн. Там был крошечный аэропорт, а в нем буфет величиной с кухню в небольшой коммуналке. В буфете сверкали лампы, сверкали пол и потолок, столы, стулья, полки и хрустальные бокалы и винные и пивные бутылки на этих полках.
Кроме нашей группы, никого в помещении аэропорта не было. И вот мы стоим у столов посреди буфета, пялимся на западное великолепие и стоя вкушаем положенный завтрак: бутерброды с анчоусами, кажется, и томатный сок. Сок там подают в граненой бутылочке зеленого стекла. И бутылочка эта так хороша, так изящна и притягательна, что Таисия тихо говорит мне:
— Прикройте меня. Я ее вынесу.
— О нет! — ужасаюсь я. — Ни в коем случае. Я сама ее вынесу. А в Москве отдам вам.
И вместо того, чтобы спокойно швырнуть сувенир в мусорную корзину, я тайно вынесла его из буфета. И никто не обыскал меня при выходе. А в Москве я вымыла драгоценный сувенир и преподнесла его благодетельнице.
Мы путешествовали по Золотому кольцу вокруг Мадрида, посетили дворец в Эскуриале и музей Сервантеса, Толедо, Авилу, Саламанку. В каждом городе имелись прямая главная улица и квадратная главная площадь где в прежние времена устраивали корриду. Каждый вечер после сиесты испанцы отправлялись на гулянье по главной улице к главной площади. У нас когда-то тоже происходило нечто подобное. До войны и лет десять уже после войны москвичи вечерами фланировали по улице Горького (Тверской), чего сейчас невозможно себе представить. Правда, на Тверской бывало тесновато, подчас холодновато и не совсем безопасно. А здесь всегда тепло, красиво и как-то уютно. Все испанцы казались грандами и кабальеро. Все испанки были одеты по тогдашней моде — в серое и темно-зеленое и носили белые манжеты и воротнички. Нам попалась на глаза всего одна девушка в броском туалете, но гид сразу же предупредил, что это — особа дурного поведения. Желтые кримпленовые костюмы наших дам выглядели на этом фоне, мягко выражаясь, сомнительно. Зато моя потрепанная штормовка времен целины воспринималась как привет от Фиделя. В отеле одна пожилая пара из Аргентины даже поинтересовалась у меня: «Синьора тоже приехала на старую родину?» Вот это был комплимент!
Короче говоря, Испания меня очаровала. Я сразу именно так себя и почувствовала. Как будто приехала на старую родину. И это, несмотря на то что капитала у меня (как и у всех) имелось всего 200 песет, которых не хватило бы даже на… да что говорить. Ну вот, фланируем мы с Ольгой Балдиной по главной улице Саламанки, глазеем на цены, любуемся белыми королевскими мебельными гарнитурами, антиквариатом, серебряной утварью и дорогой обувью в витринах. И из чистого любопытства забредаем в какой-то бутик. А в бутике имеется большое зеркало. А перед зеркалом стоит и охорашивается Таисия Александровна в стеганом розовом халате. Она охорашивается, а вокруг нее восторженно охают и ахают пять или десять дам из министерства, составляющие ее свиту. Налюбовавшись на свое отражение, мадам повелительным жестом указывает продавщице, чтобы та завернула покупку.
Я соображаю, что наша королева красоты готова совершить непоправимый faux pas. Приближаюсь к ней с тыла и шепотом вопрошаю:
— Таисия Александровна, вы приценились?
— Ну здесь же написано — пятьдесят четыре! — отвечает счастливая мадам.
— Где?
— На коробке! — недоумевает мадам.
И тут я вынуждена вонзить ей в грудь кинжал. По самую рукоятку.
— Это размер, — шепчу я. И задаю продавщице сакраментальный вопрос: — Quanto questa?
Халатик стоит 2500 песет. Чтобы его приобрести, нужно сложиться всей свите. И то не хватит. И свита вдруг вся испарилась. Остались в бутике только мы с Ольгой да мадам. Я ей шепчу:
— Снимайте его.
Тут нужно отдать должное ее феноменальной выдержке. Она таким же королевским жестом сбрасывает халат, как какую-нибудь мерзкую лягушачью кожу. А я, гордясь своим глубоким знанием испанского, вдохновенно лгу продавщице:
— Le ne va bien esta cosa. Он ей не идет.
Нашего гида звали Сезар, а шофера — Антонио. Цезарь и Антоний. Цезарь был худенький, тоненький изящный, носил строгий синий костюм и смотрел на мир печальными серыми глазами из-под длинных черных ресниц. Антоний был коренастый крепыш с кривоватыми ногами кавалериста и прямой спиной. Сначала я подумала: «Вот это осанка!» А потом сообразила: «Да это выправка! Служба безопасности есть везде, не оставлять же без надзора целую группу подозрительных гостей из непредсказуемого Советского Союза».
Роль Клеопатры при таком раскладе досталась красавице Ольге, а мне досталась важная, возможно, ключевая роль переводчика. Приехали мы в город Толедо, остановились в отеле имени знаменитого короля-звездочета Альфонса Десятого, поужинали. Мы с Ольгой собрались подняться в свой номер, но испанцы под караулили нас в холле и пригласили на дискотеку. Мы с Ольгой пришли в ужас. Как это мы, идеологически выдержанные советские женщины, попремся куда-то через весь город, в какой-то шалман, где сверкают пестрые огни и разнузданная толпа под звуки непристойной музыки предается безудержному веселью. Но соблазн был слишком велик, и мы несколько растерялись, затрудняясь с ответом. Испанцы стали нас уговаривать. Дескать, они просто приглашают нас немного потанцевать и обещают через часок доставить в отель в целости и сохранности. Внимательно оглядевшись и не обнаружив в холле ни мадам, ни министерских дам, мы малодушно согласились. Трусливо рискнули.
— Ладно, — говорю. — Так и быть. Едем. Vamos.
— Нет, — отвечают испанцы. — Там закрыто. Cerrado.
Мы облегченно вздохнули:
— Ну, значит, не едем. No vamos.
— Нет, — возражают испанцы. — Едем. Vamos.
Мне понадобилось минут этак пять, чтобы сообразить, что дискотека закрыта, но скоро откроется. И что испанцы будут ждать нас через час. На этом самом месте.
Мы с Ольгой поднялись в номер. Час ушел на то, чтобы подкраситься и надушиться. Я надела куртку, Ольга плащ, мы спустились в пустой холл, появились испанцы и с ходу стали нас уговаривать, чтобы мы разделись. То есть не догола, а просто сняли верхнюю одежду. Мы испытали очередной шок. Ну как это гулять поздним вечером по незнакомому городу в раздетом виде. Мало ли как будет воспринято подобное легкомыслие нашими спутниками и местными жителями. Мы уперлись. Или мы отправляемся в рискованное путешествие в полной экипировке — или остаемся. Испанцы грустно переглянулись и уступили. Мы вышли из отеля, закрыли за собой тяжелую надежную дверь, прошли два шага и открыли соседнюю дверь. Такую же тяжелую и надежную. И очутились в соседнем здании того же отеля имени Альфонса-звездочета, где и размещалась искомая дискотека.
Гардеробщица встретила нас приветливой улыбкой, приняла плащ и куртку, испанцам пришлось заплатить шесть песет за обслуживание, в дискотеке играла тихая ^зыка, по потолку скользили слабые огоньки, у стойки скучал бармен. И не было никого, ни единого посетителя. Мы были первыми и последними.
Пожалуй, это был самый приятный вечер из всех, проведенных мною в ресторанах. Пока Ольга с Антошей тихонько танцевали, мы с Цезарем тихонько болтали за бокалом испанского вина. О смысле жизни и вообще. Я даже умудрилась сформулировать по-испански глубокую мысль о том, что судьба мира в руце Божьей. Е1 destino del mundo esta en las manos de Dios. Цезарь проникся ко мне искренней симпатией. До нашей беседы он не допускал и мысли, что в Советском Союзе бывают люди, которые допускают существование Бога.
Я заметила, что, хотя Цезарь был хилый и тщедушный и немного шепелявил, было в его манерах нечто такое, из-за чего встречные гиды всегда притормаживали, чтобы раскланяться. Идя рядом с ним по улице, мы с Ольгой испытывали чувство превосходства над прочими дамами, прежде совершенно нам неведомое.
Цезарь нас просвещал. После этого вечера он несколько раз водил нас по музеям и монастырям, не включенным в программу, а однажды ночью повел в испанское кафе, где собираются только мужчины и только из данного квартала. И здесь, как и везде, при виде Цезаря мужики благожелательно с ним поздоровались и тактично возобновили свои политические споры, не фиксируя внимания на нашей троице.
— Представляю, что сказало бы мое начальство, узнав о наших с вами ночных прогулках, — заметил Цезарь.
— И что оно сказало бы?
Что две советские извращенки соблазняют наивного испанского мальчика.
Ему, например, не нравились голубые и розовые краски Эль Греко, а нравились сложные сероватые тона строгого Веласкеса. Танцоры фламенко, от которых мы пришли в восторг, вызвали у него лишь пренебрежительную усмешку.
— Эти не настоящие, — шепнул он. — Дешевка. Мы обиделись.
— А тебе нравится балет Большого? — парируем мы
— Да, очень. «Лебединое озеро».
— Ну вот, а нам уже нет. Позапрошлый век.
Накануне отъезда он предложил нам внепланово посетить корриду. Дамы из культурного министерства категорически отказались. Им, видите ли, было жалко бедных бычков, обреченных на заклание.
— Я вегетарианец, — возразил Цезарь. — А вы, как я заметил, с большим аппетитом едите мясо. Те бычки, которых вы поглощаете, для того и выращены в стаде, чтобы умереть на бойне. А те, что участвуют в корриде, растут на свободе и имеют шанс с честью умереть в бою. Все испанское здравоохранение содержится на доходы от корриды.
Дамы подумали, посовещались и согласились. Я собрала у них последние песеты и вручила их Цезарю, чтобы он купил билеты на самые дешевые солнечные места в самом последнем верхнем ряду арены.
Коррида всех впечатлила. Меня, в частности, тем, что я первый и последний раз в жизни наблюдала, так сказать, дистиллированную мужскую смелость. Смелость как бы возникала в узком пространстве между матадором и несущимся мимо обезумевшим зверем. Чем меньше расстояние, тем ощутимее для зрителя источаемая матадором отвага.
На следующий день мы распрощались и с Антошей, и с Цезарем и уселись в автобус, направлявшийся в аэропорт. В самую последнюю минуту дверь автобуса приоткрылась, Цезарь окликнул меня и Ольгу и вручил нам два больших белых пластиковых пакета.
— Вы забыли это в номере, — сказал он так, чтобы было слышно культурным дамам.
Ничего мы не забыли. В пакетах были его прощальные сувениры. В моем я обнаружила флакон дорогущих духов и томик стихов Лорки. На странице 16 стоял штамп городской библиотеки Севильи.
Культурный шок
Таисия Александровна ушла, успела вовремя соскочить с подножки сошедшего с рельсов трамвая. Появился новый директор. По фамилии Чурбанов и по кличке Нашгитлер. Он уже прославился тем, что поувольнял всех сотрудников из учреждений, где раньше директорствовал. НИИ культуры приказал долго жить. Агония его была отвратительной. Всех вызывали на заседания профкома, и профком, превратившийся в свору озлобленных псов, кусал каждого до тех пор, пока истекающий обидой и стыдом сотрудник не скукоживался окончательно и не писал требуемое заявление по собственному желанию. Сто сотрудников, вполне, казалось бы, интеллигентных и благопристойных, в страхе перед потерей работы впали в состояние глубокой истерии, возненавидели друг друга, перестали раскланиваться, начали непристойно заискивать перед новым начальством и ровно ничего не делали, а только дрожали, перешептывались и лили друг на друга совершенно непотребную грязь. Каждый надеялся удержаться, зацепиться, перетоптаться любой ценой. Всех пусть увольняют, а меня пусть оставят. Продолжалось это с полгода. Поначалу мы еще брыкались.
Через полгода все, один за другим, покинули институт. Но пока это длилось, ситуация казалась дикой, нелепой, непостижимой. За что? Почему? Почему меня? Почему не ее? Не его? Наш сектор информации пошел под нож одним из первых.
Сектор информации (четыре дамочки средних лет, семейные, детные, старательные, образованные и дисциплинированные) был выселен из занимаемого им закутка. Новый директор приказал завхозу сбросить в подвал все наши материалы, а нам являться каждый День в присутствие, где мы по восемь часов подпирали стенку. Так и стояли до окончания рабочего дня, а все, кто еще оставался в институте, шмыгали мимо, делая вид, что нас не замечают. Между прочим, мы выдавали каждый год по сто двадцать печатных листов переводов с Двенадцати языков (а весь институт сотворял только двадцать). Мы переводили интереснейшие публикации по социологии культуры, по музееведению, про парковое искусство, про охрану памятников архитектуры про консервацию и реставрацию живописи, про способы экспонирования музейных ценностей и т. п. Другое дело, что плоды наших усилий в виде тетрадочек, аккуратно напечатанных на машинке и бережно переплетенных, никого в министерстве не интересовали. Я думаю, они не повлияли ни на одно министерское решение. Если ими кто-то и пользовался, то только заказчики — разные там доктора-кандидаты из разных НИИ для написания своих отчетов и диссертаций. Так что какой-то толк от наших переводов был. Но, так сказать, эфемерный. Кому нужна гуманитарная наука? Институт культуры третьей категории. Какая культура, такая категория. Но нам наше дело нравилось. И особенно нравился режим работы, позволявший худо-бедно заботиться о семьях. А что зарплата третьей категории, то ведь зато интересно работать. Мы сопротивлялись незаслуженному увольнению. Я даже проникла на прием к товарищу Жуковой из ЦК партии. Наш институт входил в сферу ее компетенции, и я попыталась объяснить ей, что изучение культуры без обмена информацией с окружающим нас внешним миром невозможно. В ответ она открыла шкаф, стоявший в ее кабинете, и предъявила мне проект усовершенствования нашей службы, в котором я без труда узнала собственную мою докладную записку, разве что немного подпорченную: у меня круговорот информации в культуре был представлен в сферическом варианте, а у нее в виде этаких квадратиков. Потом она заверила меня, что все будет тип-топ, а на следующий день приехала в институт и прошла мимо, демонстративно не замечая нас, подпирающих стенку. Как и все прочие. Разведка донесла, что у нее с нашим новым директором были самые теплые отношения.
Деваться было некуда. Мы целый день стойко держались у стенки, а по вечерам вызванивали знакомых в поисках выхода (то есть работы). Из этого получились стишки:
Под мостом у тихой речки На лугу паслись овечки. Солнце, воздух, благодать… Им бы прыгать да скакать. Но беда тут приключилась: Их пастушка отлучилась. А коль нету пастуха, Далеко ли до греха? Тут пастух явился новый: Бледный, нервный, нездоровый. Увидал овец — и в крик: Всех порежу на шашлык! Вы не чесаны, не мыты, Вы не стрижены, не бриты. Вот вам бритвы и ножи, Бей, стриги, души, круши! Вот так новости науки. Мы такой не знали штуки, Чтобы овцам стричь себя же! Это очень странно даже. Мораль: Разве овцы виноваты, Что пастух был бесноватый?В конце концов, мы разбежались. Кто куда. Мне невероятно, дико, непредставимо повезло. Я попала в издательство «Искусство», к Вале, Валентину Ивановичу Маликову, лучшему в мире заведующему отделом, в нормальные условия, в интеллигентную среду, где делали настоящие книжки. Наш отдел, например, издавал драматургию: Эсхила, Софокла, Еврипида, Плавта, Аристофана, Сенеку, Мольера, Расина, Корнеля, Шекспира, Шиллера, Гете, Гольдони, немецкие шванки, португальскую драму, бельгийскую драму, норвежскую Драму, хрестоматийную русскую драму: Пушкина, Грибоедова, Островского… Советских драматургов. Французский бульвар. Японскую драму. Все книжки были тогда дефицитом, за ними охотились, их перепродавали втридорога. За ними стояли в очередях. Я словно попала из ада в рай. На работу — как на праздник. И с работы домой — тоже как на праздник. И вот иду я как-то с работы, такая вся счастливая, по Тверскому бульвару подхожу к Пушкинской площади, а там на дереве сидит Новодворская, вокруг нее кольцо ментов, они пытаются стащить ее с дерева, а она не дается и кричит им сверху что-то такое диссидентское. А я, такая вся счастливая, иду мимо. Меня это не касается, она просто чокнутая. Мелькнула, правда, мыслишка о том, что забраться на дерево не так-то легко, что для этого не только ловкость нужна, но и изрядная доля гражданского мужества. Но до чего же не хотелось признавать, что с ней там, на дереве, происходит то же самое, что с нами у стенки. Откуда мне было знать, что она кричит о конце культурной эры, о том, что вскоре от нашего издательства останутся только воспоминания и авторские права, которые присвоят перестройщики, в жизни не отредактировавшие ни единой строчки.
Она умерла в июле 2014 года. Я всегда воспринимала ее как бесстрашную старуху. А она была моложе меня на четырнадцать лет. Вот кто была настоящая героиня драмы. Русская Пассионария. Наша Орлеанская дева.
Маликов
Комитет комсомола на факультете никогда не пустовал. Там почти всегда торчал секретарь, худющий молчаливый парень, который редактировал очередной номер факультетской газеты «Комсомолия». Я думала, что его зовут Артур Ермаков, и однажды, во время сборов на целину, учинила ему скандал из-за какой-то справки. Он внимательно выслушал, как я разоряюсь и качаю права, а потом спокойно объяснил, что он не Ермаков, а Маликов и мой скандал не по адресу. Кажется, я устыдилась и извинилась. А может быть, хлопнула дверью. Ей-богу, не помню. Помню только, что разозлилась на него страшно и определила его как номенклатурного бюрократа и классово чуждого типа и записала в личные неприятели.
А он, похоже, не держал на меня зла. Позже, уже работая в «Искусстве», он заказал мне редактуру сборника «Драматургия ГДР», составление сборника Хакса и переводы для сборников Бюхнера и Брукнера. Я пришла к выводу, что редактор он классный и знает западную драматургию как никто.
Лет этак через тридцать, в лихие девяностые, осталась я без работы, чуть ли не в бомжах, и давай обзванивать знакомых в поисках социального пристанища. Занятие это было мучительным. Однако некоторый опыт по этой части у меня уже имелся. Ведь когда я строила кооператив, у меня не было ни гроша, и тогда тоже, скрутив свои комплексы, я открыла записную книжку и стала набирать все телефоны подряд, клянча у каждого более или менее знакомого кредит в размере месячной зарплаты. И набрала три тысячи для первого взноса. И отдала вовремя все до копеечки, в частности благодаря заказам на редактуру в «Искусстве» и «Науке». Впрочем, эту методу до перестройки использовали все младшие и почти все старшие научные сотрудники: в те далекие времена народ был понятливей и не страдал современным снобизмом.
Когда я задала Маликову свой сакраментальный вопрос насчет работы, он ответил мне в точности как и все прочие предыдущие друзья-товарищи:
— Что же ты (тут следовало неприличное слово) не обратилась ко мне раньше? Была у меня работа, но вчера я взял другого человека.
— Ты поспрашивай, может, у кого-нибудь найдется?
— Лады.
Так я ему и поверила. И опять в нем ошиблась. Он перезвонил мне через неделю.
— Есть работа, — говорит.
— У кого?
— У меня.
Я согласна.
— Ты хоть бы спросила, какой оклад.
— Я у тебя и бесплатно буду работать.
— Вот такая сказка. Такой был человек, Валентин Иванович Маликов.
Иваныч был идеальный начальник. За все, что происходило с его подчиненными, он брал ответственность на себя. Допустим, Лиля Гракова опоздала на работу. На целых две или три минуты. Профсоюзная активистка берет ее на карандаш, чтобы лишить квартальной премии. А Иваныч набрасывается на активистку аки лев, дескать, я сам разберусь с Граковой, она все равно план досрочно выполняет, и не ваше дело гнобить моих сотрудников. И прочее в том же духе.
Много вы видали таких начальников? Я практически не видала.
Когда один из наших редакторов малость перебрал и вступил в неуместный конфликт с правоохранительными органами, Валя вызволил его из милиции. Другой бедняжке, залезшей в непосильные долги, подкинул денег. Сыну третьей помог устроиться на службу и так далее и так всегда. А со мной произошел сюжет.
Попала мне в работу некая рукопись — монография по истории театра. Настолько научная и академическая, что ее практически невозможно было прочесть. Каждый пассаж на полстраницы. Я чуть мозги себе не свихнула, пока читала. Но я все-таки докумекала, как с этим материалом справиться. Разъяла каждое (буквально каждое) предложение на тезис и комментарий. Получилось довольно связное изложение и блок примечаний к каждой главе. Кстати говоря, она сама, рукопись эта, естественным образом раскладывалась на два слоя. И только я утерла со лба пот (в буквальном смысле, потому что дело было летом и жара стояла страшная), как возник разъяренный автор и обрушил на меня свое негодование. Дескать, как я смею искажать его изысканный стиль. А как не искажать, если прочесть нельзя? А издавать надо. Автор широко известен в узких кругах. С кандидатской степенью и безразмерными амбициями. Я поинтересовалась:
— Будете защищать книгу как докторскую?
— Нет, — отрубает автор. — У меня другая тема.
— Нет так нет, думаю. Значит, бескорыстно трудится.
Хотя зря он пинает того англичанина, у которого позаимствовал идею книги и всю фактографию. И очень зря отказывается принимать мою правку. Иваныч пригласил его к себе в кабинет и разложил перед ним карту Франции XIII века. Немую. То есть без надписей.
— Можешь ты, — говорит он автору, — показать на этой карте владения Элеоноры Аквитанской?
Тот, разумеется, не смог. А кто бы смог?
— Так, — продолжает Иваныч. — А пишешь: «Как известно, владения Элеоноры Аквитанской…» Венгерова как известно вычеркнула, а ты бунтуешь. Оставь ее в покое.
— Иваныч, конечно, имел в виду не Элеонору, а меня. Автор просек расклад и правку проглотил.
И защитил докторскую по этой самой монографии.
Я все никак не могла взять в толк, почему Иваныч предложил мне работу. Не в перестройку, а в первый раз, когда я еще жила на Сретенском бульваре. Ведь на факультете я вела себя глупо и должна была произвести на него самое скверное впечатление.
— Ну да, — отвечает Иваныч, — я тебя считал… — Тут он употребил нецензурное слово, коим обозначается девушка ленивая, скандальная и распущенная. — А взял я тебя из-за пола. Помнишь, заходили мы к тебе как-то с Карельским, и я увидел твой пол.
И я вспомнила, что где-то в конце 60-х в «Доме России» затеяли капитальный ремонт. И отключили центральное отопление. Зима стояла холодная, и по утрам ужасно не хотелось вылезать из-под одеяла.
Но вставать-то надо. Поэтому, восстав ото сна, я согревалась, натирая пол в комнате. Минут сорок плясала со щеткой. Комната была большая, 26 метров, а пол — паркетный, квадратиками. Щетка, с ремешком и дореволюционной щетиной, осталась от какого-то дореволюционного полотера. После моей пляски пол приобретал блеск и сияние. И Иваныч обратил внимание на мой пол и решил, что я не так уж ленива и безнадежна, а нормально умею работать. Вот что значит своевременное решение полового вопроса.
IV. Сдвиг по фазе
Воссоединение
Галина Зайцева была моей ровесницей и соседкой по дому, жила в нашем подъезде на четвертом этаже. Она переехала в Теплый Стан с Солянки, а я со Сретенки. Так что мы с ней, можно сказать, оказались землячками и легко нашли общий язык. Она была всемирно известным дефектологом, доктором наук, владела языком жестов и всю жизнь боролась за то, чтобы глухонемым ребятам разрешили общаться на нем в школе. А им не разрешали. Их заставляли — даже на переменах — извлекать из гортани звуки, которых они не слышали. И этот способ общения был таким противоестественным, что, попав в одну такую школу и увидев эту муку, я просто разревелась.
А попала я в эту школу потому, что к Галине приехал в гости пастор из Лейпцига. Он приехал специально, чтобы посетить образцово-показательную советскую школу для слабослышащих. Галина по какой-то причине не смогла его сопровождать и попросила об этом меня. Она познакомилась с ним на очередном конгрессе дефектологов. Пастор тоже всю жизнь отдал глухонемым: вел для них службу в церкви и читал проповеди на языке жестов. Занятие это требует не только огромных душевных сил, но и изрядного физического напряжения. Звали пастора Хайнц Вайтхааз. Вообще говоря, по-немецки эта фамилия означает что-то вроде белого зайца. Но Хайнц дотошно исследовал этимологию своей фамилии и пришел к выводу, что она происходит прямиком от старинного русского слова «витязь». Так что пастор и как заяц (Галина-то была Зайцева!), и как витязь, и даже в некоторой степени славянофил был наш человек. Блестяще образованный, глубоко верующий, легкий в общении, великодушный и наивный. Будь все клирики столь же обаятельны, мир стал бы намного порядочнее.
На заре перестройки он пригласил нас с Галиной в гости. И мы отправились в Лейпциг обмениваться опытом гласности. Пастор с женой жили на улице имени Дня Освобождения Восьмого Мая 1945 года. Раньше она называлась Дрезденской. Легко себе представить, как раздражало пастора, да и всю лютеранскую церковь, новое название центральной улицы и весь социалистический антураж, все, что происходило тогда в стоявшей на грани исчезновения ГДР. Судорожные попытки партии и правительства удержаться в социализме (или удержать социализм). Охота за нелояльными гражданами, неудержимо стремившимися переправиться через Берлинскую стену. Скверная экология. Слабая экономика. Бездарная пропаганда. Зависимость от СССР. Бесправие народа. Всесилие Штази, которая провоцировала людей на политические анекдоты, а потом арестовывала и по сходной цене продавала на Запад. Бессмысленные запреты. Например, Мартину, сыну пастора, было запрещено поступать на богословский факультет именно потому, что он был сыном пастора. В городе появились кучки агрессивной наркотизированной молодежи. Футбольные фанаты, повязав на шею косынки с коричневой полосой, скандировали двусмысленные речовки и грозно стучали по асфальту альпенштоками. Веселый, светлый, музыкальный Лейпциг как-то посерел и ощетинился.
Впрочем, в роскошном двухэтажном особняке, где обитали Вайтхаазы, царили покой, тишина и благопристойность. Скрипели навощенные половицы, поблескивали зеркала, сияли оконные стекла, на зеленых старомодных обоях красовались старинные гравюры, в отдельной комнате для занятий по Священной истории Целую стену занимала карта Древнего мира, на просторной веранде сушилось белоснежное белье, на просторной кухне благоухал кофе, в специальном шкафчике хранился драгоценный мейсенский сервиз на двенадцать персон: 82 предмета, с ума сойти. Каждую трапезу предваряла и завершала молитва.
Честно говоря, мы с Галиной не очень-то вписывались в это благообразие. Слишком громко говорили, слишком жарко спорили, слишком громко стучали каблуками, поднимаясь по лестнице. Но Вайтхаазы великодушно прощали нам неумение вести себя в порядочном обществе. Ведь при всем своем атеизме мы были исполнены благих намерений, а это дорогого стоило. Еще немного, еще чуть-чуть, и весь мир обратится в христианство, покается в грехах, исправит ошибки и очистится. Для этого нужно всего лишь набраться терпения и подождать, пока погрязшая в социализме Восточная Германия сольется с преуспевающей, религиозной, правильной и образцово-показательной Западной. Ведь вот же она рядом, рукой подать. Вечером, после ужина и трудов праведных, можно сесть в уютные кресла перед телевизором и поглядеть на эту чистоту и красоту, воочию увидеть светлое будущее, маячившее перед воспаленным взором мятежных граждан ГДР.
Так мы и сделали. Пришли после ужина в гостиную, уселись в уютные кресла. Верена, супруга пастора, расставила на журнальном столике вазочки с солеными орешками, а Хайнц, предвкушая удовольствие, включил голубой экран. А дело было в июне. И в новостях шел репортаж с праздника ведьм. На каком-то не слишком высоком помосте пляшет в чем мать родила огромного роста качок-стриптизер, а пятьдесят или сто разгоряченных обожательниц пытаются дотянуться до него, чтобы коснуться или хотя бы лизнуть хоть в какое-нибудь место.
Гримасы перестройки
Я еще работала в «Искусстве», когда стало известно об отмене цензуры. А мы столько от нее натерпелись. То вычеркивай неугодные имена, то режь по живому текст, то выискивай цитаты из Маркса-Энгельса, чтобы завуалировать идеологические слабости автора. А тут — нате вам. Даровое счастье, свобода, узы разорваны, цепи сброшены, пиши — не хочу! Редакция возликовала, мы чуть ли не кинулись друг другу в объятия, чуть ли не лобызались от радости. Прямо как в День Победы. Только Иваныч тяжко вздохнул и взглянул на нас с глубоким сожалением. Как на несмышленых малолеток.
А ведь это не мы, а он каждый раз отправлялся в Главлит отстаивать повисшее на волоске издание. Он пробил даже пестревшую запрещенными именами «Чукоккалу», даже никому не известного Вампилова, пробил Сартра, Камю, Виньи, Пристли, Хакса. Пусть с купюрами и потерями, но он выпустил их в свет.
Ну, думаем, теперь-то мы развернемся. И развернулись. В углу коридора образовалась огромная куча мусора, то есть подписанных в печать и выброшенных из плана рукописей. Я выудила оттуда четыре «синьки». Там был том Гуго фон Гофмансталя (австрийского классика, которого не издавали с 1911 года), монография А. В. Карельского «Драма немецкого романтизма», монография по истории американской драмы и двухтомник «Романтической комедии».
Вдруг оказалось, что все наши труды пошли прахом и никому мы не нужны. А нас всех, все издательство, увольняют без выходного пособия. Шестиэтажный дом в Собиновском переулке напротив ГИТИСа и права на книги, изданные за пятьдесят лет, перешли в собственность дирекции, и то не всей, а только трех руководящих товарищей. Львиная доля досталась директору. Тому самому, кто каждый раз вставал на колени, целуя переходящее Красное знамя, регулярно вручаемое нашему лучшему в СССР издательству.
А была у нас одна сотрудница, которая числилась не то в одной из редакций, не то в профкоме. Она каждое утро подкарауливала нас при входе и в случае опоздания брала на карандаш. Кажется, ничего больше она не делала. Вот ей пришлось хуже всех. Утратив смысл жизни, бедная женщина покончила с собой.
Дабы не разделить ее судьбу, пришлось в очередной раз искать работу. Я весьма сожалела, что не имею способности к коммерции. Ведь у нас, в Конькове, открылась ярмарка, и можно было бы стать челноком. Или торговать бюстгальтерами, солнечными очками, лотерейными билетами, пластиковыми пакетами, шоколадками, чипсами, чупа-чупсами, кока-колой… да мало ли есть достойных товаров и занятий. Увы, я бы в момент прогорела. Зато я знала русскую литературу и немецкий язык.
Русскую литературу я стала преподавать в восьмом классе еврейской гимназии. Гимназия располагалась в огороженном особняке где-то в районе Мичуринского проспекта. Прихожу я туда, завуч окидывает меня строгим взором, закуривает толстую сигару и резюмирует: «Что ж, мать у вас еврейка. Вид вполне кошерный: колени и локти прикрыты. Курить в помещении разрешается только мужчинам. А вам — только за оградой». Между прочим, дело было зимой, и за оградой градусов двадцать мороза.
В этой гимназии учились только мальчики. Они проводили там целый день. Помимо обязательной школьной программы они изучали иврит, зубрили Тору, несколько раз в день молились, обедали в кошерном буфете. Урока физкультуры не было, поэтому они иногда дрались на переменах. В классе имелся официально назначенный староста и неформальный лидер. Он держал прочих ребят в повиновении и черном теле. Потому что его папаша, банкир, был богаче всех прочих родителей. О чем они так прямо мне и сообщили.
Они хорошо успевали по математике, но русская литература ничуть их не интересовала. Мне лишь однажды удалось привлечь их внимание к моему предмету. Я читала им наизусть первую главу «Евгения Онегина». Дохожу до строфы про балерину Истомину.
…она, Одной ногой касаясь пола, Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст Эола…— Кто такой Эол? — интересуются продвинутые отроки.
— Античный бог, греческое божество ветра, — ответствую я.
— Бог только один, — возражает класс, имея в виду автора Торы, чье имя нельзя упоминать всуе. — Мы не желаем слушать про других богов.
Что мне оставалось делать? Читать дополнительный курс по истории мировых религий? Во-первых, опасно для жизни. Во-вторых, никто не позволит. В-третьих, никто не заплатит.
За час мне платили всего двадцать рублей. Игра не стоила свеч, и я сбежала. И вспоминаю это учебное заведение с содроганием.
Немецкий язык я преподавала на первом курсе Православного университета. Занятия проходили в разрушенном особняке в районе Трубной площади. Дом находился в самой начальной стадии ремонта. И студенты занимались в помещении без окон, без дверей, где царили строительная пыль, но и самый искренний энтузиазм. Общаться со студентами было сплошным удовольствием.
— А у вас очень хорошие духи, — заметила как-то одна из православных девушек.
Как она их унюхала сквозь запах штукатурки?
Духи и впрямь были очень хорошие: «Частная коллекция» от Эстер Лаудер. Они стоили целое состояние. Мне они достались от сестры, которая получила их в подарок. Но так как сама она вообще никогда не пользовалась никакой косметикой, не душилась и не носила украшений, то отдала замшевый мешочек с драгоценным благовонием мне. С тех пор я много раз пыталась его купить. Но каждый раз или не было денег, или этой самой «Частной коллекции».
И студенты были тоже очень хорошие. С ними было интересно, и я старалась для них, как могла. Вот я вхожу в аудиторию и сообщаю — сразу по-немецки — что Катринка пошла гулять в своем синем платье, что пели птицы и на дворе стояло лето. Все это легко изобразить на пальцах и понять, худо-бедно зная английский. Всего одна строфа гениальной поэмки Хакса, на примере которой можно с нуля ввести представление о немецких существительных и артиклях, о склонении вспомогательного глагола «sein», о разнице между сильными и слабыми, переходными и непереходными глаголами, о предлогах, об управлении падежами, о порядке слов и т. д.
Но главное в том, что, уходя с урока, все студенты будут помнить эту первую строфу наизусть и она уже никогда не забудется ими. Через два месяца они будут знать наизусть всю поэму и по ходу дела усвоят основы немецкой грамматики и синтаксиса. А при современных технических возможностях они запомнят текст в исполнении образованного носителя языка и смогут почувствовать прелесть правильного произношения. В поэме восемнадцать глав, в каждой главе от трех до семи строф, словарный запас — более тысячи лексических единиц. Ту же самую сумму сведений им мог бы дать любой начальный курс немецкого языка, где фигурируют бесплотные умозрительные персонажи, ведущие тоскливые, однообразные диалоги на скучные приземленные банальные темы, называемые по-английски «топиками». То ли дело Катринка!
В первой главе она гуляет по гороховому полю и, проголодавшись, срывает с куста самый длинный гороховый стручок.
Во второй главе она его откроет.
В третьей главе маг по имени Ксаксар пообещает Катринке исполнение стольких желаний, сколько горошин находится в стручке.
В четвертой главе маг исчезнет в неизвестном направлении.
В пятой главе Катринка проглотит первую горошину и получит в подарок новое белое платье из вельвета.
В шестой главе ей достанется прыгучий желтый мяч.
В седьмой главе она научится бегать со скоростью зайца.
В восьмой главе она затормозит на рыночной площади, увидит в окошке грустную бабушку и с помощью волшебной горошины доставит ей на второй этаж покосившегося дома ведро с углем, чтобы бедная старушка не замерзла.
В девятой главе произойдет центральное событие поэмы. Катринка заметит на площади огромную скульптуру женщины с копьем, опирающейся на медведя. Девочка мгновенно почувствует агрессивную суть изваяния и приделает зловещей Туснельде мужскую бороду.
В десятой главе Катринка превратит шляпки желудей в настоящие шляпы и раздарит их пенсионерам.
В одиннадцатой главе Катринка отправится в Африку.
В двенадцатой главе она научится понимать язык зверей.
В тринадцатой отправится на Луну.
В четырнадцатой разберется в том, как устроена Вселенная.
В пятнадцатой главе наша девочка пожелает вернуться домой, к маме, для чего совершит космический перелет на Землю, предварительно отправив туда свой мячик.
В шестнадцатой главе она увидит, как к ней в окно — с понятным опозданием — влетает сброшенный с Луны мячик.
В семнадцатой главе уставшая Катринка с помощью последней горошины выключит свет и заснет.
В восемнадцатой главе Катринка (через год) придет на площадь и застанет там целый конгресс искусствоведов, ломающих голову над загадкой: откуда борода у женской статуи?
Все, как в классической драме: пролог, три действия, эпилог. Завязка, кульминация, развязка.
О чем вспоминает взрослый, читая своим детям эту сказку?
О том, что происхождение интеллекта, разума, духа — это тайна, неизвестная величина, обозначаемая словом «Маг» (Бог?). Что история человека началась, в частности, с изобретения одежды, игры, колеса. Возникновение альтруизма, искусство (и искусствознание) были ступенями этого длительного процесса. Что там у нас дальше? Ну конечно, европейские ценности, то есть христианское милосердие и протестантская благотворительность, великие географические открытия, этология, освоение космоса и кибернетика с ее непредсказуемыми последствиями дистанционного управления.
Приключения Катринки — метафора цивилизации. Катринка — это человечество, стремительно проходящее свой путь познания мира.
Поэма о Катринке — шедевр, перл и чудо немецкого языка и духа.
«Катринку» легко положить на музыку, спеть под гитару, сыграть на школьной сцене. Православные студенты выучили ее наизусть, и она открыла им дорогу в немецкую культуру. А я научилась преподавать немецкий с нуля. И все было бы хорошо и отлично. Но одно маленькое недоразумение нарушило идиллию.
Прихожу я в бухгалтерию за зарплатой. Бухгалтерша спрашивает:
— Вы кандидат наук?
— Да.
— Тогда вам положено…
И выдает мне наличными в четыре раза больше, чем обещала госпожа Журинская, принимавшая меня на работу.
Я возликовала, схватила денежки, бросилась домой, но по дороге заглянула на ярмарку «Коньково».
Дома раздался телефонный звонок, и госпожа Журинская строго потребовала возместить созданный мною дефицит в ее доходах.
А я уже приобрела на чертовой ярмарке китайскую зеленую куртку и никак не могла выполнить ее справедливого, хотя и противозаконного требования. Я горестно поплелась к ректору каяться в своем прегрешении. Ректор был человек удивительный: мягкий и человеколюбивый. Он уже имел дело с Журинской и, услышав мою печальную повесть, застонал от сочувствия ко мне и собственного бессилия. Я его утешила. Сказала, что буду работать бесплатно следующий семестр, и мы расстались, испытывая друг к другу самые христианские чувства.
Свое обещание я выполнила и ушла из этого университета в другой, где с помощью Катринки проработала еще семнадцать лет. Нет худа без добра.
«Парфюмер»
В середине восьмидесятых я прочла в польской газете «Культура» рецензию на немецкий роман «Das Parfum». Рецензия была настолько положительная, что я глазам своим не поверила. Чтобы поляки так расхваливали немца, да еще с такой местечковой фамилией Stiskind? Я сразу вспомнила Ильфа и Петрова. Кто там у них? Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд. А ведь из Польши к тому времени уже успели эмигрировать и Мрожек, и Казимеж Брандыс, и Станислав Выготский, и Ярослав Словацкий, и Лешек Колаковский — все писатели первого ряда, цвет и классика польской послевоенной литературы, хоть и не самых чистых кровей и не самой белой кости. Надо же, думаю, да этот Зюскинд, наверное, и впрямь нечто из ряда вон. Дай, думаю, прочту. Взяла в библиотеке роман, принесла домой, сварила кофе, раскрыла книжку, да так и застряла в ней, пока не перевернула последнюю страницу. Очень меня заинтриговала метафора романа, этот парфюм, неотразимый аромат, искусно синтезированный из чужих запахов, чужих жизней. Вот он, ответ на вопрос о диалектике гения и злодейства, о гипнотической природе народного обожания великих правителей, императоров, тиранов, военачальников, короче, убийц. Их рекрутирует история из особей, неспособных на эмпатию, но жаждущих любви и потому равнодушно обрекающих на смерть других особей, обладающих недоступными им свойствами. Интересный роман, хорошо сконструированный триллер. Дай, думаю, переведу. И перевела. Принесла в журнал «Иностранная литература», оставила тогдашнему главному по фамилии Злобин. И перевод мой четыре года пролежал в редакции без малейшего движения. Понятное дело. Честно говоря, я и не надеялась. Ведь сколько раз я притаскивала в «Иностранку» Хакса, а они ни в какую. А Хакс ведь намного масштабнее, чем Зюскинд. И тут вдруг декорации переменились, в «Иностранку» назначили главным Владимира Яковлевича Лакшина. Он не принюхивался к моде, как некоторые, а сам составлял свои суждения об авторах и текстах. Вот кто разбирался в нашем деле по-настоящему. Чего стоят его лекции на ТВ об Островском, Чехове и Булгакове! Володя (мы с ним были знакомы еще с университетских времен) позвонил мне часов этак в двенадцать ночи и сказал, что ставит «Парфюмера» в ближайший номер.
Роман напечатали, перевод похвалили. В перестроечной борьбе за существование я забыла про этот незначительный эпизод. Иду как-то мимо книжного развала у метро «Новокузнецкая», остановилась полистать книжки. А какая-то девушка вдруг мне советует: «Прочтите вот эту. Супер».
Я смотрю, да это мой «Парфюмер», напечатанный издательством «Амфора». Без моего ведома, мелким шрифтом, в неудобном формате, в жутком черном переплете, на серой-серой газетной бумаге. В общем, не книжка, а урод. Я не стала выяснять отношения с «Амфорой». В те лихие девяностые бандитизм был делом обычным. Кто смел, тот и съел. Приятного аппетита.
Я встала на учет в агентстве по охране авторских прав. По блату, конечно. Когда я туда явилась, они посмотрели на меня как на бедную дурочку. Какой-то Зюскинд, какой-то немецкий роман. У них там фигурировали имена от Платонова до Стругацких. Но оказалось, что «Парфюмер» хорошо продается, так что, надеюсь, они не пожалели о нашем пожизненном контракте. Когда они заключали договор с издательством «Азбука», «Азбука» сказала, что выдаст тысячу долларов, и хватит с меня. Но мои агенты выбили из нее потиражные, и у меня появилась возможность издать Хакса (восемь сборников) на гонорары за Зюскинда. Я своим агентам вообще очень благодарна. Они нашли издателя для монографии Капра о Гутенберге, а это дорогого стоит. Вот наступит 2018 год, будет юбилей Гутенберга, и все прочтут не только Зюскинда, но и Капра. И может быть, Хакса. Дожить бы.
Когда я переводила Зюскинда, слово «парфюм» еще обитало на задворках общепринятой лексики. А слова «аромат» и «духи» для названия не годились. Я четыре года ломала голову и ничего не придумала. Придумал название Алик Карельский.
Марк Бент
В начале перестройки группу российских преподавателей немецкого языка пригласили в Бохумский университет, дабы наконец разъяснить, как следует преподавать немецкий язык. В группе было тридцать человек: двадцать девять советских женщин и профессор Бент. Немцы так и обращались к нам: «Дорогие дамы, уважаемый профессор Бент!» Нас разместили в студенческом общежитии, нам читали лекции, возили на развивающие экскурсии и учили признавать западные ценности.
Лекции читал немецкий германист, доктор, профессор и зав. кафедрой. Ох, какой же он был важный, вальяжный, значительный, повелительный, знающий себе цену дядя. Интерпретировал для нас «Фауста». Мог посвятить целую лекцию неотразимым прелестям Гретхен: и глаза у нее голубые, и косы русые, и улыбка обворожительная, и вся она такая чувственная, такая чувствительная, умилительная, сладкая, сладкая, сладкая… Двадцать девять преподавательниц немецкого с интересом взирали на пускающего слюни старого маразматика. Пускает слюни, и пусть. Зато он пускает их по-немецки. А каково было Марку выдерживать эту смертную скуку? У нас ведь университетский курс немецкой литературы читался всерьез, начиная с самых азов, с Гросвиты, с Эшенбаха, с Вальтера фон дер Фогельвайде, через миннезингеров, через Ганса Сакса и Гриммельсгаузена, через Клопштока, Виланда, Лессинга, Шиллера, того же Гете, через длинный ряд романтиков, где вам и Йена, и Гейдельберг, и гениальный Клейст, и печальный Новалис, и ехидный Тик, и Арним, и Брентано, и Бюхнер, и Геббель, и братья Гримм, и братья Шлегели, и Грильпарцер, и Гельдерлин, и Шнидлер, и Фонтане, Томас Манн, Музиль, Брох, Брехт, Генрих Манн и дальше, дальше, дальше, сколько есть отведенных на курс часов. А немецкая программа филфака, например в Гейдельберге, уже тогда, в начале 90-х, начиналась с конца, с заката, с того, что по-немецки называется Ausgang. С тяжелых и даже страшных имен Хандке, Арно Шмидта, Кафки. О Белле и Борхерте немцы уже почти забыли, социальная озабоченность уступила место сексуальной, литература давно перестала служить дорогой к постижению нравственных ценностей. Драматический жанр стал для режиссеров объектом беспардонных толкований, мусорным ведром, куда можно швырнуть любой смысл, абсолютно посторонний беззащитному автору. В Германии уже тогда правил бал постмодерн. А мы еще исповедовали добрые старые ценности немецкого романтизма и серьезного, вдумчивого, глубинного, глубокого немецкого литературоведения. В том же Гейдельберге мы наблюдали, как наш великий гетевед трепетал перед заезжим американским проповедником и адептом криминального чтива. А когда мы осмелились задать гран-гастролеру какой-то вопрос, наш патрон-гётевед, услышав такую дерзость, страшно возмутился и строго нас одернул. Марк был в сто раз эрудированнее этого немецкого гётеведа. И в тысячу раз скромнее.
И вот этот единственный достойный германист в нашей стажерской группе бесстрашно предпочел обществу двадцати восьми дам мое общество. Дамы, все двадцать восемь, дружно на меня взъелись. Пришлось, как бы вскользь, разъяснить причины этого предпочтения. Во-первых, я училась и всю жизнь дружила с Альбертом Викторовичем Карельским, а тот в свое время консультировал Марка. Во-вторых, мне уже стукнуло 65, и знакомство со мной гарантировало Марку полную безопасность. В-третьих, я, как и Марк, была переводчиком, а не только и не всегда преподавателем. В-четвертых, я не слишком увлекалась шопингом и любила театр и путешествия. Немцы выдали нам стипендию, на нее мы и шиковали. И вот мы с Марком ходили на жутко дорогие спектакли Бохумского театра и ездили в самые дешевые туры (по Рейну и в Париж). На Париж у меня уже денег не хватило. Марк свозил меня за свой счет, я осталась ему должна двести пятьдесят марок.
Бизнес
Пять ранок на ноге загноились после того, как приходил дяденька из поликлиники лечить мой, извините за выражение, седалищный нерв. Дяденька поставил пять иголочек, взял пять тысяч и удалился. Прошел месяц, пять ранок нарывают и не зарастают. Мы с Володькой едем к эксперту, тот берет гонорар и назначает анализ, чтобы потом можно было назначить антибиотик. Мы врубаем Интернет, находим лабораторию и оформляем вызов. Приходит девушка из лаборатории, чтобы взять мазок для анализа. Милая такая, не очень молодая, с тетрадочкой и чемоданчиком. Правда, без а) пинцета, б) перекиси, в) бинта и г) ватных дисков. Слава богу, все это нашлось дома, ведь я уж месяц как лезу на стенки от боли. Вместо пинцета взяли деревянную зубочистку, прямо с кухонного стола. Девушку (ее зовут Наташа) это ничуть не смутило. Она расковыряла зубочисткой ранку, поместила содержимое в пробирочку и стала со мной рассчитываться. Цена услуги — тысяча семьсот рублей, я ей даю тысячу восемьсот, тысячу бумажкой, восемьсот сотнями, от чаевых она решительно отказывается. Протягиваю ей деньги, девушка делает записи в тетрадочке, деньги лежат на столе. И тут черт меня дернул предложить ей две тысячи двумя бумажками, а сдачу с двух тысяч вернуть. Наташа категорически отказалась давать сдачу, а согласилась только разменять мою тысячу, что и осуществила вполне успешно. И чтото такое в ходе этой трансакции случилось, то ли у меня перемкнуло, то ли у нее, показалось девушке, что я хочу ее обмануть на тысячу рублей. Поскольку все деньги так и лежали на столе, недоразумение разрешилось: я отдала ей тысячу бумажкой и семьсот сотнями. Обозленная, оскорбленная, глубоко обиженная Наташа покинула мой дом, а я уселась за компьютер с ощущением омерзительного вкуса во рту. Через минуту Наташа возвратилась и решительно предъявила мне обвинение в хищении тысячи рублей. Дескать, ей об этом сообщил ее калькулятор. Я лихорадочно полезла в кошелек, где сгрудились последние, оставшиеся до пенсии одиннадцать сотен. Никаких других дензнаков я в кошельке не обнаружила, о чем на довольно повышенных тонах и сообщила медицинской работнице. Наташа строго меня одернула. Она сказала, что нечего на нее орать. Что я припрятала пятьсот рублей где-то в квартире. И что в кошельке у меня несколько тысяч, она, дескать, видела. Я вытряхнула содержимое кошелька перед ней на столик в прихожей и удалилась на кухню нервно курить.
Я нервно курила минут этак тридцать, а Наташа в это время стояла в прихожей и подсчитывала понесенные ею убытки. Через полчаса она вошла на кухню и продолжила общение с калькулятором. Она сказала, что калькулятор плохой и может ошибаться. Время идет, я курю, она считает. И изредка бросает на меня выразительные взгляды. И общается уже не столь озлобленно, а как-то поощряющее: дескать, я посижу, а ты пошарь по сусекам, найди тысячу и отдай мне, и я тебя прощу и уйду, так и быть. А у меня, как назло, во всем доме, больше ни копейки. Было две восемьсот, тысячу семьсот я отдала Наташе, осталось тысяча сто сотнями. Будь у меня еще тысяча бумажкой, я бы ее, разумеется, отдала. И подписалась бы тем самым, что обманула бедную трудовую девушку на тысячу рублей. Но тысячи бумажкой не было, а тысячу сотнями Наташа из прихожей не рискнула взять. Тогда она оказалась бы воровкой. Расклад такой: если я отдам ей деньги, воровка я. Если она возьмет лишнюю тысячу сотнями, воровка она.
Примерно через час Наташа признала, что калькулятор, наверное, ошибся. Посоветовала мне не принимать ошибки калькулятора близко к сердцу и наконец удалилась. Умная девица. Успешная. Придумала себе безопасный бизнес. У нее клиентура — одни беспомощные люди. А уж одинокая старуха в пустой квартире…
Лера
К одинокой старухе в пустую квартиру приходила Лера Радзиевская. И каждый раз притаскивала две или три сумки с дарами: чистотелом, черносливом, курагой, крабовым салатом, французским голубым сыром, датским печеньем и Бог весть чем еще. У нее муж хворает, вроде меня, воспалением того же самого нерва, он на костылях, она возит его в машине на работу в лицей и за границу в Италию. Лера умеет все: шить, вязать, стряпать, общаться с компьютером, читать эссеистику эпохи постмодерна, ценить прекрасное в дизайне, моде и рекламе (даже в телевизоре), водить машину, чертить, рисовать, петь романсы, печь куличи, сажать помидоры, лечить собак и знакомых. Не понимаю, как это у нее получается? Хотя нет, понимаю, сейчас объясню.
Как-то зимой шла я по ярмарке «Коньково» без гроша в кармане. Там меховая галерея, в ней тепло, пахнет кожей, и кругом развешены красивые шубы. Я иду, глазею по сторонам, ничего себе не думаю. Из павильона выходит женщина, видит, что я обретаюсь в состоянии блаженного идиотизма, заманивает меня в совершенно пустой павильон и начинает совращать и соблазнять. Чтобы я купила шубу. Я честно признаюсь, что без гроша в кармане, но она просит-умоляет только примерить. Потому что в павильоне никого и делать ей нечего.
Ну куда деваться, я уступаю, она примеряет на меня имеющиеся в ассортименте шубы, я стою, как кукла, и ликую в душе каждый раз, когда шуба не подходит. Ни одна мне не подходит, ни по размеру, ни по карману. Слава богу, думаю, ничего не надо покупать. И тут она подсовывает мне коричневую курточку из китайской пятнистой норки, такую теплую, ласковую, славную, мягкую, точно по размеру, что у меня происходит мгновенный сдвиг по фазе. И я задаю сакраментальный вопрос о цене. И слышу в ответ, что, дескать, всего каких-то сто тысяч. Но мне сделают скидку, и придется заплатить всего-навсего девяносто тысяч. Рублей ужасно много, а долларов всего три тысячи. А я, бедная, всю жизнь мерзну в тяжелых шерстяных свитерах и тяжелых шерстяных куртках. А мне уже вон сколько лет, и неужели я так никогда и не надену вот эту легкую, элегантную, неотразимо прекрасную пятнистую норковую куртку? Я вспоминаю, что в ближайшую неделю мне светит пенсия и небольшой гонорар. Тысяч тридцать наскребу, а остальные одолжу. У Леры, разумеется, то есть у ее мужа, они меня всегда выручают в моменты острейшего безденежья. А потом сдам очередной перевод, дождусь гонорара и все отдам, через полгода, а может, и раньше. И я прошу отложить эту пятнистую красоту, отдаю в залог обнаруженную в кошельке последнюю тысячу и удаляюсь, лелея сладкие мечты.
Я еду к Лере, излагаю проблему, беру у нее две тысячи зеленых, получаю пенсию, бросаюсь в магазин. А курточка — тю-тю. Работнички магазина отложили, то есть повесили, ее таким образом, что было видно в окно, кто-то проходил мимо, увидал и купил. А они, гады, продали мою золотую, то бишь пятнистую, мечту, плюнули в душу, лишили жизненной перспективы и нанесли глубокую психологическую травму.
Глубоко травмированная, я еду к Лере возвращать бесполезные две тысячи баксов. Но Лера решительно заявляет, что так дело не пойдет, садится за компьютер, выкликает соответствующие сайты, выясняет цены на норки всех моделей и марок и заявляет, что завтра повезет меня по магазинам покупать мечту. И назавтра мы садимся в теплую машину, и почти беспрепятственно выезжаем на шопинг, и шопингуем по разным меховым магазинам на окраине Юго-Западной префектуры, и мне все нравится, я готова на любое меховое приобретение. Но Лере не нравится ничего, и она неумолима. Мы возвращаемся в Коньково и методично обследуем ярмарку, павильон за павильоном, и я уже соглашаюсь на кенгуру с кривыми швами, на дубленку допотопного фасона, на ондатру, на выдру и вообще. Наконец в одном из павильонов мы обнаруживаем нечто норковое и подходящее за пятьдесят тысяч. Но Лера велит это отложить и довести обследование меховых павильонов до конца. И в самом последнем павильоне обнаруживает черную норку, и не китайскую, а напротив — итальянскую. И швы у нее ровные, и сидит она безупречно, и страшно мне идет, и молодит, и стоит те же пятьдесят. Но Лера выторговывает десять, и мы приобретаем это сокровище всего за сорок. Но Лера все еще не удовлетворена, она подбирает мне шапку. Нахлобучивает все шапки подряд: нахлобучит — поглядит — снимет, нахлобучит — поглядит — снимет. И так она примерила шапок этак двадцать, пока наконец не подобрала ту, что надо. Шапка стоит шесть тысяч, а Лера выторговала полторы, и получилось четыре с половиной. Шапка тоже норковая, с белой отделкой. Лера и перчатки мне нашла, белые, шерстяные. Непрактично, но шикарно. И вот мы с ней движемся по ярмарке, я в новой куртке и шапке, сияя молодостью и красотой, и Лера в довольно задрипанной старой дубленке. А ведь я толстенькая и коротенькая, а Лера стройная, высокая и стильная.
— Лера, — говорю я, — какого черта ты таскаешь эту старую дубленку?
— Да я никуда не выхожу, — вяло возражает Лера, — разве что с собакой в Нескучный сад.
— Ну и что, что с собакой, — говорю я. — Пусть с собакой, а дубленка твоя старая и задрипанная. И тебе не идет.
Лера подумала и согласилась. И купила себе куртку из серой норки. Шикарную. И гуляет в ней со своей собакой в Нескучном саду
Яичница
Моя больная нога вся заросла псориазом и жутко дергает при ходьбе. Поэтому я не хожу, а сижу и лежу. Сижу — перевожу, не сижу — не перевожу. А стоять больно и даже невозможно. Варить или жарить не получается, даже есть неохота. Меня опекают соседки. Чаще всех заходит Верочка. Мы знакомы сорок лет. Сорок лет назад она была неотразима: красавица, блондинка, одесситка, худенькая, ухоженная, счастливая. Ее обожали красавец муж и куча поклонников из модной тусовки (тогда это слово еще не имело хождения). Тусовались сплошь подающие надежды знаменитости, все играли на гитарах, сочиняли КВН, перекрестно влюблялись-женились-разводились-сходились-расходились-встречались-ссорились-мирились-веселились. В основном острили и веселились и даже неплохо на этом зарабатывали, потому что печатались-публиковались-снимались и т. д. Это потом они разошлись, расстались и разъехались по городам-весям и заграницам. А тогда они взбирались по карьерным лестницам, и Верочкин муж, спортсмен и шармер, был еще жив и вечно где-то пропадал, а Верочка терзалась в постоянном ожидании и, чтобы скоротать время, забегала ко мне на кофеек, в коротеньком халатике, длинноногая, трогательная и трепетная. Она употребляла восхитительные одесские обращения: «Птица моя! Солнце мое! Дорогая!» Фред к ней благоволил. Еще бы, от нее глаз было не отвести. Он так и прозвал ее Вера-дорогая.
Что ж, времена, как говорится, меняются, и мы, как говорится, вместе с ними. Я осталась одна, а у Верочки от прежних времен остался лишь верный обожатель Олег (я его называю Гранатовый Браслет) и совсем другой муж, который жутко богат и потому пьет из нее кровь. Он у нее завтракает, обедает и ужинает каждый день. А она покупает и варит, покупает и варит, и так тридцать лет подряд. Отправляясь за продуктами на обед для кровопийцы-супруга, Верочка тайком забегает ко мне все на тот же кофеек. И заносит еду. Один
Что ж, времена, как говорится, меняются, и мы, как говорится, вместе с ними. Я осталась одна, а у Верочки от прежних времен остался лишь верный обожатель Олег (я его называю Гранатовый Браслет) и совсем другой муж, который жутко богат и потому пьет из нее кровь. Он у нее завтракает, обедает и ужинает каждый день. А она покупает и варит, покупает и варит, и так тридцать лет подряд. Отправляясь за продуктами на обед для кровопийцы-супруга, Верочка тайком забегает ко мне все на тот же кофеек. И заносит еду. Один раз принесла нарезку красной рыбы, а я эту рыбу съела. Поскольку из-за боли в ноге плохо соображаю. Если бы соображала, то хотя бы принюхалась. Так вот же нет. И загремела с отравлением в кошмарную инфекционную больницу. Больница — это особая поэма, вспоминать и писать об этой юдоли скорби тяжело и скучно. В другой раз, может быть.
Я уже дома и лезу на стенки из-за боли в ноге. Вчера заходила Вера. Она сплавила своего кровопийцу в санаторий, у нее праздник свободы, который продлится недели две. Так что она была полна благих порывов. И готова на все. И мы с ней решили пообедать.
Я ей говорю:
— Вера, умоляю, пожарь мне яичницу!
Но она пришла в ужас:
— Ни за что. Только не это. Я к плите не подойду ни за какие коврижки. Меня от нее тошнит!
Мне стало стыдно. Женщина вырвалась на свободу, а я подвергаю ее пытке. И мы ели бутерброды, пили кофе, курили и сливались в интеллектуальном экстазе, вспоминая гениальных покойников: писателей-киношников-бардов-москвичей-одесситов-иностранцев-теноров-журналистов и кавээнщиков. И это счастье, в точности по тому же сценарию, повторилось на следующий день.
На третий день приходит Вера и сообщает:
— Мне звонил Олег, и я ему рассказала, как мы тут с тобой славно сливаемся в экстазе, и про наши с тобой сладкие воспоминания, и какая ты молодчина. И про яичницу ему рассказала. А он и говорит: «Сволочь ты, Верка!»
Сволочь? А я и не заметила.
Святое искусство
Бедные, мы бедные московские театралы. Приходим смотреть «Ревизора», а там голубой Хлестаков в ночной рубашке предлагает свои сомнительные прелести всем подряд остальным персонажам.
Приходим смотреть романтическую комедию «Сирано де Бержерак», а там гвардеец прямо на сцене совокупляется с женой трактирщика. Как будто мы такие дураки, что иначе не сообразим, как именно она наставляет рога своему трактирщику.
Покупаем в фойе мемуары народного артиста с автографом и трогательным пожеланием: «Храни вас Господь», открываем книгу и на третьей странице встречаем самый грубый и вульгарный мат.
Пришли на «Двенадцатую ночь» Шекспира, а там все наоборот: близнецы совершенно непохожи, Виола умненькая и красотка, а братец ее — урод и дебил. Почему графиня Оливия так его домогается — непонятно. У Шекспира все персонажи сочетаются законным браком, а режиссер трактует хеппи-энд как трагический финал. Так что не только мы, но и Вильям наш Шекспир тоже бедный, бедный. О разных снах в летнюю ночь я уж не говорю.
Но это еще отечественные цветочки. А ягодки я видела в просвещенной Европе. В почтенном венском Бургтеатре играли пьеску Турини в постановке Пайна. Там Священник отправлялся на поиски Христа, но в первой же сцене его насиловал Дьявол. Сцена изнасилования шла на фоне непристойных звуков, усиленных мощными динамиками. Главным реквизитом в этом спектакле был огромный синий матрац. Спектакль заканчивался омерзительной сценой свального греха, в коей участвовали Бог-Отец, Дева Мария, Христос, Священник и Дьявол. Это такая борьба с католицизмом, объяснили мне ценители творчества Турини. Смело, конечно. Но каково было терпеть все это зрителям? Многие и не терпели, уходили при первой возможности. А вот актеры, те и впрямь страдали. Я с ними говорила после спектакля. Очень они жаловались на невыносимые условия труда. Но продолжали служить святому искусству.
Режиссеры прямо как с цепи сорвались. Экспериментируют и интерпретируют, интерпретируют и экспериментируют. С Шекспиром, Чеховым, Островским. И все больше ниже пояса и в области нецензурной лексики. Была классика, а стала чернуха, порнуха, бытовуха и в результате — расчлененка. В античном театре все убийства совершались за сценой, а у нас кровь и грязь так и хлещут на подмостках. Как в жизни.
Нынче без эпатажу — ни-ни. Низззя. Еще подумают, что ты нелиберальный ханжа.
Каждому по труду
В юности я не сомневалась, что каждый имеет способности и применяет их на благо общества. Я не догадывалась, что каждый по-своему представляет себе это благо и потому великий лозунг не имеет ни малейшего смысла. Дальше — больше: каждому по труду. Иными словами, ты работаешь, а тебе за это платят. Столько, сколько стоит твой труд. Мне и в голову не приходило, что труд может стоить дороже или дешевле, чем за него платят. А узнать, что почем, нет никакой возможности. А тут еще я прочла эту формулу по-немецки: jedem nach seiner Leistung. A Leistung — это не труд, а заслуга, достижение, свершение. Как его замерить? А труд замеряется по времени. И получается, что, например, санитарка в больнице и хирург работают восемь часов в день. И разница в оплате их труда определяется то ли на глазок, то ли от фонаря. Все равны и в своем праве. Так вот почему санитарка может рявкнуть на хирурга, если тот наследит на полу только что вымытого коридора.
Теперь у нас рынок, рыночная экономика.
Почем труды праведные, никому не известно. Зато теперь владелец стройки может нанять хоть пятьсот нелегальных иммигрантов, отнять у них паспорта и вообще не заплатить за труд. Так я и не поняла, в чем заключается прогресс.
Что почем
Есть такая программа на «Эхе Москвы»: «Люди и деньги». В ней рассказывают о миллионных ценах на пентхаузы, старинные автомобили, виллы, яхты, яйца Фа берже и прочую роскошь. В частности, на туалеты, в коих блистали ныне покойные и ныне живущие кинозвезды и оперные дивы. Вот и я о туалетах.
Тот, о коем я жажду поведать, находится в инфекционной больнице, куда я загремела с жесточайшим желудочным отравлением. Он примыкает к палате на трех пациентов. Я очутилась в нем глубокой ночью после промывания кишечного тракта. Легко представить, каким счастьем представлялось мне это достижение цивилизации в шаговой доступности от больничной койки. Увы. Не тут-то было. То есть туалет был, но в нем не было света и туалетной бумаги. Ну, без света еще можно как-то обойтись. Отсутствие же бумаги — обстоятельство воистину трагичное. Однако из этого безнадежного положения нашелся выход. В коридоре обнаружилась санитарка, которая продала мне два клочка, оторванных (по дырочкам) от рулона. И совсем недорого. Всего по пятьдесят рублей клочок.
Бюджет
Наш бюджет всегда устроен так, что вверху вооружение, потом космос, потом тяжелая промышленность, потом всякая другая промышленность, а внизу сельское хозяйство, образование, здравоохранение и в самом низу культура. Но это же иерархия безбожной эпохи индустриализации и построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Кончился социализм, наступила перестройка, но Горбачев занимался политикой, а бюджета в его времена почти что совсем не было. Потом пришел Ельцин, но он в этой иерархии ничего не поменял. Воскресла частная собственность на средства производства, и возродилась вера в Бога, но устройство бюджета осталось прежним. Разве что все, кто лечил и учил, оказались самыми низкооплачиваемыми оказателями учебных и лечебных услуг. По-моему, это неправильно, потому что Христос был Целитель и Учитель. Отсюда ясно, что в христианской стране здравоохранение и образование должно стоять в бюджете на первом месте. О культуре я уж не говорю. Христос был Богом, но и поэтом, и пророком. Значит, культура должна стоять в бюджете на самом-самом верху. На нее следует тратить хотя бы половину бюджета. А всю иерархию строчек поменять с точностью до наоборот. Рай не получится, но все-таки не будет так стыдно перед Тем, Кто учил и исцелял.
Имперское сознание
Вера, моя соседка по дому, приходит ко мне на перекур и отвести душу. Потому что кругом кризис и душа болит. Все знакомые перессорились: одни считают, что Крым наш, а другие что нам крыш. Мы с Верой сливаемся в экстазе, поскольку обе придерживаемся одной, а именно первой точки зрения. Кстати говоря, это довольно удивительно, ведь у Веры имеется долларовая заначка, и с каждым скачком валюты Вера богатеет. У меня валюты нет, мне эти подскоки доллара по барабану. Звук пустой. Я и так не пью французских вин и не покупаю французских сыров. И неполиткорректно злорадствую, когда они исчезают с полок «Ашана».
Олег, старый поклонник Веры, ее Гранатовый Браслет, по телефону внушает ей, что все центральные каналы и газеты врут. Что нужно слушать только «Эхо», читать только «Новую» и смотреть только «Дождь». И что самый сейчас авторитетный журналист — господин Лошак. Я не смотрю новостей по центральным каналам, читаю только «Новую», слушаю только «Эхо» и чем больше читаю и слушаю, тем сильнее раздражаюсь и испытываю желание заорать на весь свет, что Крым наш. Может, дело в том, что я не смотрю «Дождь»? Но я не могу себя заставить. Развязный стеб «Дождя» вызывает у меня рвотный рефлекс. Впрочем, патриотические проповеди и утешительная ложь на центральных каналах тоже ни в чем меня не убеждают.
Что ни включу, в голове возникает шекспировская реплика: «Чума на оба ваши дома!» Мое поколение ушло и уходит. А я еще жива, мне пока везет. Мизантропия мне несвойственна. Я полагаю, что сохранила способность ворочать мозгами. Тогда почему я злюсь? Не потому ли, что «Эхо» ставит эту способность под сомнение?
Сегодня ночью на «Эхе» давал интервью вышеупомянутый либеральный журналист господин Лошак, проделавший вслед за Радищевым путешествие из Петербурга в Москву. Он снял документальный сериал и делился своими путевыми впечатлениями. Он описал свою встречу и беседу с женщиной в брошенной деревне, где нет ни еды, ни чистой воды, где пусто, уныло и холодно. А она, эта женщина, радуется тому, что Крым — наш и Россия поднялась с колен, и верит СМИ, и не замечает прямой связи между своей нищетой и аннексией Крыма. Она — за Путина. И Лошак дал понять, что женщина вконец зомбирована. Ну почему я в ярости вырубила звук? Чем этот Лошак так взбесил и оскорбил меня? Ведь он же говорил разумные вещи. Что Радищев был нашим первым интеллигентом, что в его время тоже произошло завоевание Крыма, что интеллигентный Радищев взглянул окрест себя и душа его страданиями человечества уязвлена стала. Но господин Лошак небрежно привел цитату. Неточно. А значит, она не вошла, не вписалась в его сознание. Радищев для него — только повод, только прием, уловка, рекламный ход. Его интерес к нищим обитателям обезлюдевших придорожных деревень — совершенно другого рода, чем сострадание Радищева. Я же причисляю себя к этим нищим, обездоленным, ограбленным и преданным бюджетникам, к этим бомжам, анчоусам, сельдям в бочке, зомбированным пенсионерам. Но антипатия моя не направлена на власть имущих. Да, власть меня грабит, это нормально, это в порядке вещей. Другой власти не бывает и быть не может. Любая следующая власть будет не лучше, а почти наверняка намного хуже. Я злюсь не на власть, а на имущих, успешных и высокомерных. На тех, кто меня унижает, кто учит меня в «Новой», по «Эху» и на «Дожде», как следует преуспевать, кого и как любить и ненавидеть. Не открывая никакой перспективы, кроме еще большего унижения или голодной-холодной смерти. Либеральный господин Лошак, между прочим, заметил, что нехорошо стебаться над бедными. Он, наверное, считал, что посочувствовал мне, а на самом деле наступил, не глядя, на больную мозоль. Вот здесь, на этом самом месте, я взъярилась и вырубила звук «Эха».
В начале перестройки самыми модными журналистами были Коротич из «Огонька» и товарищ Лошак из «Московских новостей». Коротич сочинил душераздирающий лозунг: «Переведи меня через майдан!» А потом свалил за границу. А те слепцы, что прошли и перешли через майдан, угодили в кровавую яму гражданской войны.
Перестроечного Лошака-первого на публицистическом ристалище сменил модный Лошак-второй.
Деловая госпожа Лошак сменила в музее на Волхонке несравненную старую Антонову.
У меня такое чувство, что Лошаки то и дело наступают мне на больную мозоль.
И как же тут не заорать, не помня себя: «Крым наш! Сами вы зомби! Сами вы все врете!»
Если дело дойдет до погрома, вы, продвинутые, свалите. А меня оставите на съедение правому сектору. Как и прочих неполиткорректных и неуспешных зомби, имеющих наглость причислять себя к интеллигенции.
Страстная пятница
О пятнице Страстной нам рассказал Булгаков, в Москву пришел Христос в сиянье черных знаков, и весь народ Москвы прочел и удивился, о Нем забыли мы, а Он к нам сам явился. Его узнали мы, на два десятилетья поверив, что уйдет, исчезнет лихолетье, что звон колоколов заглушит грохот века, что снова обретем мы облик человека и вспомним наконец о жертвах безымянных, что перестанем быть страной уродов пьяных, что старикам своим вернет народ почтенье, детей убережет от хамства и растления, дороги проведет и свалки уничтожит, что честь свою вернет, что мужество умножит, что воздух будет чист, что разум будет светел… Но все исчезло вдруг. Народ и не заметил.
Все кончилось не сегодня, не вчера, все кончилось в тот момент, когда топор вонзился в спину отца Александра Меня. И что бы потом ни происходило, и что бы ни сулил словоохотливый Горбачев, что бы ни вытворял обожаемый нынешней фрондой Борис Ельцин, все это уже не имело значения. Воскресла не евангельская чистота и любовь к ближнему, а старая номенклатура в лице ее наследников, охмелевших от капиталистической перспективы стяжателей, развратников, матерщинников и игроков. И спасали они от кризиса не бедную, оголодавшую Россию, а себя, драгоценных, любимых и богатых. У них и так было все, кроме свободы это демонстрировать. Все, что было у всех, они отняли. И землю (колхозную-совхозную), и небо (Аэрофлот), и воду (охранные зоны Москвы-реки, Невы, Волги, Енисея, Байкала и дальше по списку), и природу (нефть, газ, лес и далее по списку), и заводы, и эфир (ТВ, радио). Разорвали страну по живому, не просчитав последствий. Сколько же людей выбросили из жизни, не дав ни надежды на будущее, ни права на переселение в Россию. Двадцать лет прошло, и никто перед ними не покаялся. Не извинился. И ни один защитник свободы и прав человека не заметил трагедии миллионов, вышвырнутых из Союза. Ведь, казалось бы, что проще: сделать, как в Германии. Если ты родился в Союзе, имеешь право на гражданство. Если работал на заводе, имеешь право на акцию завода. Если у тебя куча детей, получи квартиру или возможность построить ее своими силами. А вместо этого пять процентов захапали себе материальные ценности, которые в течение семидесяти лет создавали остальные девяносто пять процентов. Объявили это демократией. Ничего себе, демократия, без порога явки на выборы. Так бы и говорили: нас пять процентов, и мы сами себя выбираем. Нам доходы, вам — свободы.
От образованных деятелей культуры, режиссеров, журналистов, писателей и, с позволения сказать, поэтов только и слышишь, дескать, ругаться матом позволительно, потому что свобода и великий русский язык. С одной стороны — свобода, а с другой — политкорректность. Материться позволительно, но не в адрес защитников свободы. Как только по телефону раздается нецензурная брань, оскорбленные либералы прерывают связь. А прерывать публичное выступление Сахарова, обрывать его речь на полуслове, как это сделал ваш обожаемый Горби, — политкорректно? Главный перестройщик, изобретатель гласности не пожелал выслушать гениального ученого, предлагавшего продуманный план социального переустройства. И началась политкорректная ваучеризация, то бишь пауперизация трудового народа.
Из политкорректного эфира нескончаемым потоком льется отрава рекламы. У меня такая иномарка, а я хочу другую — не такую, и продается яйцо Фаберже, и миллионер его купил и преподнес, а вот платье от Мэрилин Монро, за два миллиона долларов, а вот пентхауз в Нью-Йорке, за девяносто миллионов, налетай, подешевело, а вот вилла на Кипре, у моря, первая линия, а вот средства от перхоти, от импотенции, от облысения, от стресса, вот нурофен-ноотроп-прокладки-памперсы-айпеды-айфоны-мобилы-часы, украшенные бриллиантами… Слушайте, глупые люди, удивляйтесь и завидуйте, я успешная мама и бизнесвумен, выбросьте эту косметику, купите нашу, я пью кофе для похудения и питаюсь свининой, жаренной в ананасах, пусть неудачник плачет.
Никто не несет ответственности за упущенное поколение, которое выросло в этой пошлости. Интеллигенция сглотнула рыночную приманку, не поморщилась и превратилась в креативный класс. В публичном пространстве не осталось личностей, только медийные имиджи, сплошь успешные звезды, менеджеры, плейбои, спортсмены, танцоры, рок-музыканты и светские львицы, которые нажили (на чем?) неподобные миллионы. И попробуй, предположи, на чем именно. Кто не пойман, тот не вор. Молчать, анчоус убогий, бюджетник, биомасса ты этакая.
И только нищие пенсионерки, старухи на лавочках у подъездов, оплакивают молодежь, которая глотает содержимое ящика, матерится, пьет, нюхает смеси, колется, бьет детей, болеет за «Спартак». Прощай, немытая Россия… Не в том смысле, что я смываюсь, а в том, что, если не отмоешься, — прощай.
И где набраться христианского смирения и прощения? Страстная Пятница, казнь Христа. С Воскресением Христовым теперь поздравляют заранее, вместе с Первомаем, прямо на рекламе в магазинах. Так что искупление грехов никого особенно не волнует. Лишь бы яйца раскрасить.
Пасха
На Пасху в квартире № 27 пекли куличи. Пекла Анна Васильевна, отцовская мачеха, пекла Мила Лесевицкая и пекла тетя Таня, Татьяна Анатольевна, урожденная Денисьева, жена дяди Игоря. У нее получались самые вкусные, ароматные и легкие. Она вообще классно готовила, потому что происходила из мелкопоместных дворян и получила соответственное домашнее воспитание. Она умела ходить на рынок, выбирать самые лучшие белые грибы и творить из них суп, какому не было равных во всей Вселенной. Она была красавица, носила на голове ободок в виде золотой змейки, никогда не работала и вообще знала себе цену. Не то что моя мама, которая всю жизнь только и делала, что работала-работала-работала.
Между прочим, тетя Таня сохранила подшивки дореволюционной «Нивы» и находила время читать нам вслух рассказы из этих журналов и сказку о Конькегорбунке. С горбунком вопросов не было, с «Нивой» — сложнее. Там, например, в одном рассказе девочка нечаянно убивает паука, и няня ей объясняет, что убивать — грех. Нам в школе ничего про грех не объясняли, и понятие это было для меня открытием. Но я отвлеклась. А может, и нет, ведь Пасха — это память о совершенном людьми убийстве. Память о том, что убивать грешно. Хотя вообще-то человечество об этом вспоминает слишком редко, чуть ли не раз в году, и то — не все человечество, а лишь его незначительная часть — христиане. Да и те как-то не делают отсюда далеко идущих выводов, но все больше убивают и все более ухищренными способами. И в Европе, и в Америке, и в Евразии все вооружаются и вооружаются. Странно все-таки. Ведь Христос был учитель, целитель и проповедник, а христиане, что католики, что протестанты, что православные, ставят в бюджете первой строкой оборонку, а медицину и образование и культуру заталкивают в самый конец раскладки. А когда люди выходят на улицы, требуя образования, медицины и увеличения пенсионных выплат, финансисты, политологи и олигархи обвиняют капризные глупые массы в том, что те подрывают экономику. А полеты в космос, сумасшедшие футбольные баталии, конкурсы красоты, дикие шоу и фестивали, а также олимпиады ее поддерживают? Не понимаю, почему мне кажется, что я одна на свете это понимаю. Не }пмнее же я всех прочих. И ведь все равно помрем, зачем же так торопиться на Марс, если на Земле еще столько горя? Сплошной Гоббс. Война всех против всех. Московская церковь конфликтует даже с Киевской и Греческой. Не говоря уж о католиках, униатах и протестантах. В Израиле одни иудеи враждуют с другими, обзывая их русскими и отказываясь признавать Израильское же государство. В исламском мире враждуют шииты, сунниты, алавиты, салафиты, ваххабиты… И как это понимать?
Во времена моего детства, в атеистическом эсэсэсэре, церквей было мало, колокола звонили редко, синагога имелась всего одна, на улице Архипова, а была ли мечеть — сомневаюсь. В Ленинграде точно была, очень красивая. Но баранов на улицах никто не резал, и религиозные разногласия не слишком усложняли реальную жизнь. Так, иногда. Разве что в пасхальное воскресенье девчонки во дворе давали мне понять, что я вроде как с изъяном. Но куличом все-таки угощали. Все угощали куличами: и Анна Васильевна, и Мила Лесевицкая, и тетя Таня. А тетя Соня — польским мазуреком, но в другой день.
Бабушка на еврейскую Пасху угощала мацой, но маца мне не нравилась, куда ей до кулича. И рыба-фищ тоже не особо нравилась. Грибной суп вкуснее. Впрочем, это на любителя. Мама никогда не варила грибной суп. Зато ее пироги с капустой никто никогда не переплюнул.
Самую трогательную Пасху я пережила в начале перестройки. Тогда меня пригласила на седер моя соседка Галя Зайцева. Там все было, как положено: и серебряный подсвечник-менора, и свиток Торы, и главный мужчина в кипе, и мальчик, задающий вопросы, и горькие травы, и маца, и рыба-фиш. Но поскольку главный мужчина был вот уже лет как двадцать пять женат на русской женщине, то он, естественно, пригласил на седер и жену. И тещу. И обе они были, что называется, гойки. Мать Гали, Софья Ефимовна, мудрая, веселая и щедрая старая еврейка, была всем страшно рада. И поэтому на столе стояли ветчина и черный хлеб.
Пришел ко мне однажды журналист из Израиля и стал звать в эмиграцию. Я ему сказала, что мне нравится Израиль, что я восхищаюсь теми, кто создал этот сад в пустыне, но лично мне непонятно, чем идея избранности отличается от идеи исключительности, а идея исключительности от идеи превосходства, а идея превосходства от любого шовинизма. И он, такой образованный, такой талантливый, такой знаменитый, успешный и смелый, почернел лицом и ушел, хлопнув дверью. И осталась я наедине со своей верой в экуменическое будущее человечества.
Моя мама говорила, что Бог один, а церкви людей ссорят. Я бы даже сказала так: церкви людей ссорят, а Бог один.
Антибовка лежит на Лазурном Берегу, километрах в тридцати от Ниццы. Меня пригласил сюда Кеша, чья жена Галя была когда-то мой ученицей. У Кеши с женой там домик в обычном квартале, разделенном на части. Часть квартала с общим входом, гаражом и бассейном называется домен. На нижнем этаже домика — гостиная и кухня, на втором — спальня, на третьем — детская, она же гостевая. К домику пристроена терраска, над терраской раскинула густую листву лиана, получился навес — пергола. Перед терраской — зеленый газончик, по периметру газончика растут цветочки, до моря двести метров пешком, до булочной — три минуты на велосипеде. По здешним меркам, Кеша с Галей живут праведно и очень скромно. Кеша по профессии строитель, он мог бы строить и строить. При его аккуратности, обязательности и трудолюбии он мог бы горы свернуть. Но в России заказов мало, так что у Кеши достаточно времени, чтобы ухаживать за своим газоном и изучать французский. Кеша возит меня по живописным окрестностям — в Грасс, в Сен-Поль, в Канны, в княжество Монако и его столицу Монте-Карло. В этом раю так красиво, особенно если смотреть сверху вниз на морские просторы и городские панорамы. Черт побери, о таком счастье можно только мечтать. Я сижу в креслице, греюсь на солнышке, листаю журнальчик, курю сигаретку. Я — на Лазурном Берегу, мне тепло, уютно. А я все думаю о том, что где-то там, далеко-далеко, на Украине, идет война, о которой здесь не принято не то что говорить, но даже упоминать.
Паша, приятель Кеши, живет на вилле. В ней два высоченных этажа, просторная терраса, просторная кухня, участок площадью в полгектара с фигурным бассейном, громогласными лягушками и неумолкающими цикадами. Раньше вилла принадлежала знаменитому французскому архитектору, дожившему до ста лет. Зачем теперь французу эта роскошная вилла? У него есть еще нескольких таких же. А Паше вилла нужна. У него жена, ребенок, он по профессии медик, по призванию бизнесмен, он освоил в России рынок ботокса, все элитные дамы-россиянки от тридцати до девяноста лет приобрели благодаря Паше бальзаковский возраст. А он приобрел виллу в Антибовке. Не от хорошей жизни. Америкосы вытеснили его с русского рынка. И он был вынужден оставить любимое дело и в расцвете сил уйти на покой. Впрочем, покой нам только снится. Вилла требует вложений и забот. Не говоря уж о том, что того же требуют жена и ребенок и банковский счет Жена у Паши интеллигентная, элегантная, молчаливая и умная.
Жора, приятель Паши и старший компаньон Кеши по строительному бизнесу, тоже живет на вилле. К вилле ведет подъездная дорожка в триста метров. Ворота резные, участок площадью в гектар, вилла мраморная, трехэтажная, гостиная с зеркалами и диванами, кухня со всеми удобствами. Кроме просто большой террасы имеется отдельная курительная терраса, кроме фигурного бассейна имеется частный пляж. Кроме теперешней жены, по соседству с Жорой обитает его бывшая жена, красавица и звезда экрана. При разводе он поступил с ней жестоко: оставил жалкие пять миллионов евро. Общие знакомые искренне сочувствуют бедной женщине и дружно осуждают скупого Жору. Теперешняя жена моложе Жоры лет на двадцать. Или тридцать. Или пять (ботокс стирает возрастные грани). Теперешняя жена поглощена воспитанием пятилетнего сына. Она непрестанно говорит об исключительной, уникальной, ни чем не сравнимой одаренности своего чада. И в присутствии гостей, не будучи в состоянии сдержать обуревающих ее горячих чувств, одаривает сыночка комплиментами, а супруга знаками любви: поцелуями и объятиями. Так что у Жоры, несмотря на состояние, забот хоть отбавляй. Счастливая семья, банковский счет и бизнес требуют постоянных вложений.
Сергей — новое лицо в тесном кругу местных старожилов. Он разбогател на нефти, сравнительно недавно поселился на Лазурном Берегу, познакомился с Кешей и пригласил всю теплую компанию в гости. У него вилла в Каннах. Раньше она принадлежала каким-то голландцам, разбогатевшим на производстве грузовых фур. Подъездная дорога — километр, парк площадью в два (или три?) гектара. В саду туи-пальмы-платаны-лианы, розарий, заросли лаванды, утрамбованные каменной плиткой дорожки, трогательные ручейки и фонтанчики, фигурный бассейн, разумеется, с джакузи и пр. Вилла мраморная, пятиэтажная, с четырьмя террасами разного назначения. При виде этого роскошества гости едва успевают скрыть стресс за приветственными поцелуями. Хозяйка, бывшая топ-модель, в романтическом (до полу) туалете от Диора любезно приглашает нас в дом. Ужин (восемь — или десять? — перемен) продолжается пять часов. Нас обслуживают две официантки (помощницы поварихи-гречанки). Хозяйка умело направляет беседу в нужное русло, и гости послушно обсуждают такие насущные проблемы, как погода, сорта шампанского и цены на них, возмутительное поведение французских сантехников и садовников, нелепость и мелочность здешних административных распоряжений и пр. Потом дамы столь же послушно встают и следуют за хозяйкой, вознамерившейся продемонстрировать им свое и без того несомненное материальное превосходство. Вот пепельница величиной с ведро, прямо из Марокко. Вот лифт с зеркалами и обшивкой из красного дерева. Вот сервиз чистого серебра, восемь предметов, прямо с аукциона «Кристис» (или «Сотбис»?). А вот супружеская спальня. На стене портреты супругов в чернокрасных тонах, этакая помесь кубистического Пикассо и Босха. Со специальной подсветкой. Загорается лампочка, на мужской физиономии появляется мерзкая ухмылка. Загорается другая лампочка, столь же мерзкая ухмылка наползает на женскую физиономию.
— И как ты под этим спишь? — интересуюсь я у хозяйки.
— Это стиль дьяболик. Очень модный парный портрет. Обошелся мне в шесть тысяч евро.
И хоть девушка она темная, образованностью не блещет, путает манну небесную с карой небесной, но в
данном случае глубоко права. Это стиль дьяболик. Проще сказать, чертовщина. Жесть.
Такие дельные, такие головастые, энергичные, рисковые мужики и бабы торчат в этой роскоши, изнемогая от безделья. А в России столько непостроенных дорог, столько мусорных свалок, нерешенных социальных, моральных и прочих глобальных проблем. За державу обидно.
В русской Антибовке все со всеми тусуются. При встрече и расставании все со всеми целуются. А после трапезы угощают друг друга таблетками соответствующего назначения. Не совать же в рот перышко, как древние римляне.
Ментон
Мне восемьдесят лет, пора подумать о душе, то есть о смерти. Впрочем, о смерти я задумалась еще в детстве, во время войны. Тогда умереть значило совершить героический подвиг, как Зоя Космодемьянская, как капитан Гастелло, как Александр Матросов или Гуля Королева.
В школе и университете умирали в основном литературные герои: Пиковая дама, князь Андрей, Петя Ростов, Анна Каренина, леди Макбет Мценского уезда, Дездемона, Гамлет, Настасья Филипповна, Гретхен, Чингачгук, Клаас и еще много-много других. Читать про это было очень интересно, но страха смерти эти смерти почему-то не вызывали. Может быть, для того они и были описаны. О том, что умерли все, кто их описал, я не задумывалась. Мне все они казались живыми: Пушкин, Толстой, Шекспир, Достоевский, Гете, Шарль де Костер. На вопрос, можно ли общаться с мертвыми, я всегда с уверенностью отвечала: «Разумеется. Мы же перечитываем Диккенса или Дюма».
Страх смерти я испытала только после рождения Володьки: если что-то случится со мной, то что случится с ним? Я так запаниковала, что побежала к нашему тропаревскому пруду («графиня изменившимся лицом бежит к пруду») Не топиться, а купаться. Летом и зимой, в любую погоду. Моржевание — отличное лекарство против экзистенциального ужаса. Жаль, что спокойствия хватает ровно на сутки, а назавтра нужно опять лезть в воду, а то испугаешься. Меня хватило лет на двадцать. Мой рекорд — заплыв на десять метров в проруби на морозе в 31 градус. Но этим наших моржей не удивишь. Одна молодая женщина в тот же мороз купала в той же проруби своего пятимесячного ребенка. Привозила на санках, раздевала и, держа его на руках, осторожно и спокойно спускалась в воду. Температура воды всегда не ниже 4 градусов. Ребенок никогда не плакал.
Но чем ты становишься старше, чем чаще теряешь близких, тем чаще тебя посещает мечта о легкой смерти. Чтобы не корчиться от боли, не отравлять существование окружающих, не испытывать унизительной зависимости, беспомощности и бессилия.
В начале перестройки я не раз вспоминала о даче, построенной Владимиром Григорьевичем Венгеровым в Ментоне, на Лазурном Берегу Средиземного моря. Он отдал ее под дом престарелых для французских киношников. А вдруг Владимир Григорьевич оставил завещание? И в нем упоминается мой отец? И я имею право на часть наследства? И смогу воспользоваться ею, чтобы поселиться в этом доме и тихо-мирно, никого не обременяя, умереть на Лазурном Берегу?
Что ж, я съездила в Ментон. Городок спокойный, живописный, очень-очень богатый. И дом этот я нашла. И ворота в сад были открыты, и двери в дом тоже не заперты. Никто меня не остановил, я вошла и, ориентируясь по запаху, нашла столовую. Открыла дверь и заглянула внутрь. В столовой сидело человек пятьдесят стариков, которые поглощали свой обед в абсолютном молчании, не глядя друг на друга. Вот когда меня охватил настоящий экзистенциальный ужас. А что, если эти привидения со мной заговорят? Я ведь даже француз, ского путем не знаю. Могу прочесть новеллу Мериме (со словарем), но уж никак не объясниться в богадельне на предмет эвтаназии. Нет, ни за что. Только не это. Умереть при жизни мне вовсе не хочется.
Друзья, которые читали рукопись, упрекали меня в отсутствии концовки. Они правы. Но я лишь записала то, что само пришло мне на память. Я не придумала убедительного финала, потому что вообще ничего не придумала. Я и переводчиком стала потому, что не обладаю воображением. На этом мои мемуарески заканчиваются. Я прощаюсь с ними, не поставив точки. Это значит, что я еще жива.
Прошу прощения у тех, кого эти заметки разочаровали.
Письма ученому соседу
Выше я призналась, что осталась должна Марку Бенту двести пятьдесят марок. Но их у меня не было и в Москве. В Москве все тогда стремительно катилось в тартарары. Во дворах стреляли, в вагонах метро спали бомжи, в мусорных контейнерах рылись нищие старики и старухи, в парках на окраинах бродили бездомные дети, в центре появились роскошные «мерсы», а в них отморозки с пустыми глазами. Со всех сторон наезжала чудовищная реклама, и на улицах повис мат. Денег не было. Марк, конечно, не торопил с возвратом. Но меня замучила совесть. И я решила регулярно напоминать ему о своем долге (и существовании), для чего принялась писать в газету «Экран и сцена» еженедельные колонки с разными впечатлениями. Газета была пристойная и бедная, без рекламы. Колонка называлась «Пятое измерение», а письма я адресовала Ученому соседу. Каждое письмо начиналось обращением к Марку и заканчивалось вздохом сожаления о том, что нас осталось мало… Нас осталось мало, но того, что было в нас заложено, хватало, чтобы не потерять человеческий облик, не предать своих ценностей, не разорвать круг.
И этих писем я настрочила примерно пятьдесят. Их читали театральные люди, в том числе кассиры, которые начали пускать меня бесплатно в различные московские театры. Спасибо Марку.
Гофмансталь
Дорогой друг, я листаю эту книжку с чувством горькой меланхолии. Такова уж судьба ее автора — наводить на печальные размышления.
На черном переплете имя — Гуго фон Гофмансталь и символические фигуры Короля, Монахини и опирающегося на вилы Крестьянина.
На черном форзаце — изображение валяющейся на земле короны, меча и разбитого горшка, из которого сыплются золотые монеты.
На титуле указано издательство «Искусство», которое давно уже не вызывает прежних возвышенных ассоциаций, и год: 1995.
Листаю дальше. Контртитул: «Перевод с немецкого». Кроме пьесы «Имярек», переведенной в 1911 году Щепкиной-Куперник и изданной крошечным тиражом в «типографии Розсохина», все тексты переводились впервые. Иными словами, Гофмансталь у нас совершенно неизвестен и после революции вообще никогда не издавался. А потому заведующий нашей (увы, бывшей) редакцией Валентин Иванович Маликов пригласил для участия в этом издании (тогда еще не употребляли словечка «проект») лучшие силы. В списке переводчиков — имена Альберта Карельского (ныне покойного), Александра Михайлова (ныне покойного), Юрия Корнеева (ныне покойного), Дмитрия Павлова (ныне покойного). Ах, как горячо они отстаивали свое прочтение текста, сколько души и сердца вкладывали в каждую находку, в каждый пассаж, в каждый знак препинания, сколько раз звонили по телефону в редакцию и ко мне домой с одним и тем же вопросом: «Когда же, когда выйдет книга?» Всем нам тогда казалось, что в нашей работе есть смысл, что читатель ждет, что время поджимает, что книга нужна. Конечно, ни Валентин Иванович, ни я в редакции давно не работаем, да и редакции той нет.
«Составление и предисловие Ю. Архипова». Предисловие, на мой взгляд, информативное и дельное, состав определен с большой точностью, включает лучшие драмы («Смерть Тициана», «Глупец и Смерть», «Имярек», «Трудный характер», «Башня»), новеллы («Кавалерийская повесть» и «Приключение маршала Бассомпьера»), большой блок эссеистики (в том числе знаменитое «Письмо», «Короли и вельможи Шекспира», статьи о Габриэле Д’Аннунцио, Уайльде, Шиллере, Готфриде Келлере, Бальзаке, Нижинском, Жан-Поле, Раймунде, Бетховене, Грильпарцере, Юджине О’Ниле, Штифтере, Лессинге), самые знаменитые фрагменты и афоризмы, а также весь корпус стихотворений. Правда, состав был рассчитан на двухтомник, что позволило бы снабдить комментарием не только драмы и стихи, но и эссе. Но эта задача оказалась невыполнимой: том объемом около 40 печатных листов (846 страниц) и так с трудом поместился в твердый переплет, так что пусть уж эссеистику комментируют будущие поколения.
«Художник: А. Райхштейн». Тонкий, великолепно образованный, благожелательный, мягкий, умница. Из «Искусства» давно ушел, из России уехал.
«Книга издана при поддержке фонда „Культурная инициатива“». Вот именно. При поддержке. На подачку. Когда от книги отказалось не только издательство «Искусство», но и петербургский «Северо-Запад». Насколько мне известно, поддержка была солидной: 17 000 долларов. PI «участники проекта» получили нечто вроде гонорара. Я, например, как титульный редактор и составитель комментария получила самую крупную сумму — целых 500 000 рублей, то есть, за вычетом подоходного налога, почти 100 долларов. А если считать в марках, то получится и вовсе астрономическая сумма.
Так что теперь все о’кей. Книга вышла из печати, некоторое время продавалась на лотках по цене, кажется, 35 000 рублей за экземпляр.
Правда, пресса ее не заметила, подумаешь, какой-то там никому не известный австриец Гуго фон Гофмансталь.
И в самом деле, кого теперь из серьезных людей, критиков-журналистов волнуют проблемы Бога, или морали, или связи времен, кого интригует загадка генетической памяти, кого тревожит хрупкость культуры кого интересуют судьбы вдохновенных поэтов прошлого, разочарования философов, заблуждения гениев, муки художников. Кого удивишь всеобъемлющей метафорой, изяществом письма, феноменальной памятью, глубиной и страстностью мировосприятия? Все это — то ли декаданс, то ли символизм, то ли модерн. Полно, а был ли мальчик-то? Может, и не было? А современная филологическая наука, за которой мы так стремимся поспеть, давно уже то ли исследует, то ли проповедует, то ли исповедует постмодерн, то бишь вестерн, научную фантастику и порнографию. Так, по крайней мере, учит американский авторитет господин Лесли Р. Фидлер, перед которым заискивают гейдельбергские профессора.
Хотя… остались еще и такие чудаки, которые всетаки покупают Гофмансталя за 35 000, преподают в русских университетах, работают за гроши в музеях и библиотеках, пишут диссертации о Гете, Шекспире или Вольтере, изучают Конфуция и тому подобное. Я лично знаю одного такого аутсайдера в Германии: на пустом, что называется, месте он создал великолепный музей Фауста в крошечном Книттлингене. И еще одного в России (он создал на таком же месте кафедру восточных языков в РГГУ). Так вот он, этот русский синолог по имени Григорий Ткаченко, сказал мне как-то между прочим, что «матч состоится при любой погоде». А книги имеют свою судьбу, и нам не дано предугадать.
P. S. Позже Ткаченко создал умопомрачительной красоты программу курса универсальной антропологии для основанного им же института антропологии в структуре РГГУ. Он провел международную конференцию, в которую вбухал все свои личные сбережения, сотворил, так сказать, успешный бренд. За что его и снял с должности наш прогрессивный ректор, господин Афанасьев. Ткаченко умер от разрыва сердца.
Июнь, 1996 Привет и пожелания безмятежных каникул, господин профессор! Держал ли ты в руках «Мировое древо» сирень «Arbor mundi» — международный журнал по теории и истории мировой культуры? Вышло четыре номера, хотя и весьма скромным тиражом: 2000 экземпляров. Первые три номера уже исчезли с прилавка нашего университетского киоска, а четвертый я еще успела приобрести, о чем сообщаю тебе с чувством, так сказать, глубокого удовлетворения.
Если у вас там, в глубинке, о нем еще не знают, то пришлю четвертый номер немедленно по прочтении. Уровень публикаций в самом деле производит сильное впечатление.
Номер открывает статья «Представления об истории в древнескандинавской литературе» Бьярне Фидьесталя, профессора университета в Бергене, скоропостижно скончавшегося в 1994 году. Есть портрет: мягкая улыбка, седина, спокойный взгляд. Чем-то похож на Карельского, и та же судьба, и такая же безвременная кончина в расцвете сил, на пятьдесят шестом году жизни.
Судя по этой статье, он носил в своей памяти всю скандинавистику. Ни малейшей рисовки эрудицией, ни малейшей натяжки в интонациях. В статье речь идет о том, каким образом введение письменности повлияло на эддическую поэзию и поэзию скальдов и способствовало формированию новых жанров: исторической литературы и литературы вымысла.
Эва Эстерберг, профессор Лундского университета (Швеция), публикует эссе под интригующим заголовком «Молчание как стратегия поведения. Социальное окружение и ментальность в исландских сагах». Молчание персонажей исландских саг она объясняет высокой ценой слова. Речь в исландских сагах представляет собой значимый акт, столь же опасный, как любое другое действие. Сказанное не вернешь назад, как не устранишь следы от раны, нанесенной мечом. Что сказано, то сказано, даже если произнесено это устами ребенка или женщины. Затрудняюсь объяснить, почему это напоминание о ценности слова оказывает на меня столь благотворное действие. Наверное, утешительно сознавать, что где-то, пусть в прошлом, есть какой-то выход из грязного потока бессодержательных словес, изливаемых на нас массовыми средствами.
Майкл Свонтон, профессор Эксетерского университета (Великобритания), описывает «гобелен из Байо, сказание не в стихах, но в вышивке». Этот уникальный гобелен, датируемый XI веком, представляет собой прямоугольный фриз длиной более 200 футов и высотой около 12 дюймов, на нем вышито «600 или 700 человеческих фигур, 200 лошадей, огромное количество других животных, 37 кораблей, 33 здания, 37 отдельных или собранных в группы деревьев». В сущности, это летопись, хроника в виде «живых картин», и повествует она о событиях британской истории 1064–1066 годов, то есть о норманнском завоевании, битве при Гастингсе и основании Эдуардом Исповедником Вестминстерского аббатства. Вопрос, интересующий автора: как гобелен читался современниками? Ответ, предлагаемый в качестве гипотезы: двигаясь вдоль изображения, они воспринимали его как остановленные сцены некой драмы. Рассматривая гобелен, они проигрывали сюжет в своем воображении. Возможно даже, предполагает автор, что умелые вышивальщики 1066 года признавали существование игры, принимали в ней участие и наслаждались ею.
Известный медиевист И. Е. Данилова пишет о теме лестницы в итальянском искусстве кватроченто, и ее искусствоведческая статья читается как увлекательная повесть или поэма: «Вертикальная иерархия средневековой картины мира: по ступеням, снизу — вверх, от земли — к небу, от мрака — к свету, от греха — к святости получила воплощение в ярусном построении средневековой живописи». Анализируя изображения лестниц на полотнах Донателло, Боттичелли, Липпи, Гирландайо, вдумываясь в текст трактата Альберти, исследователь обнаруживает изменение той роли, которую играла лестница в сознании итальянских архитекторов и художников (и их заказчиков): «Лестницы постепенно утрачивают чисто конструктивное значение и становятся способом облагораживания жилища… Открытые в центральное пространство, эти лестницы встречают вошедшего и ведут его вперед…» На живописных полотнах появляются одноэтажные просторные виллы, изображения лестниц отодвигаются в кулисы сцены или исчезают вообще. Но истекает эпоха гуманизма, близится контрреформация, заявляет о себе барокко с его пышностью мирских ритуалов. «Лестницы Высокого Возрождения, — заключает свою статью И. Е. Данилова, — выполняют, в сущности, функцию, торжественного пьедестала, это один из способов монументализации персонажей, как в живописи, так и в архитектуре. Отказ от лестниц у Альберти и Пикколомини должен был воплощать гуманистическую идею равенства посвященных. Возвращение к лестницам в XVI столетии связано с представлением о превосходстве избранных». Вообще, журнал импонирует спокойным тоном и серьезностью аргументации, четкой артикуляцией сказанного, воспринимается как свободное пространство глубокого интеллектуального общения «в духе и красоте».
Далее следует элегантное эссе Жана-Клода Шмита, французского историка из Школы высших исследований социальных наук (Париж). Он рассматривает происхождение и значение сакрального и профанного как обозначающих два полюса религиозной мысли. И приходит к нетривиальному выводу о том, что пессимистическое линеарное представление о десакрализации или дехристианизации истории (европейской) не так уж бесспорно, что существуют разные формы сакрализации, сменяющие и вытесняющие друг друга, но в принципе никогда не исчезающие. Я понимаю это так, что человечество сохраняет представление о святости высшего начала, а когда одно представление профанируется, на смену ему приходит другое, третье, и так всегда. (И как-то немного жаль, что совсем отменили диалектику, как будто ее исповедовали только марксисты.)
В этом очерке много любопытных примеров, знакомство с коими весьма поучительно и, как говорится наводит на размышления. Цитирую: «Сакрализованные места, периоды времени, лица были защищены от святотатства каноническим правом, которое устанавливало, как далеко простиралось право убежища (30, 40 или 60 шагов вокруг церкви), определяло епитимьи, которые следовало налагать за богохульство, за осквернение святых мест (особенно если там пролилась кровь), за насилие над клириком». Конец цитаты. Вот бы сейчас нам завести какое-нибудь, пусть совсем маленькое, каноническое право, чтобы иметь в случае чего убежище, чтобы никто не осквернял святынь, не проливал там кровь, чтобы не оскорблять священнослужителей и чтобы они… впрочем, о чем это я? Люди сделали все наоборот. Вместо почитания Бога, они сакрализуют «мистическое тело короля» и сравнивают утренние выходы короля и отправления его ко сну с восходом и заходом солнца. «Сакральность короля распространялась на места (дворец, комнату), в которых воплощались его могущество и память о нем, а также на людей, которые ему служили». Сакральность короля уступает очередной форме — сакральности нации. «Патриотизм или национализм можно считать секуляризованными формами сакрального в современном обществе. У связанной с родиной мистики тоже есть свои мученики, свои памятники погибшим и свой пантеон, свои национальные праздники и свои знамена».
Про сакрализацию социального устройства мы здесь, в России, тоже могли бы рассказать кое-что. А теперь мы успешно пытаемся сакрализовать рекламные картинки, жевательные резинки, прокладки, памперсы, иномарки, жестянки, банки, танки, самолеты, ракеты, дискеты, кассеты, фирменные пакеты, государственные тайны. Из статьи Шмита следует, что это вполне возможно, но «и это пройдет».
Е. Е. Дмитриева в статье «Обращения в католичество в России XIX в.» анализирует феномен повышенного интереса к католицизму, проявленного в позапрошлом веке. И какие же удивительные предстают перед нами судьбы, какие аристократические имена! Петр Чаадаев. Дипломат Иван Гагарин. Декабрист Иван Лунин. Воспитанные в традициях вольнодумства XVIII века Григорий Шувалов и Петр Козловский и мятущийся романтик Владимир Печерин. А какие женщины! София Свечина, ставшая влиятельной фигурой во французских католических кругах, две Елизаветы Голицыны, Зинаида Волконская… Все думали о спасении души.
Если честно, человеку моего поколения и воспитания все еще трудно поверить, что богатые тоже плачут. То есть плачут, конечно, но как-то не так. Умом-то я понимаю, что точно так же. Странно, что примеры не убеждают сердца. Во всяком неординарном поступке мерещится то ли подвох, то ли расчет, то ли поза, то ли шизофрения. Прочти статью, очень интересно, что скажут тебе эти биографии.
Материал А. А. Ицхокина «Две формы рациональности и две структуры мира» оценивать не берусь. Мне он оказался не по зубам. Автор цитирует Эйзенштадта, Вебера, Нортропа, Ницше, Фрейда, а еще китайцев и, разумеется, японцев, приходя к такому резюме: «Запад использует сегодня дихотомию коммунизм — демократия как средство совершенно необходимого для него различения между социетальными злом и добром».
Пафос концепции в том и состоит, что две последние категории имеют структурообразующее значение только для Запада. Автор рассчитывает на твердость китайских лидеров в их выборе восточного пути, на их способность «умиротворения марксистского мифа и его полного растворения в общем мифологическом хозяйстве китайской культуры». Он надеется, что китайцы смогут «устоять на этот раз против тупого западного прозелитизма, не меняя одну полубессмысленную абстракцию на другую со всеми вытекающими отсюда революционными и постреволюционными последствиями».
То есть Запад есть Запад, Восток есть Восток… Круто. А человечество — есть?
Еще не вечер.
Июнь, 1996Arbor Mundi
Привет, как дела, получил ли письма и вырезки, пишут ли общие знакомые, за кого голосуешь, где отдыхаешь, что читаешь, что публикуешь, каникулы длинные, так что пиши.
Была в театре Вахтангова, видела фоменковскую «Пиковую даму». На спектакле немного скучала, а забыть не могу. Живу под обаянием этой удивительной работы, где все открыто заново, хотя вроде бы давно знакомо: гусары, гитары, зеленое сукно игорного стола во всю сцену, стрельчатые окна, витая лестница, вольтеровское кресло с огромными «ушами», Германн в черном сюртуке, Елизавета Ивановна в белом платье, Старуха в салопе с необъятным капюшоном. Но ни одного слова из текста не пропущено, актеры играют не на публику, а с публикой, словно подмигивая ей, дурачась или разыгрывая шараду. Ставка делается на общность культурного поля или, если угодно, культурного шифра, и все освещено каким-то прелестным светом. Игра об игре. Представляешь, Фоменко решил ключевую сцену убийства как любовное объяснение Германна Старухе, и из этой метафоры легко и естественно родилась ностальгическая поэтика спектакля. Графиня умирает в объятиях Германна, когда он становится с ней груб. Женщина умирает от оскорбления, и тут неподражаемая Максакова, только что до колик смешившая зал своими старческими капризами, уносится со сцены в каком-то бешеном порыве, молодая, сильная, мстительная и неуязвимая. И публика реагирует точно в нужный момент взрывом восторженных аплодисментов.
Вот, скажем, Раскольников, тот нарочно процентщицу топором устранил, а Германн только нахамил, только припугнул и убивать не собирался, а все-таки сходит с ума. Хотя ему никакое человеческое преследование не грозит, никакой Порфирий его не допрашивает. В чем его грех? Я так полагала, что в самой жадности, в самом азарте и желании проникнуть в сатанинскую тайну дарового обогащения. А у Фоменко разгадка шарады в том, что Германн убивает не только графиню, а в принципе всех тех женщин, которые живут в ней, в ее вольтерьянской памяти, отвергающей настоящее и спасающей от забвения прошлое. Говорят, мы все вышли из гоголевской «Шинели», а у Фоменко получается, что еще и из пушкинской «Пиковой дамы».
Кстати, «Arbor mundi» помещает статью А. Т. Парфенова «Гоголь и Барокко: „Игроки“», где автор развивает мысль К. Мочульского о гениальной одаренности Гоголя в нравственной области: «Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие „великую русскую литературу“, ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство». По мнению Парфенова, Гоголь реализовал в «Игроках», как и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах», барочную антиномию — идею бренности и иллюзорности видимого внешнего мира и реальности мира невидимого, скрытого за завесой непостижимой тайны бытия. Карточная игра трактуется как модель жизни. Видимый зрителям авантюрный плутовской сюжет (обман Утешительным и Ихаревым отца и сына Гловых) имеет скрытую за кулисами подоплеку (обман Утешительным Ихарева). Фамилии персонажей отбрасывают невидимые тени: Ихарев — от Лихарев, Глов — не фамилия, а лишь часть ее, ср. Углов, Беглов, Щеглов, Круглов; Швохнев от немецкого schwach — слабый, Замухрышкин — от «мухрыжка», плут. Даже имя крапленой колоды, Аделаида (Ивановна), означает по-гречески «невидимая». Фамилия Утешительный скрывает кощунственный смысл, так как пародирует наименование Святого Духа: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…» Мотивы трактира, гостиницы, шулера суть метафоры и олицетворения смерти. Колесо, повозка, путешественник — травестия спуска под землю. Любопытно, что улавливается некий общий «барочный» знаменатель для Бена Джонсона, испанского плутовского романа и Гоголя. «Мир Гоголя… смешная бытовая действительность, скрывающая в себе страшную реальность ада. Религиозность Гоголя служит основанием барочного художественного мира „Игроков“» — конец цитаты и статьи.
В разделе «Из архива» Н. В. Брагинская публикует исследование Ольги Фрейденберг, которая была, кажется, гениальным филологом, а стала знаменитой — и безвестной — как кузина Бориса Пастернака. И тоже — об игре, но об игре в кости. Оказывается, кости упоминаются еще в «Махабхарате», они заменили бобы и зерна, были ритуально связаны с культами огня, производительности и смерти, применялись в обрядах гадания и угадывания загадок. «Потом гадание становится состязанием, и, когда обряд вырождается в игру, играют при помощи бобов, орехов, зерен, деревяшек, костей… домино и шахмат. Сперва кости носят еще имена богов и считаются посвященными богам; игра… совершается в храмах и во время праздников. Разительнейшие примеры относятся к временам христианства: монахи играли в кости в монастырях из благочестия, пока Оттон Великий не запретил им этого под страхом смертной казни, а в церквах средневековой Франции духовенство играло в карты, особенно во время „обедни обжор“…»
Далее следует анализ метафорики древнейшего сюжета о благородном царе Нале, проигравшем царство, память и всю собственность богу смерти Кали, а затем сопоставляются греческая, римская, вавилонская и египетская версии. И Ольга Фрейденберг уверенно прочерчивает линию развития от «Махабхараты», от мифа о Геракле и римской блуднице по имени Акка Ларента (богиня смерти) через Петрония и плутовской роман — к «Пиковой даме».
Прощаюсь до сентября.
Июль, 1996Игра
Грустное это дело — делиться воспоминаниями. Как можно ими поделиться? Они — твои, твои года, твое богатство, твой ассоциативный ряд. Пытаешься писать все честно, а выходит как-то не совсем. Что-нибудь обязательно приукрасишь. Или забудешь.
Другая ловушка, куда так и норовит попасть мемуарист, это соблазн растечься мыслью по терпеливой бумаге и замучить читателями подробностями. Так что я не буду вспоминать, как мы на третьем курсе сдавали «зарубежку» и как круглый отличник Карельский не знал билета, а страшный и беспощадный профессор Р. М. Самарин вместо того, чтобы влепить ему двойку, отправил его в коридор прочитать материал и все равно поставил «отлично». И про то, как ездили на картошку в колхоз, где целыми ночами спорили о вечных вопросах и играли в кинга. И про письма из Берлина, где Карельский стажировался в Университете им. Гумбольдта. И про дивные вечера в гостях у Карельского, где танцевали, рифмовали, хохотали, флиртовали, читали самодельную стенгазету и слушали Высоцкого. И про защиту Карельским диссертаций, и про его лекции на филфаке, встречаемые аплодисментами. И про то, как выслушивал, и помогал, и одалживал до получки, и учил переводить и редактировать…
Он полагал, что миссия филолога, историка литературы — извлекать имена из забвения, а миссия переводчика — открывать имена неизвестные.
И сам он был романтик, и романтизм его интриговал необычайно. Мне кажется, он всю свою жизнь потратил на то, чтобы спасти от клеветы и искажения драгоценную иллюзию, характерную для романтиков, — их готовность испытывать возвышенную, безнадежную, страстную, обреченную на непонимание самоотверженную любовь. К миру. К женщине. К мужчине. К ребенку. К отечеству. К идеалу. Так он читал немецких, и французских, и русских, и английских, и американских, и польских, и русских романтиков. Читал в самом ши роком смысле: так он прочитывал их книги и так читал свои лекции.
А книжка, о которой речь, — «Немецкая романтическая комедия» была одним из его любимых детищ или, как сейчас говорится, «проектов». Он был ее составителем, писал к ней послесловие, переводил для нее. И то сказать: появилась счастливая возможность свести под одним переплетом романтиков, писавших для сцены: Тика, Брентано, Бюхнера, Платена, Граббе, Иммермана… Получилось пятьдесят печатных листов. Увы, в один том они не уместились. Карельский обозвал «Романтическую комедию» толстушкой, которая не лезет в переплет, и уговорил Валентина издавать ее в двух томах. Потребовалось изменить нумерацию страниц, заказать дополнительное оформление для обложек и титульных листов, а так как в те времена о компьютерном наборе и дизайне еще не мечтали, то вся история грозила растянуться и растянулась на пару лет. Тут и грянула перестройка. В нашем, некогда весьма престижном издательстве «Искусство», где томилась в очереди изящная двухтомная «толстушка», перестройка состояла в том, что из плана были буквально вышвырнуты все позиции, в каковых еще теплилась хоть какая-то академичность, хоть какая-то серьезность замысла. Подписанные в печать, сданные в производство, то есть тщательно отредактированные, откорректированные, вылизанные, выстраданные книги были буквально выброшены на помойку.
Помойка находилась в коридоре четвертого этажа, в углу. Я оттуда уволокла парочку мною же отредактированных опусов и унесла их домой, невзирая на упреки некоторых коллег, воспринявших сей поступок как неблаговидный. Если начальство, увещевали они, выбросило добро на помойку, значит, там ему и оставаться, пока не вывезут и не сожгут! На сожжение были обречены и монография Карельского о драме немецкого романтизма (самая крупная и значительная из его литературоведческих работ), и том Гофмансталя, для которого Карельский перевел прекрасную новеллу «Приключение маршала Бассомпьера».
Для порядка сообщаю о судьбе похищенных с помойки ценностей. «Драму немецкого романтизма» спонсировали немцы. Гофмансталь через несколько лет был выпущен в свет благодаря усилиям художника Саши Райхштейна, выбившего грант из Фонда Сороса. «Толстушки» на помойке не было. Я долго рылась в огромной груде издательских полуфабрикатов, превращенных указанием сверху в бумажный мусор, но верстки «Немецкой романтической комедии» не обнаружила. Ее тем временем спасала Роза Бачек, наш технический редактор. Она вложила в нее уйму пота и крови, когда пришлось делить материал пополам. Роза свернула готовую верстку двух томов в два компактных рулона, унесла домой и бережно сохранила. Потом, через несколько лет, уже после смерти Карельского, она отдала ее мне, а я — сыновьям Карельского.
Теперь, когда перестройка выдохлась и все неотвратимо возвращается на круги своя, снова появился слабый шанс возродить в отечестве интерес к истории западноевропейской литературы. Может быть, и наша многострадальная «толстушка» когда-нибудь все-таки выйдет в свет, поелику, как известно, книги имеют свою судьбу. В то, что рукописи не горят, верится с трудом. Ведь те, что сгорели, сгорели.
В заключение, так уж и быть, поделюсь еще одним, совершенно излишним воспоминанием. Здание, где размещалось «Искусство», стремительно разрушаясь, уплывало в аренду. Сотрудники увольнялись, в комнаты редакций, располагавшиеся на четвертом этаже, въезжали таинственные фирмы, у дверей встали охранники. Не сдержав недостойного любопытства, я поинтересовалась у одного из скучающих стражей: «А что, собственно, производит ваша фирма?» И он ответил, не скрывая законной гордости: «Пластиковые пакеты!»
Июль 1996
А книжка все-таки вышла в свет (СПб.: Гиперион, 2004). В безвкусном крупном формате. Боюсь, она не найдет своего читателя. Фамилия составителя в Интернете переврана.
Мариво
Ay, совсем было я распрощалась до сентября, но тут в Москве имело место из ряда вон выходящее событие, которое и побудило меня написать post scriptum. А событие такое, что приезжал в Москву театр Стрелера и играл «Остров рабов» Мариво, и конечно же я вспомнила, как смотрела «Спор» Мариво в Бохуме и какое бомбовое впечатление произвел тогда на меня немецкий спектакль. Там речь шла о том, что некий аристократ содержит в полной изоляции четверых детей, а когда они вырастают до состояния половой зрелости, не ведая о жизни ровно ничего, он выпускает их на волю и смотрит, что с ними будет. И вот эти четверо, этакие невинные «кандиды», начинают постигать мир, всё с самого начала, солнце, небо, землю, радость движения, силу чувств, симпатию-нежность-дружбу-страсть-любовь-ревностьзависть-ненависть-примирение-прощение, надежду… Помнится, когда на сцене появилось четверо совершенно обнаженных актеров и когда мой (русский) коллега понял, что они так и будут играть всю пьесу annaturel, он чуть было не покинул зал, во всяком случае сделал попытку пересесть от меня куда-нибудь подальше. А меня тогда немцы удивили. Великолепный был спектакль: эффекты шумовые и световые, живая вода, настоящий песок, шикарные декорации, актеры свободные, смелые, азартные. Мне просто показалось, что лучше и быть не может. Их нагота ничуть меня не шокировала — было понятно, что обнаженная плоть есть не что иное, как единственно возможная одежда души.
Так вот, итальянцы играют Мариво еще лучше, хотя у Стрелера все наоборот: вместо вращающегося круга сцены и огромного помоста — неподвижная декорация, изображающая некий тропический остров: море и едва различимые силуэты пальм; шумовой эффект ровно один (гроза, открывающая действие); свет — яркий, совершенно ровный; песок — искусственный. Из песка, отряхиваясь, выбираются потерпевшие кораблекрушение персонажи (кстати, здесь тоже две пары — хозяена и слуги, двое мужчин и две женщины) и торопятся одеться. И тут-то выясняется, что на этом острове каждый, кто был ничем, под страхом смертной казни обязан стать всем. Так что им приходится с точностью до наоборот поменять одежду и род занятий. Представляешь, что из этого может получиться? Правильно. Теперь социальную революцию все представляют. Но вот чего нельзя представить, так это игру итальянцев. Увидеть театр «Пикколо ди Милано» — и умереть. Они умудряются двигаться и жестикулировать в темпе комедии дель-арте, а артикулировать со всей безупречностью «Комеди Франсез». А что вытворяет их одежда — не столько облачение неуемной плоти, сколько стихия социальных страстей, жилище и тюрьма. Она словно живет сама по себе: топорщится, ластится, сопротивляется, хамит, подчиняется, издевается. Арлекино, напялив костюм и с трудом затолкнув в ножны непокорную шпагу графа, обрушивает на бывшего господина все накопившиеся унижения. Коломбина, водрузив на голову шляпу и укротив кринолин, возвращает хозяйке все шпильки и уколы, предъявляет все неоплаченные счета. Что и говорить, в согбенном и униженном положении мы все дружно взываем к человечности и гуманности, а едва распрямившись, едва прорвавшись из грязи в князи, тут же о них забываем.
Мариво еще тогда догадался, что люди становятся хозяевами и слугами в силу великих и непознанных (генетических? мистических?) причин, и это выгодно отличает его от современников, которые, как стало известно некоторое время спустя, были склонны преувеличивать возможности разума. В отместку современники обозвали стиль Мариво презрительным словечком «мариводаж», ставя ему в упрек метафоричность, парадоксальность, нюансировку фразы и прочие непростительные достоинства остроумных комедий. Потомки чуть было его вообще не позабыли. «Остров рабов» не переведен на русский, а на итальянский его пришлось переводить самому Стрелеру. (Кстати, он сохранил некоторые реплики по-французски, так что стала слышна вся дурь революционных клише Просвещения.) О нем писали разве что историки литературы, но как? Цитирую энциклопедию Брокгауза: «…излишество в характеристиках, описаниях, размышлениях, слоге; бесконечные извивы, через которые М. проводит всякую свою мысль. Навык кропотливо разглядывать мелочи делает М. близоруким. Постигая тонкости и изощренности, он превращается в… метафизика, ему словно неведомо истинно поэтическое чувство, величие, возвышенность…»
В комедиях Мариво напрочь отсутствовала модная непристойность, а в личной жизни не было ничего скандального. «Сердечная жизнь Мариво сложилась очень скромно: он женился на девушке из почтенной семьи, потерял ее после двух лет счастливого брака, сильно горевал, а впоследствии, затрудняясь воспитанием и устройством единственной дочери-бесприданницы, согласился на вступление ея в монастырь, куда за нее сделал взнос герцог Орлеанский».
Биография Мариво выглядит так: Пьер Карле де Шамблен де Мариво был светским человеком и свободным художником. Он родился (1688), женился (1717), безуспешно пытался получить должность судейского чиновника, добился некоторого успеха в качестве журналиста, имел одного ребенка, жил в Париже, с 1720 по 1740 год написал примерно 30 комедий и два романа. А потом замолчал. Умер в 1763 году.
Понятно, что романтический девятнадцатый век не жаловал таких прозаических субъектов. И вдруг в конце двадцатого — явный ренессанс. К чему бы это? Неужто мы поумнели настолько, что научились наконец ценить вышеупомянутые излишества и извивы?
Спектакль шел при аншлаге целых четыре часа.
Август 1996Тьюторская неделя
Приветствую и поздравляю господина профессора с началом учебного сезона. У нас в университете тьюторская неделя, это значит, что расписание еще не устаканилось, все ходят загорелые и счастливые, что можно пофилонить еще целую неделю, приводя в порядок летние воспоминания и гениальные педагогические идеи, озарившие нас на пляжах и садовых участках, а также в турпоходах и заграничных турах.
Устроили грандиозный праздник первокурсника, с торжественной речью ректора, со студенческим капустником, бенгальскими огнями, пением «Гаудеамуса», вручением студбилетов и танцами под духовой оркестр. Повсюду летали и висели связки воздушных шаров в цветах национального флага, начальство улыбалось, а первокурсники так просто сияли.
Ты не поверишь (хотя ты-то как раз поверишь), это был самый настоящий искренний праздник. Как в доброе старое время, когда жизнь казалась бесконечной и веселье бурлило в нас самих, а не извергалось в консервированном виде из аудио и видео. (Замечу в скобках, что капустник буквально за неделю написали и выдали на-гора всего пятеро студентов. Но под руководством профессионального режиссера — Марины Сальтиной, которая лично выступила на подмостках, то бишь в центральной аудитории, в роли богини Минервы в белой рубашке и черных брюках, с короной на голове, завернутая в хламиду из золотой парчи, и выстрелом из пистолета в один момент разогнала тьму невежества и решила таким образом все вечные вопросы педагогики вообще и гуманитарного образования в частности.)
Тебе спасибо за программу по истории немецкой литературы, я тщательным образом ее проштудировала и надеюсь, что у меня появится шанс воспользоваться твоей впечатляющей эрудицией.
Кстати, об эрудиции. Моя соседка и приятельница, тоже профессор, приобрела весьма и весьма нетривиальную серию: «Антология гуманной педагогики». Издательский дом Шалвы Амонашвили, Москва, 1996. Книжки недорогие, хорошая бумага, продуманный приятный формат (60x90), приличный тираж (20 000), цветные обложки с портретами классиков, но главное — принцип составления серии. Каждый выпуск посвящен только одному имени и содержит оригинальные тексты. Браво! Разумеется, они снабжены серьезным предисловием и комментарием, но лучшее, что есть в этих книжках, — это маргиналии Первого Читателя (звучит намного весомей, чем прозаическое «рецензент»), каковым во всех случаях является авторитетный знаток проблемы. Этот способ в свое время практиковался для обучения французских королей. Так что, читая, ты чувствуешь себя королем, ведь тебя не оставляют один на один с загадочным гением прошлого, а осторожно и бережно ведут в глубину его сознания.
Опять-таки браво!
Итак, на обложках шестнадцать портретов, и они не повторяются, а варьируются, некоторые лица знакомы до боли, другие… увы. К моему стыду. В общем, я узнала букли Ломоносова, бороду Льва Толстого, очки Ганди, бюст Аристотеля (точно — не Сократ, потому что нос прямой. А может, Марк Аврелий? Или Сенека?), узнала Песталоцци, Паскаля, Януша Корчака, Антона Макаренко и Сухомлинского. Есть даже одна дама. Интересно кто? Это станет ясно, когда выйдет соответствующий выпуск, потому что изображение титульного автора дается крупным планом, наложением на «иконостас».
Получив в свое распоряжение сразу пять первых выпусков, я встала перед проблемой: с кого начать? Первый в ряду — Иисус Христос. Но не мне и не в газетном же фельетоне писать о Нем. По соображениям патриотическим следовало бы — с Ломоносова. А если исходить из академической конъюнктуры? Тогда Выготский. А если из личных пристрастий? Тогда Коменский. Короче, руководствуясь элементарной хронологией, я решила, что начну с Конфуция. В следующем письме.
А в этом в качестве затравки или эпиграфа ограничусь цитатой из предисловия, написанного доктором исторических наук Владимиром Вячеславовичем Малявиным: «Наследие Конфуция далеко не то, чем оно видится в истории. Исторический образ конфуцианства — результат его идеологизации, превращения совершенно недогматических, чисто ориентировочных представлений, напутствий Учителя в набор „объективных истин“ и постулатов, диктуемых пресловутым „здравым смыслом“, а пуще всего — произволом деспотической власти или мнением толпы. Догматически мыслившие последователи Конфуция в Китае страдали тем же самым недостатком, против которого так страстно боролся Учитель: недостатком воображения. Они потеряли из виду символическую глубину опыта и свели „небесную“ полноту бытия к одномерности рассудочной мысли. Переход от внутреннего созерцания к внешнему наблюдению порождает чудовищную аберрацию в самом восприятии культуры. Последняя теряет связь с духовной жизнью человечества и растворяется в цивилизации — овеществленной проекции данных интеллекта. Рано или поздно конфуцианство должно было пережить кризис, который знаком всем духовным традициям, ориентированным на „внутреннее постижение“, будь то йога, суфизм в исламе или мистическая практика в христианстве…»
Самое интересное в этом пассаже «должно было пережить», правда?
P. S. Поздравляю тебя с Днем учителя.
P. P. S. Но почему неделя — тьюторская?
Сентябрь, 1996Конфуций
Привет, как дела? У нас холодно, нигде не топят, я простыла, загрипповала и читаю Конфуция. Конфуций родился в 551 году до нашей эры (по преданию, его батюшке было семьдесят лет, а его матушке — семнадцать), рос в бедности и мечтал о славе. Он готовил себя к государственной карьере (то есть старательно изучал старинное законодательство и этикет), получил должность смотрителя амбаров, потом смотрителя пастбищ, потом попал ко двору, потом стал главным судьей своего царства (Лу), потом — «в знак протеста против неблаговидного поведения государя» — отправился в добровольное изгнание, потом проповедовал добродетель удельным князьям. Через четырнадцать лет он угомонился, вернулся на родину и стал «жить в праздности», то есть открыл частную школу.
Внешний рисунок биографии напоминает Вольтера: такая же дерзкая попытка сделать политическую карьеру, такая же безнадежная проповедь добродетели сильным мира сего. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, обычная роль философа в абсолютистском государстве: они истину царям с улыбкой, а те их — в шею. Разве что в Китае VI века до Рождества Христова, в отличие от Европы XVIII столетия, добродетельного мудреца еще принимали с почетом и выпроваживали вежливо.
Зато потомки хватились: порядка нет как нет, все рушится, традиция гибнет, народ страдает-голодает, кто виноват, что делать? Кто у нас тут в Китае был самый честный, самый благовоспитанный, самый бескорыстный, самый образованный, самый благородный? Учитель Кун. И что он написал? Ничего. Он (подобно Сократу) не записывал своих соображений, справедливо полагая, что мысли мудреца текучи, неуловимы, легко профанируются и обречены на искажение.
Так что писателя Конфуция не существует. Правда, он отредактировал парочку старинных текстов: древнейший свод китайской поэзии «Книги стихов» («Шицзин»); древнейшее собрание исторических записей «Книги преданий» («Шуцзин»); хронику царства Лу «Весны и осени» («Цунь-цю») и, как говорится, др. У него было несколько сотен учеников, из коих семьдесят, по преданию, «прославили свое имя». Они дополнили и развили педагогическое наследие своего учителя и составили сборник его высказываний под названием «Беседы и суждения». Таким образом, собранные в книжке тексты все до единого принадлежат конфуцианцам.
Так что же он все-таки говорил? Чему учил? Почитать родителей, соблюдать церемонии и ритуалы, придерживаться этикета, воспитывать в себе человечность, не делать другому того, чего себе не желаешь, любить ближних, ценить культуру, избегать крайностей, искать праведного пути.
В общем, ничего особенного, мещанская, так сказать, мораль, вроде бы все само собой разумеется, но как ее соблюсти?
«Благородный муж» обладает всеми упомянутыми качествами, а «низкий» или «подлый» человек руководствуется в своих поступках лишь соображениями личной выгоды, повсюду ищет сообщников, но не уважает ни окружающих, ни себя, домогается милостей, но забывает о благодарности. И хотя идеал благородного мужа с тех пор так и не претворен в жизнь, а портрет жлоба ничуть не поблек от времени, зерно конфуцианской мысли — высокая этическая или хотя бы этикетная норма как условие выхода из экономического, социального и политического кризиса — продолжает давать удивительные всходы.
«Всем понятны впечатляющие успехи, достигнутые в последние десятилетия странами, которые принадлежат к конфуцианской цивилизации: Японией, Кореей, Тайванем, Сингапуром, отчасти самим Китаем… […] Конфуцианство, воспитывающее в человеке точность мыслей и поступков, готовность к сотрудничеству и согласию, творческую открытость миру, способно существенно повысить творческий потенциал общества и даже новейших технических систем.
Ибо главной проблемой современности является уже не техническое овладение миром, а сам человек, осознающий свою ответственность перед миром. И мы уже не удивляемся, встречая в журнале статью о японском экономическом чуде, озаглавленную „Капитализм по Конфуцию“», — пишет автор предисловия В. Малявин.
В переводе на русский менталитет это означает, что не надо использовать микроскоп для забивания гвоздей, что грязная ругань не улучшит семейных отношений и не поднимет производительности труда, что хороший тон — не роскошь, а способ выживания и что от всего этого конфуцианства мы еще весьма далеки.
Тут я недавно со студентами слушала кассету с записями современной немецкой «конкретной» поэзии. Одно стихотворение под названием «Придаточные времени» звучало примерно так:
Когда нам было шесть, у нас была оспа; Когда нам было четырнадцать, у нас была война; Когда нам было двадцать, у нас была несчастная любовь; Когда нам было тридцать, у нас были дети; В тридцать третьем мы имели Адольфа, В сороковом — воздушные налеты, В сорок пятом — развалины, В пятидесятом — уплату контрибуции, В пятьдесят четвертом — наводнение, В шестидесятом — процветание, В шестьдесят пятом — камни в печени, В семьдесят — жизнь прошла.А теперь сравни с Конфуцием:
В пятнадцать лет я обратил помыслы к учению. В тридцать я имел прочную основу. В сорок лет у меня не осталось сомнений. В пятьдесят лет я знал веление Небес. В шестьдесят лет я настроил свой слух. А теперь, в свои семьдесят лет, я следую зову сердца, не нарушая правил.Что, завидно?
Мне тоже.
Октябрь, 1996Ломоносов
Ну вот. Наступило бабье лето и продержится неделю, так что жить нам стало легче, жить нам стало веселее, кстати, вам дают зарплату? Нам зарплату не дают, видно, чтобы место знали, не учили, не лечили, не писали, не играли и вообще не возникали повсеместно там и тут.
Теперь, когда музыканты лучших столичных оркестров публично — на стогнах, так сказать, — сыграли реквием по интеллигенции, самое время устроить ей поминки и вспомнить, с кого началось отечественное просвещение. Разумеется, с Ломоносова.
В книжке о Ломоносове из серии «Антология гуманной педагогики» (составитель и автор предисловия С. Ф. Егоров, первый читатель Е. В. Кузнецова. Издательский дом Шалвы Амонашвили. М., 1996) приведены документы, составленные архангельским мужиком в ходе самоотверженной борьбы за подготовку отечественных научных и профессиональных кадров.
Некоторые известны (хотя бы по названию) еще со школьных времен, это речи и докладные о пользе химии, об электричестве, об изучении российской истории, языка и словесности. Другие совершенно забыты и в нашей теперешней ситуации воспринимаются как курьез: проект регламента московских гимназий, проект регламента академической гимназии, проект речи в академическом собрании о переустройстве университета, о сохранении и размножении (да-да!) российского народа…
Подумать только, коллежский советник и профессор пишет «репорт» в канцелярию Академии наук, хлопоча о продвижении своего студента: «А в последних месяцах минувшего 1752 года подал он мне свой перевод Горациевых стихов о стихотворстве (Art Poetica) и некоторых од, который так хорошо сделал, что напечатания весьма достоин». И профессор не усомнился, что в канцелярии не усомнятся в ценности перевода из Горация, Горация как такового, и переводчика как такового. Помнишь, я жаловалась тебе, что даже актеры, играющие монодрамы (значит, скажем так, взобравшиеся на вершины изящной словесности), забывают указывать на программках фамилии переводчиков.
Так чего же мы хотим от чиновников? В том-то и загвоздка, что если продукт духовного труда не занимает большого физического пространства, как монумент на Поклонной горе или храм Христа Спасителя; если это, допустим, перевод из Горация, или библиотечный каталог, или реставрированная древняя рукопись, то он просто не воспринимается как большая ценность теми лицами, от которых зависит финансирование культурных инициатив, будь то думцы (ах, извините, парламентарии), министерские чиновники или новые русские коммерсанты, банкиры, спонсоры-меценаты-благотворители. У них нет воображения. Они не виноваты. Их просто так воспитали. Те самые учителя, которым они теперь не хотят платить зарплату. Ежели ценность небольшого размера, она должна иметь известный им ярлык-лейбл, восприниматься зрением и на ощупь — как бриллиант или часы от «Картье». А что музыканты? Сыграли, согрели эфир, и ничего от этого не осталось, где он, их продукт, за что им платить, одна блажь.
Один оптовый торговец американскими сигаретами «Мальборо» и пламенный патриот общества «Память» сказал мне как-то, отказавшись выложить обещанный гонорар за выполненный заказ: «Вам платить не надо. Вы, интеллигенция, и так будете работать».
Говорят, интеллигенция — прослойка, где-то между крестьянами и рабочими. А по-моему, она вроде крестьянства, тоже создает пищу, хоть и духовную. Масло сливочное ввозим из Новой Зеландии, свои птицефабрики позакрывали, и собственные оркестры нам ни к чему. Это раньше русским царям были почему-то нужны собственные платоны и быстрые разумом невтоны… Восемнадцатый век, при всем своем вольнодумстве и легкомыслии, все-таки учреждал академии и университеты, гимназии, императорские театры, оперы и оркестры, библиотеки, кунсткамеры, музеи-эрмитажи и собрания редких книг, а мы даже не можем спрятать эти ценности от мышей, крыс и червей. Я своими глазами видела в библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова проеденный червями экземпляр Гутенберговой Библии. А цена ей не меньше миллиона долларов. Поэтому Борис Фонкич, тогдашний зав. отделом редких книг, кстати, великолепный знаток древних рукописей, специалист по Максиму Греку, не будучи в силах обеспечить книге соответствующий режим хранения и не найдя ни денег, ни поддержки у университетской администрации, просто-напросто уволился, не хотел брать грех на душу. Где-то он теперь, уехал, говорят. А в Румянцевской, или Ленинской, или Российской государственной библиотеке тоже был один экземплярчик… лет двадцать тому назад. Может, продали эти экземплярчики, может, украли, каталога-то нет, спонсировать некому. Эх, Михайло Васильевич, знали бы вы, в каком пренебрежении окажется спустя двести пятьдесят лет ваше детище — российское просвещение… Даже самое министерство с таким названием упразднено, даже самое слово сделалось архаизмом. Казна опустела. То бишь госбюджет. Какой же он бюджет, коли как раз бюджетникам и не платят? Да, плохо России без царя. Без царя в голове и вообще без царя.
Прости за похоронный тон.
Ноябрь, 1996Кнабе
Здравствуй, это я. Последние письма вышли вовсе похоронными, поменьше надо смотреть и слушать, от этой виртуальной реальности мои старомодные мозги сползают набекрень, книги-то еще остались.
Как ни странно, наш университет (РГГУ) выпускает великолепную серию «Чтения по истории и теории культуры». В ней вышли работа Л. М. Баткина об «Исповеди» блаженного Августина; «Цивилизация и культура» В. С. Библера; «О литературных архетипах» Е. М. Мелетинского; «Цветок Тосканы, зеркало Италии» И. Е. Даниловой (о Флоренции XV века); «Академический авангардизм» М. Л. Гаспарова (о поэзии позднего Брюсова) и его же «О гражданской лирике 1937 года О. Мандельштама». И много еще чего потрясающе интересного. Вот, например, выпуск 15: эссе Г. С. Кнабе «Гротескный эпилог классической драмы. Античность в Ленинграде 20-х годов». Речь идет о судьбе античной культуры в отечественной традиции. От греков мы получили Аристотеля, от римлян — представление об имперской государственности, воплощенное в архитектуре Петербурга. Главной ценностью классицизма автор считает «динамическое, но бесконечно живое равновесие между интересами личности, ее самовыражением, и интересами общества, и ясную эстетическую форму любого порождения человеческой деятельности, материального или духовного».
Сначала русская поэзия екатерининской эпохи (Батюшков) и пушкинской поры, воспитанная на этом идеале, восхищалась величием Северной Пальмиры. Потом критический реализм, то бишь, натуральная школа (Гоголь, Белинский, Некрасов, Достоевский) и многие другие (от Лермонтова до Мережковского) прокляли холод и бездушие чиновного Петербурга. Потом Серебряный век (Бенуа, Блок, Ахматова, Мандельштам) снова ощутил загадочную душу города, открыл для себя дивное мерцание его античной красоты… Потом произошли война, революция, разруха, голод, нэп, и хрупкая ниша культурной традиции разрушилась.
Автор пристально рассматривает четыре обломка: повесть К. К. Вагинова «Козлиная песнь» (1927) и три пьесы — «Комедия города Петербурга» Хармса (1927), «Беспредметная юность» А. Е. Егунова и «Печка в бане, или Кафельные пейзажи» М. А. Кузмина.
Герои этих пародий суетятся в абсурдном смешении времен, стилей, реалий, теряя внятность речи и четкость очертаний, превращаясь в нелепые фантомы, обреченные на забвение. Их цитатный лепет — предсмертный вопль сломленного интеллекта.
У Хармса, например, факельщики вносят тело какого-то Крюгера, убитого какой-то дамой (намек на Софью Перовскую), и при этом поют:
Умер Крюгер, как полено, Ты не плачь и не стони. Вот торчит его колено Между дырок простыни.И т. д.
А персонажи Егунова беседуют так:
Фельд: Ах, какие были Лизы… Протоиерей: Ризы? Новые мои? Ризы новые, шелковые, Узорчатые…«Невнятица и абсурд, разрушающие всякую геометрию и всякий единый разум, подтверждали и скрепляли если не прямо, то обертонально конец классического Петербурга, представляли собой издевку над самим его духом и историческим смыслом», — пишет Кнабе, противопоставляя упомянутому выше классическому идеалу волю хайдеггеровского «проселка», обретение частной свободы (от гражданской ответственности?).
Открываю Хайдеггера. «На пути, каким бежит проселок, встречаются буря и день урожая, соседствуют будоражащее пробуждение весны и невозмутимое умирание осени, и видны друг другу игры детства и умудренная старость. Однако в едином слитном созвучии, эхо которого проселок медленно и неслышно разносит повсюду, куда только входит его тропа, все приобщается к радости». Нет, это слащаво и сентиментально, это чистой воды романтизм со всем его отрицанием культуры в пользу натуры, нежеланием принимать к сведению реальные параметры деревенской жизни, та же официозная русская березка, то бишь немецкая липа.
Вот и листаю я умную статью, размышляя о времени и о себе, о хаосе и космосе внутри и снаружи. Эпоха разрушения ценностей, невнятицы, пошлости, агрессивного невежества, смена вех, смена парадигмы.
Но как истинный интеллигент Кнабе не позволяет ни себе, ни мне впадать в отчаяние. «Разнообразные произведения говорят о конце Санкт-Петербурга, последней цитадели русской античности, и тем самым — об исчерпании античного компонента русской культуры. Компонент этот исчерпан как бы дважды — в абсурде и частном характере существования. То и другое — вещи, не противоположные античному канону культуры и не отрицают его, а просто-напросто его упраздняющие. И вот тут-то неожиданно стало выясняться, что потребность в такой жизни и соответственно в такой эстетике и литературе, которые способны восполнить часть до целого… упразднена быть не может. Так возникает в „ленинградской античности“ 20-х годов еще один мотив — мотив неприметного, но уловимого, неизбежного возвращения в жизнь тех веяний той самой переосмысленной, растворенной в духовном опыте России и все лее верной своим идеалам античности, уход которой казался — и был — окончательным и безвозвратным».
Глупо зачеркивать историю, глупо, потому что бесполезно.
P. S. Несколько лет назад, будучи в Петербурге, спрашиваю у случайного прохожего:
— Как пройти на Конюшенную?
Он отвечает:
— Это теперь Конюшенная, а вообще-то она Софочки Перовской.
Ноябрь, 1996Мелетинский
Привет труженикам пера и компьютера, ты, наверное, корпишь над солидной монографией, а я тут отдыхаю по хозяйству, сплю в метро, стою в очереди за зарплатой (16. 09 с. г. выдали аванс 230 тысяч) и изобретаю способы преподнесения студентам немецких глаголов и универсальных культурных парадигм.
Читаю работу Е. М. Мелетинского «Достоевский в свете исторической поэтики» (М.: РГГУ, 1996). Он прочитывает в нем все — и всех, кто был до:
античную мысль о борьбе Космоса и Хаоса; фольклорный мотив схватки между отцом и сыном; житийный сюжет о раскаянии великого грешника; средневековый поиск Грааля;
ренессансный восторг перед красотой Творения и мощью человеческого интеллекта;
шекспировский гамлетизм и сервантевское донкихотство;
барочный поиск абсолюта;
«готическую» линию тайн и ужасов;
фаустианскую тему договора с дьяволом;
шиллеровские реминисценции (благородный разбойник, femme fatale, оклеветанная злодеем бедная девушка);
романтический интерес к двойничеству и культ Наполеона;
байроновскую тему богоборчества;
бальзаковский анализ страсти к успеху, накопительству и власти;
диккенсовское сострадание к бедным детям и одиноким подросткам…
Вся русская литература просвечивает сквозь ткань «Униженных и оскорбленных», «Бесов», «Карамазовых», «Идиота», «Подростка», «Преступления…»: жития святых, «Пиковая дама», гоголевская «Шинель»…
Впрочем, ткань — нечто двумерное, а текст Достоевского голографичен, неисчерпаемо богат ассоциациями, уровнями, смыслами.
Поначалу я даже не поняла, зачем было писать вещи, столь, казалось бы, очевидные. И, только прочтя статью дважды, осознала, что это подведение черты, итог, знак исчерпанности, точка в парадигме. Изучение литературы научилось быть доказательным и точным, стало наукой. Это означает, что литература перестала быть. Извержение вулкана закончилось, лава застыла, образовались породы, вулканические и осадочные. Пришли геологи: здесь базальт, там — гипс, это девон, это карбон, это золотая жила. И дело даже не в том, что никто больше не напишет так, как Достоевский. Никто больше не прочтет так, как читали те, кого читал он. Библия, Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, Вольтер, Гете. Все это читали и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, и Бальзак, и Диккенс. Пушкин читает Вольтера, Байрона и Вальтера Скотта, Мериме мистифицирует Пушкина, Гофман вдохновляет Гоголя, Толстой не любит Шекспира, Гофмансталь почитает Толстого.
Но после Достоевского из литературы ушло нечто простое и непреложное, скреплявшее связь времен: христианская система моральных ценностей и неотъемлемая от нее живая метафора. Из системы жанров выпал воспитательный роман, его нет даже у Чехова. В недобрый час, в какой-то роковой момент поколение отцов сняло с себя ответственность за поколение детей.
Достоевский провидел в этом вселенскую трагедию. Тургенев отнесся к проблеме со скептическим интересом сдержанного наблюдателя. Может, здесь одна из причин неприязни Достоевского к Тургеневу.
В наше время курс зарубежной литературы в университете начинался с Античности, а отечественной — с былин и «Слова о полку Игореве». С двадцатым веком предстояло разбираться самостоятельно. В стране худобедно формировался культурный слой. Теперь он под вопросом. Равняемся на Европу, а в Европе (у немцев, например) литературу читают, начиная с постмодерна, так сказать, задом наперед. Пока дело дойдет до связи времен, до истоков, до почитания предков и культурного наследия, все молодые уже сформируются. Юноша, обдумывающий житье, каждый день врубает ящик. Государство продало эфир рекламе. Реклама крутит боевики. Пусть неновые русские, ищущие своего места в жизни, поскорее научатся тусоваться, паясничать, тащиться, материться, играть в жмурики, сидеть на игле, а новые — покупать «мерседесы», держать-содержать двух-трех жен, снимать телок, нанимать киллеров. Бизнесу и наркобизнесу нужен рынок сбыта.
Если очень уж приспичит что-нибудь почитать, можно купить руководство по сексу, а с моральными проблемами, буде таковые возникнут, поможет самый популярный писатель Чейз: у того всегда бедные раскольниковы, пришившие старуху или ограбившие банк, умирают без покаяния от ножа или пули. Так что справедливость-юстиция-полиция торжествует.
Германн всего только собирался припугнуть Пиковую даму, но Пушкин карает его безумием. Раскольников убивает ростовщицу, но Достоевский приговаривает его к невыносимым мучениям совести и публичному покаянию.
Богатая старуха, умирающая от ужаса при виде наведенного на нее пистолета или зарубленная топором, — это ли не метафора России?
P. S. Недавно, пробираясь вечером домой по заставленному «ракушками» двору, я наблюдала такую сцену. Через лужи шлепает бабка с тяжелой сумкой, ее обгоняет «мерседес», забрызгивая беднягу грязью. Обиженная старуха кричит вслед:
— Ты что делаешь, такой-сякой, совести у тебя нет!
Водитель слышит, тормозит, дает задний ход и холодно обрывает причитания мокрой бабки:
— Молчи, мразь.
Цитирую абсолютно точно.
P. P. S. По телевизору выступает пожилая дама в грандиозной шляпе с цветами, с прической а 1а Алла Борисовна и гигантским крестом на смело декольтированной, но несколько увядшей груди, бывшая официантка из привокзального ресторана, а ныне дама из высшего общества, миллиардерша и благотворительница. Дама перечисляет свои благодеяния. Старый бомж, накормленный в учрежденной ею бесплатной столовой, почтительно целует меценатке руку, священник возведенного ею храма устало отворачивается, молодой человек в студии замечает: «Я бы в такой храм не пошел».
Все возвращается на круги своя. Вырубаю ящик. Молчи… грусть, молчи.
Ноябрь, 1996Дáли
Ау, привет, как жизнь, когда в Москву, а может, в Петербург, в Париж иль в Вену? Открыткой удостоишь к Рождеству? Пиши, звони, сигналь, отметься непременно. А я тут все пашу, перевожу, мечтаю, все сплю в своем метро, все книжечки листаю, попалась мне статья о брюсовских шедеврах, о ней и доложу тебе в строках я первых. Строках же во вторых подарок новогодний тебе и всем друзьям преподнесу сегодня.
Статья М. Гаспарова «Академический авангардизм. Природа и культура в поэзии позднего Брюсова». М.: РГГУ, 1996. Статья, конечно, великолепная, как все, что пишет Гаспаров, объем скромный, всего 37 страниц, а написана, между прочим, не так чтобы одним махом, а в течение 15 лет. В ней речь идет об интерпретации брюсовского сборника «Дали» (1922), и, чтобы расшифровать эти тексты, даже такому, не боюсь этого слова, гению, как Гаспаров, пришлось подбираться к проблеме со всех сторон, писать о сонетах Брюсова, о Брюсове-стихотворце, о Брюсове и Античности, о Брюсове-переводчике, о Брюсове и буквализме, о Брюсове и подстрочнике и вообще обо всей синтетической поэзии. А синтетическая поэзия — это такая, которая строится из идеи-тезы, идеи-антитезы и их синтеза. И вот что получается.
С Ганга, с Гоанга, под гонг, под тимпаны, Душны дурманы отравленных стран; Фризским каналам, как риза, — тюльпаны; Пастбищ альпийских мечта — майоран. Тяжести ль молота, плуговой стали ль Марбургство резать и Венер ваять? С таежных талостей Татлиным стать ли? Пановой песни свирель не своя. Вьюга до юга докинет ли иней? Прянет ли пард с Лабрадорских седин? Радугой в пагодах клинопись линий, Готика точит извилины льдин. В бубны буди острозубые бури — Взрыхлить возмездье под взвихренный хмель! Зелье густить, что Локуста в Субурре, Пламя, слепящее память, — умей. Гонг — к вьолончели! Тимпаны к свирелям! Тигровый рык в дрожь гудящих жуков! Хор Стесихора над русским апрелем, В ветре — приветствии свежих веков!В первой строфе Гаспаров прочитывает тезис «природа»: противопоставление Юга — Северу; экстаза — неподвижности; низа — верху; Голландии — Альпам; пространства, развернутого вширь, — пространству, развернутому ввысь.
Во второй строфе трактуется культура: искусство как философия (Марбург), живопись (Татлин), музыка (свирель) противополагаются технике и природе.
В третьей строфе постулируется «сближение», в четвертой — «слияние», в пятой — «взаимопроникновение и торжество» натуры и культуры.
Можно только изумляться исследовательскому азарту Гаспарова. Он расслаивает этот уже спрессованный временем, уже окаменевший, уже неактуальный пласт русской словесности и за всеми изысками академической эрудиции обнаруживает в нем реликты Горациевых од и ломоносовской риторики.
Но, говоря по совести, в стихах Брюсова поражает не эрудиция и не вакханалия аллитераций, но полное отсутствие человеческого, извини за выражение, фактора. Ох уж эти мне двадцатые годы, с их наивной уверенностью в перспективе объять необъятное, расчленить материю и поглядеть, где там в ней гнездится дух, разложить его по полочкам, разбить на тезисы. Ох уж эта мне логарифмическая линейка, воздетая над невежественным человечеством, над загадкой бытия, над географией и историей. Ни малейшего трепета, никакого сомнения в своей правоте и своем праве. А что, все так и вышло, по-брюсовски. Ганги-гоанги, фризские каналы, альпийские красоты, тюльпаны и майораны, Марбург и Лабрадор — все доступно, несколько часов лету, поворот тумблера, нажатие кнопки, все доступно вкусу и взору, если, разумеется, доступно карману. И что? Мы полезем на Марс, мы заберемся на Венеру, мы загадим космос, как загадили землю, отбросами, отходами, опивками и объедками нашей сладкой жизни. Где же выход? Да вот же, рядом, только с другой стороны.
Послушай.
Ждали света, ждали лета, ждали бурного расцвета и благих метаморфоз, ждали ясного ответа на мучительный вопрос. Ждали сутки, ждали годы, то погоды, то свободы, ждали, веря в чудеса, что расступятся все воды и дремучие леса. А пока мы ждали рая, нас ждала земля сырая.
Или вот:
Земля из-под ног уплывает. Бывает. И все, что случается, с толку сбивает. И что-то еще затевает судьба. А мне надоели и бег, и ходьба, и прочие вещи в активном залоге. Уж слишком зарвался безумец двуногий, уж слишком зазнался несчастный фантом. «Мой век, — говорит он, — мой город, мой дом», и в тексте слова выделяет курсивом, и вслух разглагольствует с видом спесивым, пока уплывает она из-под ног, земля, на которой он так одинок.
Или так:
Который век, который год мы, своего не зная счастья, про вёдро говорим — ненастье и про живой летучий миг твердим: тупик, тупик, тупик.
И вот еще:
Для грусти нету оснований, кочуем в длинном караване всех поколений и веков, над нами стая облаков, а перед нами дали, дали. И если полюбить детали, окажется, что мы богаты восходом, красками заката, и звуками, и тишиной, и свистом ветра за стеной…
Это Лариса Миллер. «Стихи и о стихах». М.: Глас, 1996.
Лариса Миллер — ученица Арсения Тарковского. И моя соседка по микрорайону. Представляешь, такой глубокий и чистый голос, такой безупречный русский язык, такой дивный стих звучит совсем близко, у нас в Теплом Стане, рядом с ярмаркой «Коньково».
Я принимаю это чудо как новогодний подарок судьбы.
Засим прощаюсь до Нового года.
P. S. Где-то прочла, что в лондонском метро однажды сменили все таблички с надписью «Выхода нет» на таблички «Выход с другой стороны», что снизило процент самоубийств. Похоже, человечеству пора перенимать опыт лондонского метро.
Декабрь, 1996Юнг
С Новым годом, господин профессор, с новым счастьем, если ты предпочитаешь новое, только оно все равно окажется забытым старым: уютом дома, детским доверием к миру, жаром юношеских увлечений, миражом надежд и поисков высшего смысла. Есть еще любовь, но это штука жутко амбивалентная, один мой приятель утверждал, что любовь — это повышенное содержание адреналина в крови, а как поведет себя этот самый адреналин во время семейных скандалов или конфликтов на производстве? Известно как.
Так что желаю тебе успехов в работе, то есть в личной жизни. Блажен, кто не усматривает никакого существенного различия между этими понятиями. Бывают же на свете избранники судьбы, сохраняющие здравый смысл и твердую память до последнего часа глубокой старости. Мой любимый пример — Демокрит (говорят, он прожил 105 лет и умер по собственному желанию, вдыхая запах меда). Но и в нашем веке рождались долго игравшие мудрецы: Бернард Шоу, например, или А. Ф. Лосев, или Карл Юнг (1875–1961). Читаю его мемуары (Дух и жизнь. М.: Практика, 1996. 551 с.) — и правда, дух захватывает. Во-первых, само издание производит отрадное впечатление. Перевод Л. О. Акопяна под редакцией Д. Г. Лахути не оставляет желать лучшего (кстати, открыв титульную страницу и увидев, что фамилии редактора и переводчика набраны шрифтом одного кегля, я преисполнилась уважения к медицинскому издательству «Практика»), Первую опечатку я обнаружила только на с. 137, а вторую — на с. 320. По нынешним временам такая корректура (корректор С. А. Войнова) и наличие колонтитулов (техред Д. В. Самойлов) — культурное событие. В книге есть стиль и уровень: броский переплет (художник Г. Берштейн), превосходная белая бумага, изящные рисунки Л. Орловой и М. Овчинниковой, хороший аппарат: необходимые и достаточные подстрочные примечания, статья И. Якоби о значении юнговской теории, а еще глоссарий и хронограф, составленный ученицей Юнга А. Яффе.
Честно признаюсь, что читаю Юнга впервые. Имя, разумеется, на слуху, но каждый раз, как услышу: «личное бессознательное», «коллективное бессознательное», «маска», «самость», «тень», «анима», думаю, что это… так, метафоры. А уж «алхимия» или, упаси Боже, «магический круг» вовсе вранье и чертовщина. А между тем как раз метафоры: сны, видения, мифы, космогонии, философские системы, магические ритуалы, религиозные догматы и обряды и были предметом научного интереса Юнга. И, несмотря на свое материалистическое воспитание, я не могу не согласиться с его исходным тезисом: поэты, пророки, мудрецы, гении познают суть вещей, через них в любом столетии и под любыми небесами осознает себя человечество. Рано или поздно эта мысль приходит в голову даже завзятым материалистам, если у них есть склонность шевелить мозгами.
Известно же, что жизнь коротка, а искусство вечно и позволяет живым беседовать с мертвыми.
Известно, что люди пользуются оставленными в наследство языками, хотя ни один представитель ни одного народа не может приписать себе славу сочинения родного языка.
Известно, что человек отличается от животных, животные от насекомых, насекомые от растений, растения от камней разной энергетикой и что эту энергетику не они создали, а она создает их.
Все это давно известно, но как доказать?
Юнг был визионером, но, когда он записывает и толкует свои видения и сны, у нас не возникает ни малейшего сомнения в его научной добросовестности. Его идея о том, что душа мира — это доступная изучению реальность, настолько всеобъемлюща и прекрасна, что хочется забыть другую его идею — о полярности высших сил, их божественности и демонизме.
А биография? Классический пример движения по спирали: родился в швейцарском городке Кассвиле, окончил университет в Базеле (1900), защитил диссертацию в Цюрихе, отказался от штатного места в клинике, купил дом в Кюснахте (под Цюрихом) и начал заниматься частной практикой и научными исследованиями. Он читает лекции и получает почетного доктора в Вустере (США, 1909), четыре года редактирует знаменитый фрейдовский «Ежегодник», затем порывает с Фрейдом из-за принципиальных разногласий в интерпретации ключевых понятий психиатрии, выдвигает теорию бессознательного («Структура бессознательного», 1916), руководит лагерем для интернированных британских солдат (1918–1919), путешествует по Африке (Алжир, Тунис, 1920; Кения, Уганда, долина Нила, 1925–1926), едет в США и Мексику (1924–1925), ведет в Англии семинары по интерпретации видений (1930–1934), посещает Египет и Палестину (1933), читает лекции на вилле «Эранос» близ Асконы в кантоне Тичино.
Чего стоят одни только темы:
«Архетипы коллективного бессознательного», 1934;
«Идеи искупления в алхимии», 1934;
«Видения Зосимы Неаполитанского», 1937;
«Психологические аспекты архетипа матери», 1938;
«О повторном рождении», 1939;
«Психологический подход к догмату о Троичности», 1940;
«Символика трансформации в литургии», 1940;
«Дух Меркурия», 1942;
«Феноменология духа в волшебных сказках», 1945;
«О природе психической субстанции», 1946;
«О самости», 1947;
«О синхронических явлениях», 1951.
Он участвует в конгрессах, учреждает научные общества, руководит семинарами, редактирует журналы, составляет и издает сборники статей («Об энергетике души», «Проблемы души нашего времени», «Современный человек в поисках души», «Paracelsica», «Символика духа», «Состояния бессознательного», «Корни сознания»), Он строит ни на что не похожий дом-башню для одиноких размышлений, дает интервью для ТВ, получает звание почетного гражданина Кюснахта и, завершив последнюю из работ, через десять дней умирает в своем доме.
Он был сыном скромного швейцарского пастора и считал себя потомком Гете. Он был ясновидцем и исследователем, путешественником и отшельником, отцом многодетного семейства и великим одиночкой, философом и строителем, поэтом и созерцателем, алхимиком и гипнотизером, психиатром и полиглотом, знатоком камней и этнографом, мистиком и футурологом, почетным доктором Гарвардского, Калькуттского, Бенаресского, Аллахабадского и Женевского университетов. Путешествуя по Африке, он участвовал в ритуальных негритянских танцах, в Мексике старался проникнуть в тайны обрядов индейского племени пуэбло, в Индии посещал тантрические храмы, беседовал с браминами и изучал Лао-Цзы.
«Разница между большинством людей и мной, — пишет Юнг, — в том, что для меня „разделительные перегородки“ прозрачны. Для других эти перегородки непроницаемы; ничего за ними не видя, люди считают, что ничего там нет».
Увы (или к счастью), для меня они тоже непрозрачны, но я не считаю, что за ними ничего нет, и еще я считаю, что они не доходят до неба, а небо — одно для всех.
P. S. Интересно, что магический круг, когда о нем пишет Гете, не вызывает у меня отторжения. Гете — поэт, вот он и сочиняет. Гете сочиняет «Фауста» и теорию цвета. Демокрит сочиняет атомное строение материи. Менделеев сочиняет (во сне) свою таблицу, Эйнштейн — теорию относительности, Вернадский — ноосферу, Юнг — сферу бессознательного. Все мы пленники активного залога, такими нас сочинил наш язык. Английский язык сочинил, например, Шекспира:
We are such stuff As dreams are made on…Перевожу так:
Мы суть тот материал, Из коего сотворены виденья.P. P. S. Одна моя двоюродная бабушка (Зинаида Афанасьевна) переводила Новалиса, Франса и Шекспира. А другая (Зинаида Ильинична) перевела на русский язык «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда.
Желаю тебе приятных сновидений.
Январь, 1997Романтизм
Здравствуй, как жив, в Вену ты, конечно, не поехал, и в Париж, и в Лондон, но, по слухам, приедешь в Москву на конференцию памяти Альберта Карельского.
Господи, как весело бывало у них в доме тридцать первого января, сколько народу собиралось, как пели, как пили, а угощенье… Почему-то помню дивную утку с яблоками и прозрачную вазочку темного стекла с желтой архангельской морошкой, которую присылали из дому его жене Эмме.
После его смерти германистика наша опустела, опустила руки, поблекла, нет того масштаба, стиля, изящества и глубины. Он был элегантен, умен, хорош собой, красиво двигался, интересно мыслил, благородно поступал, сколько раз я бросалась к нему рыдать в жилетку, просить совета, одалживать до получки. Он научил меня вылизывать материал, держать корректуру, придумал заголовок для переведенного мной романа, правил мои тексты (первый и единственный раз в жизни мы повздорили из-за толкования одного пассажа у Хакса).
Он всегда приходил ко мне на день рождения, дарил цветы и книги, только цветы и книги, произносил галантные тосты; польщенные гости таяли от восторга. Я была уверена, что вся его доброта и снисходительность, внимание и такт — только для меня. А как стали его хоронить, и пришли все его друзья, студенты, коллеги, оказалось, что нас таких полна церковь. Может, я уж об этом писала, так ведь это итог.
Когда я увидела его на первом курсе, подумала, что серенький, что провинциал, зубрила, отличник, теперь и слова такого нет, архаизм. Он и вправду был отличник, феноменальную имел память, помнил тексты страницами, все даты, имена, термины, источники. Помню, как мы злорадствовали, когда он вдруг начал плавать на экзамене по зарубежке, но Самарин выставил его в коридор, дал время подумать, потом опять вызвал. Спросил и поставил пять. Потом отправил отличника в Берлин, в университет Гумбольдта, взял на кафедру, дал защититься — и повесил на него все мыслимые и немыслимые курсы. А Карельскому только того и надо было. Он читал и немцев, и французов, и англичан, и американцев, Возрождение, Просвещение, романтизм (тогда еще со строчной писали), двадцатый век… Студенты валом валили, а он уходил на лекции утром, днем устраивал себе «мертвый час» (он говорил beauty sleep), а с четырех до двенадцати — еще один полный восьмичасовой рабочий день, и так сорок лет.
Семь килограммов рукописей осталось, почерк бисерный, писал на обеих сторонах листа. Теперь вот мои студенты расшифровывают, набивают на дискеты, а я им за это «спасибо» и зачет по компьютерной практике. Сколько же он переводил, сколько имен первого ряда: Белль, Ленц, Брох, Музиль, Грасс, Айх, Гельдерлин, Эйхендорф, Бюхнер, Геббель, Гофман, Гейне, Рильке, Фонтане, Гофмансталь, Брукнер, Хорват, Хакс, Виньи. А сколько имен скромных, полузабытых: Клаудиас, Майрхофер, Лаппе, Хельти, Хальм, Зибель, Редвиц, Рюкерт и еще много-много других. Он публиковал статьи и тезисы, выступал на конференциях и симпозиумах, ездил читать лекции в Германию (говорят, на его лекциях в Кельне слушателей собиралось столько, что они сидели на подоконниках и на полу), писал предисловия и послесловия, комментировал, редактировал, рецензировал, оппонировал.
Романтическое сознание занимало его всю жизнь. Оно было его страстью, духовным пространством, если хочешь, религией, но загадка оставалась. Чего они добивались, эти гении, откуда взялся их сумасшедший идеализм, стремление ввысь, поиск абсолютной свободы, как они ощущали и представляли себе мир, почему так странно любили, так смертельно враждовали, так часто предавали?
Он еще в университете понял, что священные коровы нашего академического литературоведения — термины «консервативный», «революционный», «прогрессивный» — не дают ключа ни к одной словесности. Такая вот крамола во времена, когда от студента-преподавателя-профессора требовалось не исследование, не сомнение, а исповедание. Гейне, допустим, прогрессивный, а Виньи, допустим, реакционный, а то не поставим зачет, не дадим защититься, не пустим в доктора. До чего же мы дошли, построили сочинителей всех времен и народов в ряды-колонны, шаг влево, шаг вправо считается ересью, вот он наш академический романтизм, с его нетерпимостью и жаждой абсолюта. Карельский все это понял где-то годам к тридцати, пока многие прочие только охали и ахали, страдая от окружающей духоты, тесноты, затхлости и комплексов неполноценности.
Помню, как однажды, в «оттепель», он принес в «Иностранную литературу» одну острую антифашистскую статью, в коей просматривались весьма убедительные параллели. Дамы из редакции при виде его, не сговариваясь, зааплодировали, но статью, конечно, не напечатали. Неудивительно, что его единственная монография «Драма немецкого романтизма» (М.: Медиум, 1992) так долго ждала в очереди к печатному станку. Но она всетаки есть, его книга, он успел опубликовать ее при жизни и сказал в ней что хотел: «Здесь и поздний Шиллер, и Гете с его „Фаустом“, и Гельдерлин со „Смертью Эмпедокла“, и Клейст, и австриец Грильпарцер, и Граббе, а сразу вслед за ними эту эстафету подхватят Бюхнер, Геббель. Заметим… это драматурги по преимуществу, по признанию, по складу натуры и таланта. И они в самой жизни своей не просто жили, писали и умирали, а — пылали и сгорали».
Он каждого слышал, умел слышать мертвых, умел слушать живых, помнил, знал, что душа бессмертна и звезда с звездою говорит. Он проследил пути и перепутья европейской литературы от Йены и Гейдельберга через весь девятнадцатый и двадцатый век. И мы теперь знаем, что Романтизм — это вам не течение, не направление, не частное заблуждение, но вся идеология Новейшего времени.
До встречи.
Январь, 1997
Масоны
Добрый вечер, милый друг, что не пишешь? Недосуг? Как здоровье, как дела? Здесь зима почти прошла, и семестр уже идет, и забот невпроворот, в них зарылась я, как крот, а зарплата — анекдот… Ну для чего пашу, как дура? Ах да, люблю литературу.
Прочла книжку итальянца Микеле Морамарко «Масоны в прошлом и настоящем» (М.: Прогресс, 1990. 282 с., с иллюстрациями, на газетной бумаге, в мягкой обложке, цена 18 тысяч в университетском киоске) и узнала множество любопытных вещей. Значит, так: масоны ведут свое происхождение как бы от пифагорейцев, а может быть, от царя Соломона, или от древней секты евсеев, или от тамплиеров-храмовников, но наверняка от средневекового цеха каменщиков, отсюда их атрибуты: белые шляпа, перчатки и фартук. Помнишь: «Каменщик, каменщик, в фартуке белом…»?
Они связаны с традициями гностиков, манихеев и алхимиков и, похоже, были первыми строителями, а значит, и изобретателями готических соборов. Их символика была поначалу вызвана необходимостью шифровать числовую информацию (ведь они грамоте не знали, держали ценные сведения в памяти). Они считают Бога Великим Архитектором Вселенной (с чем нельзя не согласиться), а душу человека — диким камнем, который следует обтесывать всю жизнь, дабы придать ему совершенную форму; масонский храм — символ универсума, он украшен изображениями Солнца, Луны и Священной дельты (равносторонний треугольник в лучах славы со всевидящим оком в центре), а пол имеет узор в виде шахматной доски. На треугольный алтарь возлагается Библия (открытая на первой странице Евангелия от Иоанна), угольник (указывает на прямизну пути), циркуль и линейка (знаки меры), а также уровень и отвес (знаки справедливости). И эти символы труда во славу явленного в Откровении Бога уживаются в интерьере со статуями Минервы, Геракла, Венеры (мудрость, сила, красота). В Средние века масонство было прикладным, «оперативным», а в Новое время — «спекулятивным», то есть философским, теоретическим и, разумеется, политическим (хотя от политики они открещиваются как от занятия суетного и недостойного избранных, причастных к высшей истине).
Еще я узнала, что в разных странах сформировались различные обряды посвящения, что вообще-то есть три ступени: Ученик, Подмастерье и Достопочтенный Мастер, но в шотландском обряде их больше тридцати, что масонство знало времена взлетов и падений, а во времена Французской революции одни масоны посылали на эшафот других; их ложи подвергались гонениям при абсолютных монархах (Екатерина Вторая) и запретам со стороны диктаторов; Сталин, Гитлер, Муссолини люто их ненавидели, ведь у масонов есть тайна, особый путь, чувство собственного достоинства, и они не боятся смерти.
А вот тебе очень краткий выборочный список масонских имен и дел:
Нострадамус предсказал все, что было и будет;
Монтескье написал «Персидские письма» и «Дух законов»;
энциклопедисты издали «Энциклопедию искусств и ремесел»;
Вольтер вошел в масонский храм в возрасте 84 лет, и, когда ему был передан «фартук, принадлежавший прежде Гельвецию, он поднес его к губам, а затем долго ласкал тонкими пальцами»;
Франклин изобретал громоотвод и составлял «Декларацию независимости»;
Вашингтон командовал армией в войне за независимость Соединенных Штатов и был первым президентом этой страны;
Лессинг служил библиотекарем и написал «Гамбургскую драматургию», «Натана Мудрого», «Эмилию Галотти», «Минну фон Барнхельм» и масонский трактат «О воспитании человеческого рода»;
Моцарт услышал всю музыку Моцарта, в том числе масонскую «Волшебную флейту»;
Лаплас размышлял о небесной механике и системе мироздания;
Гете интересовался натурфилософией и минералогией, был художником, премьер-министром, драматургом, завлитом и режиссером, а заодно создал всю прозу и сочинил всю поэзию Гете, включая «Фауста», и произнес в масонском храме речь «Памяти брата Виланда»;
Бернс пахал землю и писал баллады Бернса;
Бетховен сочинил все сонаты и симфонии Бетховена;
Паганини играл на скрипке;
Анри Жан Дюнан основал Красный Крест;
Оскар Уайльд… эх, что говорить…
Эдмунд Кин сыграл всего Шекспира;
Анри Мари Бейль написал прозу Стендаля;
Марк Твен прислал из Палестины в адрес своей ложи «молоточек», рукоятку коего «вырезал брат Клеменс из ствола ливанского кедра, своевременно посаженного Готфридом Бульонским возле стен Иерусалима»;
Киплинг знал, что есть Запад и что есть Восток, но, боюсь, понимал это несколько иначе, чем способны понять мы;
Тагор написал мой любимый роман «Гора»;
Ян Сибелиус открыл миру музыку «Калевалы»;
Александер Флеминг открыл пенициллин;
Франклин Делано Рузвельт достиг тридцать второй ступени шотландского обряда, четырежды был президентом США (и имел в своем личном штате самого знаменитого гурмана и автора криминальных романов Рекса Стаута);
Тото снимался в кино;
Ферми построил первый ядерный реактор и осуществил цепную реакцию (зачем, зачем?);
Майкл Дебейки недавно приезжал в Россию как всемирно известный кардиохирург…
Морамарко называет в своей книге множество других имен, но среди них почти нет русских. Нет, прошу прощения, есть Лев Толстой и огромная цитата из «Войны и мира» (посвящение Пьера Безухова и его разговор с Андреем Болконским о смысле жизни).
А между тем тот же восемнадцатый, самый масонский, век дал России и Баженова, и Новикова, и Татищева, и Сумарокова, и Хераскова, но русское масонство — это уже другая тема. Ну, как тебе «фармазоны»?
P. S. Одно имя я все-таки упомяну. В бывшей Румянцевской библиотеке (Пашков дом, гордое и многострадальное детище Баженова!) хранителем редких книг служил до революции и после нее Николай Петрович Киселев. Товарищ Сталин отправил его в лагеря; через 25 лет Николай Петрович вернулся и успел еще при жизни опубликовать самый ранний в Европе памятник типографского искусства, так называемый «московский» (то есть обнаруженный в Москве) 27-строчный донат (фрагмент латинской грамматики) из печатни Гутенберга; до самой смерти старый масон обходил пешком московские церкви, спеша описать еще не погубленные к тому времени старопечатные русские литургические книги. Вот кому надо памятники-то ставить. Но на это у нас кишка тонка. А у итальянцев хватило пороху поставить памятник Джордано. Тоже, кстати, масонская работа.
P. P. S. Да, это масоны придумали скомпрометированный лозунг «свобода, равенство, братство», но неужто «пусть неудачник плачет» — лучше?
Февраль, 1997Идея господина дома
Сегодня я стенать не стану, не буду биться лбом об стену, не буду сыпать соль на раны, сегодня напишу про сцену.
Представь себе длиннющую трехактную пьесу, в ней восемь действующих лиц и сюжет, как бы это сказать, скорее, пиранделлический. В маленьком провинциальном городке живет эдакая фамфаталь, жена местного главного богача, в которую влюблены мясник, учитель и юный красавец без определенных занятий. Она водит их за нос, сталкивает и стравливает. Мужчины изнемогают и сходят с ума, их жены закатывают истерики и публичные скандалы, роковая женщина упивается своей сомнительной славой, ее служанка подбирает крохи мужского внимания с барского стола, переносит любовные записочки, прячет любовников от ничего не ведающего холодно-безразличного, так и не появляющегося на сцене мужа. Потом этот самый муж вдруг начинает скоропостижно помирать, а пока он где-то за кулисами помирает, жена все никак не может решиться подарить свою благосклонность юному красавцу. Но тут неожиданно в дом является некая дама, как выясняется, любовница покойника, она горько его оплакивает, а вдова вдруг проникается к сопернице острой завистью и, разыгрывая сочувствие, втирается к ней в доверие, стремясь задним, так сказать, числом разрушить и осквернить неведомую ей любовь. На этом кончается первый комедийный акт, а потом происходят еще два — с переменой жанра.
Сюжет приобретает жесткие саркастические очертания, словно разыгрывается вторая пьеса с теми же персонажами, но в другом времени, и после антракта кончается серебряный век и начинается железный.
Отвергнутые любовники вдовы (во главе с маленьким и очень противным бургомистром) быстро хоронят покойника и немедленно пускают в оборот его, так сказать, духовное наследие — никому не понятную, неизвестно откуда взявшуюся, но тем более политически многообещающую Идею. В доме они устраивают музей, в городе и стране организуют политические партии. Тем временем безутешная вдова, дабы осуществить задуманную месть, то есть заставить любовницу мужа изменить ему хотя бы после смерти, пускает в ход все свое обаяние и буквально вынуждает своего юного воздыхателя изнасиловать безутешную соперницу, в чем тот и преуспевает. Однако же проникается нежными чувствами к жертве, и они в полном согласии удаляются под сень струй. Вдову, обреченную отныне играть трагическую роль национальной героини, утешает верная камеристка, и все кончается апофеозом восторженно-взвинченного всеобщего «примирения» в лоне Идеи. Вот какую пьесу под названием «Холодно и горячо, или Идея господина Дома» написал в 1934 году бельгийский драматург Фернан Кроммелинк. Никакой психологической достоверности, странные непоследовательные отношения, странные алогичные поступки, непонятные, «нетипичные» характеры, «нетипические» обстоятельства.
Спектакль играется четыре часа с двумя короткими перерывами, и в течение этих четырех часов интерес зрителей не ослабевает ни на минуту. Я просто не могла себе представить, что такое еще возможно. Даже очень добротные, очень сделанные и профессиональные спектакли где-то обязательно «провисают», а здесь вся декорация — один круглый стол посреди сцены и два стула. Персонажи, хлопая дверями, влетают, врываются, вламываются из двух симметричных боковых порталов, меняют костюмы и макияж, меняют имиджи, меняют манеру обращения со зрителем и с партнерами. При этом они настолько остаются самими собой, настолько сохраняют органику и легкость, что в зале не возникает ни малейшего ощущения нелепицы или безвкусицы, но держится неослабевающее напряжение, я бы сказала, страстное внимание к происходящему. Значит, найден ключ, найден общий знаменатель всего происходящего на сцене: потасовок, пощечин, любовных объяснений, высокопарных речей, сентиментальных признаний, нежных и грубых объятий, недоразумений, оскорблений, слез, смеха и молчания. Пиранделлический (или пиранделльный?) материал прочитан во всех ракурсах, сыгран как комедия положений, режиссеру удалось вдохнуть в спектакль энергию, азарт, придать ему блеск и шик — и соблюсти расчет, вкус и меру. Ни одной накладки, все точно, прочно, легко, уверенно и просто. Профессионально. Режиссер спектакля — Елена Невежина. Она — главная пружина всего действа. Это она угадала в слабой пьесе Кроммелинка золотое дно символистского театра.
Ибо кто такая героиня — Леона, как не сама Власть в ее неотразимом женственном обличье, она влечет, соблазняет, совращает, унижает и возвышает стремящихся к ней мужчин, она отбирает у них все, но, бедная, не в состоянии ничего дать, кроме обещаний, разумеется. Эту роль, почти не уходя со сцены в течение четырех часов, точно ведет Инга Оболдина.
Или кто такая Алике — ее верная-неверная служанка, то глупая, то юродивая, то хитрая, то наивная, податливая, жадная, бескорыстная, искренняя и фальшивая? Нация, непредсказуемая в своей приспособляемости, полная обожания и одновременно презрения-отвращения к хозяйке-Власти. Именно она — от нечего делать или со скуки — высасывает из пальца Идею, якобы посетившую господина Дома, а уж мужчины, стремясь сублимировать комплексы, которыми наградила их недоступная, капризная Власть, переносят на эту химерическую Идею жар своих вожделений. Смотреть на Полину Агурееву в роли Алике — редкое наслаждение, ощущение такое, что это худое страхолюдное создание в кургузом черном платье, идиотских тапочках, эта скверная девка, эта серая мышка общается со сцены лично с тобой и ты с трудом удерживаешься, чтобы не ответить вслух на ее ехидные реплики, намеки и подмигивания. Ее игра — это адская смесь из Жеймо, Мазины и Ахеджаковой. Представляешь, какая одаренность? Не надо быть пророком, чтобы предсказать ей большую славу.
А вот перед нами нежная, романтичная, долговязая, нелепая, почти безумная, трогательно беззащитная Фели — воплощение Любви (Наталья Благих), и вульгарно-скандальная, расхристанная, с синяком под глазом Ида — Семья (Ольга Левитина).
С мужскими персонажами тоже все ясно. Они дополняют этот символический многогранник: юный Одилон — алчущий и жаждущий Секс (Андрей Щенников); учитель Бельмас — возбужденный, нервный, ослепленный Идеей Интеллект (Илья Любимов); мясник Тьерри — красивый, статный, простовато-грубоватый Труд (Павел Сборщиков) и, наконец, замыкает ансамбль анекдотически смешной, деловой, занятой, занятный, ничтожно-значительный Бургомистр — воплощение Тщеславия (Михаил Крылов).
А господин Дом, который так и умирает за кулисами, ни разу не появившись на сцене, это сам Господь Бог. В ницшеанском, разумеется, понимании.
Резюме: наконец-то у нас в Москве, в бывшем Собиновском, а ныне опять Малом Кисловском переулке, на четвертом курсе ГИТИСа (режиссерский факультет, мастерская П. Н. Фоменко) сыграна настоящая мистерия. Костюмы — Ирина Шишкина; грим и реквизит — Татьяна Кондрыгина; свет — Валюс Тергелис, музыка — Прийт Руттас. Педагоги курса — С. Женовач, Е. Каменькович, О. Фирсова; педагог по речи — С. Серова, педагоги по танцу — В. Гуревич, В. Новоселов; педагоги по движению — Г. Богданов, Н. Карпов. Держу пари, что ни один другой московский театр не потянул бы пьесу такой сложности. И уж тем более не рискнул бы на два антракта. Что это? Неужто новая волна?
Приезжай, сам увидишь.
P. S. Между прочим, пьесу Кроммелинка новое поколение извлекло из сборника «Восемь бельгийских пьес», М.: Искусство, 1975. Но имя переводчика (Р. Линцер) в билете-программке все-таки не упомянуто. Места не хватило. А еще говорят, что благодарность — свойство высокоорганизованной материи. Ложка дегтя… Ну что с них взять? Дети.
Март, 1997Кормер
Прости, что долго не писала, я замоталась и устала, была в Германии неделю, все новости остыть успели, но, впрочем, это не резон в апреле закрывать сезон, за мною два письма до лета, ну а пока прочти-ка это.
У нас в РГГУ открылась книжная лавка «У кентавра». Своим экзотическим названием она обязана всеобщему увлечению кентавристикой, о каковой, признаюсь честно, пока имею весьма смутное понятие. Так вот, захожу к этому «кентавру» и без всяких проблем покупаю книгу Владимира Кормера (1943–1986) «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» (М.: Традиция, 1997, 286 с.). Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Состав издания: роман «Крот истории» и две статьи «Двойное сознание…» и «О карнавализации как генезисе двойного сознания». Держу в руках желтую книжку с маленькой фотографией автора и рассматриваю милые, как бы детские рисунки-карикатурки на мягкой обложке (оформление Т. В. Кормер). Вот голая лампочка Ильича, без признаков абажура (именно такая висела в коридоре той коммуналки, где Кормеры жили в пятидесятых). Вот обведенные рамкой физические формулы из институтских лекций (он окончил МИФИ, хотя несколько раз безуспешно пытался бросить физику, не хотел работать на войну, но всем тогда его интерес к философии и филологии казался блажью, кокетством, капризом). Еще на обложке — кудрявый Кормер с рюмкой, лысый Кормер с трубкой и ваза с фруктами — все символы его такой короткой, такой бурной жизни. Его первый роман «Наследство» довольно долго пролежал в сейфе старого «Нового мира», но Твардовскому не удалось его пробить, а нам прочесть. И тогда Кормер, уже работавший в отделе критики «Вопросов философии», уже взрослый и женатый, уже очень настрадавшийся и все понимавший, отдает роман в «ИМКА-Пресс» и публикует в Париже под собственным именем. В Париже ему дают премию Даля — за лучший дебют 1979 года, а в Москве выгоняют с работы и обрекают на гибель. Я (как все) понимала, что шаг самоубийственный, но вполне сознательный. И я не удержалась и спросила (как все), почему, дескать, не под псевдонимом?
Меня не извиняет то, что, задавая этот вопрос, я романа не читала. Я прочла его двадцать лет спустя, и Кормера уже десять лет нет в живых, а если бы был он жив, то позвонила бы и попросила прощения. Потому что такие романы, как «Наследство», под псевдонимами не печатают. Потому что это роман о честности. И о том, как моральная нестойкость, нечистоплотность разъела изнутри диссидентское движение.
«Крот истории» написан в форме внутреннего монолога. Герой романа — довольно удачливый цековский спичрайтер (раньше говорили «референт»), умный, образованный, завистливый, слабый и тщеславный, исполняющий унизительную роль ученого лакея при господине губернаторе, то бишь некоем функционере очередного Интернационала. Он сидит под Москвой на бывшей сталинской даче и разрабатывает, а лучше сказать, вынашивает план монархического переворота в одной латиноамериканской стране под шифрованным названием S=F, читай социализм есть фашизм, а парадокс в том, что сей революционер и глобальный политик так ни разу и не бывал в этой S=F. Немудрено, что нечеловеческие усилия, предпринимаемые напряженным до крайности интеллектом с целью объять необъятное, совместить вещи несовместные, приводят к короткому замыканию — и у героя едет крыша. У героя и всех окружающих его номенклатурных персонажей. Смысл и пафос книги Кормера в том, что крыша неизбежно поедет у всякого, кто говорит одно, делает другое, а думает — третье, будь это хоть класс, хоть прослойка, хоть отдел ЦК, хоть любой другой отдел, организация или, скажем, фирма.
Роман о том, что главная проблема России — это судьба ее интеллигенции, которая вымостила благими намерениями дорогу в ад, разучилась говорить от своего имени, обнищала в прямом и высшем смысле, продала душу черту, а мозги — власть имущим. Роман хороший, все говорили, но я не думала, что он настолько мастерски сделан, настолько четко ложится в русло классической традиции. Ты услышишь в нем и Гоголя, и Достоевского, и Чехова, и Булгакова, но именно реминисценции составляют его главную ценность. Даже самое словесную ткань. Я читала два раза подряд и буду читать еще. И статьи хочется перечитывать. Кормеровские тексты обладают поразительной емкостью. Хочешь процитирую?
«Никогда никто… не был до такой степени, как русский интеллигент, отчужден от своей страны, своего государства, никто, как он, не чувствовал себя настолько чуждым — не другому человеку, не обществу, не Богу — но своей земле, своему народу, своей государственной власти» («Двойное сознание…», 1969 год).
«…с 1909 года было шесть соблазнов. Соблазны — революционный, сменовеховский, социалистический, военный, соблазн оттепели и соблазн технократический или просветительский. Таковы направляющие интеллигентской духовности… Что же изобретает русская интеллигенция? Чем еще захочет она потешить дьявола? Для ровного счета ей остался, по-видимому, еще один, последний соблазн. Больше одного раза земля уже не вынесет. Она не стерпит такого нечестия. Будет ли это новый русский мессианизм по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксального сталинского коммунизма? Но чем бы это ни было, крушение его будет страшно. Ибо сказано давно: „Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят“» (Лк. 17, 1). Прислать книгу?
P. S. Похоже, мы и есть самые настоящие кентавры. Те тоже были ученые, но имели двойную природу. А мутация, она, как говорится, чревата. Такая вот кентавристика.
Апрель, 1997Вертер
Вот опять тебе пишу, хоть сама едва дышу, то экзамен, то зачет, нервно сессия течет, нету времени и сил, но ведь ты писать просил? Получай же мой рассказ в восемнадцатый уж раз.
Помнишь, я упоминала в одном из писем об экстравагантной постановке «Спора» Мариво в Бохумском театре и о моем соседе — чувствительном зрителе, который был весьма шокирован обилием обнаженной натуры в этом спектакле? Ну так вот. Пока я иронизировала и пописывала фельетоны, он взял да и написал книгу. Да такую, что я прочитала ее в один присест, не отрываясь, и на следующий день принялась перечитывать. Можешь мне поверить, со мной такое нечасто бывает. Тем более что это вовсе не роман, не стихи, не драма какая-нибудь, а самое натуральное литературоведческое эссе, да еще и о таком всем известном предмете, как Вертер. Автор задался целью проследить судьбу гетевского романа за прошедшие с тех пор двести двадцать три года (как время-то летит!), а результатом явился текст редкой по нашим временам глубины — тонкий, изящный, мнимо легкий в восприятии, благородно-сдержанный, серьезно-остроумный, в общем, классный.
Ну что, казалось бы, такого занимательного в этом Вертере? Ну, любил молодую девицу, оказался третьим лишним в треугольнике и пустил себе пулю в лоб. Загадка, однако же, остается. Зачем, например, понадобилось Наполеону перечитывать роман в течение всей жизни (семь раз!), причем в последний раз на острове Святой Елены? Что в нем было такого, в этом несчастном немецком мальчике, что ему подражали целые поколения в Германии, Франции, Италии? А ведь они не только надевали вертеровский желтый костюм, проливали чувствительные слезы, писали трогательные письма, но и поднимали заряженный пистолет, вязали узел на веревке. А что в России делали… Одним из первых был шестнадцатилетний М. В. Сушков, автор посмертно опубликованной книги под названием «Российский
Вертер, полусправедливая повесть, оригинальное сочинение М., молодого чувствительного человека, самопроизвольно прекратившего свою жизнь».
По поводу книги и ее автора Н. Н. Бантыш-Каменский напишет князю А. Б. Куракину (8 сентября 1792 года): «Что это во Франции? Может ли просвещение довести человека в такую темноту и заблуждение! Пример сей да послужит всем отвергающим веру и начальство. Говоря о чужих, скажу слово и о своем уроде Сушкове, который Иудину облобызал участь. Прочтите его письмо: сколько тут ругательств Творцу! Сколько надменности и тщеславия о себе! Такова большая часть наших молодцов, пылких умами и не ведающих ни закона, ни веры своей».
И ведь с тех пор так оно и повелось. Стрелялись Ленский и Онегин, Печорин и Грушницкий, Базаров и Павел Петрович Кирсанов, Надеждин («Новь»), Кириллов («Бесы»), убивали себя герои Чехова, Куприна, Бунина, потом Есенин, Маяковский, Цветаева, Фадеев… Все. Все они вертеры — третьи лишние в любовных и прочих треугольных конфигурациях, инородные тела, попадавшие под жернова аристократии и бюрократии, дворянства и купечества, власти и народа, диктатуры и пролетариата. «Каждая эпоха, — говорит автор книги, — имеет своего Вертера». И своего Бантыш-Каменского, что еще хуже. История повторяется и повторяется. Ах, романтическое сознание, и кто тебя выдумал? И где другое взять?
Вот и перечитываем мы «Страдания юного Вертера», находя утешение в печальной мысли, что не одним нам, русским интеллигентам, приходится туго в неуютно-враждебной, химически вредной агрессивной социальной среде.
Да, сюжет успел стать банальным, тривиальным, чуть ли не бульварным, а в нашу-то эпоху демографических взрывов, предохранительных ухищрений и полной свободы американо-европейских нравов вообще неактуальным. Но в том-то и фокус, что, как ни финти, как ни хитри, природу не обманешь, не объедешь, и пока что никому не удалось отменить ни ревности, ни чувства попранного социального, если угодно, гражданского достоинства.
Сочинение, о коем речь, элегантно и без напряга доводит до нашего сведения множество исторических фактов, архивных документов, ценных сведений, цитат, отсылок, оценок, мнений и имен. Но самое удивительное впечатление производит его стилистика, мягкая, свободная, спокойная интонация, полное отсутствие клише и пафоса.
Привожу выходные данные: Марк Бент. Вертер, мученик мятежный… Биография одной книги. Челябинск. Издательский центр ЧелГУ, 1997, 221 с., илл. Библиография: 83 названия, литература на русском, немецком, французском, английском, итальянском и польском языках.
Всех благ.
P. S. Тираж 500 экземпляров, цена договорная, обложка мягкая, а бумага все-таки белая, и в наборе нет ошибок, и сверстано бережно и со вниманием к материалу. Челябинским студентам повезло с профессурой.
Mail, 1997Штрален
Ну, привет, начнем по новой, как семейство? Все здоровы? Ты, значит, в Италии? А я сидела в Штралене.
Штралена на карте нет, потому что он маленький и через него не проходит железная дорога. Он вообще-то как бы деревня, но на самом деле город со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами и достижениями современной цивилизации плюс сельский пейзаж и развитие цветоводства, чистый воздух, дивный климат, роскошные шоссе и выложенные красной плиткой велосипедные дорожки, садишься на велосипед, почти не крутишь педалями, потому что местность ровная, и через пятнадцать минут ты в Голландии, там речка Маас, а на берегу Арсен — как бы деревня, но вообще-то город со всеми… См. выше. В Штралене такая кондитерская на рыночной площади, что туда из соседних городков приезжают по воскресеньям разодетые пожилые дамы, специально, чтобы отведать кусок торта и потом с гордостью рассказывать об этом приятельницам. В Штралене такие набожные горожане, что колокола местной католической церкви почти не умолкают с утра до вечера. В Штралене каждую субботу такая барахолка, что там за несколько марок можно купить любую бесполезную вещицу — от ручного зеркальца в стиле модерн до расшитого золотом восточного туалета (синие шаровары и блуза с поясом — не то неглиже, не то вечерний костюм, ясно, что штраленцы такого ни в жизнь не наденут). Там есть итальянское кафе-мороженое, швейцарский бутик, греческая закусочная, турецкий портной, французский магазин дорогого нижнего белья и немецкая мясная лавка, удостоенная почетного сертификата за качество и чистоту, там есть еще много-много чего, чего я даже не видела, а жителей там всего тысяч пять. И вот в этом-то раю имеется совсем уж потрясающее заведение под названием «Европейская коллегия переводчиков», они меня пригласили, выдали щедрую стипендию, поселили в своем светлом двухэтажном доме (полном книг, справочников и энциклопедий на всех языках) и сказали: работай, а больше от тебя ничего не требуется. Согласись, такого не бывает.
Я прожила там два месяца и до сих пор не могу поверить, что такое — бывает. Что человек моей-твоей профессии может работать без помех столько, сколько хочет, в человеческих условиях и в благоприятной профессиональной среде, нераздираемой дрязгами. Общий язык, конечно, немецкий. Там были коллеги из Норвегии, Дании, Польши, Венгрии, Голландии, Исландии, Чехии, Ливана, из Штатов и Канады, из Болгарии и Бельгии. Некоторые приезжали на несколько месяцев, некоторые на пару дней, кто-то жил на стипендию, кто-то на свои, по вечерам встречались на коммунальной кухне и подолгу разговаривали, исподволь сверяя менталитета, литературные пристрастия и системы ценностных ориентаций. На меня лично самое сильное впечатление произвел профессор Фуад Рифка, преподаватель постгегельянской философии в одном из университетов Бейрута, православный христианин, выполнивший новый полный перевод Ветхого Завета на арабский язык. Это легко написать, но представить себе этот титанический труд почти невозможно. У Лютера на это дело ушло двадцать пять лет, а Рифка справился за десять. Невероятно. Идея таких центров потихоньку-полегоньку утверждается в сознании некоторых заинтересованных государств, учреждений и лиц в Европе, и не только. Она представляется мне страшно хрупкой, нереальной, а между тем нечто подобное («Дом поэта») в свое время осуществил Максимилиан Волошин в Коктебеле, и было это чуть ли не сто лет назад, то есть Россия однажды уже изобрела этот велосипед. И ужасно хочется для нее немного дальновидности и широты и интереса к будущему развитию культуры и человечества, каковое развитие, судя по штраленским впечатлениям и контактам, конечно же лежит не в плоскости постмодерна, изрядно всем надоевшего (сколько можно паразитировать на классике?), но в движениях экуменических, экологических и ньюпросветительских.
Какие оно примет формы, кто ж его знает?
Пиши.
P. S. На Коровьей улице, 15, в г. Штралене, ФРГ, земля Рейн-Вестфалия, одновременно могут разместиться со всеми удобствами 30 переводчиков. И всю эту махину несут на своих плечах три человека: Клаус Биркенхауэр, Карин Хейнц и Регина Петерс. Опять же невероятно.
P. P. S. И Москва не разом строилась, и Европа. Люди бывают подчас анекдотически глупы в своих притязаниях на владение истиной. В доказательство приведу текст одного из моих штраленских переводов (конечно же из Хакса).
Процесс
На суде смотрелся плохо обвиняемый Собором, Хоть и был украшен череп папским головным убором. И предъявлен был Формозу обвинений список страшных, И защитником назначен был диакон из присяжных. Ведь когда святая церковь предъявляет обвиненье, Нужно выслушать защиту, чтобы вынести решенье. Выпятив гнилую челюсть, источая резкий запах, Ямами пустых глазниц на Собор взирает Папа, На парчовых стол сверканье и на черные сутаны, На преемника-истца — Папу Римского Стефана. Правда, некоторых братьев в этот день не досчитались, Все как есть формозианцы вдруг больными оказались. Говорит Стефан с амвона: «Предъявляю обвиненье. Ты святую церковь нашу ввел, Формоз, во искушенье. Признаешь ли, что покинул ты затем свое аббатство, Чтоб, каноны все нарушив, на престол Петра взобраться?» «Подзащитный вас не понял!» — честный дьякон восклицает. А Стефан на то с улыбкой: «Брат, меня он понимает». Тут вмешался в процедуру кайзер Ламберт из Италии: «Что за мелкие придирки, что за детские баталии! Ведь за этим негодяем есть вина куда страшнее! Почему он Рим высокий предал немцам без сраженья?» «Здесь, в Соборе, — молвит Папа, — утолит Господь печали. Император пусть молчит, мы вам слова не давали». И, любезно улыбаясь, Папа дальше речь ведет: «Ты был пастырем болгарским. Этот варварский народ Ты Мефодию с Кириллом столь позорно проиграл, Этим дьяволам с Афона! Понял ты, что я сказал?» «Подзащитный вас не понял!» — честный дьякон восклицает. «Брат, он все отлично понял», — мягко Папа возражает. Снова вскакивает с места император неуемный; Напряглись тугие жилы, и глаза сверкают гневно. «Наплевать на спор поповский и славянские шрифты! Про тирольского Арнульфа почему не спросишь ты? Ведь Формоз себе на помощь каринтийцев призывал, Чтобы дикий сброд альпийский стены Рима штурмовал!» «Вы дерзнули, — молвит Папа, — снова перебить меня. Попрошу не волноваться, соблюдать повестку дня». Но Ламберт уже завелся: «Братья, консулы, сенат! Кто, как не Формоз-предатель, в бедах Рима виноват? Рим с Италией в союзе стал бы мировой державой, Царство франков и тевтонов превзошел бы вечной славой! Рим мог заново родиться! А мерзавец что наделал? Он его убийцам-немцам, он его святошам предал. И хотя Арнульф был изгнан с каринтийцами своими, Много прихвостней Формоза до сих пор толкутся в Риме. А собор Петра святого? Прикрываясь словом Божьим, Сплошь немецкие шпионы там шныряют с постной рожей». Злобно хмыкнув, император речь сердитую прервал. Повторил серьезно Папа: «Я вам слова не давал. Лишь святая церковь смеет здесь вопросы задавать. Впредь прошу вас неуместных реплик с места избегать». И опять Формозу мягко: «Ну, скажи нам напрямик, О душе своей подумав, ты ведь архиеретик? Поделом лишен ты нынче, богохульник, всех отличий. Где твой посох? Где твой перстень? Где сиянье и величье? И отрублены три пальца топором без сожаленья, Дабы адских сил посланник не давал благословенья. И кто был рукоположен в сан тобою, окаянным, Потерял навеки право отпускать грехи мирянам И его получит снова лишь по нашему решенью. Мы тебя, твой труп смердящий, в Тибр швырнем без промедленья». Говорит Ламберт: «Прощенья я прошу, святой отец! Очень я разгорячился, не сдержался, как юнец». Тут же слово взял защитник: «Пусть Формоз и виноват, Но ведь много обстоятельств в нашу пользу говорят. Он в цитатах и иконах Сатану разоблачает, Говоря, что образ Божий самый тяжкий грех смягчает. И теперь всему Собору нужно вынести решенье: Виноват ли бывший Папа — или ложно обвиненье?» Укрепив себя молитвой, все участники Собора Аргументы за и против выдвигали в жарких спорах. А потом единогласно и с учетом положенья Вынесли вердикт: «Виновен и достоин осужденья». Об одной лишь неувязке нам анналы говорят: Что Формоз успел скончаться девять месяцев назад. И задолго, о, задолго до Пришествия второго, С саркофага снявши крышку, труп из плена гробового, Из подвала по ступеням извлекли на белый свет. И не наш Спаситель в славе, а Собор в его составе Обвиняемому Папе повелел держать ответ. И процесс, как все процессы, протекал согласно норме, Разве только подсудимый был физически не в форме. Хоть и грубым было средство, впечатляет результат. Но, увы, в учебник права этот казус не включат.Папа Формоз умер в 896 г., был судим и приговорен в 897 г. Так называемый Трупный собор считается началом политики, которая в истории католической церкви называется «господством свинства».
Сентябрь, 1997Лариса Миллер
Спасибо за письмо, сосед, я заплатила за обед и, получив матпомощь от больших начальственных щедрот, опять воспряла на мгновенье, витая в пятом измеренье.
Впрочем, я не уверена, что измерение пятое, пятое — это, скорее, интеллект, разум, анализ, а тут — нечто большее, тут поэзия искренняя, истинная, чистая, высокая, совершенная, мелодичная, гармоничная и безупречная, так что измерение как минимум шестое, и писать о нем мне даже как-то неловко, а не писать нечестно, поскольку книгу, о которой пишу (и которую тебе посылаю), я вовсе даже и не читаю, а перечитываю уже в который раз, а поскольку в современной поэзии очень мало текстов, способных оказать столь магическое действие на мое закаленное редакторское восприятие, ты, уж конечно, догадался, что перечитываю я в который уж раз последний сборник Ларисы Миллер.
Она включила в него эссеистику и стихи, но на самом деле никакой прозы нет, в этой книжке все — поэзия. В ней восемь тщательно продуманных разделов, из них шесть открываются рецензиями, путевыми заметками, воспоминаниями о людях, ушедших из жизни, но живущих в ее неумолимой эмоциональной памяти, и завершаются стихотворениями, написанными по тому же — почти всегда трагическому — поводу; один раздел содержит только эссеистику, а один — только новые стихи.
У нее есть своя точка отсчета ценностей — непреходящих, непререкаемых, вечных и безусловных: достоинство слова. Отсюда простота и обезоруживающая исповедальность каждой строки, каждого тропа. Послушай только, как она пишет, например, о кино, об «Охоте на бабочек» Отара Иоселиани: «В застолье нет радости, в музицировании — музыки, в играх — веселья, в молитве — веры, в похоронах — скорби…» Или о погибшем друге Юрии Карабчиевском: «Снова и снова вспоминаю Юрины слова, процитированные в некрологе: „Вне России начинаю чувствовать себя погребенным заживо. Как бы при жизни тела — гибель души“. Во время своих кратковременных поездок за рубеж я тоже испытывала нечто подобное… И единственное определение, которое нашла, таково: „Я перестаю чувствовать себя не как-то (хорошо-плохо, напряженно-свободно, дома-не дома), а просто чувствовать себя“».
Это чтение совершенно поглощает и завораживает, у нее абсолютный слух и неподкупный вкус, самое же удивительное и редкое — это ее изумленное восприятие чужой талантливости, чужого совершенства, душевная мягкость и готовность к контакту, к диалогу, к общению в духе и красоте, как говаривал старик Гете. Про нее никак нельзя сказать того, что говорила о поэзии Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора…»
Если б я работала на филфаке и мне бы предложили прочесть курс русской поэзии двадцатого века, я бы взяла эту книжку, выписала бы из нее наиболее часто упоминаемые Ларисой Миллер имена и получила бы срез высокой строгой лирики: Георгий Иванов, Ходасевич, Арсений Тарковский, Чичибабин, Бахыт Кенжеев, Бродский, Рейн, Александр Кушнер, не говоря уж о Мандельштаме, Ахматовой, Пастернаке. Ничего себе ряд выписался, правда? А мы еще жалуемся на кризис культуры. Впрочем, жалобы на кризис — верный признак, что еще не вечер. Когда вечер, тогда все в ажуре, все члены СП — писатели-поэты.
Интересно, что Цветаеву она не упоминает, ведь это как бы ее полный антипод. Если попробовать музыкальное сравнение, то Цветаева, скажем, гитара, а Лариса — арфа, но можно ведь представить себе курс высокой страстной лирики во главе с Цветаевой, и там были бы Блок, и Маяковский ранний, и Высоцкий… я просто бы всех их включила, ты не возражаешь?
Что-то меня занесло, не могу я все охватить, все вместить в свой бедный череп, который просто изнемогает от наплыва эмоций и ассоциаций, вызванных этим чтением. Не могу и не буду, лучше я тебе процитирую из новых стихов Ларисы Миллер:
И лишь в последний день творенья Возникло в рифму говоренье, Когда Господь на дело рук Своих взглянул, и в Нем запело Вдруг что-то, будто бы задело Струну в душе, запело вдруг, Затрепетало и зажглось, И все слова, что жили розно, «О Господи, — взмолились слезно, — О сделай так, чтоб все сошлось, Слилось, сплелось». И с той поры Трепещет рифма, точно пламя, Рожденное двумя словами В разгар Божественной игры.Книжка, которую читаю, того же калибра, что и предыдущая, такая же тонкая (188 с.), того же удобного формата, в черно-белой мягкой обложке, изящно оформленная (художник Елена Колат), без ошибок набранная и сверстанная (редактор Борис Альтшулер), непритязательная, элегантная, в общем, через пару лет — библиографическая редкость. Лариса Миллер. Заметки, записи, штрихи (М.: Глас, 1997).
P. S. Приходит тут ко мне недавно один первокурсник и спрашивает, большой ли «Фауст». Я ему даю два миниатюрных томика, и они исчезают в его сжатой ладони.
Октябрь, 1997
Рита Фрумкина
Как там у вас дела, сосед? В Москве дожди. Зарплаты нет. Хотя, конечно, обещали. Эх, все мы малость обнищали. Я, например, должна в буфет за съеденный в четверг обед. Зато — поздравь меня, дружище, — опять полно духовной пищи.
В данном случае речь о мемуарах. Ты, вообще, читаешь мемуары? Я — нет. Или очень редко. Обычно попытки войти в чужую жизнь, следуя за любезным приглашением автора, приводят к жестоким разочарованиям: закоулки памяти мемуаристов обычно завалены грудами грязного белья, загромождены никому не нужной рухлядью, засорены мелочами, увешаны выцветшими от старости любительскими фотографиями, пожухлыми венками, изношенным барахлом. Ты бредешь за словоохотливым хозяином, спотыкаясь в кромешной тьме или жмуришься от яркого света безабажурной лампочки, ничего не различая, страдая от своей неуместности и его бестактности….
Так вот, в данном случае все с точностью до наоборот. Каким-то чуть ли не мистическим образом я оказалась не в чужом, а в своем доме. Эти мемуары написаны не только для меня, но и как бы (не считая чисто личных моментов) за меня. Москва до войны, Москва после войны, Бульварное кольцо, подмосковная дача, коммуналка, школа, университет, факультет, библиотеки и НИИ эпохи «оттепели», застоя и травли — все знакомо, все так и было, так и ощущалось. Мною. Я, разумеется, необъективна. Но ведь и автор не отрекается ни от гнева, ни от пристрастия.
Книжка называется «О нас наискосок» (М.: Русские словари, 1997, 228 с., илл.), а написала ее Рита Фрумкина, она училась на нашем же филфаке, только она старше меня на четыре курса. То есть на годы тридцать второй — тридцать шестой, сорок первый — сорок пятый, сорок девятый — пятьдесят третий. Потом, в шестидесятые, разница сгладилась, теперь она известная московская дама, ее зовут Ревекка Марковна, она миро-
вая знаменитость, основательница целых научных направлений где-то на пограничье между лингвистикой, статистикой и психоанализом. Я в этом ровно ничего не понимаю, но понимаю, что она принадлежит к тому типу людей, которым интересно не только знать, но и узнавать, а это дар редкий и чуть ли не признак гениальности. Всю жизнь она собирала вокруг себя учеников, ставила эксперименты, анализировала, публиковала результаты… Параллельно шла непрекращающаяся борьба за сохранение своего человеческого и научного достоинства — с институтским начальством, с КГБ, с ВАКом. Очень впечатляет сюжет о судебном процессе, выигранном у ВАКа при поддержке Генеральной прокуратуры. Уникальный случай в советской практике.
Общая картина получается такая: люди работают ради чистого интереса, ради науки, ради родины, а учреждения, где они работают, управляются людьми, которые ничего в науке не смыслят, но бдят и на всякий случай уничтожают. Но почему так необходимо было это уничтожение? Наука о слове, казалось бы, такая невинная, тихая, гуманитарная, непрестижная, академическая, сидячая, неденежная, вообще совершенно избыточная, почему именно она стоила столько крови? Марр отвергает Веселовского, Сталин опровергает Марра, структуралисты презирают компаративистов, Самарии устраняет Пинского, Ярцева изгоняет Мельчука, академик Виноградов выполняет для ГБ научную экспертизу по атрибуции текстов Синявского и Даниэля… Иных уж нет, а те далече.
А мы? Я бы лично могла подписаться под нижеследующей цитатой: «Я обнаружила в себе совершенно несвойственный мне ранее „внутренний жест“: я чувствую себя обедневшей аристократкой, живущей в разрушающемся фамильном замке и тратящей жалкие доходы на кофе, книги, почту и лекарства. Если учесть, что моя бабушка мыла полы, чтобы прокормить 11 детей, и что единственной роскошью в семье моих родителей было купленное для меня фортепьяно, то это своего рода иммунная реакция на чудовищное расслоение, кото рое пронизывает весь социум. Меня мало волнуют гуляющие по Тверскому бульвару раскормленные собаки со своими не менее раскормленными хозяевами — как написал когда-то Юрий Левитанский, „каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы“. Но ведь я вижу, как мои же бывшие ученики и коллеги начинают откровенно халтурить под вывесками каких-то новых „Центров“, частных колледжей и прочих сомнительных организаций. Оказалось, что совсем мало людей имеют мужество заниматься своим делом вне зависимости от конъюнктуры. Нет, все-таки самый честный заработок в моих обстоятельствах — это уроки».
P. S. Ты заметил, что нынче интересная (тебе или мне) книжка, как правило, издается в легкой бумажной обложке, тиражом примерно в 1000 экземпляров, почти без ошибок? Такой стиль невозможно подделать, как невозможно подделать интеллигентную интонацию.
Ноябрь, 1997Трепанация черепа
Ау, мой друг, пишу я снова, все хорошо, жива-здорова, тружусь на ниве и в избе, чего желаю и тебе, вот только с пятым измереньем сегодня как-то не в ладу. Ну что ж, с ущербным поколеньем сейчас в четвертое войду.
Четвертое, как известно, время, новое время — новые песни. Вот и решила я послушать, то бишь почитать модную книжку. Пришел в гости весьма здравомыслящий, скептичный и начитанный юноша, принес «Трепанацию черепа» Сергея Гандлевского (СПб.: Пушкинский фонд, 1996, 117 с., тираж 1000 экз.) и сказал, что Гандлевскому дали в прошлом году Малого Букера за прозу, а в этом — Антибукера за стихи, но он малого взял, а от анти отказался. Отказался от более чем десяти тысяч долларов.
Это, согласись, поступок, луч света в царстве всеобщей погони за длинным долларом. Меня заинтриговали мотивы столь самоотверженного шага, и я стала читать, а читать мне было очень тяжело, потому что к сюжету не пробьешься, хотя он очень даже простой и ничуть не оригинальный, сводящийся к формуле «час пик». Бандиты избивают пьяного интеллигента-диссидента, через несколько лет у него появляется опухоль мозга, он начинает терять память и страдать жуткими мигренями, ему делают операцию, и он воскресает к новой жизни, тем более что происходит перестройка и его принимают на работу редактором в «Иностранную литературу».
Ты скажешь, конечно, что сейчас сюжет необязательно и главное — ассоциативные цепи и атмосфера. И цепей, и атмосферы в этой книжке хоть отбавляй: в Москве бесконечные пьянки-тусовки, в глубинке и глуши — мордобои-потасовки, все персонажи (родственники, художники-собутыльники, спасатели-врачи, редакторы-враги и редакторы-благодетели, женщины и дети) названы своими действительными именами, половину из них я знала и знаю лично.
Все, что автор пишет о том, как диссиденты прозябали в нищете, выклянчивали и воровали у жен деньги на выпивку, валялись в непотребном виде по чужим квартирам и дачам, ошивались по забегаловкам, презирали своих стариков, завидовали номенклатурным соседям, известно, описано, сто раз размазано у всех же его приятелей; случай Гандлевского частный и никуда дальше проклятий ненавистному совку не ведет. Но загадка осталась: за что Букера давать? И Антибукера — за что? И почему отказался?
Захожу с другого конца, пытаюсь преодолеть скуку и чистоплюйство, довериться страдальцу, по достоинству оценить блистательный стиль.
«Даже тебе, Алеша, я и смолоду не завидовал, наверное, что и сам не лыком шит, не пальцем делан» (с. 32).
«Мне, любителю и знатоку симметрии, конечно, ранит глаз разносортица бокалов и рюмок, но — как быть, кто их бил, Пушкин, что ли?» (с. 35).
«Я начну, пожалуй, с портвейна, не спуская глаз с кровати, чтобы броситься навзничь, как отсовокуплявшийся кролик, если содрогающийся желудок вздумает выбросить бормотуху наружу» (с. 38).
«Колоться и колоть, балдеть и отрубаться! — был тогда наш девиз, что я и сделал тогда на узеньком диванчике». Далее следует имя и фамилия некой дамы.
Кажется, я начинаю понимать логику поколения: раз не печатают, пущусь-ка я во все тяжкие, мне можно, я талантище и обладатель выдающихся гениталий, они моя гордость и потеха (с. 117). Представляю, с какой гордостью это прочтут его подрастающие дети.
Насчет Букера тоже проясняется, это ведь на уровне мировых стандартов. Конечно, Гандлевский — это вам не Генри Миллер и не Эдуард Лимонов, но все-таки вполне, хоть малый, а все-таки Букер. За свободу самовыражения. За раскованность и скрупулезную точность при описании своих личных физиологических состояний и при указании чужих личных имен.
«Можно было быть кандидатом или доктором наук, сторожем, лифтером, архитектором, бойлерщиком, тунеядцем, разнорабочим, альфонсом; можно было врезать замки и глазки, пить, курить анашу, колоться морфием, переводить с любого на любой, выдавать книги в библиотеке, но чувствовать себя советским пишущим неудачником было запрещено. Сам воздух такой неудачи был упразднен, и это, конечно, победа».
И зачем переводить с любого на любой или быть архитектором, если это все равно что колоться морфием. Впрочем, нет, архитектор может заработать на морфий, а тунеядцу, бедняге, надо становиться альфонсом, и все они победители. Да здравствует советский постмодерн, лучший постмодерн в мире.
Думаешь, на этом точка? А вот и нет. Осталась загадка отказа от Антибукера. Зря он это. Прямо как Лев Толстой. А ведь его жене, наверное, пригодилась бы лишняя дюжина зелененьких кусков. Малый Букер — это всего четыре тысячи фунтов, а анти — намного больше. То есть за демонстрацию язв много меньше, чем за публичное поношение. А Гандлевского гордость заела. Он в детстве Пушкина любил, вот и отказался быть шутом ниже у самого Букера. Браво.
Какие все-таки бедные дети, эти самые эксгибиционисты. Вот вырастут и все поймут. Жаль только, что их другие бедные дети начитаются.
P. S. Интересно, конногон (с двумя н) и мановенье ока — это ошибки или кокетство? Все смешалось в доме Облонских…
P. P. S. А знаешь, опухоль мозга и трепанация черепа — очень даже товарная метафора современного состояния российской интеллигенции. Англичанам, наверное, приятно сознавать, что сами они в трепанации не нуждаются, но готовы спонсировать операцию на наших мозгах.
Ноябрь, 1997Шекспир
Ты что-то пишешь редко, пропал, и не слыхать, а мог бы о соседке почаще вспоминать, у нас в Москве сенсация, которой ждал весь мир, сумели догадаться, кто был такой Шекспир.
Догадался — путем долговременных (лет пятнадцать) литературно-и-книговедческих научных разысканий Илья Менделевич Гилилов. И написал такую книжку, что мне, например, хочется написать в его отчестве не три е, а четыре.
Итак, книжка называется «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» (М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997). В ней 472 страницы, указатели, иллюстрации, множество отсылок, переводы совершенно неизвестных текстов, а читается все это взахлеб, как самый натуральный приключенческий роман, и самое удивительное, что читается не только профессионалами, но и людьми, едва причастными к изучению истории литературы (меня вывели на эту книжку мои же студенты).
С чувством законной гордости сообщаю, что издали книгу мои коллеги из безжалостно разогнанного издательства «Искусство» — редактор Ламара Пичхадзе, техред Тамара Любина, корректор Татьяна Медведовская. И я, отлично представляя, сколько вложено таланта и труда в это, столь нетипичное для нашего времени издание, называю их только по имени и фамилии, как кинозвезд или поэтесс. Компьютерную верстку выполнили О. И. и И. В. Бытовы. Очень хочется назвать в этой связи также Сергея Никулина — он, несомненно, имеет прямое отношение к предприятию, хотя бы как владелец книжного кабинета при Союзе театральных деятелей, где все это великолепие продается всего за тридцать тысяч.
Теперь о том, в чем соль. Соль в том, что Гилилов предложил кардинальное решение шекспировского вопроса и сумел его — решение — аргументировать.
Вопрос, как известно, заключается в том, что не слишком грамотный и довольно прижимистый делец из Стратфорда считается величайшим литературным гением Европы, хотя не оставил после себя ни клочочка рукописного текста. Стратфорду это лестно. И конечно, оченьочень выгодно. Там образовался целый огромный бизнес, туризм, сувениры, пабы, мемориальный музей, кладбище, процветающая торговля и слава-слава-слава, короче, козырной туз национального пантеона. А Европе это как-то не совсем понятно: ну откуда у этого парня из Стратфорда самый большой в мире словарный запас, самые обширные для своего времени научные познания и почему это он пишет то об Италии, то о Франции, то о Дании, ежели никогда дальше Лондона не высовывал носа? И откуда у него все его великосветские и литературные замашки и знакомства, если все его образование — церковно-приходская, то бишь грамматическая, школа, и та под вопросом? Что стратфордская версия — нелепость, давно ясно. Может, только в академических кругах Великобритании (понятная патриотическая аберрация) да у нас (железный занавес) еще находились такие ортодоксы, что в нее верили. Но как только начинают выдвигать кандидатуры на вакантное место, так что-нибудь не срабатывает, противоречит, опровергает, что-нибудь, да не так.
«В подвальном помещении Библиотеки Фолджера, — пишет Гилилов, — одну секцию — несколько полок — занимают сочинения о „шекспировском вопросе“. Здесь редко кто бывает; про себя я называю этот уголок „убежищем еретиков“. Вот пухлые сочинения бэконианцев… Томики дербианцев, сторонников Марло, оксфордианцев, сторонников группового авторства… Вот книга Петра Пороховщикова, вот дотошные немецкие нестратфордианцы начала нашего века, книги Демблона, так и не переведенные за восемьдесят лет на английский язык… „Убежище еретиков“ — убедительное свидетельство того, как нелегок путь человечества к познанию истины…» (с. 447).
Что же сам Гилилов? А он назвал стратфордца Шакспером, такой вот простой прием, и стал искать Шекспира. И нашел его неподалеку от Шервудского леса в поместье Бельвуар («ничего прекраснее я не видел») в лице хозяев поместья — графа Роджера Мэннерса пятого графа Рэтленда и его жены — Елизаветы Сидни-Рэтленд. Это он, Рэтленд, путешествовал в юности по Италии и Франции, учился в Падуанском университете, ездил в Данию, был знаком с Розенкранцем и Гильденстерном, дружил с Саутгемптоном, дневал и ночевал в «Глобусе», владел огромной библиотекой, устраивал пышные празднества-маскарады, был принят при дворе, участвовал в заговоре Эссекса, испытал тюрьму и опалу, был восстановлен в правах Яковом, страдал какой-то неизлечимой болезнью, имел горб и герб с изображением странного кривоногого единорога… И он задумал и осуществил грандиозную игру-мистификацию вокруг своего авторства, прикрываясь всю жизнь живой маской — тем самым Шакспером из Стратфорда, за что ему — Шаксперу — и была уплачена домоправителем Рэтлендов щедрая мзда после одновременной смерти мистификатора и его — платонической! — супруги. И самые знаменитые поэты елизаветинской поры, и блистательные дамы этого избранного круга оплакали их в зашифрованной поэме о Голубе и птице Феникс и издали сочинения Шекспира к десятилетию и двадцатилетию со дня их смерти. Сколько же получено ответов на, казалось бы, неразрешимые вопросы и сколько этих вопросов еще осталось. Из них самый интригующий — зачем? Зачем был нужен отказ от славы, эта великая тайна авторства, которую Рэтленды унесли с собой в могилу?
P. S. То, за что уплачено Шаксперу, названо по-латыни impressum и переводится как отпечаток, слепок, маска. Но тем же словом всегда пользовались типографы, указывая выходные данные издания. В конце книги Гилилов приводит стихотворение Набокова «Шекспир»:
«Ты здесь, ты жив — но имя, но облик свой, обманывая мир, ты потопил в тебе любезной Лете. И то сказать: труды твои привык подписывать — за плату — ростовщик, тот Билль Шекспир, что Тень играл в „Гамлете“, жил в кабаках и умер, не успев переварить кабанью головизну…»
P. P. S. Осталось еще столь же кардинально решить гутенберговский вопрос и… как это? Тиходонский.
Ноябрь, 1997Русская лирика
Привет, давно я не писала, и ты пропал, и я пропала, погрязла в суете и прозе, чуть не замерзла на морозе, потом оттаяла и вот — пишу очередной отчет.
Представь себе толстую желтую книжку любимого формата 84x108 (одну тридцать вторую не умею написать на моем допотопном компьютере), однако же толщиной в триста семь страниц: хорошая бумага, ни единой иллюстрации, тираж 1000 экземпляров, год издания 1997, место издания Москва, РГГУ. Я беру ее в руки, из нее выпадает вложенный внутрь сложенный вшестеро (можно так сказать?) листок, сплошь усеянный статистическими выкладками: двадцать четыре графы, примерно шестьдесят строк на каждой стороне листка, это сколько будет замеров? То-то. А вот и библиография: 360 (прописью: триста шестьдесят) названий на русском и нерусских языках, и что ни имя, то величина. А теперь угадай, о чем эта книга с таким количеством статистических данных? Ни за что не угадаешь. Книга о поэзии, о высокой, высочайшей, тончайшей русской поэзии, ее самых совершенных образцах. Называется: Бройтман С. Н. Русская лирика XIX — начала XX века в свете исторической поэтики. (Субъектно-образная структура.)
К огромному массиву русской поэзии, начиная со «Слова о полку Игореве» и кончая Сергеем Есениным, приложен статистический метод, и этим беспощадным острым пинцетом извлечен всего-то навсего один-единственный элемент, одна-единственная клетка драгоценной ткани: личное местоимение «Я».
Результат поражает воображение. Ключ оказывается универсальным и позволяет проникнуть в те самые сокровенные глубины (или подняться на те головокружительные высоты), где происходит извечное таинство возникновения поэтического слова, рождения образа, где звучит диалог личного Я с вселенским Я, человеческого сознания с мировым духом, где идет спор души с посягающим на нее демоном. Стоп. Мне все равно не объяснить всего. Могу только честно покаяться: всегда считала, что поверять алгеброй гармонию нехорошо, но, прочитав эту книгу, больше так не думаю. Работа вдохновенного интеллекта — сама по себе такая красота. Вот, слушай, что он пишет о «Слове…»:
«После рассказа о том, как „солнце ему тьмою путь заступаше“ следует: „Нощь стонущи ему грозою птичь убуди: свист зверин въста… Дивъ кличетъ… половци побегоша… крычат телеги… Игорь к Дону вой ведет… дълго ночь мъркнет… заря свет запал…“
Иначе говоря, затмение солнца в этом описании переходит незаметно в настоящую ночь, вернее, даже перехода как такового здесь нет, ибо „нощь“ появляется сразу: по мифологической логике затмение и есть ночь, поэтому она появляется (на образ играет и многозначность слова „нощь“, обозначающего не только время суток, но и темноту, мрак). Эта обратная метаморфоза, превращение затмения в ночь, говорит о том, что в данной сцене, по существу, нет описания последовательно развертывающихся событий, нет синтагматического принципа связи, а есть принцип парагматический: к основному образу подбираются параллельные места. „Нощь птичь убуди, Див кличетъ, половци побегоша, вльци грозу въсрожат, орли зовут, лисици брешут“ — все это одновременные действия, совершающиеся в тот момент, когда князь поехал, а солнце затмилось. Так наметившаяся параллель Игорь — солнце начинает оборачиваться параллелью затмение солнца — князя» (с. 63).
Ну, как тебе? Да, древние понимали, что безумие власти, начинающей войну при неблагоприятных знамениях, — космическая катастрофа, а мы привыкли. Привыкли считать «эшелоны власти» скопищем безумцев, но нет у нас слов для описания ужаса, нет поэм.
А вот о Блоке и Мандельштаме: «Очевидна стихийно-космическая природа мировой „туманности“ и мировой „души“ у Блока. Перед нами нечто бесконечно большое („большая вселенная“, если воспользоваться словом Мандельштама). Напротив, „Камень“ — это мировая туманность, сжатая до размеров бесконечно малого, это „маленькая вечность“, в которой сконцентрирована и спит „большая вселенная“. Иначе говоря, оба поэта работают с одним и тем же актуальным мировым целым, но с разными состояниями его…» (с. 258).
Представляешь, какая нужна была для этого алгебраического анализа точность, какое ювелирное мастерство в обращении с эфирной материей, какая бережность, осторожность, любовь и какая жгучая любознательность. Одно неверное движение мысли, тонкого пинцета статистики — и эфирная материя порвется, операция провалится, поэзия погибнет, алгебра умертвит гармонию. Здесь, в книге Бройтмана, этого не происходит. Но почти наверняка произойдет, когда страшный статистический инструмент попадет в другие — равнодушные или корыстные — руки.
С наступившим Новым годом!
Январь, 1998«Ботинки на толстой подошве»
Ну вот, окончились зима, весна, семестр, прошло полгода, в Москве дождливая погода, не стали легче времена. Все та же пошлая реклама, все та же духота в метро, в культуре вызревают драма неплатежей и стиль ретро.
Контуры классического противостояния — у них деньги, у нас дух — обозначились еще резче, зато явно на пользу культуре. Снова стали сочиняться анекдоты, да не спорадически, а циклами, сериями, в жанре макабр, все больше про крутых и новых русских. В книжках, даже в детективах, стало немного меньше кошмарных ошибок, например Юлия Цезаря уже не величают Жюлем Сезаром, появились даже точки в конце предложений и некоторые запятые. На Чеховском фестивале игрались совсем недурные спектакли. Был даже фурор, произведенный «Пьесой без названия», — ранним Чеховым в постановке Льва Додина.
К сожалению, этот шедевр мало кто видел, билеты стоили от ста пятидесяти до трехсот новыми, на сцене было целое озеро, зрители сидели как бы на берегу, но это все сведения из вторых рук, сама я, как ты понимаешь, за сто пятьдесят в театр не хожу, просто это не мой театр, если он за полтораста новыми. Так что о додинском шедевре больше сказать ничего не могу, разве что маститая критика придыхала от восторга, а наивная публика — в отличие от крутых и профессионалов — была в некотором шоке.
Но зато наивная публика ломилась на спектакль, который игрался за последний месяц всего два раза. Называется «Ботинки на толстой подошве». Автор пьесы — Петр Гладилин, режиссер — Роман Козак. Играли Татьяна Васильева, Валерий Гаркалин, Александр Феклистов. Один раз в Театре Моссовета, другой раз в Театре Маяковского.
Мои билеты были заказаны, но лежали у администратора, а у нас на кухне сломались часы, и я, опаздывая из-за проклятой батарейки, как последняя дура, взяла такси. А пробки теперь в Москве такие, что в час пик в центр никак не пробиться. Конечно, я опоздала, толпу перед входом не застала, но зато попала в гущу самой настоящей, фанатичной, молодой галерки; простояла два часа без перерыва, подпирая стену в последнем ряду бельэтажа, не отрывая глаз от сцены и не замечая усталости; хохотала и хлопала, забыв о своем почтенном возрасте, а когда через два часа все кончилось, страшно расстроилась. Я могла бы и четыре часа так стоять, лишь бы они играли. Вот такой спектакль. Не в рамках фестиваля, а антреприза, бездомный и прекрасный. Там и сюжет-то старый, как мир, про осенний марафон: жена стареет, муж — седина в голову, бес в ребро, вторая молодость, страстное увлечение на стороне, момент разрыва. В общем, комедия.
Дело в том, что жена, готовая на все, чтобы удержать старого дурака от рокового шага, обращается за помощью к экстрасенсу, а тот упрятывает ее благоверного в тюрягу, чтобы малость опомнился и протрезвел. Под чутким руководством и неусыпным бдением экстрасенса (он же следователь, надзиратель и вообще весь внешний социум) жена приходит к мужу на свидания, трогательно о нем заботится, кормит-поит, кокетничает, ласкает и даже добивается успеха. Еще бы. Ведь замкнутое пространство тюремной камеры — экстремальные условия и символ всей нашей советской действительности, а жизнь в экстремальных условиях определяется борьбой за выживание. Герои Гладилина всю жизнь провели в экстремальных условиях (он — отставной офицер, она соответственно офицерская жена), а едва ощутив расширение пространства, потеряли в нем ориентацию. Как ты. Как я. Как все мы. Все узнаваемо: реалии, реакции, отрывки старых шлягеров, система поставленных под вопрос ценностей, малогабаритный быт, крупномасштабные иллюзии, долгоиграющий стереотип отношений. Но вот ей удается достичь цели: добрый экстрасенс за соответствующее вознаграждение пускает в ход связи и устраивает беднягу в камеру для особо опасных преступников, отбывающих срок за хищения в особо крупных размерах. Тут хорошо и чисто, и все удобства, и правила не такие строгие. И она может приходить к нему каждый день и даже вообще поселиться в роскошной камере. И снова они оказываются в замкнутом пространстве своих несовпадающих желаний, в психологической — или биологической? — противофазе. Тюрьма для двоих.
Ничто не воскресит умершую любовь. Ни дружба, ни преданность, ни общие воспоминания, ни общий взрослый ребенок. Ни старые стены, ни старые песни. Ну, конечно, все это ей приснилось. И, проснувшись, она ползает в полчетвертого ночи вокруг старой калошницы, разыскивая для него новые модные туфли, в которых он уйдет от нее навсегда. До маячащего впереди инфаркта.
Этот спектакль — чудо адекватности: режиссура адекватна тексту, актеры — режиссуре, зрители — актерам. Все вместе производит впечатление хрупкого совершенства. Убери любую из составляющих, и оно исчезнет. Посмотри под другим углом зрения, и ничего не увидишь. Нужен талант и вся личная биография Татьяны Васильевой, чтобы сыграть трагедию как комедию, поражение как победу, и при этом нигде не сфальшивить, не оступиться, не порвать тонкую материю авторских метафор и сентенций. Зал взрывается аплодисментами с такой поразительной синхронностью, как будто она не играет, а дирижирует.
Атмосфера любви — самая зыбкая в мире, почти недостижимая не только в реальности, но и на сцене, наплывает и растворяется, сгущается и светлеет, реплики слетают с жаждущих губ как легкие вздохи, как проглоченные слезы, как… И так далее. Из описания у меня ни черта не выйдет. Нужно увидеть текст глазами, вчитаться, поймать ритм.
Не тут-то было. Пьеса не опубликована. Ее, видишь ли, забраковала одна ведущая критикесса и отверг журнал «Современная драматургия».
Ох, пробросаются.
Говорю тебе, все потихоньку налаживается. Выстраиваются иерархии и обоймы, проступают из тумана круги своя, они-и-мы, свое-чужое, близкое-далекое, критика-публика, официоз-андерграунд, настоящее и липовое. Куда все это денется?
P. S. Да, забыла тебе сказать: Петр Гладилин — поэт. Издал изящную книжку стихов «Рыжий карамболь» (М.: Советский писатель, 1991, 114 с.). Звоню ему по телефону, честно признаюсь: «Я вас никак не расшифрую. Вы для меня где-то между Блоком и Ионеско». Он нисколько не был польщен. Отвечает: «Я — это я».
В точности как Хакс.
Июнь, 1998Этика
Здравствуй, дорогой сосед, как дела? Порядка нет? Что поделаешь, разруха, беспредел и невезуха. Отчего такой сюжет? Не пиликает квартет, Рак и Щука тянут воз, Лебедь лишь воротит нос, идет бычок качается, новый нэп кончается, стариков и деток жалко… Что нас губит? Аморалка.
Ей-богу, я совершенно серьезно. Какой смысл лечить разворованные финансы новыми займами? Ясно и ежу, что и эти разворуют. Если уж Дума в такой момент на глазах у всего изумленного человечества, не моргнув глазом, подарила сама себе на бедность сто тридцать миллионов, чего уж ждать от бедных, пострадавших от кризиса финансистов, министров и всей чиновной братии. Теперь ведь вопрос «Кто виноват?» задавать неприлично, да и опасно, того и гляди, схлопочешь штраф по статье о защите чести и достоинства. Чести и достоинства… Дума — ум, честь и совесть нашей эпохи. Читаю удивительную книгу. Называется Ю. А. Шрейдер. Этика. Введение в предмет. Учебное пособие для высших учебных заведений (М: Текст, 1998, 271 с., тираж 10 000 экз.).
Появление такой книги само по себе производит впечатление. Предполагается, что есть десять тысяч читателей, которым все еще интересно знать, что такое хорошо и что такое плохо. Что науку, которая занимается этим вопросом, следует преподавать в вузах. Что исследования морали имеют такое же право на существование, как и всякие исследования человеческой деятельности. Что древние мудрецы, ветхозаветные пророки и философы Нового и Новейшего времени додумались до некоторых мыслей, не потерявших своей ценности даже в глазах нашего столь же просвещенного, сколь и порочного века. Не хочу этим сказать, что между просвещением и пороком есть закономерная зависимость. Не хотеть-то не хочу, но вынуждена, все это заметили, со времени происшествия в раю.
Автор «Этики» прочел и перечел чуть ли всех самых мудрых, самых глубоких моралистов, известных европейской цивилизации. В именном указателе примерно двести имен. Удивительны здесь два момента. Первый: как же их много! Второй: всего двести! Всего двести набралось за две с половиной тысячи лет, а сколько людей с тех пор появилось на этот свет и покинуло его. У нас только в Думе сидит в два раза больше… мыслителей. Впрочем, что это я все о грустном да о плохом.
Итак, список литературы. Он включает имена, которые сами по себе звучат как призыв взглянуть на мир, на небо, на землю, на общество и человека, на человечество и природу, на природу и Творца с изумлением и благоговейным трепетом. Сократ, Платон, Эпикур, Зенон, Эпиктет, Аристотель, Сенека, Катон, Марк Аврелий, апостол Павел, блаженный Августин, Фома Аквинский, святой Григорий Палама, Бернард Клервоский, Абеляр, Спиноза, Кант, Толстой, Кропоткин, В. Соловьев, Честертон, Швейцер, Эфроимсон, Мамардашвили, Ильин, Лосский, Ганди, Мартин Лютер Кинг… И конечно, их оппоненты — Аристипп, Макиавелли, Гоббс, Маркс, Фрейд, Ницше… И никуда от этого не уйдешь. Шрейдер рассматривает такие категории, как моральный выбор, истинное благо, добродетель, счастье, аскеза, свобода, грех, ответственность, моральный закон, совесть, справедливость, ценность и многие другие в исторических модификациях. По Шрейдеру, этика как наука о морали имеет свое начало и развитие во времени. Этапами этого развития являются основные этические системы Античности; возникновение автономной этической мысли в эллинистическую эпоху; отделение этики от теологии в эпоху Возрождения и Просвещения; проповедь Толстого и принцип сочувствия Мейена и, наконец, христианская реалистическая этика Новейшего времени с ее стремлением привнести точные методы в исследование психологии морального выбора, построить алгебру совести, разобраться в механизмах конфликтов и ценностных ориентирах. Но самое мораль Шрейдер считает не плодом умозрительных построений и не дочерью времени или места, но абсолютом, атрибутом жизни, даром Божественной благодати. Ее существование так же неоспоримо и так же непостижимо, как существование Солнца, Луны и «звездного неба над головой». Астрономия тоже не сразу строилась.
Эту книгу еще читать и читать. Мир-то не становится ни проще, ни безопасней. А старые методы разрешения конфликтов — война и тюрьма — обходятся все дороже. Так что рано или поздно придется спросить совета у тех, кто чувствует и мыслит. Придется даже тем, кто хапает и убивает. И пока что не читает пособий по этике. А если бы читали, то нашли в книге Юлия Шрейдера, на с. 152, ссылку на католический катехизис (Катехизис Католической Церкви. М., Рудомино, 1997, с. 435), где указываются четыре вида «грехов, вопиющих к небу»: умышленное убийство, содомский грех, обиды, нанесенные бедным, вдовам и сиротам, а также задержка платы за труд. Интересный ряд, правда? Юлий Шрейдер умер совсем недавно, в августе этого года. Смерть его была скоропостижной и, кажется, легкой. Говорят, он умер, как жил, — на бегу. Он был блестяще образован, умен, обаятелен, талантлив в науке и общении, он был московской достопримечательностью, чуть ли не талисманом для всех, кто его знал, — столько в нем было естественности и ощущения полноты жизни. Книга его привлекает масштабом проблематики, эрудицией и удивительной сдержанностью и мягкостью интонации.
Он размышлял о том, что зло этого мира есть искажение добра, профанированное благо. А этика — знание о том, как человек может избежать этой профанации. Его точкой отсчета была Нагорная проповедь, но послушай, как он перевел Шестьдесят шестой сонет Шекспира:
Пора кончать, мне этот свет постыл, Здесь милостыню нищим не дают, Здесь правят полчища немытых рыл И ложь над верой чистой правит суд. Здесь мудрецы казенные тупы, Здесь попрано достоинство наград, Здесь разум на посылках у толпы, А добродетели ведут здесь в ад. Здесь правда простоватостью слывет, А доброта здесь верно служит злу. Здесь красотою славится урод, А знание ведет людей во мглу. Давно б покончил с этим миром счет — Страх за тебя уйти мне не дает.Прочти «Этику», не пожалеешь
Октябрь, 1998Майвальд
Привет! Мы снова в борозде, а кризис… Так ведь он везде.
В доказательство этого мало (или весьма?) утешительного соображения привожу переводы из книжки стихов Петера Майванда «Признаки жизни» (Peter Maiwald. Lebenszeichen. Frankfurt an Main: S. Fischer, 1997, 91 c.). Живет в благополучной Германии, в красивом и богатом городе Дюссельдорфе, умен, образован, печатается, пользуется успехом (да таким, что издательство «Фишер» помещает рекламу его сборника на титульном листе своего каталога за 1997 год, а это, сам понимаешь, очень даже лестно-престижно-почетно и с современными поэтами случается редко), и что? Тоже обретается в перманентном кризисе, что является неотъемлемым атрибутом поэтического дарования. Так что вот тебе несколько стихотворений, выбранных наугад. Если редакция «Экрана и сцены» соблаговолит разделить мои пристрастия, то напечатает в одном из ближайших номеров подборку из Петера Майвальда, чему я буду очень рада, так как шансы выпустить переводы отдельной книжкой, увы, невелики.
Карлотта
Скажи, Карлотта, что за ерунда? Откуда третья щетка в нашей ванной? Ты все хандришь, и тон какой-то странный. Часы на тумбочке. Не видел никогда. В шкафу рубашка. Это не моя. Я — пожилой? Ну, знаешь, это слишком. Да, у меня на лестнице одышка, Но я еще — ого! Да если надо, я… Шептать по телефону ни к чему. Вчера пришло письмо. Сегодня снова. О Господи, да что в нем есть такого? Карлотта, что ты злишься? Не пойму. За что, Карлотта? Ну скажи на милость! Ах да, мой чемодан. И дверь закрылась.Автопортрет
Я врубаюсь. Улыбаюсь. Изменяюсь. Извиваюсь. Достаю себя. Сержусь. Гордо в зеркало Гляжусь.Тени
Жизнь так горька. Но кто же горько плачет? Уйди из сердца, там ведь денег нету. И не растопит никакое лето Вчерашний снег. Лишь холод что-то значит. Тепло на небе дыры прожигает И ангелов, и Бога самого. И в мире не осталось ничего, Что на кресте Распятого спасает. Мир все бежит, как белка в колесе, А страх в подвальной песне свищет сдуру, И каждый за свою трепещет шкуру. Картинки из машин — вот кто мы все. И только в старой песне слышно пенье. Людей своих отбрасывают тени.На аллее Обербилькер
Там снег как выпадет, так и лежит, и кто-то где-то долбит на рояле. У Зайберта за полночь загуляли, и Элли, закемарив, чуть храпит, и Руди вновь идет в последний бой, и Рихард знает, как найти решенье, и Рита ищет в пиве утешенья, и Фрид кричит, что Пауль был герой, и Хеннес Поллак запустил рулетку — на этот раз судьба не подведет. Он им покажет, он свое возьмет, Но снова автомат сожрал монетку. И Поллак говорит: «Ах, твою мать! Ах, мать твою!» И валит снег опять.Ликвидаторы
Один лишь росчерк — и цветущий город Заложен, предан, продан с молотка. Смертелен яд бульварного листка. Чернильный штрих петлей сжимает горло. Один лишь росчерк, и страна пылает. Рука, что пишет, ловко пули льет. Гусиное перо войну ведет. Лишь подпись — и вдруг кто-то исчезает. А вечером они с женой сидят, Своих детей к порядку приучают, Своих цыплят по осени считают, Вином изжогу гасят от цыплят. С утра пораньше снова сводят счеты, А по ночам тошнит их от чего-то.Лысый черт
Приходит ночью лысый черт спросить меня, в чем дело? Какое дело, обормот? Дела — их куча целая. Могу в душе я поискать, В шкафу и в черепушке, Да только эти, твою мать! Не стоят ни полушки. Когда приходит лысый черт, Я сам себе не рад, Меня тошнит, знобит, трясет, И вру я невпопад.Такой день
В тот день Гансвурст сам сплел себе веревку. Пьеро, весь белый, сиганул вниз с крыши. Гвоздем проткнул сердечко Рыжий. И Касперль в кружке утопился ловко. В тот день Паяц сам застрелил себя. И Джокер газом отравился лихо. Петрушка сдох, не поминайте лихом. И Шут под колесом воскликнул: чтоб тебя! И Август в бардаке себя загнал. И Уленшпигель зеркало раскокал. И Арлекин на шею камень взгрохал. И Плут себя Мерзавцу проиграл. Так старый добрый смех отдал концы. С тех пор смеются деньги-подлецы. Будь здоров. Пиши мне и вообще пиши. Ноябрь, 1998Три цитаты из Альтерматта
Здравствуй, сосед, давно не писала, нету запала, времени мало, делала книжку, детишек учила и, что есть силы, переводила.
Перевела с польского пьесу Ежи Лукаша «Томас Манн». Перевести-то перевела, но закавыка в том, что она мне совсем не нравится, попробую опубликовать, тебе тоже не понравится, она любопытна как пример постмодерной продукции нынешнего поколения интеллектуалов, завистливо-ревнивого к таланту и вдохновению стариков.
Но сейчас я не об этом, я все пою наши старые песни о главном, о человеческом, так сказать, факторе. Как ни странно, некоторые това… пардон, господа на Западе тоже не совсем сбросили его со счетов, чему доказательством серьезная и дельная книжка швейцарца Урса
Альтерматта, историка культуры, этнографа, политолога и экономиста. Книжка, наверное, вскоре выйдет на русском языке. Увы, переведу ее не я. Я перевела предисловие и спешу поделиться информацией. Называется она по-немецки «Das Fanal von Sarajevo», и речь в ней идет о причинах Первой мировой войны. (Издал ее в 1998 году швейцарский фонд «Pro Helvetia», «За Швейцарию», так сказать.) Одна из этих причин — безумие особого рода ненависти, для которой автор находит научное определение: этнонационализм. Как видишь, проблеме никак нельзя отказать в актуальности.
Итак, позволю себе привести три цитаты из Альтерматта (ты уж прости мне неуместную в данном контексте рифму…).
Цитата первая:
«Сараево — не случайная авария в европейской истории. Боснийская столица стоит в длинном ряду географических названий, которые вспыхивают на стене европейской летописи как напоминания об этнических концлагерях, гражданских войнах и геноцидах: Константинополь, Освенцим, Катынь, Белфаст, Никозия, Хойерсверда…»
Цитата вторая:
«Апартеид — так называется принцип, распространяющийся в XX веке на европейском континенте. В эпоху массовых коммуникаций, массовых транспортных средств, Интернета и поп-культуры такое развитие кажется парадоксальным. Никогда прежде в Европе не было такого количества людей, столь зависимых друг от друга, столь сложно и запутанно друг с другом связанных. А между тем: чем больше различные европейские страны уподобляются одна другой в техническом и экономическом отношении, тем большее число людей ощущает угрозу своей национальной самобытности и испытывают потребность каким-то образом обозначить ее, отличиться от других. Приспособляясь друг к другу в сфере экономики и потребления, европейцы в сфере культуры словно бунтуют против этой глобализации. Опасаясь утратить культурную самобытность, они взаимно обособляются, воздвигают этнонационалистические крепости и используют культурные различия как предлог для выдавливания чужаков из своих границ. Европа поражена раковой опухолью ксенофобии, метастазы которой расползаются по всему континенту». А тут еще Косово. И десятки миллионов курдов.
Цитата третья:
«То, что в конце XX века происходит на Балканах и на Кавказе, представляет собой резкое обострение патологии, характерной для европейской обыденности. С фарисейской уверенностью в собственной правоте жители Западной и Центральной Европы глядят на юговосток, не отдавая себе отчета, что сами они следуют тем же концепциям „этнической“ и „культурной“ чистки и раскола… Мы уже не говорим о том чудовищном факте, что национал-социалистическая Германия в середине XX столетия во имя немецкого народа осуществила умерщвление миллионов европейских евреев. В паспортах немцев, считавшихся по законам нацистского режима евреями, стояла помета „J“, что отвечало желанию швейцарской бюрократии. Уже один этот факт делает очевидным соучастие всей Европы в чудовищном преступлении против человечества».
Вот он, трижды проклятый пятый пункт. Не будь его, быть может, и не развалился бы Союз, не откололись бы республики, не произошли бы погромы в Азербайджане и Киргизии, конфликты в Молдавии и на Украине, не было бы войны в Чечне, не оказались бы русские люди (сколько миллионов?) чужими среди своих, не пришлось бы им продавать за бесценок свои дома, бежать в заграничную Россию, хвататься за любую работу, голодать, бедствовать, побираться в переходах. Почемуто чем очевиднее выход из тупика, тем упорнее его не замечают сильные мира сего, императоры-цари-вожди-президенты великих держав. Наверное, у них там, наверху, воздух способствует ускоренной деградации умственных способностей — ведь они-то заинтересованы в сильной государственности, в преуспеянии налогоплателыциков, в производстве национального вала и прочих достижениях цивилизации. Но видно, вся их энергия уходит на удержание власти. С прочими «ветками» — все понятно, им лишь бы кормушка, лишь бы бесплатно, полеты, туры, медикаменты, дача в Сорренто, ловля момента, а на культуру — ноль три процента, как там здоровье… гм… президента?
Альтерматт считает, что Европа стоит перед выбором: балканизация или гельветизация. Насчет балканизации мы вполне в курсе. В русле? А вот где та гельветизация? Где перспектива построения государства и общества граждан полной этнической принадлежности и разных национальностей — притом без пятого пункта?
Март, 1999Nomina Sunt Odiosa
Итак, еще один семестр идет к концу без проволочек, тяжелый год, тяжелый крест, жизнь без каникул и без точек, без идеалов и надежд. Нет, все-таки с одной надеждой: свинья не съест, свинья не съест, коль Бог не выдаст нас невеждам.
А если выдаст, кто нам виноват? Сами все перепутали, смазали и смешали: называем черное белым, коричневое красным, красное зеленым, героя дня политиком, политика писателем, диск-жокея музыкантом, музыканта кандидатом в президенты… Один президент вроде бы клятвопреступник, другой президент вроде как царь, дума вроде как сенат, нуворишей величаем элитой, ограбленных пенсионеров — электоратом, разорение дефолтом. Решили наказать восточного деспота — и погубили энное количество невинных младенцев, спасали права человека — и вышвырнули миллионы людей из нормальной жизни. Все слова означают не то, что означают. Да и может ли быть иначе, если вместо образования и просвещения реклама жвачки и прочих резиновых изделий?
А уж что касается имен собственных… Моцарт — это трюфель, Шекспир — это кафе, а сказки Пушкина — шоколад. Воистину nomina sunt odiosa. А тут еще юбилей, и вот что я о нем думаю. Бедный, бедный Александр Сергеевич, дождались Вы своего двухсотлетия, что же вытворяют с Вашим именем дурные люди? Рвут его друг у друга, как невоспитанные дети все ту же шоколадку. Вам-то что, Вы все переживете, и эту, с позволения сказать, народную любовь. А каково-то будет внукам и правнукам нашим?
Им не позавидуешь. Народная тропа, конечно, не зарастет, но из-под такой груды мусора не пробьется даже трава забвения. Если так и дальше пойдет, то не увидят наши потомки России во главе просвещенного человечества, останутся от всей словесности и духовности только клипы да прокладки, и каким именем их украсят культуртрегеры от рекламы, даже думать неохота. Странно и неловко получается, Александр Сергеевич. Учили Вы нас уму-разуму, а мы все ни с места. Где добро? Где зло? И насчет совместимости гения и злодейства тоже как-то… Раныие-то все мы были с Вами по этому вопросу согласны, а теперь что ни гений, то злодей. Можно бы, конечно, поименно, но ведь nomina, как известно…
Недавно выступал по американскому радио один исследователь Вашего творчества и все интересовался: какое Вы имели законное, так сказать, право обвинять Сальери в отравлении Моцарта? Почему, дескать, не сослались на документально подтвержденный компромат? И вывод вроде бы такой, что никакого на то права Вы не имели. И может быть, оклеветали порядочного человека Сальери. А редакция вроде бы даже с этим согласилась и демонстративно запустила музыку Сальери в эфир. А что Моцарт и Сальери литературные персонажи, так это так, мелочь. Главное, не задеть права человека. Не понимаю, почему они именно к Вам придрались. Вот Шекспир, тоже ведь оклеветал Ричарда Третьего, но об этом ни звука тени. Может, и Гомер кого оклеветал, и Софокл ни за что взъелся на Эдипа. И вообще, может, и на Каина напраслину взвели. Так что литературу и мораль побоку. Метафорику отменить, этику не приплетать, не пойман — не вор, и чтобы никакой отсебятины. Такой вот прогресс. Такая вот постмодерная аналитика. А Вы-то, Вы-то, совесть, единое пятно, гений и злодейство — вещи несовместные…
А хуже всего с отеческими гробами. Такая путаница в этом вопросе. Никак не разберемся, кто мертвый, кто живой, а кто вечно живой. Сначала мы сбили крест с Вашей могилы и переименовали Святые Горы. Потом, слава богу, опомнились. В Вашем Михайловском теперь заповедник и место паломничества. Там в день Вашего рождения поэты читают свои стихи. А на Мойке политики произносят речи в том смысле, что Вы чуть ли не состоите в их партии. Жалко, конечно, музейных работников. Вы — знаменитость, а им расхлебывать. И еще у нас осталась парочка неразрешенных вопросов. Например, как обращаться к людям и с людьми. Вам-то хорошо было. Вы какими только обращениями не располагали. И любезный друг, и милостивый государь, и по имени-отчеству, и ваше превосходительство, и ваше сиятельство, а мы все никак не разберемся, где товарищи, где господа, вот и окликаем друг друга по половому-возрастному признаку: кто не товарищ, тот господин, кто не девушка, тот молодой человек, хоть ему, может, далеко за шестьдесят. Право, ужасно неудобно. Вместо дружбы у нас теперь деловое партнерство, вместо чудных мгновений безопасный секс, и все больше по телевизору. Впрочем, есть и опасный, и даже очень, но все как-то не так, как в Ваше время. И чем больше мы Вас изучаем, тем реже читаем, а чем реже читаем, тем громче превозносим. Еще бы, Вы — наше все, наша последняя надежда на самоуважение.
С глубоким почтением…
Июнь, 1999Немецкая классика
Ay, совсем пропал ты, брат, а на дворе уж месяц март, в Москве весна, народ стремится к различным шоу приобщиться, на юбилеи-фестивали, ей-богу, прямо валом валит, вот, например, тому сто лет на свет родился Бертольт Брехт.
И по этому поводу 12–13 марта в Институте искусствознания состоится научная конференция, и мне даже предложено выступить. Но самый этот жанр бдениярадения кажется мне каким-то искусственным и старомодным, что ли. Ощущаешь себя муравьем, залезающим на гору.
Фигуры национальных пантеонов обладают одним поразительным свойством: они не поддаются однозначной и сколько-нибудь стабильной интерпретации. Проходят века, сменяются поколения, и каждое улавливает в их заслуге, в их творении нечто незаметное глазу предыдущего поколения и теряющее привлекательность в глазах будущего. Классики вращаются веками на своих незримых пьедесталах, излучая кванты незримой энергии, которая согревает и питает нации в самые кровавые или самые провальные моменты их истории. И каждый раз самозабвенно неблагодарные потомки, что называется, учат стариков жить, объясняя им, мертвым и вечным, в чем они ошиблись, чего не учли, где согрешили, перед кем провинились.
Романтизм предъявил Гете множество счетов, обвинил его во множестве грехов, устами Карла Маркса упрекнул в сервилизме и олимпийском равнодушии и с презрительным равнодушием отвернулся от исповедовавшихся им ценностей: классической формы и универсального содержания. Немецкая сцена, отбросившая гетеанский культ античной классики, провозгласила: Goethe 1st vorbei. И что? И ничего. Не стало немецкой сцены. Не стало того огромного влияния на всю европейскую культуру, которое излучал маленький Веймар во времена великого старца. И только спустя век, в страшные времена фашизма, коммунизма и Второй мировой войны, снова как спасительный свет в конце мрачного туннеля дали о себе знать забытые ценности универсализма, некогда провозглашенные Гете. В прозе этот чуть было не угасший факел подхватил Томас Манн. В драматургии — Бертольт Брехт.
Трудно представить себе двух людей или двух художников более несхожих, чем Гете и Брехт. Один — в широкополой шляпе или парадном мундире с орденом на груди, с пером, под сенью родного дуба; другой — коротко стриженный, в кепке, в очках, с гитарой или за пишущей машинкой в чужом доме, в чужом городе, в чужой стране… Один жил в исполненные надежд времена классицизма и просвещения, другой — в печальную эпоху экзистенциализма; один всю жизнь провел на родине, другой эмигрировал, скитался по всему свету, попал за океан, возвратился и стал одновременно гражданином трех немецких государств; один пользовался покровительством власть имущих, другой принадлежал к пролетариату в прямом и переносном смыслах слова; один основал свой театр еще в юности, другой — незадолго до смерти.
И театры их были совсем разные, там три единства, один день из жизни мифического героя, короля или королевы (Ифигения, Клавиш, Эсфирь, Эгмонт, Эпиметей, Прометей), здесь — зигзаги эпического сюжета, биография реального человека (Ваал, Добрый человек, Артуро Уи, Швейк, мамаша Кураж, господин Пунтила, Галилей); там прозрачная конструкция мифа, здесь эпатирующий прием очуждения, там — три — пять действующих лиц, все главные, здесь — множество персонажей, в том числе второстепенных, там — высокая поэзия, здесь — суровая проза, там — поиск ответа на загадки бытия, здесь — поиск решения проблем социума, тот театр — княжеский и элитарный, этот — сначала диссидентский и только потом государственный и парадный. Все это так — и не так. Достаточно сопоставить проблематику «Фауста» и «Мамаши Кураж», как станет понятно, что это герои одной традиции и одного масштаба. А когда ушел Брехт, снова возникли диссидентский поэтический театр Хайнера Мюллера и неоклассический театр Петера Хакса. Двоичность, двойственность, раздвоение человеческой природы и природы вещей, диалектика, извини за выражение. И никуда от нее не денешься. Нет, я, конечно, понимаю, что все приведенные выше соображения и сопоставления — лишь клише, расхожие стандарты обыденного сознания, за пределы коего выбираются лишь избранные умы. А наши потуги объять необъятное, постичь бесконечное, определить неуловимое, схватить и удержать мысль, мгновенно увядающую в безвоздушном пространстве формулировки, обречены на… На что? Да на повторение. И повторение этих попыток и есть жизнь духа, и есть слияние с прекрасным, и есть человеческое предназначение.
Немецкий театр, как водится, совершил виток: в этой фигуре присутствует некая мистическая пространственно-временная или, если угодно, весовая и масштабная симметрия: Гете, Шиллер — Брехт — Мюллер, Хакс. Красиво, правда?
P. S. У Брехта такое великолепное потомство, а наша сцена все еще застряла на Брехте и ни с места. Жаль.
Ноябрь, 1999Голландия
Итак, мой друг, мы на пороге, порог продлится целый год, не будем к датам слишком строги, тысячелетье настает не вдруг, а как-то постепенно, сначала там, потом у нас, оно наступит непременно… Ну, с Новым годом, в добрый час!
Какое счастье, что есть традиции, то есть совершенно алогичные поводы принимать жизнь с наивным детским доверием и видеть в ней радостные стороны, хотя бы иногда, по праздникам. Хорошо бы помечтать при свечах, сыграть в шарады, спеть что-нибудь эдакое городницкое с друзьями под гитару, посидеть у костра в лесу или, наоборот, купить туфли на высоких каблуках и соорудить яблочный пирог, ах, мой милый Августин, как говорится.
Совсем также недурно покататься на лыжах или сходить на каток. Или в качестве некоторого паллиатива перечитать О’Генри, сказки Пушкина, братьев Гримм, Сельму Лагерлеф, Астрид Линдгрен или, скажем, «Серебряные коньки» несравненной и, боюсь, забытой Мэри Мейп Додж. Можно было бы и самой сочинить рождественскую историю с хеппи-эндом, но это не по моей части. И потому поделюсь с тобой своим самым приятным воспоминаньем этого года. Летом была в Голландии, в маленьком городе Алькмааре, где провела целых два дня у друзей-переводчиков Аннеке и Сервааса Годдейн. Попала я туда из Штралена (это под Дюссельдорфом, в семи километрах от открытой границы с Голландией). Там, на Коровьей улице, есть целая Европейская коллегия переводчиков, где бедняги могут работать хоть двадцать четыре часа в сутки и при этом пользоваться библиотекой, кухней и даже курить, я тебе об этом удивительном заведении писала.
Так вот, Аннеке как-то спросила у меня, что, дескать, мне известно о Голландии, а я обрушила на нее свои романтические всхлипы: упомянула Петра Первого, флот, ассамблеи, серебряные коньки и шикарные велосипеды, покрытые льдом каналы, Рембрандта, Брейгелей и Босха, отрезанное ухо Ван Гога, «малых» и «больших» голландцев в Эрмитаже, Тиля Уленшпигеля, Эгмонта и принцев Оранских, тюльпаны, в том числе черный, плотины, мельницы ветряные и водяные, сорта сыра, в том числе «лимбургский живой», издания Плантена, Ост-индскую компанию, «Летучего голландца», делфтские вазы и Вермера Делфтского, бегинок, Николая Кузанского, секту шейкеров и их фантастически дорогую нынче мебель, потом вспомнила и старый и новый Амстердам, Вандербильта, Международный суд в Гааге, Малую Голландию в Петербурге, Зеландию и Новую Зеландию, чепцы, сабо, брабантские вафли и розоватые брабантские кружева, голландское сукно, голландское полотно и пиво, изобретение очков, печатание вольтеровских памфлетов, курение трубок, ношение ночных колпаков, русские заимствования типа «зонтик» и «брюки», буров, бриллианты, королеву и прочее.
Аннеке прониклась. И мы с ней для начала прогулялись на велосипедах в городок Венло. Там мы заглянули на рынок, где она обратила мое просвещенное внимание на рекламный призыв, начертанный углем, с ошибками, на деревянной доске: «У дяди Питера самые большие яйца в Венло!», выпили кофе, приценились к паре черных туфель в магазинчике на углу и пообедали на мельнице (горчичный сыр, черный хлеб с горчицей и пиво). А я так и осталась с этой загадкой: такая маленькая, такая совсем крошечная страна, и столько в ней люди придумали и создали прекрасного. Чудо голландской живописи я объяснила для себя тем, что земля там плоская и над ровной землей — колокол огромного неба, четыре пятых кругозора — сплошное небо, совсем близкое, воздух постоянно меняет цвет, движутся облака и тени, солнце появляется и скрывается, и глазу никогда не бывает скучно. Но все остальное? Мельницы. Дамбы. Флот. Сыр. Пиво. Сукно и полотно. Стекло. Глина. Бриллианты. Непонятно.
Когда я заявилась к Годцейнам в Алькмаар, они одолжили у соседей машину и повезли меня в Амстердам, где все движется в непостижимом порядке-беспорядке: речные трамвайчики по каналам-грахтам, автомобили по трамвайным линиям, пешеходы по проезжей части, велосипедисты по тротуарам, и ничего, как будто так и надо.
После Амстердама мы побывали на побережье Северного моря. На огромном, залитом солнцем песчаном пляже взрослые и дети катают блестящие шары и запускают воздушных змеев. В маленьком красивом и богатом городке Бергене есть Русская улица и стоит памятник погибшим под Бергеном русским солдатам, похожий на тот, что стоит на Ильинке.
Потом устроили культурную программу, то есть сидели целый вечер и читали стихи, голландские хайку. У них есть целый клуб сочинителей хайку, и Серваас его председатель. Он трижды произвел на меня неизгладимое впечатление. Первый раз, когда на набережной, под пронизывающим морским ветром, гордо отказался надеть куртку («Я — голландец!»), второй раз, когда чуть ли не зарыдал при виде «зависшего» компьютера, и третий раз, когда разразился афоризмом: «Мы, голландцы, даем себе труд все делать просто!» Может, в этом и есть весь секрет? Немцы, как известно, все делают тщательно, французы — изящно, англичане — добротно, японцы — изысканно, американцы — масштабно, а голландцы, значит, просто. Человек как мера всех вещей. Греховное заблуждение? Утопия? Рождественская сказка?
Странные какие-то эти голландцы, спокойные, терпимые, благожелательные, сдержанные, не считая рокеров и болельщиков, разумеется.
Да, чуть не забыла: день рождения королевы отмечается тем, что по всей стране происходит продажа ненужных полезных вещей, то есть грандиозная барахолка. Вот такая сказка.
В книжных магазинах Амстердама я обнаружила Пушкина, Ахматову, Мандельштама, Цветаеву, Бродского и вообще всех наших лучших в голландских переводах. И получила в подарок учебник голландского с кассетой и антологию голландской поэзии.
Вот и пришлось в Москве засесть за голландский, так и сижу до сих пор, разгадываю феномен. Получилось то, что привожу ниже.
Серваас Годдейн Голландские хайку
Мертвый птенец голубя. Дворник оглядывается по сторонам, прежде чем смести его с дороги. В районе новостроек поляна буйно растущей сурепки и детские голоса. На старом кладбище мальчик-могильщик выкапывает дождевого червя. Маленькая белая чашка, забытая в моем саду, наполнилась лунным сиянием. Сорванный ветром листок. Я хочу смести его с дороги, а он кружится и кружится. Вокруг заросшего пруда пляшут комары. И я пляшу, чтобы спастись от них. Короткое свидание наедине. Потом журавль взмывает в небо, чтобы вписаться в стаю. Солнце уже заходит. Позолоченный лист старого каштана еще сохраняет немного света. Я очень осторожно вступаю в Новый год — того и гляди, поскользнусь. Хрупкая ракушка на берегу. Хочу сполоснуть красавицу в море, а море ее уносит. Влажная осенняя гроздь пахнет старым вином. Я пьян и цепляюсь за друзей. На закате дня седой лунь приникает к коре сладкого каштана. Новогоднее утро. Ветер смел весь вчерашний мусор в одну огромную кучу.Рутгер Копланд Молодой салат
Я ко всему привык. Стручки горошка пожухли, высохли. Могу понять. Цветы увяли. А в углу картошка гниет — и пусть. Нас этим не пронять. Но в сентябре, на мокрой грязной грядке — вдруг молодой салат, нелепый, гадкий… Он еле жив, он вял, он неухожен. Смотреть на это — свыше сил. О Боже!Ян Ханло Ты у меня такая
На лилии и розы ночью долгой, на белые кораллы, перламутр в песке морском, на что-то, робко скрытое во тьме, что вспыхивает вдруг навстречу взгляду, походишь ты. Ты у меня такая. На молоко, на глину, на фарфор, чуть розоватый, тонкий и прозрачный, на что-то крошечное вдалеке, давно забытое в прошедшей жизни, на свечку восковую, на кукушку, на книжку старую и на улыбку, скользнувшую застенчиво и строго, нетронутая, хрупкая моя, походишь ты. Ты у меня такая.Адриан Морриен Бессонница
Где-то там должна звезда быть, где мечтают страстно люди о земле, такой, как наша, где рассветы и закаты, пустяки и заблужденья, побрякушки и ошибки, церкви и дрожанье рук. Где-то должен быть мужчина, для кого весь мир наш тесен, кто блуждает в сновиденьях в мыслях женщины желанной по дорогам одиноким на планете неизвестной, где в крови не тонет зверь. Где-то в тишине рассвета женщина в стекло глядится, о несбыточном тоскуя, о весне непреходящей, о глазастом мальчугане и о молниях небесных, рассыпающих цветы. Где-то среди звезд мальчишка о такой звезде мечтает, где хозяйничают дети, и полно цветных картинок, и взлетают в небо змеи, и учительница двойку не поставит никогда. Где-то на равнине лошадь тихо прядает ушами, снится ей, что хлыст ласкает, снятся крылья на подковах, вольный бег не под седлом. Где-то дереву приснилось, что оно заговорило.Адриан Морриен Ars Poetica
Поэту неведомы тайны, о коих он мог бы хоть что-то сказать, не играя словами, не тратя время на строки. Он выбирает из знаков знак, тишиною чреватый. И слово, в тиши родившись, В тишину возвращается снова.Ремко Камперт Поэзия
Поэзия — это деянье утверждения. Я утверждаю, что живу. Что живу не один. Поэзия — мысль и вера. Я — мысли о дальних странах, я — вера, что завтра наступит, что старость тебя не минует. Поэзия — это дыханье, оно по земле меня движет, пусть иногда и неспешно. Земля ведь сама о том просит.P. S. Я знаю, что страну нужно называть Нидерландами, а язык — нидерландским. Но как же тогда Новая Голландия, «малые» голландцы и «большие» голландцы. Простите меня, фламандцы, лимбуржцы, брабантцы…
Январь, 2000Русский журнал
Привет, душа моя, привет, скажи, ты лазишь в Интернет? Я как-то прежде обходилась, но вот недавно соблазнилась, залезла в Русский я журнал (его читал ты? не читал?) и ничего не поняла. Да, друг, такие-то дела. Ах, думаю, какой пассаж, язык-то вроде русский, наш, а непонятно, хоть ты тресни, другие времена и песни, другие ценности, кумиры, другие, знать, ориентиры — на что и на кого, неясно, себя я чувствую ужасно, я устарела, поглупела, я отупела, стыдно, Элла.
Вот, например, одна дискуссия (судить о прочем не берусь я).
Одна дама — Елена Мулярова — написала в Сеть очерк под названием «Из хиппи в яппи». Вполне такой искренний очерк про то, как ей было раньше плохо и как стало теперь хорошо.
«Я… работала уборщицей, пробиралась на поезд без билета, ездила автостопом, носила тельняшку и гимнастерку маленького размера, редко причесывалась, питалась ништяками (объедками — для тех, кто не знает), прятала от обыска книги, которые сейчас стала бы читать разве что под дулом пистолета. Убиралась в чужой квартире. Воровала мясо у собаки хозяина. А потом начала получать больше 1000 долларов. Причем как-то сразу. Перехода не помню. Недавно была с приятелем в ресторане. Там очень мило. Все выдержано в ностальгических тонах. Музыка 80-х, отчасти 90-х, зато прошлого века. Посидели, поели, попили, вышли на улицу, и тут началось… Я принялась кричать, что мы проели месячную зарплату шахтеров Кузбасса, которую им к тому же не платят. „Ну, что ты хочешь, Лена, — успокаивал меня мой спутник. — У нас свои игры, у шахтеров — свои“».
Понятное дело: заглатывая наживку комфортного прозябания в оплачиваемом сословии, бедная богатая женщина испытывает некий дискомфорт. «Лохматая девочка в заплатанных джинсах, в свитере с дырой, прожженной на костре, наконец собралась вынести мусор.
Комсомольский значок на полу, как золотой таракан, лапками кверху. Побитая эмаль ведра, мокрая, дурно пахнущая газета. Красно-золотой фантик… Коротко стриженная женщина со злыми глазами, окутанная холодным запахом духов, стоит в прихожей. Она надевает норковую шубу, она собирается на улицу. Около двери пластиковый пакет с мусором. Женщина в шубе заходит на кухню, возвращается, на ходу разворачивая соевый батончик. Красно-золотой фантик, вкус, знакомый с детства». Богатые тоже плачут. Хоть и старо, но всегда актуально. Нормальный вздох по утерянной… как бы это попроще выразить, чистоте души, что ли. Но как раз этот печальный вздох и вызвал бурную перепалку, где вперемешку с технологическими, социологическими, политическими и медицинскими терминами то и дело звучат ругательные эпитеты и жаргонные словечки, каковые в процессе цитирования мне придется переводить. Поскольку содержательная сторона перебранки, пардон, дискуссии, интереса не представляет, проиллюстрирую тебе стилистику.
Маша из Австралии:
— То, что для австралийки — обычная жизнь, для россиянки — понты (зд. предмет гордости).
Миша Вербицкий, Москва, СССР:
— Статья Муляровой, конечно, омерзительная. Мулярова — человек неприятный, но вместе с тем убогий и жалкий… Размягчение мозгов не просто маячит на горизонте, оно уже здесь, оно гарантировано.
Зигфрид:
— Разница между хиппи и яппи — не деньги, а агрессия. Лена и Сережа (яппи — преуспевающие клерки) перегрызут горло кому угодно. За доминацию (преимущества) в конкретных условиях. Со ду ай (и я перегрызу). Хиппи, какими мы были, были вялыми и слабыми. Научные сотрудники вроде Маши такими и остались. Выкинь ее на берег — она и сдуется (погибнет). А мы теперь — не пропадем.
Осовиахим Крюгер, Ленинград:
— Ну что сказать, ребята. Первое место по жлобству и глупости надо, конечно, отдать Мише Вербицкому. Не факт, что у Маши мозг вообще есть, а если есть, то лишь спинной или, готов допустить, с грецкий орех. Некоторые зачаточные способности он, возможно, и имеет — цирковые собачки тоже умеют считать до пяти, но фишку до конца явно не сечет (сути дела не понимает).
Владимир Векслер, Москва:
— Какая может быть дискуссия с субъектом, который несет околесицу, при этом обгаживая всех вокруг?
Маша, Перт (город в Шотландии):
— А вот и Векслер, здравствуйте. У вас угол зрения в пятнадцать градусов.
Сонный:
— Вербицкий скучен, как может быть скучен человек, отставший от тебя на пять или семь лет. И, как любой скучный человек, вызывает раздражение.
Леня Посицельский, Бостон, США:
— Векслер, вы бы катились отсюда подальше. Очень неудобно в вашем присутствии разговаривать. Что касается Зигфрида, то его когда-нибудь возьмут за гениталии его собственные приятели.
Зигфрид:
— Мулярова же — просто глупая баба.
Маша:
— Конечно же — люди делятся на сверхличностей и на андерменшев (недочеловеков). О чем это я? Да, о яйцах…
Яппи:
— У меня в СБС-АГРО зависло 130 тысяч, суки!
Хазарат Шалиль, из боевого дна:
— У глупой женщины мозги, как у курицы. У умной — как у двух.
Зануда:
— Исчезновение предмета дискуссии не является поводом к ее прекращению.
Ну вот, я и обогатилась актуальной информацией, которую редакторы «Русского журнала» сочли возможным увековечить на бумаге и поместить в элегантный твердый переплет. Пускай прочтут это юбилейное издание и бедолаги, не имеющие доступа в Сеть. Надо же им приобщаться к современной культуре, ведь они, кроме книжек, ничего порядочного не читают. Стоило изобретать Всемирную паутину, связывать параллели и меридианы, страны и континенты, чтобы графоманы получили наконец возможности публикации, ограниченные только возможностями кредитной карты. Да они, эти графоманы, просто ангелы в сравнении с развратниками, заказывающими по Интернету детишек для известного употребления.
Все, что есть, можно теперь употреблять виртуально и буквально, эпоха поглощения. Чем круче технология, тем бессильнее культура. Об этике я не говорю. Таким вот образом выглядит в приведенных выше образчиках красноречия мировой дух. Очень надеюсь, что ошибаюсь. И никакой это не мировой дух, а просто людей отчего-то тошнит, и они используют Интернет в качестве плевательницы. Ведь только предельное, невыносимое, мучительное одиночество заставляет их кричать через океаны, выплескивать свои жалобы, искать единомышленников в огромной толпе юзеров (пользователей), скрываться за никами (псевдонимами), просиживать ночи перед экраном и говорить-говорить-говорить в великую пустоту Всемирной паутины.
Помнишь детскую песенку «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что на свете!»? Что-то в них есть от гоголевского Поприщина, все они немного испанские короли, постоянно смотрят на себя со стороны. И ни одного упоминания о ком-то близком — об отце или матери, о брате, друге, сестре или хотя бы о бойфренде (сожителе). Впрочем, одно есть. Зигфрид цитирует Наталью Медведеву, которая писала в одном из своих романов: «Мы разговаривали с ним о Борхесе, Сартре, Кафке, Кастанеде, Хемингуэе и много е… (совокуплялись)».
Как-то уж слишком легко рифмуются по-русски дети и сети. «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: „Тятя! тятя! наши сети притащили мертвеца“». А эти интернетовские детки вообще сироты, подумала я и чуть было не отложила книжку, но потом все-таки решила сначала прочесть.
Всего разделов девять: власть, язык, персоны, элиты, амбиции, под сетью (Интернет), перемены, юдоль, твердь.
К чему такая эклектика, неясно. Долой систему, долой иерархию? Как рубрики толстого журнала они не прочитываются, только путают и пугают бедных непосвященных вроде меня. Сама последовательность и кокетливость названий разделов (персоны-элиты-амбиции) попахивает рекламой автомобиля или пылесоса, не находишь? Говорят, что редакция вполне традиционно ставит на первое место политику, а на последнее литературу, культуру и прочую духовность. Иерархия тоже никуда не делась: журнал открывается и закрывается элегантными эссе элегантного Глеба Павловского: он владелец проекта (учредитель), он платит, он заказывает музыку, содержание журнала — вопрос его вкуса, и, надо сказать, совсем неплохого, если уж есть у нас Петроний, то это как раз он. Сам он пишет о психиатрии демократического процесса в России («Свобода дала России не меньше оборотней, чем террор, и соотечественники представились друг другу зверьем») и о грязных предвыборных технологиях и вполне убедительно проводит параллель между разлагающимися элитами Первого (древнего) и Третьего Рима (сиречь Москвы). А дальше следуют очерки лингвистов, политологов, литературоведов, искусствоведов, философов — выбирай, чего душа желает.
Вот, например, перечень исторических событий, происшедших в России в августе разных лет, составленный Андреем Левкиным. Оказывается, в августе произошли крещение Руси, Пугачевский бунт, восшествие на престол Петра Первого, избрание Мазепы, свадьба Екатерины Второй, дефолт, второе избрание Ельцина, запрещение Александром Первым масонских лож, назначение Столыпина, формирование правительства Керенского, покушение обратно на Столыпина, Первый Всесоюзный съезд писателей и еще много всего, о чем и повествуется именно в указанной выше последовательности. Я углядела за этой скачущей хронологией картотеку, которую автор не удосужился привести хотя бы в минимальный порядок. В Интернете — безбрежный океан информации, там стихия взвеси, а у книжки все-таки есть берега переплета. Человеку со стороны не так-то легко смириться с этой логикой постмодерна, а я как раз офлайн, потому что страшно боюсь заразить свой компьютер каким-нибудь вирусом — я за него еще должна (не буду тебе говорить, сколько долларов).
С политологами мне вообще трудно. Например, Владимир Дворников предлагает ввести принцип дифференцированного голосования, то есть разделить избирателей по общественному весу, у одного пусть будет один голос, а у другого, качественно лучшего, — два. Или полтора? Тоже мне, демократы. Юрий Бокарев очень хвалит Америку, которая умеет справляться с экономическими кризисами, а я сразу вспомнила мою бабушку, она всегда ставила мне в пример подруг, более удачно, чем я, вышедших замуж. Интересно было читать статью Владимира Золотарева об антирынке, он же блат, то есть основанный на социальном статусе участников убыточный экономический обмен. Очень в общем-то грустная статья, потому что диагноз правильный, а рецепта против болезни нет: «Изнутри разрушить эти отношения не представляется возможным, по крайней мере, семилетний опыт подсказывает, что это так».
После политологов почему-то идут лингвисты. Впрочем, понятно почему, здесь ставится знак равенства между такими понятиями, как «язык» и «идеология». Может, и правомерно, но опять как-то очень уж прагматично, жестко, послушай, что пишет Симон Кордонский в статье об анекдотах:
«Анекдот — другая сторона объединяющих и жизнеутверждающих идей. Известно ведь: если есть идеи, то есть анекдоты, эти идеи ниспровергающие. А нет идей, нет и анекдотов. В оппозиции „идея — анекдот“ суть общества, разделенного на народ, власть, интеллигенцию». Конечно, разделенного. А что, другие общества так уж монолитны? Ну, в Европе средний слой поувесистей, а в Средней Азии, в Центральной Африке, в Южной Америке?
Лингвисты размышляют о засорении нашего великого и могучего американизмами, бандитским жаргоном и прочими прелестями смутного времени. Психологи пишут о механизмах воздействия на мозги пропаганды и рекламы. Одни философы сообщают об очередном конце философии (Валерий Подорога: «Моему Я — грош цена»). Другие, напротив, уверенно оперируют фрейдистскими понятиями, прилагая их к самым что ни на есть политическим амбициям наших отечественных эдипов и нарциссов. Некоторые авторы делятся воспоминаниями о славном диссидентском прошлом, некоторые — жизненным опытом или впечатлениями от прочитанного. Одни статьи написаны в результате продолжительных и глубоких штудий, другие содержат всего лишь частные наблюдения, одни рассчитаны на коллег-профессионалов, другие — на широкую публику, третьи — только на пользователей конкретных сайтов Интернета, каждый материал представляет определенный интерес, а все вместе вызывает отторжение. То есть лично у меня вызывает. Потому что выглядит как книга, делает вид, что альманах, называется журналом, а на самом деле являет собой то, что мой компьютер называет корзиной.
Принципиальный отказ от сквозной идеи, от привычных рубрик, иллюстраций, биографических справок нисколько не облегчает знакомство с объемным (567 страниц) и очень разнородным содержимым. Похоже, что нам предлагается новый тип печатной продукции — выборка интернетовских сайтов, придется, видимо, привыкать. Офлайн, я думаю, привыкнет, а вот сами юзеры — вряд ли, они народ избалованный.
Этим юзерам хорошо: они это читали постепенно, в течение трех лет, а мне дали книжку всего на месяц, купить ее трудно, тираж всего тысяча экземпляров. С другой стороны, ведь оно всегда так. Сколько лет писал Лев Николаевич свой роман про войну и мир, а школьники прочитывают его за каникулы, а некоторые даже вообще не читают, посмотрят кино и всё узнают. Ты вот сколько времени переводил биографию Стендаля? А я прочла твой перевод за два дня. Раньше по дороге из Петербурга в Москву можно было написать такое сочинение, что за него в Сибирь ссылали. А теперь нельзя. Прогресс. Вообще, все происходит очень быстро, быстрее, чем можно успеть осмыслить, и даже Интернет с этим делом запаздывает, а успевают сказать нечто осмысленное как раз те, кто уже давно, пользуясь книжками, вполне старомодно изучал свой предмет, историю литературы, например, или историю культуры. Главноето ведь, как во всяком толстом журнале, только имена, а среди них есть очень крупные — Ревекка Фрумкина, Михаил Ямпольский, Георгий Кнабе. Называю те, которые знаю и люблю. В общем, это, конечно, здорово, что их можно найти в Интернете, а то ведь наши академические издания гуманитарного профиля почти все на последнем издыхании, и денег там отродясь не платили, а здесь, кажется, платят хоть что-то, особенно по сравнению с университетами.
Больше всего мне понравилась статья Георгия Кнабе «Европа. Рим. Мир», где говорится о греко-латинских корнях современной европейской цивилизации в ее самом главном завоевании — физическом ощущении присутствия закона в жизни западных европейцев. «Когда я в маленьком городке пересек однажды абсолютно пустую улицу, меня остановил полицейский и сурово указал на установленное место перехода.
— Но ведь тут нет движения! — пытался возразить я и услышал ответ, достойный увековечения:
— Это не имеет никакого значения!»
Я тоже как-то оказалась в подобной ситуации, с той разницей, что было два часа ночи, на улице маленького городка ни души, никакого полицейского на улице не было, а мои немецкие знакомые терпеливо стояли на тротуаре три минуты, дисциплинированно ожидая, когда загорится зеленый сигнал светофора. Для нас, привыкших к беспределу, к полной безнадежности всяких попыток ссылаться и опираться на закон, эти анекдоты звучат, как волшебная сказка. Однако автор не обольщается. «Сегодня, — пишет он, — этому наследию брошен вызов. Отчетливо проступает тенденция видеть в антично-римском происхождении Европы и тем самым в уникальности ее культурно-исторического типа — изъян, частность, отрицательную характеристику, а в признании этой уникальности и тем более в самоидентификации с самим типом — постыдный, морально недопустимый консерватизм. Конкретные формы такого восприятия… сводятся… к одному из двух умонастроений — внешне противоположных, но внутренне единых, — которые все активнее утверждаются в современном мире: фундаментализму или постмодерну.
Первый отвергает римско-европейскую традицию, как якобы угрожающую национальной почвенно-религиозной самобытности отдельной страны, изначально посторонней этой традиции. Второй — как устарелую, безнадежную попытку установить ценностные приоритеты и исторические обобщения и навязать их миру, по природе своей не терпящему никаких приоритетов и обобщений и реальному лишь здесь и сейчас, в виде пучка несвязанных единичностей. Итак, либо идеал общественно-исторической целостности, исключающий свободу и самостоятельность составляющих ее частей и индивидуальностей, либо такая абсолютизация этой свободы и самостоятельности, при которой нет места ни для какого устойчивого единства».
Георгий Кнабе — историк Божьей милостью. Есть историки, которые знают предмет, есть те, которые его ощущают. Но когда историк постигает свой предмет не только разумом, но и чувством, воображением, всем своим существом, тогда история наполняется мудростью, смыслом и красотой. Георгий Кнабе занимался историей Древнего Рима и знает свой предмет как никто другой из наших соотечественников. Он занимался историей Европы, историей Германии. Вот что он пишет о России:
Нет и национальной культуры России без исихазма XIV–XV веков, без Сергия и Андрея, в связи с которыми Флоренский сказал, что «вся Русь, в метафизической форме своей, сродни эллинству», без двухсотлетней столицы — Санкт-Петербурга, который Петр задумал, а Екатерина и Александр отстроили так, чтобы он был «в метафизической форме сродни Риму». Нет — без Пушкина, начавшего с переложений Ювенала, кончив поэтическим завещанием, открывающимся двумя строфами Горация. Нет — без Серебряного века, где так сгущены и просветлены тени классического пушкинского Петербурга, так ярок архитектурный неоклассицизм, так слышен голос Вячеслава Иванова:
Вновь, арок древних верный пилигрим, В мой поздний час вечерним «Ave, Roma» Приветствую, как свод родного дома, Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.Ах, Кнабе мыслит так красиво. Спасибо, милый Интернет. Беру назад все инвективы, раз уж альтернативы нет.
Ноябрь, 2000Сон в зимнюю ночь
Ну, с Новым годом, милый друг, скончался старый както вдруг, и с ним еще аж тыща лет, а благоденствия все нет. Во всяком случае, у нас все действует какой-то сглаз, и все идет и вкривь, и вкось, по-прежнему царит авось, реформы, как всегда, буксуют, на власти уповаем всуе, то плачемся, то угрожаем, бог весть кого вооружаем, в бирюльки глупые играем, а что к чему, так и не знаем и движемся который год, как прежде, задом наперед. Вот если б как-то извернуться, опомниться, вздохнуть, очнуться и, правде посмотрев в глаза, понять, что дальше так нельзя. Но нет, сон разума все длится, и может черт-те что присниться.
Недавно видела во сне, что за работу платят мне, что чистым воздухом дышу, что не психую, не спешу, что даже спортом занимаюсь, к высотам духа поднимаюсь, а там общаются со мной то царь какой-то, то герой, а я с моей-то высоты с любым из них уже на «ты», и на вопросы прежних лет даю уверенный ответ. ВладимирСолнце говорит:
— Ну, как там Русь? Еще стоит?
А я ему на это бойко:
— Ах, полно, князь, там перестройка!
Ивану Грозному сказала, что он не самый грозный малый, что в нашем веке были вещи и пострашнее, и похлеще. Петру заметила ехидно, что нам в окошко плохо видно (хотя заметно из оконца, как хорошо живут чухонцы), что упразднен старинный ер и кончился эсэсэсэр. Екатерине заявила, что нас она не удивила, подумаешь, пришила мужа, такой дебил, кому он нужен, у нас был умный генерал и тоже так же пострадал, и что Потемкин — с деревнями, а мы, потомки, — с городами, наш В. Суворов — тоже смелый, разоблачил такое дело. Ты с турками войну вела и Таврию приобрела, а мы твой Крымский полуостров отдали даром, очень просто, так у кого крупней масштаб, у мужиков или у баб? Еще скажу тебе на ушко, что Павла твоего подушкой — дворяне, голубая кровь, измена, ненависть, любовь… Нехорошо и устарело, есть киллеры на это дело. А первый Александр, твой внук, не выдержал душевных мук и бросил трон и произвол и декабристов произвел. У нас такого не бывает, терзаний совести не знает не то чтобы царь-император — дальневосточный губернатор. А Николай по кличке Палкин, он как жандарм — любитель жалкий, и это Третье отделенье, оно же не идет в сравненье. А Александр Освободитель? Любитель, матушка, любитель, крестьян на волю отпустил и демократов распустил, литература обнаглела, кто виноват, и что им делать, его, как водится, убили и лет на сто совсем забыли, крестьян на барщину вернули и вспять эпоху повернули, вот это был переворот, он и сейчас еще идет. А Третий? Он не только пил, он и болгар освободил, а нам пришлось потом опять от нас же их освобождать. А после Николай Второй, мы за него теперь горой, при нем и Чехов, и Толстой… Куда же ты? Постой, постой! Признай, любезная Катюша, что наше время все же лучше, у нас значительный прогресс, большой международный вес… Но тут в моем кошмарном сне царица закричала мне:
— Молчать, исчадье постмодерна! Я вижу, ваше дело скверно. На просвещенье вы плюете, курорты даром отдаете, все, что в наследство получили, проели, пропили, забыли, забросили, разворотили. Вы все загадили вокруг, попали вы в порочный круг и слепо мечетесь в кругу, но я совет вам дать могу, умишком куцым рассуди, кто впереди, кто позади? Мы прежде вас пришли на свет, у вас другой дороги нет, чем та, что мы вам проложили, а вы, что вы там положили? Зачем толпитесь вы у трупа, ведь это же грешно и глупо, он разложил вам всю страну, и вы теперь ни тпру ни ну, ведь говорят, ваш вождь был прост? Вот и снесите на погост. Он наш, как царь Иван и Сталин, ну что вы на дороге стали? Ведь не зарытое зерно взойти не сможет все равно. За труд положено платить, во тьме положено светить, а слово данное держать, сады сажать, детей рожать хоть монархистам, хоть марксистам, хоть набожным, хоть атеистам — ведь алгоритм один и тот же, а вы? На что это похоже? Вам сказано, ступайте вслед, других путей на свете нет.
И гордо показала спину Великая Екатерина. Раздался петушиный крик, и призраки пропали вмиг.
Каков итог тысячелетья? Вопрос стоит в любой газете. Я предлагаю в Интернет многозначительный ответ: «В России, что ни говори, бывали разные цари, но без царя мы в голове, о чем в очередной главе».
Январь, 2001Элита
Поклоны и приветы, любезный мой сосед. Ну, где твои жилеты? Поплачусь-ка в жилет, Тоскую, как на тризне, на улицу гляжу, И думаю о жизни, и слов не нахожу. Куда спешат людишки, троллейбусы, авто? Ответ искала в книжках, да что-то там не то, Лишь вывески, сияя, кричат мне, что к чему, Быть может, прочитаю и что-нибудь пойму. Пойму, о чем вещают рекламные щиты, На коих расцветают улыбки и цветы: Элитные квартиры, элитные коттеджи, Элитные сортиры, элитные колледжи, Элитные заборы, запоры и карнизы, Элитные сервизы, сюрпризы и круизы, Элитные конфеты, кондомы, сигареты, Элитные печати, штампы и кровати, Элитные диваны, джакузи, краны, ванны, Элитные презенты и абонементы, Элитные продукты, овощи и фрукты, Элитные собранья, тусовки, заседанья, Элитные коктейли, отели и модели, Элитные плафоны, билайны-телефоны, Элитные вагоны, салоны, пансионы, Элитные застройки эпохи перестройки, Элитные подруги, элитный сексапил, Элитные услуги, коль ты виагру пил… Кругом одна элита, все только высший сорт, А улица разбита, тут ногу сломит черт, Кругом одна элита, а город весь в дыму, Кому до нас есть дело? Ей-богу, никому. Пока закон о гимне проходит на ура, Урановых отходов растет-растет гора, Чуть символ или знамя — уж новая заря, А что там будет с нами — всем до фонаря. Как там с бюджетом было? Что строчка, то закон. Но кто бы пособил нам восстановить озон? Элита в двух палатах, и в Смольном, и в Кремле, Но что же депутаты решили о земле? Что о жилье сказали? И о трудоустройстве? Ах, это все детали, напрасное расстройство. Нет у тебя «тойоты», «пежо» иль «бээмвэ», И, значит, в квотах-льготах ты ни «бе», ни «ме». Нам остаются глюки, то бишь галлюцинации, Что есть такие штуки, как честь и совесть нации, И что могла вся нация обменять когда-то Свой ваучер на акции не хуже депутатов. И жили бы в застройке жертвы перестройки, И были бы в коттеджах нормальные колледжи, Достались бы вагоны бомжам перемещенным, Джакузи, краны ванны — увечным ветеранам, Карнизы и сервизы — голодным интернатам, Сюрпризы и круизы — чахоточным ребятам, Овощи и фрукты — нищим побирухам, Элитные продукты — раковым старухам… Дались тебе старухи, проблема не стоит, Есть поважней прорухи у первой из элит. Зарплата маловата у нации отцов. Повысить им зарплату пора, в конце концов. О, как же ты, элита, разумна и мудра, Ты втайне и открыто желаешь нам добра, И если вдруг в народе проблемы завелись, Ты счастливо находишь разумный компромисс. Ведь мы, не зная броду, брели, куда ведут, А ты дала свободу и очень правый суд. Пусть только для элиты, но все же есть он, есть, Берет он под защиту достоинство и честь, Хоть честь в крутых разборках не больше, чем мираж… Ах, господа, мне горько, я зря впадаю в раж. Ведь с пенсией-зарплатой вопросы отпадут, Когда всем депутатам прикурить дадут? Ну что я балагурю по поводу элит? Ведь ясно же, в натуре, проблема не стоит. По глупости и лени качаю я права, И насчет куренья я в корне неправа. Права-свободы наши качает «НТВ», И нет элиты краше, чем в городе Москве, И ведь элита эта — совсем не то, что та: Имея туалеты, кредиты и счета, Она нам показала, как клёво можно жить И высшим идеалам преданно служить. Увы, одна элита другую гнет в дугу, Найдется ли защита, понять я не могу. Ну кто теперь заплатит банкирские долги За офисы, и платья, и умные мозги? Ну дожили, все звезды тоже на мели, Тем более что босса чуть не замели. Тяжелая утрата — в Европу шеф утек, Ищи-свищи, ребята, наш денежный мешок. И что ни говорите, а денег вроде нет, Пора спасать элиту через Интернет. Элита, дорогая, наш золотой запас! Блефуя и играя, ты покидаешь нас. Пойду-ка, наберу я три раза дабль-ю… О Господи, кому я на бедность подаю… Март, 2001«Сон» в театре на Покровке
Привет из пасмурной Москва, мы вроде живы, как там вы? Похоже, началась весна. Я видела премьеру «Сна».
Строго говоря, это никакая не премьера, поскольку они играют с декабря. Но поскольку театр маленький, то есть, строго говоря, зрительный зал маленький и в театре аншлаг, то можно считать, что премьера продолжается. И это удивительно, поскольку пьеса хотя и не старая, но вполне традиционная и, строго говоря, очень хорошая, а откуда бы взяться в наши времена хорошей традиционной пьесе?
Эта взялась конкретно из Дании, ее хорошо перевели, хорошо поставили и хорошо сыграли, ее хорошо смотрят, хорошо рецензируют. Казалось бы, что тут особенного, но я обрадовалась ей, как глотку чистого воздуха в отравленной атмосфере коммерческих шоу, как разумному человеческому слову, пробившемуся сквозь крики панического страха и натужного разнузданного веселья, как чистой рубашке, обнаруженной рядом с грудой грязного белья.
А сюжет простой. Приезжают в гости к старой бабке ее дочь и внучка и выясняют отношения, конечно, непростые, как во всякой семье. Бабка — врач-психиатр, еще не очень старая вдова на пенсии, дочь разведена, в детском саду работает, внучка — журналистка, только что вернулась из Сараева, вся на нервах. У каждой полно претензий к остальным, зачем бабка не любила деда, зачем дочь выгнала мужа, зачем внучка глотает таблетки, зачем бабка пьет, почему мать такая бессердечная, почему дочь такая холодная, почему внучка такая несдержанная, почему-почему-почему. Эти вопросы, такие обыденные, такие понятные, такие всеобщие, знакомы каждому, сформулированы в тысячах старых и новых пьесах, в кинофильмах, ток-шоу, психологических тестах. И мы уже привыкли, что страдающие персонажи — мещане, варвары, дети солнца или дети Ванюшина, или герои Петрушевской — становились все более беспомощными, истеричными, изломанными, душевно уродливыми, жестокими, эгоистичными, патологически ограниченными и неинтересными.
Так вот, здесь все наоборот. По мере развития сюжета, этой непрерывной цепи воспоминаний, столкновений, приступов обиды, гнева, жалости и боли каждый из персонажей обретает все более крупный человеческий масштаб, все большую глубину и силу, а их отношения — все большую логику и закономерность.
Девчонка-журналистка в ее пестрой налобной повязке, топе цветов камуфляжа, солдатских ботинках и шелковом брючном костюме, переживающая острый шок от всего испытанного ею на войне, сохраняющая трогательную любовь к покойному деду, жаждущая справедливости и любви, непримиримая и ранимая — разве она неправа, когда кричит о слепоте и бездушии мира?
А ее мать, такая внешне бесстрастная, как бы потухшая, отрешенная, дисциплинированная, всегда готовая принести чашку чая или лекарство, огромным усилием воли сохраняющая внешнее спокойствие и дистанцию, она же молча несет в душе тяжкий груз памяти о совершенном ею преступлении, — но разве она неправа, что совершила его из жалости и милосердия?
И наконец, бабка, с ее романтическими снами о давно погибшем на войне женихе, эта царящая посреди сцены, посреди жизни, огромная женщина в белом, с белыми волосами, с огромными глазами, в которых застыли слезы, с низким неотразимым голосом, с чуть замедленными движениями смертельно усталого и смертельно больного человека, такая сильная, такая беспощадная к себе и такая неприступная. Да, она причиняет другим боль, но разве она неправа, что требует уважения к своим опровергнутым идеалам, к безвозвратно ушедшему прошлому, сохраняемому в прекрасных и страшных снах?
По-моему, секрет режиссера в остром чувстве меры и симметрии, не говоря уж о вкусе в выборе материала, актеров и художника. Оно же обнаружило слабость пьесы — непрописанность мужских ролей. Женщины оказались в центре, мужчины — на периферии спектакля, а на периферии они превратились в условные фигуры, почти лишенные индивидуальности, и заметно, что актерам мучительно пребывать на сцене в этом условном качестве на фоне столь значительных женщин, так что лучше бы они вообще не появлялись, оставались бы голосами, мечтами, фантомами, снами. Но может быть, это и есть знамение времени? Может быть, так и выглядит канун нового Ренессанса — возрождения духовных ценностей, извлекаемых женщинами из-под руин возглавленного мужчинами Новейшего времени?
Ах, им только кажется, что они исповедуют разные идеалы, но мы-то, зрители, спасибо режиссеру, видим, как они похожи, понимаем их горе, их стоицизм, их мужество и правоту. Понимаем, что они — хранительницы жизни. Наконец-то, наконец-то возвращается на сцену хорошая любящая женщина, не лесбиянка, не феминистка, не глобалистка, не вамп, не фаталь, не уродка, не кукла, не истеричка, не психопатка, а искренне чувствующий и мыслящий творческий человек. Казалось бы, ну что можно сделать в крошечном зале, человек на сто, даже без собственной сцены? Можно сыграть сильно и просто, почти без декораций, в сукнах (забытый термин), и сказать все, что имеешь сказать.
Спектакль идет без перерыва один час сорок пять минут, я их не заметила, сидела, не шелохнувшись. Даже когда во время одного из монологов вдруг запищал чей-то идиотский пейджер, я не обратила на него внимания, а актеры не остановились, не замолкли, не дали себя сбить, и зал не зашипел, не возмутился, а просто проигнорировал диссонанс, не принял к сведению, не дал себя унизить, так-то вот.
Норма. Норма в театральном искусстве — это, наверное, и есть классика.
Театр — на Покровке. Режиссер — Сергей Арцыбашев. Художник — Давид Боровский. Костюмы — Марии Даниловой. Сусанна (внучка) — Татьяна Яковенко. Хана (дочь) — Валентина Светлова. Элизабет (бабка) — Людмила Максакова.
В сущности, этот спектакль — еще один блестящий бенефис Людмилы Максаковой.
Апрель, 2001Успехи цивилизации
Где ты, как ты, старина? Снова подлая война. Войны только потом становятся священными, праведными, героическими. А начинаются все как подлость, удар в спину, столкновение. Недоразумение.
Недоразумение надо понимать буквально. Не-до-разумение. Не-до-понимание. Догматические споры. Расхождение во взглядах. Несовпадение систем ценностей. Противоречие интересов. Историки задним числом классифицируют войны, делят их на агрессивные и оборонительные, отечественные и гражданские, колониальные и национально-освободительные, революционные и контрреволюционные, правильные и партизанские, региональные и мировые, теперь вот межконтинентальные и межполушарные Северно-Южные. И чем точнее дефиниции, тем больше этих войн, а сейчас вот как определить, с чего началась и ради чего война, на которой за несколько секунд погибают пятьдесят тысяч человек? Столько лет к ней готовились, столько миллиардов-триллионов вбухали и они, и мы, загадили землю, опоганили небо, отравили воздух, замусорили реки, сожгли леса, космос — завоевали, на Луну — высадились… И все гордимся успехами цивилизации, достижениями, черт бы их побрал, кругом одни достижения, а что где-то кто-то пухнет с голоду, умирает от болезней, задыхается в тесноте или без озона, что ж, каждый за себя. Так им и надо, недоразвитым, несущественным, неинтересным, примитивным, диким индейцам, курдам, сомалийцам, сербам, у них ведь не та цивилизация.
Наша цивилизация — хорошая, христианская, а у них — плохая, исламская, у нас сказано — не убий, а у них — убей неверного, попадешь в рай. Не совсем так? Вовсе не так? Ну, это мелочи, нам лучше знать. Сербы — христиане? Ах, извините, ошибочка вышла, ну, все равно, они ведь какие-то там православные, не такие, как мы, все равно, отсталые. «Мне отмщение, и Аз воздам»? Ну, это не считается. Мы сами воздадим. Подгоним авианосцы, сбросим своих мальчиков в камуфляже с автоматами-гранатами и воздадим. Таким же мальчикам в камуфляже. Их матерям, их невестам. И повезут гробы на Запад и Восток. А те дяденыси, которые на этом деле построят себе бункеры на случай бомбардировок или виллы на островах? Им — воздадите? Интересно как? Если уж одного-единственного Усаму словить не можете, неужто будете разбираться с прочими, так сказать, олигархами? Да ни в жизнь. Еще ни с одним не разобрались. Ну, может быть, с одним наркобоссом. И ни с одним из торговцев оружием.
Только и слышно про выставки разных вооружений, одна другой страшнее. И не стыдно хвастаться, что наше-де оружие посильнее вашего, получше, помощнее, поужаснее, а мы на следующий год еще не то выставим, еще хлеще, и все дикторы по телевизору захлебываются от восторга, ах, какие прекрасные-прекрасные-прекрасные обычные вооружения! Конечно, атомные бомбы, химия и био — это для цивилизованного использования, а то ведь дикие не знают, как со всем этим обращаться. А вы-то, цивилизованные, знаете? И кто знает? Если уж три камикадзе нанесли такие разрушения, то что смогут два или три десятка? Вот уж чего-чего, а фанатиков-самоубийц теперь хватает, сумасшедших сектантов пруд пруди, хоть в Японии, хоть в Швейцарии.
Пока цивилизованные заложники христианской цивилизации будут мстить нецивилизованным камикадзе, дяденьки-олигархи, исламисты и христиане, будут потирать руки и потягивать коктейли на одних и тех же неприступных (?) курортах — только для олигархов. А государство, народный рейтинг и прочая чепуха — для камуфляжа, чтобы государство из налогов этого быдла отстегивало на производство вооружений. Если не начинать войны — затоварятся солидные фирмы, а ведь они — работодатели, для людей стараются, вон сколько напроизводили орудий убийства и как здорово приучили человечество к наркотикам и взрывам на экране, к убийствам на экране, приучили человечество к кошмарным картинкам, лишив воображения, то есть сочувствия и сострадания, умения ставить себя на место жертвы, а говорят — христианская цивилизация. Зато научили смотреть на пытки и катастрофы со стороны. Из уютного кресла. Ну вот, экран показал пожар Пентагона и разрушение башен — реальность, невообразимее всякой фантастики: дикие, фанатичные, нецивилизованные арабы разрушают шедевры цивилизации.
В сущности, какая разница, к какой цивилизации принадлежат те, кто разрушил храм Христа Спасителя, Ленинград, Дрезден, статую Будды или две стоэтажки, набитые людьми?
Одна знакомая актриса всегда мне говорит: «Как скажешь, так и будет». А я бы сказала: «Что покажешь, то и будет». Ведь воображение-то не выстраданное, а даровое, заемное, купленное, заказное, так сказать. Теперь вот говорят, возмездие, а кому возмездие — не говорят. Пакистанцам? Сами же их вооружали. Летчикамкамикадзе? Так те уже в раю, а кто их научил таранить башни? Башни на экране. Вот и выходит, что просвещенная христианская цивилизация источает в мир такую концентрацию гордыни, что сама себя не узнает в кривом зеркале панисламизма, глобального терроризма и стремления к мировому господству.
P. S. Летом была в Италии, очень красивой, очень комфортной, очень ухоженной. Там тратят бешеные деньги на реставрацию пейзажей, храмов и деревень. А какие дороги… Но собор Святого Петра произвел на меня ужасное впечатление. Сотни тысяч распаренных туристов, полиция, вылавливающая в толпе особей женского пола с непозволительно короткими рукавами, и громадные бездушные мраморные махины Микеланджело. Там Бога не найдешь. Его ни в какой толпе не найдешь. В Мекке вот тоже паломники как-то кого-то раздавили из своих. В жизни не забуду, как на меня катилась толпа на Рождественском бульваре в день похорон Сталина. Зачем, зачем нужно переть ввысь и сбиваться в жуткие толпы? Язычество. Поклонение кумирам, фетишам, химерам, черту-дьяволу. Дикая какая-то цивилизация. Пора менять терминологию и как-то иначе описывать мир, а то мы в нем заблудились. Я бы на месте Думы подкинула деньжат преподавателям высшей школы. Отдельной строкой в бюджете.
Сентябрь, 2001Запах денег
Привет, дружище, я держусь, хотя дела не так чтоб очень, встаю в четыре, а ложусь чуть ли не в десять… Осень, осень.
Ну вот. «Поплакалась и полегчало», как выражается одна знакомая актриса. Перехожу к анекдотической части послания, а именно к повести о том, как я выступала по телевидению. Помнишь, была детская книжка, называлась «Что я видел». Итак, докладываю о том, что я видела с той стороны экрана, поскольку это показалось мне страшно забавным, и, как говорится, спешу поделиться.
Я угодила аж в две передачи, прямо противоположные по жанру. Одна называется скромно «Большая стирка», другая называется гордо — «Гордон». Первая выходит в эфир среди бела дня, вторая — темной ночью. «Стирка» идет в записи, «Гордон» — в прямой трансляции. В «Стирке» полна коробочка, молодежь выдает аплодисменты и возгласы дружного одобрения; в «Гордоне» — всего три персонажа, а именно двое приглашенных разговаривающих и ведущий, от коего собеседники могут ожидать не только поддержки, но и коварных провокаций. В «Стирке» светло и уютно, но перед началом все долго топчутся у дверей закрытой студии, в «Гордоне» красный задник, черный интерьер, ну, прямо мавзолей, но зато тебя привезут на машине и проведут в уютный предбанник и предложат на выбор чай-кофе и даже сок или вино, прямо как в самолете; в «Стирке» сидишь в первом ряду на нормальном стуле и просто отвечаешь на вопросы, а в мавзолее восседаешь на высоком табурете и целый час рассуждаешь на свободную тему, не ведая, когда передача началась, а когда закончилась.
В «Стирке» речь шла о запахах, в «Гордоне» — об интерпретации драмы, то есть о драме интерпретации драмы.
В «Стирку» я попала как переводчик немецкого бестселлера о вымышленном французском парфюмере восемнадцатого века, но главным ее персонажем была, слава богу, не я, а настоящий парфюмер, современный, русский, наверняка новый, очень милый молодой человек, редактор суперглянцевого суперрекламного журнала, в общем, эксперт. Слушать его было сплошное удовольствие, а кроме него выступали и другие очень приятные действующие лица, одни натуральные, другие — поддельные, то есть актеры, игравшие роли натуральных, впрочем, различить их было нетрудно, потому что у актеров хорошая дикция и они с легкостью импровизируют. И все бы ничего, хеппенинг так хеппенинг, но ведь всякому зрелищу нужна изюминка, пуанта. А потому всем присутствующим раздали полоски ароматизированной бумаги и предложили угадать, чем пахнет и для кого продукт. Влажные бумажки пахли вполне благопристойной дезинфекцией (мне показалось, что ванной комнатой), а более романтически настроенная публика упоминала о жасминах, персиках, нежности, любви и прочем таком. Увы. Гостеприимный хозяин праздника победно объявил, что сей парфюм предназначен для собак. Каково?
Как будто собачки сами посещают дорогие бутики, принюхиваются и выкладывают денежки за модные душки.
Н-да, не знаю, как другим, но мне этот хеппенинг показался немного, как бы это помягче сказать, нелюбезным, что ли. Вопрос на засыпку: то ли это я такая обидчивая и старомодная, то ли они совершенно потеряли чувство меры и приличия. Доверчивая аудитория как бы элегантно получила по морде, хотя и не совсем понятно, за что. Правда, в студии несколько раз прозвучала сакраментальная фраза о том, что деньги не пахнут, но никто, кажется, не отнес ее к себе. А зря: как римский император извлекал деньги из общественных туалетов, так и телевизионщики получат свои денежки из того дерьма, в котором во время своей большой стирки вываляют добровольных и безгонорарных участников. Ну и каково мне теперь будет показаться на глаза своим знакомым, которые поглядят на эту «Стирку»? Одно утешение: я малость поцапалась с ведущим, авось вырежут.
А у «Гордона» в черно-красном мавзолее все вышло не так страшно, скорее, даже интересно, потому что моей собеседницей оказалась эрудированная и обаятельная московская дама — театральный критик и к тому же красавица, так что даже смотреть на нее было радостно. И режиссер не позволил себе никаких подковырок и, похоже, даже заинтересовался нашими с ней попытками выяснить, почему отечественные режиссеры сто тринадцать раз ставят «Чайку», но в упор не видят многих других, совсем даже не бездарных, в том числе западных пьес. Сам знаешь, это вроде моя личная больная мозоль: Бюхнер, Цукмайер, Хорват, Форте, Хайнер Мюллер, Ежи Лукош, Петер Хакс. Я их перевожу-перевожу, а их не ставят и не ставят. Ставят только одного Брукнера, вот недавно опять все того же «Наполеона», аж в Бугуруслане. Но те-то ничуть не хуже, а идет один Брукнер. Понятно, что тема Наполеона льстит национальному самолюбию, но ведь на подмостках могут звучать и другие темы, и другие авторы. Есть немцы первого ряда, например еще не переведенные Иене или Шютц. Есть и французы, кроме Ануя. Кстати: почему не идут «Птички»? Вот уж действительно актуальная пьеса — о том, как европейская цивилизация с ее культом рекламы и лозунгом «Деньги не пахнут» зомбирует детей, превращая их в террористов. Есть и англичане, и американцы, и разные прочие шведы, испанцы, латиносы (читай никому ныне не известный бюллетень 60–80-х годов «Современная зарубежная драма»), В общем, налицо пробел в образовании наших театральных деятелей, а мы, филологи, такие умные, все это уже отрецензировали или перевели, пусть даже это никому еще пока не понадобилось и не пригодилось. И только я смиренно утешилась мыслью о наших заслугах, как мой просвещенный взгляд упал на недавно вышедший сборник пьес Бото Штрауса, и все мое скромное торжество скукожилось, как не распустившийся от холода бутон. Пьесы Штрауса идут по всей Еермании, а я, хоть убей, не могу прорваться в эту поэтику многослойного, нервного, мистически-мифологически-символического абсурда. Может, у тебя получится? Вот координаты: Бото Штраус. Время и комната (М.: ЕИТИС, 2001). Составление и предисловие (кстати, весьма дельное) В. Колязина. Переводы с немецкого (кстати, очень хорошие): В. Колязин, М. Рудницкий, В. Ситников. Займись, пожалуйста. Ты германист, доктор и профессор, тебя ни романтизмом, ни декадансом, ни постмодерном не испугаешь, а я все цепляюсь за разум, за просвещение, за этику да классику. И все никак не желаю признать, что мои любимые старики, напрочь исчезнувшие с русских подмостков — Лессинг, Шиллер, да тот же Гете, — ненужный хлам, выброшенный как балласт с корабля современности. Ведь и современность пройдет. Все проходит, как говорил один еврей, оказавшийся чуть ли не самым мудрым писателем. И очень современным.
P. S. Чуть не забыла главный анекдот: на «Стирке» разговорились мы с неким молодым человеком, кажется экспедитором того самого издательства, которое печатало вышеупомянутый бестселлер об ароматах. Юноша сообщил, что на доходы от этой книжечки приобрел «жигули». Интересно, что приобрел директор? А я все собираюсь отремонтировать ванную, да не на что.
Октябрь, 2001Нам остается только слово
Как жив, сосед? Пишу опять, пришлось два Рождества встречать, два Новых года отмечать, ужасно хочется покоя, стабильности и все такое, и чтоб погода на дворе была, как в старом букваре, но время не покатит вспять, уж нам ли этого не знать, уютный мир остался в детстве, куда от плюрализма деться? В геометрической прогрессии плодятся-множатся конфессии. У каждого своя дорога, все кличут Бога на подмогу и объясняют, что к чему, но, непостижные уму, колеблют мир землетрясенья, вулканы, сели, наводненья, да и в Москве везде вода, ну не зима, а чехарда, и, может, вызвана она тем, что в Чечне идет война, природа дури не прощает, каких еще знамений чают?
Но впрочем, я не о знамении, а, как всегда, о просвещении. Ведь никакие взрывы-бомбы, хоть у кафе, хоть в катакомбах, не убедят остановиться ни террориста, ни полицию, и бомбы будут рваться снова, нам остается только слово. Увы, на свете столько книг и столько разных мыслей в них, расхожих, редких, романтичных, крамольных, детских, неприличных, из глубины веков пришедших, веселых, мрачных, сумасшедших… Ведь кой-кому порой неймется, бедняга за перо берется, и может статься, что книжонка протянется ручонкой тонкой, пройдет сквозь время и просторы и помощью предстанет скорой, а может, и врагом, и братом… А ты слыхал, нашлись ребята, шагают вместе впереди с большим портретом на груди, они легко и без проблем рекомендуют нынче всем, кого в России издавать, кого трата-та-та читать, такое много раз бывало, студенчество порой сжигало своих учителей живьем, надеюсь, мы не доживем, психоз культурной революции и запрещения Конфуция в Китае вроде миновал… Ты, кстати, Маркса обменял?
Да, вот тебе и с Новым годом. Ну, почитай хоть переводы. Не все студенты, как ни странно, хунвейбинюгенд-талибаны.
Тонино Гуэрра
Великая пыль
Перевод с итальянского Ольги Багеевой
Один или два раза в столетие по Долине Вулканов проносится ветер, называемый Великой пылью. Он поднимается по высохшим кратерам из глубин Земли и в течение трех дней шершавым языком кошки лижет дома и человеческие лица. И тогда жители вдруг теряют память, и сыновья не узнают отцов, жены — мужей, невесты — женихов, дети — родителей, и все превращается в хаос новых чувств.
Потом ветер исчезает, поглощаемый безднами кратеров, и все постепенно возвращается на круги своя, и никто не помнит, что случилось за три дня Великой пыли.
Из сборника «Итальянская новелла XX века». М.: Радуга, 1988.
Зажечь свечу
Китайская притча
Перевод с китайского Надежды Антонец
Давным-давно жил-был в царстве Цзинь правитель Пин Гунн. И говорит он однажды своему министру Ши Куану:
— Как бы я хотел стать мудрецом и прочесть много умных книг! Но ведь мне семьдесят лет. Жаль, что уже слишком поздно!
— Если поздно, — отвечает ему на это министр, — почему бы вам не взять свечу?
Тут правитель разозлился:
— Я с тобой серьезно говорю, а ты со мной шутки шутишь!
— Да как бы я посмел с вами шутить? — возразил министр. — Я вам истину говорю. Когда человек старательно учится в юности, он вступает на дорогу, освещенную яркими лучами утреннего солнца. В зрелости мудрость человека достигает зенита, и впереди у него еще половина пути. В старости же, на закате дней, его путь может осветить лишь пламя свечи. Пусть оно не такое яркое, как солнце, но лучше зажечь свечу, чем блуждать во тьме.
Гюнтер Айх
Домочадцы
Перевод с немецкого Александра Беляева
Ничто так не досаждает мне в жизни, как мои родители. Куда бы я ни пошел, они преследуют меня. Не помогает ни переезд на другую квартиру, ни выезд за границу. Я едва успеваю присесть, как дверь открывается и один из них заглядывает в комнату: Отец-Государство или Мать-Природа. Я швыряю в них ручкой. Мимо. Они шушукаются, они понимают друг друга. В кухне сидит Управляющий, бледный, худой, напуганный, мне он не нравится, но порой вызывает жалость. Он мне не родня, но вреда не приносит.
Полчаса я с увлечением работаю. Но внезапно снова появляется Мать с окровавленным ртом и показывает мне новую модель.
— Все разделено пополам, — говорит она. — Это основа основ. Самцы и самки.
— Неужели тебе ничего лучше на ум не пришло? — спрашиваю я.
— Да ты что, милый! — говорит она. — Ты только погляди на эту самочку богомола. Пока его низ с ней совокупляется, она пожирает его верх.
— Фу, мама, — говорю я. — Это же отвратительно, черт побери!
— Однако же ты погляди, каковы мои закаты! — хихикает она.
Я пытаюсь успокоиться и хоть на пару строк продвинуться в своей книге о жизни Бакунина. «Этот Маркс разделал вас под орех, Михаил Александрович!» — злорадствую я. И тут в комнате сразу появляется Отец. Он обгладывает кость рекрута. Под его подозрительным взглядом я прикрываю рукопись газетой «Законопослушный гражданин».
— Ты слишком мало поёшь, — сокрушается он.
И только после его ухода я замечаю, что он унес с собой мое портмоне.
В кухне, не переставая, плачет Управляющий. Я закрываю глаза и затыкаю уши. И правильно делаю.
Из хрестоматии Aufschluss. Bonn/Bad-Godesberg, о J.
Бертольт Брехт
Беспомощный мальчик
Перевод с немецкого Зои Ефимовой
Господин К. говорил о дурной манере молча проглатывать обиду. И рассказал такую историю.
Некий прохожий спросил у плачущего мальчика о причине его слез.
— Я скопил два гроша на кино, — сказал тот, — потом пришел вон тот мальчишка и вырвал один грош.
И он показал на стоящего неподалеку подростка.
— Ты что, не звал на помощь?
— Звал, — сказал мальчик и зарыдал еще громче.
— И тебя никто не услышал? — продолжал прохожий, ласково гладя его по голове.
— Нет, — всхлипнул мальчик и посмотрел на мужчину с надеждой, поскольку тот улыбался.
— Тогда давай и этот, — сказал прохожий, отобрал у него последний грош и беззаботно пошел дальше. ВСТРЕЧА
Один человек, который долго не виделся с господином К., приветствовал его словами:
— Господин К., вы совсем не изменились!
— Неужели? — сказал господин К., побледнел и испустил дух.
Целеустремленный
Господин К. задавал вопросы. Каждое утро мой сосед заводит граммофон. Зачем он включает музыку? Говорят, он тренируется. Зачем он тренируется? Говорят, он хочет быть сильным. Зачем ему сила? Хочет расправиться со своими врагами в городе. А зачем ему убивать врагов? Потому что он хочет есть.
Услышав, что его сосед включает музыку, чтобы тренироваться, тренируется, чтобы быть сильным, хочет быть сильным, чтобы расправиться с врагами, расправляется с врагами, чтобы есть, господин К. задал свой вопрос:
— А зачем он ест?
Из хрестоматии Aufschluss. Bonn/Bad-Godesberg, o.J.
Франц Кафка
Отъезд
Перевод с немецкого Екатерины Лысовой
Я приказал вывести моего коня. Слуга меня не понял.
Тогда я сам пошел в конюшню, вывел коня и оседлал его. Издалека доносился звук трубы. Я спросил слугу, что это значит. Он не знал и ничего не слышал. У ворот он остановил меня и спросил:
— Куда ты едешь, хозяин?
— Не знаю, — сказал я, — лишь бы прочь отсюда, прочь отсюда, как можно дальше прочь отсюда. Только так я смогу достичь своей цели. Так ты знаешь, в чем твоя цель?
— Я же сказал «прочь отсюда» и есть моя цель.
— Но у тебя нет запаса провизии, — сказал он.
Мне он не нужен. Мой путь так долог, что никакой запас не спасет меня, если я ничего не добуду в пути. Да, к счастью, это воистину бесконечное путешествие.
Возвращение
Я вернулся. Пересек двор и осмотрелся по сторонам. Старое хозяйство моего отца. Лужа посередине двора. Сваленный в кучу, ненужный хлам загораживает дорогу к крыльцу. Кошка устроилась на перилах. Рваная тряпка, привязанная к шесту во время игры, развевается на ветру. Я вернулся. Кто встретит меня? Кто окажется за кухонной дверью?
Дым поднимается из трубы. Готовят вечерний кофе. Уютно ли тебе? Чувствуешь ли ты себя дома? Не знаю. Я в растерянности. Вот дом моего отца. Вот он стоит, кирпичик к кирпичику, и смотрит на меня. Все погружены в свои заботы, о которых я либо никогда не знал, либо забыл. Что я могу сделать для них? Что я им? Пусть я и сын старого хозяина, моего отца, — я не решаюсь постучать в дверь. Я лишь прислушиваюсь издалека, только слушаю издалека, боясь, что меня застанут врасплох. И так как я стою далеко, я ничего не слышу. Только тихий бой часов. Или это воспоминанье детства?
Что же происходит на кухне? Или это тайна обитателей дома, которую они бережно хранят от меня? Чем дольше медлишь у дверей, тем труднее постучать. А что, если кто-то вдруг отворит дверь и спросит меня о чем-то? Не стану ли я одним из тех, кто хранит тайну?
Отвали!
Утро было свежее, улицы чисты и просторны. Я шел на вокзал. Взглянув на башенные часы, я вдруг обнару жил, что мои отстают гораздо сильнее, чем я думал. У меня оставалось совсем немного времени. Это испугало меня настолько, что я усомнился в правильности выбранного пути. Я еще не очень хорошо ориентировался в этом городе. К счастью, я увидел неподалеку полицейского. Я бросился к нему и, не успев отдышаться, спросил дорогу. Он усмехнулся и спросил:
— Ты у меня хочешь узнать дорогу?
— Да, — сказал я. — Мне самому ее не найти.
— Отвали, — ответил он. — Отвали!
И резко отвернулся, как будто хотел остаться наедине со своим смехом.
Из хрестоматии Aufschluss. Bonn/Bad-Godesberg, o.J.
Ох, не надо въезжать да на белом коне, и не надо сжигать всех гимназий в огне. И науки уже упраздняли, а потом себе локти кусали.
Январь, 2002Крейн
Сосед мой милый, как делишки? С работой — как? Идут ли книжки? А я вот с письмами застряла, то темы нет, то нет запала, мелькают дни, бегут мгновенья, не оставляя впечатленья, стремительно сигая в Лету. Ах, вдохновенье, где ты, где ты, все грустно-скучно отчегото, все элегические ноты, а на ловца и зверь бежит, и вот уж Крейна том лежит под черной лампою настольной, и как же сладостно и больно читать мне эту эпопею с названьем скромным «Жизнь в музее» (А. З. Крейн. Жизнь в музее. М.: Радуга, 2002. 602 с.).
Ну вот, я читаю и чуть ли не на каждой странице вздрагиваю, наталкиваясь на почти стершиеся из памяти, а ведь с детства знакомые, иногда просто родные имена, даты, адреса, автографы, рисунки, фотографии, цитаты и стихи.
Если бы я попыталась выплеснуть на бумагу весь поток сознания, который забурлил в моей голове по прочтении книги, то у меня вышла бы толстенная монография, а я пишу лишь фельетон в театральную газету и могу, слава богу, ограничиться чисто личными пристрастиями.
Поразительно, насколько эти мои и все наши (и твои, и всех наших) пристрастия — русская культура, музей, Пушкин — совпадают с пристрастиями великого Крейна.
Где-то в начале 70-х годов мудрое начальство упразднило НИИ музееведения и воздвигло на его месте и базе НИИ культуры, все той же третьей категории, поскольку культура, пусть социалистическая по содержанию и национальная по форме, считалась у начальства предметом третьесортным. Но мы-то знали, что она — не такая, что она — великая, и благородная, и настоящая культура девятнадцатого века, чудом сохранившаяся в двадцатом, и никакой она не третий сорт, а высший класс. Все это знали, кто читал Ахматову и Бродского, и старый «Новый мир», пел Галича-Высоцкого-Окуджаву, слушал Рихтера, аплодировал на Таганке и ходил на вечера в музей Пушкина, созданный Крейном. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий… ты один мне поддержка и опора…
А нынче у нас пошел абсцесс, то бишь процесс. Нынче культура у нас пусть не социалистическая и не национальная, зато сильно капиталистическая и американистая, и все мы, кто еще жив не хлебом единым, знаем, что чернуха, порнуха, расчлененка и издевка над классикой на театральных сценах, стриптизы в дорогих притонах, шоу на эстраде, любовные романы на лотках в метро и непристойное подглядывание на ТВ — продукция даже не третьесортная, а запредельная, а может, и беспредельная — от «беспредел». Зато олигархи-спонсоры финансируют ее отнюдь не по остаточному признаку, она им служит для отмывания очень даже экономной криминальной экономики.
Так вот, НИИ музееведения за ненадобностью для Минкульта ликвидировали, но музейный отдел этого НИИ худо-бедно сохранился. И мы там корпели над составлением словаря музейных терминов (натужно пере водя их с немецкого) и спорили о музееведении, каковое чем-то (чем?) отличается от музеологии, и даже мечтали о том, что когда-нибудь появится музейный журнал, и музеологические факультеты в гуманитарных вузах, и звания кандидата или даже доктора музеологии.
А пока мы на своей Берсеневской набережной рассуждали об этих далеких перспективах, Крейн на своей Пречистенке и его сотрудники-соратники, архитекторы, строители, художники, реставраторы, коллекционеры, филологи, историки, архивариусы, хранители, дарители, актеры, музыканты, посетители, зрители, московские, питерские, ярославские, вологодские, тверские, псковские, грузины, калмыки, молдаване, украинцы, крымчане вдохновенно и практически безоплатно (словечко Крейна) творили и сотворили МУЗЕЙ.
Но Крейн умер, и неизвестно, когда еще на горизонте российской культуры появится личность подобного дарования и сравнимого масштаба. Он писал книгу в последний год жизни для всех, кто был связан и будет связан с его музеем, и для всех нашел воспоминание, слова признательности, уважения, нежности, восхищения и любви. Говорят, чувство благодарности есть свойство высокоорганизованной материи.
Что ж, нынче есть и журнал, есть и факультеты, и доктора. Пусть теперь нынешние музейщики попробуют усвоить и освоить его опыт: превратить руину в теплый красивый гостеприимный дом, наполнить его бесценными дарами, собрать в нем талантливых и благородных людей, и работать, работать, работать «во имя и ради» до последнего дыхания… Это музей Пушкина, музей Пушкину. Но я уверена, что, если бы Крейн делал — точно так же, на пустом месте — музей Толстого или Достоевского, у него получилось бы не хуже.
Самое ценное в книге — страстная вера в непреходящую силу добра, в возможность преодолеть забвение, восстановить и сохранить красоту человеческого замысла и деяния. И при всем том никакой выспренности, все сказано просто и искренне, и читается текст как самый что ни на есть увлекательный роман.
Прочти непременно. А если у тебя есть знакомые фанаты музейного дела, дай мне знать, я пришлю им эту книгу в подарок. Как получила ее в подарок сама — от вдовы Александра Зиновьевича Зинаиды Наумовны Парнес-Крейн, которая и взяла на себя прекрасную и многотрудную миссию ее публикации.
P. S. Крейн, по его словам, писал правду и только правду, но не всю правду. А вся правда, увы, заключается в том, что этого музея больше нет. Его место занял другой — богатый и вылощенный, и вместо пиров духа в нем устраиваются роскошные приемы и фуршеты в дорогом ресторане.
Будь здоров, жди писем.
Июнь, 2002Феникс
То, что вчера мы увидели в Малом зале на Таганке, было удивительно, восхитительно, невероятно и неоспоримо. Называлось это представление «Феникс» и имело подзаголовок «Бриколаж по произведениям Марины Цветаевой».
Музыка, инсценировка и постановка: Лариса Маслова. Импровизации на духовых инструментах: Сергей Летов. Музыкальный редактор: Владимир Нелинов. Свет, звук: Игорь Ануфриев.
Компьютер подчеркнул слово «бриколаж» красной чертой. Сие означает, что компьютер этого слова не знает, не рекомендует, не использует и не сечет. А словото совсем простое, человеческое и означает поделку, маленькую вещичку, скромный продукт ремесла, изготовленный мастером в свое удовольствие и на радость родным и близким. Вот и представление, придуманное и поставленное актрисой театра Ларисой Масловой к 120-летию поэтессы, такое же вроде бы непритязательное, вроде бы для своих, вроде бы ничего особенного. Лариса, если вам кто-нибудь, коллеги, зрители, крити ки, дадут это понять — не верьте. Вы сделали грандиозную работу.
Потому что реставрация культуры — это, может быть, самое важное дело в эпоху попрания и профанации классических ценностей. И ваш спектакль именно так и воспринимается из зрительного зала. Все прочитывается. И страстность цветаевской поэзии, оставленная ей (вам) в наследство от Античности. И вольтерьянский шик восемнадцатого века, идущий от Пушкина (Марина Полицеймако). И русский фольклор (Светлана Сорокина-Субботина), и европейский рационализм и романтизм (Анна Букатина, Ирина Кулевская), и современный ненасытный винтаж (Лариса Маслова-младшая). Как луч света. Глоток свежего воздуха. Красота, которая спасет… Как вы умудрились перенести все это на сцену? Как вам удалось совместить, слить, сплавить эти разлитые в стихах субстанции в добротный монолит спектакля? Лаконичного действа, воспринимаемого на одном дыхании?
Все здесь на месте: и черный фон кулис, и серый шелк костюмов, и крупный план фотографий на заднике. И мелодии, которые вы сочинили. И гитара в ваших руках. И голоса актрис. И песня БГ — как вздох, подхваченный у цветаевской души нашим современником. Персонажи не спорят, не конфликтуют, не враждуют. Не опровергают друг друга. Они сосуществует естественно, непротиворечиво, легко и радостно в едином поле душевного бескорыстия и душевных метаний. Даже мужчины в вашем спектакле (Игорь Лесов, Александр Силаев) не нарушают гармонии. Актеры прямо-таки наслаждаются вкусом текста. Смакуют его, как гурманкурильщик смакует забытый вкус некогда любимой сигареты. Вроде бы несчастная любовь, разбитое сердце, герой-изменник. А вот и нет. У мужчин своя конфигурация неразделенной любви. И Цветаева сострадает ее мукам. Ну разве не великое открытие?
Вот это — настоящая новость, истинная сенсация на отечественной сцене, уже привыкшей, уже притерпевшейся к вульгарным жестам, нецензурной брани, эпатажным позам и мизансценам, уже принявшей в свое лоно все непристойности и нарушения приличий, изобретенные постмодерном. Но даже самые прожженные политиканы, самые крутые уголовники, самые богатые бизнесмены весьма часто пытаются рифмовать. Потому что у человечества есть только один способ коснуться души универсума, и имя ему — поэзия.
Март, 2014Последнее письмо написано уже не в «Экран и сцену», а в «Музыкальный кругозор». А в «ЭС» я написала еще штук двадцать, жаль, я не нашла их в архиве. А вскоре и колонка моя приказала долго жить. Лихие девяностые кончились, начались тучные годы, вопросы потеряли остроту, и интерес к поискам ответов и смыслов ощутимо ослаб. Теперь материальный уровень падает, и законодательно отмененная идеология снова претендует на права. Все происходит по формуле господина Черномырдина: «Никогда так не было, и вот опять». Так что я позволю себе заключить эти заметки одним историко-культурным наблюдением.
Метафора
Любой национальный фольклор (и вся классическая литература) имеет в основе метафорику. До сих пор никто не оспаривал ценности метафоры как способа познания мира. Русские понимали, что имеется в виду, когда пели «Во поле березонька стояла». Немцы понимали, что и кого имел в виду Гете, когда сочинял свой непритязательный стишок «Roslein, Roslein, Roslein schon, Roslein auf der Heide». Сломанная березка и сорванная розочка были понятными для всех метафорами утраченного целомудрия.
Но в наше время политкорректности и медийного произвола даже первокурсники, то есть сексуально озабоченные юноши и девушки, не догадываются, о чем речь. Почему?
Интернет создает поистине безразмерные возможности дистанционного обучения. И он же исключает носителя знаний из процесса трансляции знаний. И знания, приобретенные без усилий, оторванные от живых трансляторов, лишенные личностного психологического подтверждения, обесцениваются. На смену знаниям (во всяком случае, в системе гуманитарного образования) приходят случайные, разрозненные сведения, изъятые из структуры, из системы времени, места и причинно-следственных связей.
Зачем зубрить таблицу умножения, если можно нажать на клавишу калькулятора? Сведения извлекаются из хайтека путем клика, используются и забываются. А в головах пользователей снова зияет пустота, требующая скорейшего заполнения сведениями, извлеченными путем небрежного клика. И этот порочный круг расширяется, захватывает все сферы бытия и умножает энтропию. Речь идет о деградации воображения и ассоциативного мышления, о гибели метафизики, то есть поэзии, религии и вербального искусства. Того, что Хакс называл прекрасным словом Einfall (внезапное озарение, гениальная идея). Речь о том, что искусственный интеллект вытесняет из ноосферы человеческий дух.
Но если видовой ряд устранит из обращения слово, какое-то очередное поколение превратится в мычащее, блеющее, тупое, неразумное стадо зевак. Словарный запас сократится до нецензурной лексики, эмоциональные реакции — до агрессии и страха. Вместо любви секс, вместо духовного поиска клик, вместо нравственности — этическая индифферентность. В перспективе — интеллектуальное, моральное и духовное одичание.
Попросите среднестатистического школьника в так называемых высокоразвитых странах назвать великих людей. Он назовет президентов, королей, завоевателей, диктаторов, в лучшем случае спортсменов, рокмузыкантов или кинозвезд. И вряд ли кому-то придет в голову имя философа, поэта, изобретателя или святого.
А ведь то, что Хакс называл словом Einfall, лежит в основе всех священных книг человечества. Древние пророки не были учеными, они постигали мир как поэты, они описали свои видения и завещали нам свои прозрения. Они оставили после себя тексты, вербальные памятники, вехи, по которым мы до сих пор ориентировались во времени и пространстве истории. Этот способ выгодно отличается от научного большей экологической безопасностью. Возможно, со временем он окажется и более эффективным, чем научный. А пока что метафора в опасности. Приходится посылать многоуважаемому человечеству сигнал SOS. Спасите метафору. Спасите наши души.
Ноябрь, 2015





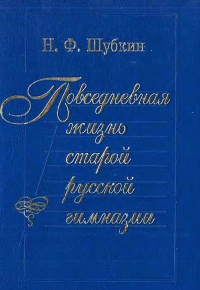


Комментарии к книге «Мемуарески», Элла Владимировна Венгерова
Всего 0 комментариев