Симоненко Р. Г., Берестенко В. А. Тарас Шевченко та його доба
Т. Г. ШЕВЧЕНКО І РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Повстання декабристів та його наслідки – головний підсумок революційного руху першої половини ХІХ століття
«Научная обработка истории декабристов, – стверджує один з провідних знавців історії ХІХ століття академік Микола Михайлович Дружинін, – получила своё развитие сравнительно недавно: только революция 1905 г. заострила внимание исследователей на истоках революционного движения, заставила пристальнее всмотреться в его социально-экономическую базу и сделала более доступными материалы государственных хранилищ. Почти одновременно появились, с одной стороны, крупные описательные работы, опиравшиеся на подлинные материалы Следственного комитета (М. В. Довнар-Запольского, В. П. Семевского), с другой стороны – новая материалистическая концепция, которая разрушила либеральную легенду о декабристах (статьи К. Н. Левина и М. Н. Покровского»1.
Шевченко та декабристи
1825 року, коли відбулося найвідоміше повстання на Сенатській площі – Тарасу Шевченку було лише одинадцять років. Хлопчик, та ще й перебуваючи в кріпацькій неволі, зрозуміло, не міг дізнатись, тим більше – оцінити цю важливу історичну подію. Це сталося пізніше.
Спочатку – в художньому мистецтві, зрештою, на далекому засланні та по дорозі звідти. 3 листопада 1857 р. у Нижньому Новгороді Шевченко жадібно відшукував та знайомився зі змінами в політичному житті, що відбулися за час його десятирічного ув’язнення. Далеко не другорядну роль у цьому Тарас Григорович відводив освоєнню новітньої політичної літератури. Три дні тому він з гіркою іронією занотував у «Щоденнику»:
«После десятилетнего поста я разом бросился на книги, объелся и теперь страдаю несварением в желудке. Другой причины я не знаю этому томительному нравственному бездействию. Рисовать ничего порядочного не могу, не придумаю, да и помещение моё не позволяет»2.
Але тоді, 3 листопада, Шевченко був уже в іншому настрої. На його думках і настроях виразно позначився, очевидно, тонус, яким жила Росія на початку другої половини ХІХ століття. Її революційні сили отримали твори Іскандера – Олександра Івановича Герцена, «Колокол» якого залунав у думках і прагненнях передових сил вітчизняного суспільства. Шевченко також вітав виразно інший напрям друкованих за кордоном видань, які відповідали його виношеним у нестерпних умовах царського заслання: «Сегодня воскресенье, и я, как порядочный человек, причепурився и вышел из дому с намерением навестить моих добрых знакомых. Зашёл я к первому мистеру Гранду, англичанину от волоска до ноготка. У него, у англичанина, я в первый раз увидел сочинения Гоголя, изданные моим другом П. Кулишем. Друг мой немного подгулял.
У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я «Полярную звезду» Искандера за 1856 год, второй том. Обёртка, т. е. портреты наших первых апостолов-мучеников, меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор ещё не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления.»
Вимріяна Шевченкова мета
Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны – портреты этих великомучеников с надписью: “Первые русские великомученики свободы”, а на другой стороне медали – портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью “Не первый русский коронованный палач”»3.
Та почалося це раніше. Зрозуміло, неабияка роль у цьому належить переломній події у житті Тараса Григоровича Шевченка – звільненню його з кріпацтва.
Недавній учасник декабристського руху граф Федір Петрович Толстой відіграв значущу роль у звільненні Т. Г. Шевченка. Попри те, що, займаючи важливу посаду – одного з керівників Корінної управи, Ф. П. Толстой ще до повстання декабристів – у 1820 р., розходячись з радикальною програмою П. І. Пестеля, подав у відставку і залишився людиною демократичних поглядів. Доказом його практичних дій у цьому плані було те, що він, перебуваючи на посаді віце-президента Петербурзької академії мистецтв, сприяв визволенню Шевченка з кріпацької неволі, а отже – становленню, зростанню й визнанню непересічного таланту видатного митця-художника.
ІСТОРИЧНІ ТВОРИ СУЧАСНИКА, ДРУГА Й ОДНОДУМЦЯ ДЕКАБРИСТІВ О. С. ПУШКІНА
Під час заслання О. С. Пушкіна увиразнюються його передові погляди
Уже під час першого заслання на Південь Пушкін із захопленням переймався минулим України. Написаний Пушкіним французькою мовою «Очерк истории Украины» починається так: «Украиной или Малороссией, называют обширное пространство, соединённое колоссом Россией и состоящее из Черниговской, Киевской, Полтавской и Подольской губерний.
Климат там мягок, земля плодородна; страна в своей западной части покрыта лесом. На юге тянутся огромные равнины, пересекаемые широкими реками, где путешественники не встретят ни леса, ни холма»4.
«Очерк истории Украины» становив першу спробу історичної творчості Олександра Сергійовича, значною мірою – це переказ тодішніх історичних джерел і праць. Саме тому видавці десятитомного «Повного зібрання творів» поета знайшли потрібним вмістити стислу довідку про цей твір Пушкіна:
«ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНЫ: написан в 1831 г. Интерес Пушкина к истории Украины может быть отнесён ещё к 1829 г., когда 28 апреля М. П. Погодин5 писал С. П. Шевырёву6: «Пушкин собирается писать историю Малороссии». В это время печаталась поэма «Полтава», и Пушкин, располагая тогда списком рукописи «Истории руссов», найденной в 1824 – 1825 гг., долгое время считавшейся трудом Георгия Конисского и, вероятно, по цензурным условиям не печатавшейся, предполагал подготовить её к печати и издать; однако работа над подготовкой к изданию этого текста задержалась, а затем и вовсе приостановилась. Следом подготовительной работы над этим памятником остался написанный Пушкиным очерк истории Украины, а также следующий план:
Что ныне называется Малороссией? Что составляло прежде Малороссию? Когда отторгнулась она от России? Долго ли находилась под владычеством татар? От Гедимина до Сагайдачного. От Сагайдачного до Хмельницкого. От Хмельницкого до Мазепы. От Мазепы до Разумовского.Пушкінський план історичного нарису минулого України відходить від історії державника М. Карамзіна
Этот очерк и план представляют собою пересказ отдельных мест I – III томов «Истории государства Российского» Карамзина и первых глав «Истории Малой России» Д. Н. БантышаКаменского. В частности, из труда Д. Н. Бантыша-Каменского целиком выписаны абзацы от слов «Les Polianes habitaient…» до «Danube» и изложение событий о разорении половцами Киева и Чернигова. Из «Истории руссов» Пушкин воспользовался периодизацией событий для наброска плана, целиком следуя изложению рукописи «Истории руссов», а не изложению Карамзина или Бантыш-Каменского. Из «Истории руссов», например, взят период «От Сагайдачного до Хмельницкого», которого нет у названных историков».
«Славяне, – відзначав О. С. Пушкін, – с незапамятных времён населяли эту обширную область; города Киев, Чернигов и Любеч не менее древни, чем Новгород Великий, свободный торговый город, основание которого относится к первым векам нашей эры.
Поляне жили на берегах Днепра, северяне и суличи – на берегах Десны, Сейма и Сулы, радимичи – на берегах Сожа, дреговичи – между Западной Двиной и Припятью, бужане и дулебы – по Бугу, лутичи и тиверцы – у устьев Днестра и Дуная.
В середине девятого века Новгород был завоёван норманнами, известными под именем варяго-руссов. Эти предприимчивые удальцы, вторгаясь в глубь страны, подчинили себе одно за другим племена, жившие на Днепре, Буге, Десне. Различные славянские племена, принявшие имя русских, увеличили войска своих победителей. Они захватили Киев, и Олег сделал его своей столицей. Варяго-руссы стали грозой Восточной Римской империи, и не раз их варварский флот появлялся угрозой у стен богатой и слабой Византии. Не будучи в состоянии отразить их силой оружия, она гордилась тем, что смирила их посредством религии. Дикие поклонники Перуна услышали проповедь Евангелия, и Владимир принял крещение. Его подданные с тупым равнодушием усвоили веру, избранную их вождём.
Русские, наводившие ужас на отдалённые народы, сами подвергались нападениям соседних племён: болгар, печенегов и половцев. Владимир разделил между своими сыновьями земли, завоёванные своими предками.
Эти князья в своих уделах являлись представителями государя, которым было поручено подавлять возмущения и отражать нападения врагов. Это, как мы видим, вовсе не была феодальная система, основанная на независимости отдельных лиц и на равном праве их участия в добыче.
Но вскоре начались раздоры и войны, длившиеся непрерывно более чем двести лет. Столица государя была перенесена во Владимир. Чернигов и Киев потеряли постепенно своё значение. Тем временем в южной России возникли новые города: Корсунь и Богуслав на Роси (в Киевской губернии), Стародуб на Бабенце (в Черниговской губ.), Стрецк и Вострецк (в Черниговской губ.), Триполь (под Киевом), Лубны и Хорол (в Полтавской губ.), Новгород-Северский (в Черниговской губ.). Все эти города существовали уже к концу XIII века.
В то время как внуки Владимира Великого занимались раздорами, и воинственные племена, обитавшие к востоку от Чёрного моря, оказывали помощь одним из них, чтобы делить добычу, доставшуюся от других, неожиданное бедстиве обрушилось на русских князей и весь народ.
Татары появились у границ России. Им препятствовали всё те же половцы, изгнанные со своих пастбищ и массами устремившиеся к тем князьям, которым они раньше служили или которых разоряли. Князья собрались в Киеве. Война была решена; отовсюду стекался народ и становился под знамёна. Один только Юрий, великий князь Владимирский, не пожелал принять участие в опасностях похода. Он ожидал ослабления уделов в результате этой войны.
Войска князей, соединившись с половцами, продвигались против неведомого, но уже грозного врага. Татарские послы прибыли на берег Днепра в то время, как русские войска начали переправу. Они предложили князьям союз, но последние употребили своё влияние, и послы были перебиты. Войска продвигались дальше, между тем не замедлили вспыхнуть раздоры. Два Мстислава, князь киевский и князь галицкий, дошли до открытого разрыва. Прибыв на берег Калки (река в Екатеринославской губернии), Мстислав галицкий перешёл её со своим войском, в то время как остальная армия под начальством князя киевского укрепилась на противоположном берегу. На следующий день (31 мая 12247 года) враг появился, и началась битва между татарскими войсками и отрядом, состоявшим из войск князя галицкого и половцев. Последние вскоре дрогнули и внесли беспорядок в ряды русских. Те ещё сражались, воодушевляемые примером храброго Владимира Волынского, но безрассудная гордость князей была причиной их гибели. Мстислав киевский не посылал подкрепления, а тот его не желал просить.
Вскоре смятение объяло всех; бегущие половцы убивали русских, чтобы поскорее их грабить. Русские отступили за Калку, преследуемые татарами, и миновали лагерь князя киевского, который, оставаясь неподвижным зрителем их поражения, ещё рассчитывал на собственные силы, чтобы отразить победителей, которые скоро его окружили. Татары начали переговоры, которые позволили им овладеть лагерем. Произошло страшное избиение. Мстислав и некоторые другие князья подверглись страшной участи: татары связали их и положили на землю, покрыли доской, на которую сели, раздавив их заживо. Так погибло войско, ещё недавно грозное. Татары преследовали русских до Чернигова и Новгорода-Сиверского, предавая всё огню и мечу. Внезапно победители остановились, и их орда ушла на восток, где она соединилась с великой армией Чингис-хана, стоявшей в то время в Бухаре»8.
Світоглядний вплив О. С. Пушкіна на Шевченка
Великий поет і громадянин Олександр Сергійович Пушкін – найбільш знакова постать у Росії першої половини ХІХ століття. Окрім того, його роль і місце в громадськополітичному житті країни, зокрема в дворянському революційному декабристському русі – незаперечні.
Усе це не могло певним чином не впливати на творче життя й погляди Тараса Григоровича Шевченка. Але спочатку зупинимося, хоча би коротко, на свідченнях сучасників Олександра Сергійовича.
Ось видання «А. С. ПУШКИН в воспоминаниях современников»9.
Наводячи в примітках характеристику спогадів батька, Сергія Львовича10, та зважаючи на сказане про їхні взаємини, додамо до цих споминів витяг зі мемуарів старшої на рік сестри О. С. Пушкіна – Ольги Сергіївни:
«Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году, мая 26-го в день Вознесения.
От самого рождения до вступления в Царскосельский лицей он был неразлучен с сестрою Ольгою Сергеевною, которая только годом была его старше. Детство их проходило вместе, и няня сестры, Арина Родионовна, воспетая поэтом, сделалась нянею для брата, хотя за ним ходила другая, по имени Улиана. Начнём с няни…
Арина Родионовна была родом из села Кобрина, лежащего верстах в шестидесяти от Петербурга. Кобрино принадлежало деду Александра Сергеевича по матери, Осипу Абрамовичу Ганнибалу, и находилось верстах в пяти от Суйды, деревни брата его Ивана Абрамовича. Когда Марья Алексеевна… бабушка Александра Сергеевича, супруга Осипа Абрамовича, вступив во владение Кобрином, продала его в 1805… то при этом случае отпустила на волю Арину Родионовну с двумя сыновьями и двумя дочерьми… Между тем родился Лев Сергеевич, и Арине Родионовне поручено было ходить за ним, и она сделалася общею нянею. Она и слушать не хотела, когда Марья Алексеевна, продавая в 1811 году Захарово, предлагала выкупить всё семейство Марьи. «На что вольная, матушка; я сама была крестьянкой», – повторяла она. Была она настоящею представительницею русских нянь, мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками. Александр Сергеевич, любивший её с детства, оценил её вполне, когда жил в ссылке, в Михайловском. Умерла она у нас в дому, в 1828 году, лет семидесяти от роду после кратковременной болезни.
Михайловское, ознаменованное ссылкою деда и внука, лежит в двадцати верстах от Новоржева и верстах в сорока от своего уездного города Опочки, Псковской губернии, не дальше версты от села Тригорского, принадлежавшего Прасковье Александровне, по первому браку Вульф. Но прежде как в 1817 году, по выходе Александра Сергеевича из Лицея, родители его, жившие в Петербурге, впервые отправились туда вместе с ним на лето, поездка, которая осталась памятною в его стихах:
Есть в России город Луга Петербургского округа и т. д.До помещения его же в Лицей они постоянно жили в Москве, проводя летнее время в Захарове.
До шестилетнего времени Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особеннного; напротив, своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, приводил иногда мать в отчаяние».
Почнемо, однак, зі спогадів Льва Пушкіна – брата Олександра Сергійовича – про перші кроки в житті геніального поета.
«Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года. До одиннадцатилетнего возраста он воспитывался в родительском доме. Страсть к поэзии проявилась в нём с первыми понятиями: на восьмом году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей… Ребёнок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой. Пушкин был одарён памятью необыкновенной и на одиннадцатом году знал уже французскую литературу наизусть.
В 1811 году открылся Царскосельский лицей, и отец Пушкина поручил своему брату Василию Львовичу отвезть его в Петербург для помещения в сие заведение, куда он и поступил в числе тридцати учеников. Тут развился его характер – любящий, пылкий и независимый. Учился он легко, но небрежно: особенно он не любил математики и немецкого языка. На сём последнем он до конца жизни читал мало и не говорил вовсе.
Поэзии предался он безгранично и, имея четырнадцать лет отроду, написал «Воспоминания о Царском Селе», «Наполеон на Эльбе» и разные другие стихотворения, помещённые в тогдашних периодических и других изданиях и обративших на него внимание. В свободное время он любил навещать Н. М. Карамзина, проводившего ежегодно летнее время в Царском Селе. Карамзин читал ему рукописный труд свой и делился с ним досугом и суждениями. От Карамзина Пушкин забегал в кружок лейб-гусарских офицеров и возвращался к лицейским друзьям с запасом новых впечатлений. Он вообще любил своих товарищей и с некоторыми из них, особенно с бароном Дельвигом, был и остался истинным другом.
После шестилетнего воспитания в Лицее Пушкин вступил в министерство иностранных дел с чином коллежского секретаря. Аттестат, выданный ему в Лицее, свидетельствовал, между прочим, об отличных успехах в фехтовании и танцевании и о посредственных – в русском языке.
При выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомств и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен. Тут началась его дружба с Жуковским, не изменившая ему до последней минуты.
Поэзиею Пушкин занимался мимоходом, в минуты вдохновения. Он в это время написал ряд мелких стихотворений, заключённый поэмою «Руслан и Людмила». Четырехстопный ямб с рифмою сделался и оставался его любимым размером. В это время Пушкин не постигал стихов не рифмованных и по этому случаю смеялся над некоторыми сочинениями Жуковского. Он пародировал «Тленность» следующим образом:
Послушай, дедушка, мне каждый раз, Когда взгляну на этот замок Ретлер, Приходит мысль: что если это проза, Да и дурная?Жуковский этому смеялся, но не уверил Пушкина, что это стихи.
Известность Пушкина и литературная, и личная с каждым днём возрастала. Молодёжь твердила наизусть его стихи, повторяла остроты его и рассказывала об нём анекдоты.
Всё это, как водится, было частию справедливо, частию вымышлено…
Весною 1820 года Пушкин был назначен в канцелярию генерала Инзова, бессарабского наместника. В Екатеринославе он занемог сильной горячкой. Генерал Раевский11 проезжал на Кавказ с двумя сыновьями. Он нашёл Пушкина в бреду, без пособия и без присмотра. Оба сына Раевского были дружны; с разрешения Инзова они его повезли на воды. Там он скоро поправился. Кавказ, разумеется произвёл на него сильное впечатление, которое отозвалось поэмою «Кавказский пленник».
С Кавказа Пушкин отправился в обратный путь, но уже по земле не донских, а черноморских казаков. Станицы, казачьи пикеты, конвои с заряжённой пушкой, словом, вся эта близость опасности пленяла его младое мечтательное воображение. Из Тамани он отправился морем мимо полуденных берегов Крыма. Он знакомился с морем и приветствовал его элегией:
Погасло дневное светило…Очаровательная природа Крыма оставила ему неизгладимые впечатления. Сколько лет спустя он говорил в «Онегине»:
Прекрасны вы, брега Тавриды, Когда вас видишь с корабля, и т. д.«Корабль плыл (говорил Пушкин в одном письме своём) перед горами, покрытыми тополями, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа12. Там прожил я три недели… Счастливейшие минуты провёл я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нём героя славы русского войска; я в нём любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен13. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив. Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображению, горы, скалы, море… Друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского»14.
С южного берега Крыма Пушкин приехал в Кишинёв к месту своего назначения. Тут он провёл два года. Жил он в доме генерала Инзова, который полюбил его как сына. Пушкин тоже к нему душевно привязался. Их отношения были очень забавны. Молодой ветреный Пушкин шалил и проказил; генерал Инзов получал на него донесения и жалобы и не знал, что с ним делать. Пушкин имел страсть бесить молдаван, а иногда поступал с ними и гораздо хуже. Вот случай, памятный до сих пор в тамошнем краю. Жена молдаванского вельможи Бальше сказала Пушкину какую-то оскорбительную дерзость. Пушкин отправился с объяснением к её важному супругу, который дал ему ответ неудовлетворительный. Пушкин назначил ему на другой день свидание в постороннем доме. Там он ему доказывал, что с женщиной иметь объяснения невозможно, ибо объяснение с нею ни к чему не доводит; с мужем же её – дело другое: ему по крайней мере можно дать пощёчину. И в подтверждение своих слов Пушкин исполнил сию угрозу над лицом тяжеловесного молдаванина.
Однажды Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором, и это породило впоследствии поэму «Цыганы». В эпилоге к поэме пропущены были следующие строки:
За их ленивыми толпами В пустынях праздный я бродил, Простую пищу их делил И засыпал пред их огнями. В походах медленных любил Их песен радостные гулы, И долго милой Мариулы Я имя милое твердил.Пушкин коротко сошёлся с генералами М. Ф. Орловым15 и П. С. Пущиным16 и проводил с ними большую часть времени. Вообще, в Кишинёве русское общество было военное. Один Пушкин отличался партикулярным платьем, бритой после горячки головою и красною ермолкой. На обедах военная прислуга его обыкновенно обносила, за что он очень смешно и весело негодовал на Кишинёв.
Невзирая на обычную весёлость, Пушкин предавался любви со всею её задумчивостью, со всем её унынием. Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть её не оставляла. В Кишинёве долго занимала его одна из трёх красивых пар ножек наших соотечественниц.
В два года своего пребывания в Кишинёве Пушкин написал несколько мелких своих стихотворений, «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Братьев-разбойников» и послание «К Овидию»17. Сие последнее сочинение он ставил выше всего того, что было им написано до того времени.
По назначении графа Воронцова новороссийским и бессарабским генерал-губернатором Пушкин был зачислен в его канцелярию. Он оставил Кишинёв и поселился в Одессе; сначала грустил по Кишинёву, но вскоре европейская жизнь, итальянская опера и французские ресторации напомнили ему старину и, по его же словам, «обновили душу». Он опять предался светской жизни, но более одушевлённой, более поэтической, чем та, которую вёл в Петербурге. Полуденное небо согревало в нём все впечатления, море увлекало его воображение. Любовь овладевала сильнее его душою. Она предстала ему со всею заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал пять вёрст с обнажённой головой под палящим солнцем по тридцати пяти градусам жары.
Пушкин был собою дурён, но лицо его было выразительно и одушевлено; ростом он был мал (в нём было с небольшим два аршина и пять вершков18), но тонок и сложён необыкновенно. Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своём. Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должно заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Но он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чём-то близком его душе. Тогда-то он становился поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, а с женщинами никогда и не касался этого предмета. Многие из них, особенно в то ещё время, и не подозревали в нём поэта. Одна иностранка, оставляя Россию, просила Пушкина написать ей что-нибудь в память самых близких двухлетних их отношений. Он написал ей пиесу:
На языке тебе невнятном и пр.19Она очень удивилась, что стихи – собственного его сочинения, просила перевода, но Пушкин предоставил ей обратиться для сего к первому русскому, которого она встретит. В знакомом кругу он любил эту неизвестность, но молвою вообще дорожил…
Пушкин не любил над собою невольного влияния французской литературы. Он радостно преклонялся перед Байроном, но не был, как утверждают некоторые, его вечным, безусловным подражателем. Андрей Шенье, француз по имени, а, конечно не по направлению таланта, сделался его поэтическим кумиром. Он первый в России и, кажется, даже в Европе, достойно оценил его. В Одессе Пушкин писал много, и произведения его становились со дня на день своеобразнее; читал он ещё более. Там же написал три первые главы «Онегина». Он горячо взялся за него и каждый день им занимался. Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели. Приятели часто заставали его, то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа. Одесская осень благотворно действовала на его занятия. Надо заметить, это время года, всегда ненастное, приносило ему вдохновение; что же он чувствовал на юге, где всё влияние осени отзывалось в его душе, а сверх того он видел ясное небо, дышал тёплым, чистым воздухом.
В 1824 году Пушкин был принуждён оставить Одессу и поселиться в Псковской губернии, в деревне своей матери. Перемена ли образа жизни, естественный ли ход усовершенствования, но дело в том, что в сём уединении талант его видимо окрепнул и, если можно так выразиться, освоеобразился. С этого времени все его сочинения получили печать зрелости. Здесь он написал «Цыганов», несколько глав «Онегина», множество мелких стихотворений и, наконец, «Бориса Годунова».
В двух верстах от его деревни находится село Тригорское, неоднократно воспетое и им, и Языковым20. Оно принадлежит П. А. Осиповой, которая там жила и живёт поныне со своим семейством. Добрая, умная хозяйка и милые её дочери с избытком заменили Пушкину все лишения света. Он нашёл тут всю заботливость дружбы и все развлечения, всю приятность дружбы. Вскоре Тригорское и Михайловское оживились с приездом сына П. А. Осиповой и поэта Языкова. Пушкин его очень любил как поэта и был в восхищении от его знакомства. Языков приехал на поэтический зов Пушкина:
Издревле сладостный союз и пр.Потом он был обрадован приездом своего друга барона Дельвига. Более никого или почти никого Пушкин не видал во всё время своей деревенской жизни21. Сношения его с Петербургом шли своим чередом: он получал оттуда книги, журналы и письма. В это время началась его переписка с П. А. Плетнёвым, который взялся быть издателем его сочинений. Они в то время лично были почти незнакомы, но впоследствии их сношения кончились тесною дружбой. В досужее время Пушкин много ходил и ездил верхом, а вечером любил слушать русские сказки и тем – говорил он – вознаграждал недостатки французского воспитания. Вообще образ его жизни довольно походил на деревенскую жизнь Онегина. Зимою он, проснувшись, погружался в ванну со льдом, а летом отправлялся к бегущей под горой реке, так же играл в два шара на бильярде, так же обедал поздно и довольно прихотливо. Вообще он любил передавать своим героям собственные вкусы и привычки. Нигде он так не выразился, как в описании Чарского (см. «Египетские ночи»). В это время появилась первая глава «Онегина». Журналы или молчали, или отзывались о ней легко и равнодушно. Пушкин не понимал такого приёма сочинению, которое ставил гораздо выше прежних, удостоенных похвал, не только внимания. Впоследствии он должен был привыкнуть ко вкусу критиков и публики. «Борис Годунов», «Полтава», все русские сказки были приветствуемы то бранью, то насмешками. Когда появилась его шутка «Домик в Коломне», то публика увидела такой упадок его таланта, что никто из снисходительного приличия не упоминал при нём об этом сочинении».
З огляду на те, що вище було наведено аутентичні документи і матеріали самого Олександра Сергійовича Пушкіна про його ставлення до царя Миколи І, немає потреби наводити останні два рядки спогадів, запозичених у дещо заляканого «Його величністю Миколою Палкіним» молодшого брата геніального й сміливого поета-громадянина.
Тепер останнє свідчення про фактичного побратима Шевченка – і не тільки поетичного – Олександра Сергійовича Пушкіна. Воно належить відомому російському літераторові ХІХ століття Петру Андрійовичу Вяземському22.
Автор кілька разів бачився із засланим на Південь країни опальним поетом. У примітках же, що належать видавцям досить солідного й цінного видання спогадів, присвячених Олександру Сергійовичу, матеріали, що наводитимуться нижче, характеризуються таким чином: «Безвестный прапорщик генерального штаба Фёдор Николаевич Лугинин (1805 – 1884) с 15 мая по 19 июня 1822 года находился на топографической съёмке в Бессарабской области. К этому времени относится его кратковременное знакомство с Пушкиным, отражённое в дневниковых записях. Из этих записей, скупо фиксирующих встречи с Пушкиным в метрополии, городском саду или на вечерах у местных жителей, лишь одна, приводимая нами, представляет существенный интерес и по непосредственному своему содержанию, и потому, что сделана под свежим впечатлением признаний самого Пушкина».
Наводимо цей запис:23
«15 июня 1822.
Вечером был в саду довольно поздно, застал Катаржи24 и Пушкина, с обоими познакомились покороче – и опять дрались на эспадронах с Пушкиным; он дерётся лучше меня и, следственно, бьёт. Из саду были у Симфераки25, и тут мы уже хорошо познакомились с Пушкиным. Он выпущен из Лицея, имеет большой талант писать. Известные сочинения его – «Ode sur la liberte»26, «Людмила и Руслан», также «Чёрная шаль»; он много писал против правительства и тем сделал о себе много шуму, его хотели сослать в Сибирь или в Соловецкий монастырь, но государь простил его, и как он прежде просился ещё в Южную Россию, то послали его в Кишинёв с тем, чтобы никуда не выезжал. В первый раз приехал он сюда с обритой головой и уже успел ударить в рожу одного молдавана. Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем27, который главный распространяет эти слухи. Как у него нет никого приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом, если этой зимой буду в Москве»28.
Сучасники про Пушкіна
І. І. Пущін. «Записки о Пушкине»
Близьким товаришем дитячих та юнацьких років усього, щоправда, зовсім недовгого життя Пушкіна був Іван Іванович Пущін29, якому Олександр Сергійович присвятив широковідоме послання в Сибір, куди було заслано активного декабриста, і який написав спогади, що повністю побачили світ, коли нарешті здійснилися найзаповітніші мрії двох близьких друзів.
Зосередимося переважно на пізніших сюжетах, висвітлюваних Пущіним понад два десятиліття після того, як загинув Олександр Сергійович. Та спочатку відзначимо, що свої зворушливі спогади І. І. Пущін присвятив Є. І. Якушкіну – синові діяльного декабриста Івана Дмитровича Якушкіна30.
«Как быть! – починав Пущін свої спогади. – Надобно приниматься за старину. От вас, любезный друг, – писав він декабристському нащадку, – от вас молчком не откладешься – и то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нём, при первых наших встречах… Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ.
Собираясь теперь проверить с некоторою отчётливостью мой рассказ, я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее мой дневник, который продолжал с лишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное, вышли бы некоторые заветные мелочи – печать того времени. Не знаю почему, тогда мне показалось, что нескромно вынимать из тайника сердца заревые его трепетания, волнения, заблуждения и верования! Теперь самому любопытно бы было взглянуть на себя, тогдашнего, с тогдашнею обстановкою; но дело кончено; тетради в печке, и поправить беды невозможно.
Впрочем, вы не будете тут искать исторической точности; прошу смотреть без излишней взыскательности на мои воспоминания о человеке мне близком с самого нашего детства. Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ.
Невольным образом в этом рассказе замешивается и моя личность, прошу не обращать на неё внимания…
В мае (1817) начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской семьёй была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивою незнакомою далью. Кто не спешил, в тогдашние наши годы, соскочить со школьной скамьи, но наша скамья была так заветно-приветлива, что невольно даже при мысли о наступающей свободе оглядывались мы на неё. Время проходило в мечтах, прощаниях и обетах, сердце дробилось!
Судьба на вечную разлуку, Быть может, породила нас!31Наполнялись альбомы и стихами и прозой. В моём остались стихи Пушкина… Дельвига32:
Прочти сии набранные строки С небрежностью на памятном листке Как не узнать поэта по руке? Как первые не вспомянуть уроки И не сказать при дружеском столе: «Друзья, у нас есть друг в Хороле!»А. А. Дельвіг – поет пушкінської доби, соратник Олександра Сергійовича Пушкіна
Дельвиг после выпуска поехал в Хорол, где квартировал отец его, командовавший бригадою во внутренней страже.
Илличевского33 стихов не могу припомнить: знаю только, что они все кончались рифмой на Пушкин. Это было очень оригинально. К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и изрисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через тридцать два года со всеми положенными мною рукописями.
9 июня был акт.
В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас был должен ехать в деревню к родным; я уже не застал его, когда приехал в Петербург.
Снова мы встретились с ним осенью, уже в гвардейском конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября, между тем как товарищи наши, поступившие на гражданскую службу, в июне же получили назначение, в том числе Пушкин поступил в коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.
Нова зустріч з О. С. Пушкіним після його чергового заслання в Михайлівське
Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою занимательность. Пока он жил и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так распорядились моей судьбой! Ещё в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьёвы (Александр и Михаил), Бурцов, Павел Колошин и Семёнов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком; я сдружился с ним, почти жил в нём. Бурцов, которому я больше выказывался, нашёл, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял меня и Вольковского, который поступил в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.
Эта высокая цель жизни самою своею таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла в душу мою; я как будто получил особенное значение в собственных своих глазах: стал занимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное своё действие.
Первая моя мысль была открыться Пушкину, он всегда со мною много мыслил о деле общем (res publika), по-своему проповедовал в нашем смысле – и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастию ли его или к несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлёк бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежащую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадёжными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью, и даже несколько лет спустя объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружён многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.
Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и стал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет…» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов.
Нечего говорить о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором была устроена его будка, и побежал в сад, где мог встретиться в тёмной аллее с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерёг бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблён, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: «Нашёлся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время – по Неве идёт лёд». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта – вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие своё развитие; следовательно, и тут далее некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно (?) содействовал.
Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям34, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышёва, Киселёва и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдёшь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнёт щекотать, обнимать, что обычно делал, когда потеряется. Потом смотришь – Пушкин опять с тогдашними Львами! (Анахронизм: тогда не существовало ещё этого аристократического прозвища. Извините!)
Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его, знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно из дружбы к нему желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял своё призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.
Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчания, что я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но, при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые по их положению в свете могли волею и неволею набрасывать на него некоторым образом тень.
Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдёт он ко мне. Вместо «здравствуй», я его спрашиваю: «От неё ко мне или от меня к ней?» Уж это надо вам объяснять, если принялся болтать…
Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева35, где тогда собирались все желающие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочими, были Куницын36 и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берёт меня за плечо. Оглядываюсь – Пушкин. «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», – шепнул он мне на ухо и прошёл дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигаретки и сели в уголок.
– Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, что ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашёл сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!
Мне и на этот раз было легко без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем, это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Stael «Considerations sur la Revolution Francaise»37 и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из неё. Тут же пригласил меня в тот же вечер быть у него, – вот я и здесь!»
Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я и в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть моё предложение. Между тем, тут же невольно являлся вопрос: почему никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об этом? Значит, их останавливало то же, что меня пугало; образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.
Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и всё высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре мне случилось встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.
– Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?
– Вы когда его видели?
– Несколько дней тому назад у Тургенева.
Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.
– Je n’ai rien de mieux a faire que de me mettre en quatro pour retablir la reputation la mon cher fils38. Видно, вы же знаете последнюю его проказу.
Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.
– Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить.
Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.
Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела своё впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своём быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла ещё пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не в праве действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза.
После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно розный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом манёвры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Всё это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.
В генваре 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишинёве и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояску, в поярковой шапке. (Время было жаркое.) Я тут ровно ничего не понимал: живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило.
В Могилёве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить об нём, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле39. Всё это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там после служебных формальностей я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное время пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, полицеймейстер приказал ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему:
– Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдёте того, что ищете. Лучше велите мне дать перо и бумаги, я здесь же всё вам напишу. (Пушкин понял, в чём дело.)
Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул:
– Ah, c’est chevaleresque40, – и пожал ему руку.
Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.
Вот всё, что я дознал в Петербурге. Еду потом к Энгельгардту41, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.
Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царём и не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.
– Энгельгардт, – сказал ему государь, – Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела.
Директор на это ответил:
– Воля вашего величества, но вы мне простите, если позволите, я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нём развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже – краса современной нашей литературы, а впереди ещё большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его.
Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний Южного края. Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только раз ещё повидаться, и то не прежде 1825 года.
В промежутке этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии;
с ним Пушкин переехал из Екатеринослава в Кишинёв, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я, между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда своё значение.
Князь Юсупов42 (во главе тех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова43: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я – надворный судья.
– Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное.
Юсупов – не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве!
В 1824 году в Москве точно узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорчённые несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Всё это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырёх верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу ещё сложнее, нисколько не разрешая её.
С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с ним, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж её командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на двадцать дней в Петербургскую и Псковскую губернии. Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-либо поручений к Пушкину, потому что я в генваре буду у него?
– Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором – и полицейским и духовным?
– Всё это знаю; но также знаю, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста вёрстах. Если не пустят к нему, уеду назад.
– Не советовал бы; впрочем, делайте, как знаете, – прибавил Тургенев.
Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я и от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.
Как сказано, так и сделано.
Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от неё вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки «клико» и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому просёлку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.
Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, всё лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу неочищенного двора…
Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, и не думал о заиндевевшей шубе и шапке.
Всё это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышал колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч., и проч. Во всём поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожжённые кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери – дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев. После первых наших обниманий пришёл и Алексей, который в свою очередь кинулся целовать Пушкина: он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и сколько-нибудь оправиться.
Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как всё это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и проч. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее: много надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.
Вообще Пушкин показался мне несколько серьёзнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же весёлость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему ещё не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всём проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: и не было конца неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашёл, что он тогда был очень похож на тот портрет, который тогда видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым44.
Пушкин сам не знал причины его удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности: думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии.
Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и поэтому я его просил оставить эту статью, тем более, что все наши толкования ни к чему не вели, а отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.
Среди разговора ex abrupto45 он спростил меня, что об нём говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а его брат Лёвушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своём значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренне, чтоб скорее кончилось его изгнание.
Он нетерпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут хотя невольно, но всё-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живёт в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда был среди нас стенограф.
Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19-го октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и моё судейство:
И ныне здесь в забытой сей глуши, В обители пустынных вьюг и хлада Мне сладкая готовилась отрада, — Поэта дом опальный. О Пущин мой, ты первый посетил, Ты усладил изгнанья день печальный, Ты в день его Лицея превратил, Ты освятил тобой избра́нный сан, Ему в общественного мненья Завоевал почтение граждан.Незаметно коснулись опять подозрений насчёт общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул:
– Верно, всё это в связи с майором Раевским46, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать. – Потом, успокоившись, продолжал: – Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою – по многим моим глупостям.
Молча и крепко расцеловав его, мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть.
Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличающуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порождённым исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, я и боялся оскорбить его какимнибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего не нужно было: я, в свою очередь, моргнул ему, и всё было понятно без всяких слов47.
Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, – начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нас. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искромётным няню, а всех других хозяйскою наливкой. Всё домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.
Я привёз Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкою кофе, он начал читать её вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые впрочем потом частию получились в печати.
Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошёл в комнату низенький рыжебородый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.
Я подошёл под благословение. Пушкин – тоже, прося его сесть. Монах начал извинением, что, может быть, помешал, но потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал увидеть знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моём приезде и что монах хитрил.
Хотя посещение было вовсе некстати, но я всё-таки хотел faire bonne mine a mauvais jeu48 и старался уверить его в противном: объяснил, что я Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишинёве, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сём. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.
Я рад был, что мы избавились (от) этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал свою досаду, что накликал это посещение.
– Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре.
Тут Пушкин, как ни в чём не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал это выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.
Потом он мне прочёл кое-что своё, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыгане» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».
Время не стояло. К несчастию, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутьё, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы – хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в затопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.
Всё это неприятно на меня подействовало не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, – подумал я, – хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!» В зале был биллиард; это могло бы служить для него развлеченьем. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, моё ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономить дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он один иногда играл в два шара на биллиарде. Ведь не летом же этим он забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.
Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить. На прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы ещё чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьём на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин ещё что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Двери скрипнули за мною…
Один з найдорогоцінніших скарбів сибірського засланця І. І. Пущіна
Сцена переменилась.
Я осужден: 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился, наконец, с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог49. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьёва50 и отдаёт листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:
Мой первый друг, мой друг бесценный! И я судьбу благословил, Когда мой двор уединённый, Печальный, снегом занесённый, Твой колокольчик огласил. Молю святое провиденье: Да голос мой души твоей Дарует то мне утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней. Псков, 13-го декабря 1826.Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог его обнять, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла моё чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось.
Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого пред самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла наконец исполнить порученное поэтом. По приезде моём в Тобольск в 1839 году я послал эти стихи к Плетнёву51; таким образом были они напечатаны; а в 1842-м брат мой отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ.
В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все современные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нём некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи – «19 октября 1827 года»:
Бог помочь вам, друзья мои, В заботах жизни, царской службы. И на пирах разгульной дружбы, И в сладких таинствах любви! Бог помочь вам, друзья мои, И в счастье, и в житейском горе, В стране чужой, в пустынном море И в тяжких пропастях земли!И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребённых, которых они не досчитывали на лицейской сходке.
Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него. Всё это вместе, по моим понятиям об нём, не обещало упрочить его счастье.
Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль – там, на нашем западе, всё шло тем же тяжёлым ходом. Мы, грешные люди, стояли как повёрстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении…
Между тем у нас с течением времени, силою самих обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с Европейской Россией – кой-когда доходили до нас не одни газетные известия. Таким образом в генваре 1837 года возвратившийся из отпуска наш плац-адъютант Розенберг зашёл в мой четырнадцатый номер. Я искренно обрадовался и забросал его вопросами о родных и близких, которых ему случалось видеть в Петербурге. Отдав мне отчёт на мои вопросы, он с какой-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя; где он с ним встретился?
как он поживает? и проч. Розенберг выслушал меня в раздумье и наконец сказал:
– Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего отъезда из Петербурга.
Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба – ошеломил меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце52. Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме – во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина – об общей нашей потере, но в итоге выходило одно – что его не стало и что не воротить его.
Провидение так решило: нам остаётся смиренно благоговеть пред его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем, оно слишком связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня далёкого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особого отвращения об них слышать, меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов.
Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы я привлёк его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?»
Вопрос дерзкий, но мне, может быть, простительный! – Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены тайного нашего общества; видели, что уже почти на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта пустая и ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием… Только после смерти его все эти, по-видимому, ничтожные обстоятельства, приняли в глазах моих вид явного действия, промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России.
Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не совсем иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.
Характеристическая черта гения Пушкина – разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо него, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решётки, а о жизни людей разве только слышать.
Пушкин, при всей своей восприимчивости, никак не нашёл бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать – капризном, существе.
Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает, и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех, умеющих отыскивать его живого, в бессмертных его творениях…
Ещё пара слов:
Манифестом 26 августа 1856 года я возвращён из Сибири. В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провёл с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке. В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин поблагодарил её за участие, извинялся, что не может её принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского!53
Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошёл до меня с лишком через 20 лет!..
Им кончаю и рассказ мой54».
НАЙВАГОМІШИЙ ІСТОРИЧНИЙ ТВІР О. С. ПУШКІНА
Йдеться про прозовий твір поета про минуле – «История Пугачёва»55, присвячений одній з найбільших постатей визвольного народного руху проти російського самодержавства. У «Передмові» до нього поет розповів про копітку працю над ним та вимоги, які він ставив перед собою, джерела, котрими він користувався як професійний дослідник минулого.
Зрозуміло, що не можна навести всієї скрупульозної та об’ємної історичної праці Пушкіна. Зупинимось лише на декотрих завданнях, які ставив перед собою її автор, сповістимо про ретельні пошуки у безпосередніх місцях повстання, де збереглися спогади й легенди про селянський рух та діяльність самого Омеляна Івановича Пугачова, а також наведемо загальні висновки, до яких прийшов сам автор дослідження.
Предисловие
«Сей исторический отрывок, – писав О. С. Пушкін, – составлял часть труда, мною составленного. В нём собрано всё, что было обнародовано правительством касательно Пугачёва, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нём. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых.
Дело о Пугачёве, доныне нераспечатанное, находилось в государственном санктпетербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайными государственными, ныне превращёнными в исторические материалы. Государь император по своём восшествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило.
Будущий историк, которому позволено будет распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд – конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства».
Який шлях і яку методу обрав О. С. Пушкін для донесення історичної правди
Самий намір звернутись до історії народної боротьби за волю зустрічав незадоволення й осуд не лише офіційних урядових, але й незмінної їх опори – клерикальних кіл.
Полемізуючи з ними, О. С. Пушкін вдався до єдино можливого в умовах царювання Миколи І розкриття позиції урядовців і клерикалів – свідчення їх неспроможності. Своєрідним знаряддям цього став епіграф до праці, що містив звернення до її змісту:
«Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождений не только самому посредственнейшему, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли было бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачёв (думаю) подробностей оных не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили».
Архимандрит Платон ЛюбарскийИСТОРИЯ ПУГАЧЁВА
Глава первая
Місцевості, де діяв Пугачов
Яик, по указу Екатерины ІІ переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему его название; течёт к югу вдоль их цепи, до того места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость; тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, протёкши более двух тысяч пятисот вёрст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии; справа примыкают к нему заволжские степи; слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племён, известных у нас под именем киргиз-кайсаков. Его течение быстро; мутные воды наполнены рыбою всякого рода; берега большею частию глинисты, песчаные и безлесные, но в местах поемных удобные для садоводства. Близ устья оброс он высоким камышом, где кроются кабаны и тигры.
Розвиток, звичаї та заняття російського козацтва
На сей-то реке, в пятнадцатом столетии, явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали на её берегах, в то время ещё покрытых лесом и безопасных по своему уединению; весною снова пускались в море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Подаваясь всё вверх с одного места на другое, наконец они избрали местом своего проживания урочище Коловратное в шестидесяти верстах от нынешнего Уральска.
В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но в последствии времени вошли в дружелюбные сношения: казаки стали получать жён из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание: казаки, страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жён бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов, по имени Гугня, первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. Доныне просвещённые и гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гугнихи.
Живя набегами, окружённые неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствование Михаила Фёдоровича послали от себя в Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик от вершины до устья, дозволя им набираться на житьё вольными людьми.
Число их час от часу умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Яик и на Дон увещевательные грамоты.
Казаки на лодках, ещё нагруженных добычею, поехали Волгою в Нижний Новгород; оттоле отправились в Москву, явились ко двору с повинною головою, каждый неся топор и плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу, заслуживать там свои вины; а на Яик посланы были стрельцы, в последствии времени составившие с казаками одно племя.
Степан Тимофійович Разін відвідує нові козацькі землі
Стенька Разин посетил яицкие жилища. По свидетельству летописей, казаки приняли его как неприятеля. Городок их был взят сим отважным мятежником, а стрельцы, там находившиеся, побиты или потоплены…
Глава вторая
В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому и принимаясь за всякие ремёсла. Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Иргизские скиты; оттуда в конце 1772 года послан был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостию своих речей, поносил начальство и подговаривал бежать в области турецкого султана; он уверял, что и донские казаки не замедлят за ним последовать, что у него на границе заготовлено двести тысяч рублей и товару на семьдесят тысяч, и что какой-то паша, тотчас по приходу казаков, должен им выдать до пяти миллионов; покамест обещал он каждому по двенадцати рублей в месяц жалованья. Сверх того, сказывал он, будто бы противу яицких казаков из Москвы идут два полка, и что около Рождества или Крещения непременно будет бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и представить как возмутителя в комендантскую канцелярию; но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Малыковке (что ныне Волжск) по указанию крестьянина, ехавшего с ним одною дорогою. Сей бродяга был Емельян Пугачёв, донской казак и раскольник, пришедший с ложным письменным видом из-за польской границы, с намерением поселиться на реке Иргизе, посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в Казань; и как всё, относящееся к делам яицкого войска, по тогдашним обстоятельствам могло казаться важным, то оренбургский губернатор и почёл за нужное уведомить о том Государственную коллегию от 18 января 1773 года.
Яицкие бунтовщики были тогда не редки, и казанское начальство не обратило большого внимания на присланного преступника. Пугачёв содержался в тюрьме не строже других невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он под стражею двух гарнизонных солдат ходил по городу для собирания милостыни. У Замочной Решётки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка. Пугачёв подошёл к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших; другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал по городу. Это случилось 19 июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было утверждённое в Петербурге решение суда, по коему Пугачёв приговорён к наказанию плетьми и к ссылке в Пелым на каторжную работу.
Пугачёв явился на хуторах отставного казака Данилы Шелудякова, у которого жил он прежде в работниках. Там производились тогда совещания злоумышленников.
Сперва дело шло о побеге в Турцию; мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Иоанновны Игнатий Некрасов успел привести её в действие и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их доныне живут в турецких областях, сохраняя на чуждой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во время последней турецкой войны они дрались противу нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже переплывшему Дунай на запорожской лодке; так же как остаток Сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились под владычество законного своего государя.
Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к своим богатым родимым берегам. Они, вместо побега, положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надёжною пружиною. Для сего нужен был только пришлец дерзкий и решительный. Выбор их пал на Пугачёва. Им не трудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себе сообщников.
Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодника во все места, где мог он укрываться. Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были посланы для поимки Пугачёва, но не имели в этом успеха: Пугачёв и его главные сообщники спасались от поиска, переходя с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку. Между тем разнеслись странные слухи… Многие казаки были взяты под стражу. Схватили Михаила Кожевникова, привели в комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него следующие важные показания:
В начале сентября находился он на своём хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть её на своём хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в тот же вечер возвратился с Тимофеем Мясниковым и с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Чёрная борода его начинала седеть.
Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружён винтовкою. Зарубин и Мясников поехали в город для повестки народу, а незнакомец, оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Пётр III, что слухи о смерти его были ложны, что он при помощи караульного офицера ушёл в Киев, где скрывался около года; что потом был в Цареграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны; что оттуда явился он на Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобождён верными казаками; что в прошлом году находился он на Иргизе и в Яицком городке, где он был пойман и отвезён в Казань, что часовой, подкупленный за семьсот рублей неизвестным купцом, освободил его снова; что после подъезжал он к Яицкому городку, но узнав от одной женщины о строгости, с каковою ныне требуются и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, по коей скитался несколько времени, пока наконец с Таловинского умета взят Зарубиным и Мясниковым и привезён к Кожевникову. Высказав нелепую новость, стал объяснять свои предположения. Он намерен был обнаружить себя по выступлению казацкого войска на плавню (осеннее рыболовство), во избежание супротивления со стороны гарнизона и напрасного кровопролития. Во время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать атамана, идти прямо на Яицкий городок, овладеть им и учредить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно не дошло о нём известия. В случае же неудачи думал он броситься в Русь, увлечь её всю за собою, повсюду поставить новых судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им многая неправда) и возвести на престол великого князя. Сам же я, говорил он, уже царствовать не желаю. Пугачёв на хуторе Кожевникова находился три дня; Зарубин и Мясников приехали за ним и увезли его на Усихину Россошь, где и намерен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коновалов и Кочуров проводили его.
Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пугачёв с Будоринского форпоста пришёл под Яицкий городок с толпою, из трёхсот человек состоявшею, и остановился в трёх верстах от города, за рекою Чаганом.
В городе всё пришло в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников. Симонов выслал противу Пугачёва пятьсот казаков, подкреплённых пехотою и с двумя пушками под начальством майора Наумова. Двести казаков при капитане Крылове отряжены были вперёд. К ним выехал навстречу казак, держа над головой возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтобы письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошёл мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону самозванца и потащила за собою пятьдесят верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своём отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные казаки приведены были к Пугачёву, и одиннадцать из них по приказанию его повешены… На другой день Пугачёв приблизился к городу; но при виде выходящего противу него войска стал отступать, рассыпав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбунтоваться. Он донёс обо всём оренбургскому губернатору генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от него лёгкого войска для преследования Пугачёва. Но прямое сообщение с Оренбургом было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губернатора не прежде, как через неделю.
С шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачёв пошёл прямо к Илецкому городку и послал начальствовавшему в нём атаману Портнову повеление – выйти к нему навстречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, были все староверцы), реками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом, и вечною вольностию, угрожая местиею в случае непослушания. Верный своему долгу атаман думал сопротивляться; но казаки связали его и приняли Пугачёва с колокольным звоном и с хлебом-солью. Пугачёв повесил атамана, три дня праздновал победу и, взяв с собою всех илецких казаков и городские пушки, пошёл на крепость Рассыпную.
Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окружённые плетнём или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков, под защитою двух или трёх пушек, были в них безопасны от стрел и копий диких племён, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около её границ. 24 сентября Пугачёв напал на Рассыпную. Казаки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант майор Веловский, несколько офицеров и один священник были повешены, а гарнизонная рота и полтораста казаков присоединены к мятежникам.
Слух о самозванце быстро распространялся. Ещё с Будоринского форпоста Пугачёв писал к киргиз-кайсакскому хану, именуя себя государем Петром III и требуя от него сына в заложники и ста человек вспомогательного войска. Нурали-хан подъезжал к Яицкому городку под видом переговоров с начальством, коему предлагал он свои услуги. Его благодарили и отвечали, что надеются управиться без его помощи. Хан послал оренбургскому губернатору татарское письмо самозванца с первым известием о его появлении. «Мы, люди, живущие на степях, – писал Нурали к губернатору, – не знаем, кто, сей разъезжающий по берегу; обманщик или настоящий государь? Посланный от нас воротился, объявив, что того разведать не мог, и что борода у того человека русая». При сём, пользуясь обстоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из орды рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что кончина Петра III известна всему свету, что сам он видел во гробе и целовал его мёртвую руку. Он увещевал хана в случае побега самозванца в киргизские степи, обещая за то милость императрицы. Прошения хана были исполнены. Между тем Нурали вошёл в дружеские сношения с самозванцем, не переставая уверить Рейнсдорпа в своём усердии к императрице, а киргизцы стали готовиться к набегам.
Заходи губернатора Рейнсдорпа проти повсталих безславно провалюються
Вслед за известием хана получено было в Оренбурге донесение яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре пришло и донесение Веловского о взятии Илецкого городка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению возникающего зла. Он предписал бригадиру Билову выступить из Оренбурга с четырьмястами солдат пехоты и конницы и с шестью полевыми орудиями и идти к Яицкому городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей. Командиру Верхне-Озёрной дистанции бригадиру барону Корфу велел как можно скорее идти к Оренбургу, подполковнику Симонову отрядить майора Наумова с полевой командой и казаками для соединения с Биловым; ставропольской канцелярии велено было выслать к Симонову пятьсот вооружённых калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться как можно скорее и в числе тысячи человек идти навстречу Наумову. Ни одно из сих распоряжений не было исполнено. Билов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озёрную, но, в пятнадцати верстах от оной, услышав ночью пушечные выстрелы, отступил. Рейнсдорп вторично приказал ему спешить на поражение бунтовщиков; Билов не послушался и остался в Татищевой. Корф отговаривался от похода под различными предлогами. Вместо пятисот вооружённых калмыков не собралось их и трёхсот, и те бежали с дороги. Башкирцы и татары не слушались предписания. Майор же Наумов и войсковой старшина Бородин, выступив из Яицкого городка, шли издали по следам Пугачёва и 3 октября прибыли в Оренбург степною стороною с донесением об одних успехах самозванца.
Из Рассыпной Пугачёв пошёл на Нижне-Озёрную. По дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Веловскому комендантом Нижне-Озёрной майором Харловым. Пугачёв его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачёва, Харлов… приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачёву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Ночью на 26 сентября вздумал он, для их одобрения, палить из двух своих пушек, и сии-то выстрелы испугали Билова и заставили его отступить. Утром Пугачёв показался перед крепостию. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, – сказал ему старый казак, – неравно из пушки убьют». – «Старый ты человек, – отвечал самозванец, – разве пушки льются на царей?» – Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного её защитника и изранили его. Полумёртвый, он думал от них откупиться и повёл их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачёв, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьём, висел у него на щеке. Пугачёв велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кавалера, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон стал просить за своего доброго командира; но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай взошёл на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю56.
На другой день, Пугачёв выступил и пошёл на Татищеву57.
В сей крепости начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом Билова, искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сентября Пугачёв показался на высотах, её окружающих. Все жители видели, как он расставил там свои пушки и сам направил их на крепость. Мятежники подъехали к стенам, уговаривая гарнизон – не слушаться бояр и сдаться добровольно. Им отвечали выстрелами. Они отступили. Бесполезная пальба продолжалась с полудня до вечера; в то время скирды сена, находившиеся близ крепости, загорелись, подожжёные осаждавшими. Пожар быстро достигнул деревянных укреплений. Солдаты бросились тушить пожар. Пугачёв, пользуясь смятением, напал с другой стороны. Крепостные казаки ему передались. Раненый Елагин и сам Билов оборонялись отчаянно. Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшему казнию её родителей. Пугачёв был поражён её красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для неё семилетнего её брата. Вдова майора Веловского, бежавшая из Рассыпной, также находилась в Татищевой: её удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены показацки и присоединены к мятежникам. Тринадцать пушек достались победителям.
Известия об успехах Пугачёва приходили в Оренбург одно за другим. Едва Веловский успел донести о взятии Илецкого городка, уже Харлов доносил о взятии Рассыпной; вслед за тем Билов из Татищевой извещал о взятии Ново-Озёрной; майор Крузе из Чернореченской, о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец (28 сентября) триста человек татар, насилу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Билова и Елагина. Рейнсдорп, испуганный быстротою пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников, и следующие меры были им утверждены:
1. Все мосты через Сакмару разломать и пустить вниз по реке.
У польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их в Троицкую крепость под строжайшим присмотром. (Показове свідчення антиімперської спрямованості противників Катерини ІІ. – Автори.)
2. Разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение обер-коменданту, генерал-майору Валленштерну; прочим находиться в готовности в случае пожара и быть под начальством таможенного директора Обухова.
3. Сентовских татар перевести в город.
4. Артиллерию отдать в распоряжение действительному статскому советнику Старову-Милюкову, служившему некогда в артиллерии.
Сверх того Рейнсдорп, думая уже о безопасности самого Оренбурга, приказал оберкоменданту исправить городские укрепления и привести в оборонительное состояние.
Гарнизонам же малых крепостей, ещё не взятых Пугачёвым, велено было идти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и порох.
Из Татищевой, 29 сентября, Пугачёв пошёл на Чернореченскую. В сей крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта, майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без сопротивления. Пугачёв повесил капитана по жалобе крепостной его девки.
Пугачёв, оставя Оренбург вправе, пошёл к Сакмарскому городку, коего жители ожидали его с нетерпением. 1-го октября, из татарской деревни Каргале, поехал он туда в сопровождении нескольких казаков. Очевидец описывает его прибытие следующим образом:
«В крепости у станичной избы постланы были ковры и поставлен стол с хлебом и солью. Поп ожидал Пугачёва с крестом и с святыми иконами. Когда въехал он в крепость, начали звонить колокола; народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади, при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился к кресту, хлеб и соль поцеловал и, сев на уготовленный стул, сказал: «Вставайте, детушки». Потом все целовали его руку. Пугачёв осведомился о городских казаках. Ему отвечали, что иные на службе, другие с их атаманом, Данилом Донским, взяты в Оренбург, и что только двадцать человек оставлены для почтовой гоньбы, но и те скрылись. Он обратился к священнику и грозно приказал ему отыскать их, промолвя: «Ты поп, так будь и атаман; ты и все жители отвечаете мне за них своими головами». Потом поехал он к атаманову отцу, у которого был ему приготовлен обед. «Если б твой сын был здесь, – сказал он старику, – то наш обед был бы высок и честен: но хлеб-соль твоя помрачилась. Какой он атаман, коли место своё покинул?» – После обеда, пьяный, он велел было казнить хозяина; но бывшие при нём казаки упросили его; старик был только закован и посажен на одну ночь в станичную избу под караул. На другой день сысканные казаки представлены были Пугачёву. Он обошёлся с ними ласково и взял с собою. Они спросили его: сколько прикажет взять припасов? «Возьмите, – отвечал он, – краюшку хлеба; вы проводите меня только до Оренбурга». В сие время башкирцы, присланные от оренбургского губернатора, окружили город. Пугачёв к ним выехал и без бою взял всех в своё войско».
В тридцати верстах от Сакмарского городка находилась крепость Пречистенская. Лучшая часть её гарнизона была взята Биловым на походе его к Татищевой. Один из отрядов Пугачёва занял её без сопротивления. Офицеры и гарнизон вышли навстречу победителям. Самозванец по своему обыкновению принял солдат в своё войско и в первый раз оказал позорную милость офицерам.
Пугачёв усиливался: прошло две недели со дня, как явился он под Яицким городком с горстью бунтовщиков, и уж он имел до трёх тысяч пехоты и конницы. Семь крепостей были им взяты или сдались ему. Войско его с часу на час умножалось неимоверно.
Он решился пользоваться счастием и 3 октября, ночью, под Сакмарским городком перешёл реку через мост, уцелевший вопреки распоряжением Рейнсдорпа, и потянулся к Оренбургу58.
Глава третия
Оренбургские дела принимали худой оборот. С часу на час ожидали общего возмущения яицкого войска, башкирцы, взволнованные своими старшинами (которых Пугачёв успел задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцев), начали нападать на русские селения и кучами присоединяться к войску бунтовщиков. Служивые калмыки бежали с форпостов. Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно оказывали свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии пришли в опасное колебание.
Губернаторы, казанский – фон Брандт, сибирский – Чичерин и астраханский – Кречетников, вслед за Рейнсдорпом, известили государственную Военную коллегию о яицких происшествиях. Императрица с беспокойством обратила внимание на возникающее бедствие. Тогдашние обстоятельства сильно благоприятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены в Турцию и в волнующуюся Польшу. Строгие меры, принятые по всей России для прекращения недавно свирепствовавшей чумы, производили в черни общие негодования. Рекрутский набор усиливал затруднения. Повелено было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга, Новгорода и Бахмута следовать в Казань. Начальство над ними поручено генерал-майору Кару, отличившемуся в Польше строгим исполнением предписаний начальства. Он находился в Петербурге, при приёме рекрут. Ему велено было сдать свою бригаду генерал-майору Нащокину и спешить к местам, угрожаемым опасностию. К нему присоединили генерал-майора Фреймана, уже усмирявшего раз яицкое войско и хорошо знавшего театр новых беспорядков. Начальникам окрестных губерний велено было с их стороны делать нужные распоряжения. Манифестом от 15 октября правительствоо объявляло народу о появлении самозванца, увещевая обольщённых отстать заблаговременно от преступного заблуждения.
Обратимся к Оренбургу.
В сём городе находилось до трёх тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, между военными начальниками не было ни одного, знавшего своё дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачёву усилиться и лишили себя средств к наступательным действиям. Оренбург претерпел бедственную осаду, коей любопытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом59.
Несколько дней появление Пугачёва было тайною для оренбургских жителей, но молва о взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а поспешное выступление Билова подтвердило справедливые слухи. В Оренбурге оказалось волнение: казаки с угрозами роптали; устрашённые жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной сержант60, подосланный Пугачёвым. В допросе он показал, что имел намерение заколоть губернатора. В селениях около Оренбурга начали показываться возмутители. Рейнсдорп обнародовал объявление о Пугачёве, о коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. Оно было писано тёмным и запутанным слогом. В нём было сказано, что о злодействующем с яицкой стороны носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть; но что он в самом деле донской казак Емельян Пугачёв, за прежние преступления наказанный кнутом с поставлением на лице знаков. Сие наказание было несправедливо. Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете61.
Казалось, все меры, предпринимаемые Рейнсдорпом, обращались ему во вред. В оренбургском остроге содержался тогда в оковах злодей, известный под именем Хлопуши62. Двадцать лет разбойничал он в тамошних краях, трои раз ссылаем был в Сибирь и три раза находил способ уходить. Рейнсдорп вздумал употребить смышлёного каторжника и чрез него переслать в шайку Пугачёва увещевательнные манифесты. Хлопуша клялся в точности исполнить его препоручения. Он был освобождён, явился прямо к Пугачёву и вручил ему самому все губернские бумаги. «Знаю, братец, что тут написано», – сказал безграмотный Пугачёв и подарил ему полтину денег и платье недавно повешенного киргизца. Хорошо зная край, на который так долго наводил ужас своими разбоями, Хлопуша сделался ему необходим. Пугачёв наименовал его полковником и поручил ему грабёж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошёл по речке Сакмаре, возмущая окрестные селения, явился на Бугульчанской и Стерлитамакской пристанях и на уральских заводах и переслал оттуда Пугачёву пушки, ядра и порох, умножа свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев.
5 октября Пугачёв со своими силами расположился лагерем на казачьих лугах, в пяти верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперёд и под пушечными выстрелами поставил одну батарею на паперти церкви у самого предместия, а другую в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильною пальбою. В тот же день, по приказанию губернатора, предместие было выжжено. Уцелела только одна изба и Георгиевская церковь. Жители были переведены в город, и им обещано вознаграждение за весь убыток.
Начали очищать ров, окружающий город, а вал обносить рогатками.
Ночью около города запылали скирды заготовленного на зиму сена. Губернатор не успел перевезти оное в город. Противу зажигателей (уже на другой день утром) выступил майор Наумов (только что прибывший из Яицкого городка). С ним было тысяча пятьсот человек конницы и пехоты. Встреченный пушками, он перестреливался и отступил безо всякого успеха. Его солдаты робели, а казакам он не доверял.
Рейнсдорп собрал опять совет из военных и гражданских своих чиновников и требовал от них письменного мнения: выступить ли ещё противу злодея или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск? На сем совете действительный статский советник Старов-Милюков один объявил мнение, достойное военного человека: идти противу бунтовщиков. Прочие боялись новою неудачею привести жителей в опасное уныние и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорп.
8 октября мятежники выехали грабить Меновой двор63, находившийся в трёх верстах от города. Высланный противу их отряд прогнал их, убив на месте двести человек и захватив до ста шестнадцати. Рейнсдорп, желая воспользоваться сим случаем, несколько ободрившим его войско, хотел на другой день выступить противу Пугачёва, но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозможно: солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно, а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствия их измены были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорп не знал, что делать. Он коекак успел, однако ж, усовестить своих подчинённых, и 12 октября Наумов вывел опять из города своё ненадёжное войско.
Сражение завязалось. Артиллерия Пугачёва была превосходнее числом вывезенной из города. Оренбургские казаки с непривычки робели ядер и жались к городу, под прикрытие пушек, расставленных на валу. Отряд Наумова был окружён со всех сторон многочисленными толпами. Он выстроился в каре и начал отступать, отстреливаясь от неприятеля. Наумов убитыми, раненными и бежавшими потерял сто семнадцать человек.
Не проходило дня без перестрелок. Мятежники толпами разъезжали около городского вала и нападали на фуражиров. Пугачёв несколько раз подступал под Оренбург со всеми своими силами. Но он не имел намерения взять его приступом. «Не стану тратить людей, – говорил он сакмарским казакам, – а выморю город мором». Не раз находил он способ доставлять жителям возмутительные свои листы. Схватили в городе несколько злодеев, подосланных от самозванца: у них находили порох и фитили.
Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в сене. У войска и у жителей худые и к работе неспособные лошади были отобраны и отправлены частию к Илецкой защите или в Верхо-Яицкой крепости, частию в Уфимский уезд. Но в нескольких верстах от города лошади были захвачены бунтующими крестьянами и татарами, а казаки, гнавшие табун, отосланы к Пугачёву.
Осенняя стужа настала раньше обыкновенного. С 15 октября начались уже морозы; 16-го выпал снег. 18-го Пугачёв, зажегши свой лагерь, со всеми тяжестями пошёл обратно от Яика к Сакмаре и расположился под Бердскою слободою, близ летней сакмарской дороги, в семи верстах от Оренбурга. Оттоле разъезды его не переставали тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении. 2 ноября Пугачёв со всеми силами подступал опять к Оренбургу и, поставя около всего города батареи, открыл ужасный огонь. С городской стены отвечали ему тем же. Между тем человек тысяча из его пехоты, со стороны реки закравшись в погреба выжженного предместия, у самого вала и рогаток, стреляли из ружей и сайдаков. Сам Пугачёв ими предводительствовал. Егери полевой команды выгнали их из предместия. Пугачёв едва не попался в плен. Вечером огонь утих…
На другой день огонь возобновился, несмотря на стужу и метель. Мятежники в церкви разложили огонь, истопили избу, уцелевшую в выжженном предместии, и грелись попеременно. Пугачёв поставил пушку на паперти, а другую велел втащить на колокольню. В версте от города находилась высокая мишень, служившая целью во время артиллерийских учений. Мятежники устроили там свою главную батарею. Обоюдная стрельба продолжалась целый день. Ночью Пугачёв отступил, претерпев незначительный урон и не сделав вреда осаждённым. Утром из города были высланы невольники, под прикрытием казаков, срыть мишень и другие укрепления, а избу разломать. В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи. Оклады с икон были ободраны, напрестольные одеяния изорваны в лоскутья. Церковь осквернена была…
Стужа усилилась. 6 ноября Пугачёв с яицкими казаками перешёл из своего нового лагеря в самую слободу. Башкирцы, калмыки и заводские крестьяне остались на прежнем месте, в своих кибитках и землянках. Разъезды, нападения и перестрелки не прекращались. С каждым днём силы Пугачёва увеличивались. Войско его состояло уже из двадцати пяти тысяч; ядром оного были яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям; но около их скоплялось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьём, кто пистолетом, кто офицерскою шпагой. Иным розданы были штыки, натянутые на длинные палки; другие носили дубины; большая часть не имела никакого оружия. Войско было разделено на полки, состоящие из пятисот человек. Жалованье получали одни яицкие казаки; прочие довольствовались грабежом.
Вино продавалось от казны. Корм и лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головою отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачёв строго наблюдал за их исправностию, сам их объезжая, иногда и ночью. Учения (особенно артиллерийские) происходили почти каждый день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На ектении поминали государя Петра Фёдоровича и супругу его, государыню Екатерину Алексеевну. Пугачёв, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару или по бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в креслах перед своею избою. Подходящие к нему кланялись в землю и перекрестясь целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жён и дочерей, отданных на поругание. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбургским; иные, наткнув шапку на копьё, кричали: «Господа казаки! пора вам одуматься и служить государю Петру Фёдоровичу». Другие требовали, чтобы им выдали Мартюшку Бородина (войскового старшину, прибывшего из Яицкого городка в Оренбург вместе с отрядом Наумова), и звали казаков к себе в гости, говоря: «У нашего батюшки вина много!» Из города противу их выезжали наездники, завязывались перестрелки, иногда довольно жаркие. Нередко Пугачёв являлся тут же, хвастая молодечеством. Однажды прискакал он пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле, – и едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под уздцы.
Пугачёв не был своевластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями пришлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом; но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя при нём в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни. Пугачёв скучал под их опекою. «Улица моя тесна», – говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына. Не терпя постороннего влияния на царя, ими созданного, они не допускали самозванца иметь других любимцев в поверенных. Пугачёв в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачёв о нём осведомился. «Он пошёл, – отвечали ему, – к своей матушке вниз по Яику». Пугачёв молча махнул рукой. Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе самозванца. Он держал её в своём лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по её просьбе прислал он в Озёрную приказ – похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачёв, уступив их требованиям, предал им свою наложницу. Харлова и её семилетний брат были расстреляны.
В числе главных мятежников отличался Зарубин (он же и Чика), с самого начала сподвижник и пестун Пугачёва. Он именовался фельдмаршалом и был первый по самозванце. Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины: Чика графом Чернышёвым, Шигаев графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, Чумаков графом Орловым64. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачёва и ввёл строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков. Перфильев, при начале бунта находившийся в Петербурге по делам яицкого войска, обещался правительству привести казаков в повиновение и выдать самого Пугачёва в руки правосудия; но приехав в Берду, оказался одним из самых ожесточённых бунтовщиков и соединил судьбу свою с судьбою самозванца. Разбойник Хлопуша из-под кнута клеймённый рукою палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачёва. Стыдясь своего безобразия, он носил на лице сетку или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза…
Кар между тем прибыл на границу Оренбургской губернии. Казанский губернатор ещё до прибытия его успел собрать несколько сот гарнизонных, отставных и поселенных солдат и расположить их частию около Кучуевского фельдшанца, частию по реке Черемшану, на половине дороги от Кучуева до Ставрополя. На Волге находились человек тридцать при одном офицере для поимки разбойников: им велено было примечать за движениями бунтовщиков. Брант писал в Москву к генерал-аншефу князю Волконскому, требуя от него войска. Но московский гарнизон был от него отряжен для отвода рекрут, а Томский полк, находившийся в Москве, содержал караулы на заставах, учреждённых в 1771 году во время свирепствовавшей чумы. Князь Волконский мог отрядить только триста рядовых при одной пушке и тотчас послал их на подводах в Казань.
Кар предписал симбирскому коменданту, полковнику Чернышёву, идущему по Самарской линии к Оренбургу, занять как можно скорее Татищеву. Он был намерен тотчас по прибытии генерал-майора Фреймана, находившегося в Калуге для приёма рекрут, послать его на подкрепление Чернышёву. Кар не сумневался в успехе. «Опасаюсь только, – писал он графу З. Г. Чернышёву, – чтобы сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя оных, по тем же самым местам, отколь они появились». Он предвидел затруднения также в преследовании Пугачёва по причине зимы и недоставке конницы.
В начале ноября, не дождавшись ни артиллерии, ни ста семидесяти гренадёр, посланных к нему из Симбирска, ни высланных к нему из Уфы вооружённых башкирцев и мещеряков, он стал подаваться вперёд. На дороге во ста верстах от Оренбурга он узнал, что отряженный от Пугачёва ссыльный разбойник Хлопуша, вылив пушки на Авзяно-Петровском заводе и возмутив приписных крестьян и окрестных башкирцев, возвращается под Оренбург. Кар поспешил пресечь ему дорогу и 7 ноября послал секунд-майора Шишкина с четырьмястами рядовых и двумя пушками в деревню Юзееву, а сам с генералом Фрейманом и премиер-майором Ф. Варистедом, только что подоспевшими из Калуги, выступил из Сарманаевой. Шишкин был встречен из самой Юзеевой шестьюстами мятежниками. Татары и вооружённые крестьяне, бывшие при нём, тотчас передались. Шишкин однако рассеял сию толпу несколькими выстрелами. Он занял деревню, куда Кар и Фрейман и прибыли в четвёртом часу ночи. Войско было так утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъезды. Генералы решились ожидать света, чтобы напасть на бунтовщиков, и на заре увидели перед собой ту же толпу. Мятежникам передали увещевательный манифест; они его приняли, но уехали с бранью, говоря, что их манифесты правее, и начали стрелять из бывшей у них пушки. Их разогнали опять… В это время Кар услышал у себя в тылу четыре дальних пушечных выстрела. Он испугался и поспешно начал отступать, полагая себя отрезанным от Казани. Тут более двух тысяч мятежников наскакали со всех сторон и открыли огонь из девяти орудий. Пугачёв сам ими предводительствовал. Хлопуша успел с ним соединиться. Рассыпавшись по полям на расстояние пушечного выстрела, они были вне всякой опасности. Конница Кара была утомлена и малочисленна. Мятежники, имея добрых лошадей, при наступлении пехоты отдалялись, проворно перевозя свои пушки с одной горы на другую, и таким образом семнадцать вёрст сопровождали отступающего Кара. Он целых восемь часов отстреливался из своих пяти пушек, бросил свой обоз и потерял (если верить его донесению) не более ста двадцати человек убитыми, ранеными и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые из Уфы, не бывали; находившие в недальнем расстоянии под начальством князя Уракова бежали, заслыша пальбу. Солдаты, по большей частью престарелые или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться; молодые офицеры, не бывавшие в огне, не умели их ободрить. Гренадёры, отправленные из Симбирска при поручике Карташове, ехали с такой оплошностью, что даже ружья не были у них заряжены, и каждый спал в своих санях. Они сдались с четырёх первых выстрелов, услышанных Каром поутру из деревни Юзеевой.
Кар потерял вдруг свою самонадеянность. С донесением о своём уроне он представил Военной коллегии, что для поражения Пугачёва нужны не слабые отряды, а целые полки, надёжная конница и сильная артиллерия. Он немедленно послал повеление полковнику Чернышёву не выступать из Переволоцкой, а стараться в ней укрепиться в ожидании дальнейших распоряжений. Но посланный к Чернышёву не мог уже его догнать.
11 ноября Чернышёв выступил из Переволоцкой и 13-го в ночь прибыл в Чернореченскую. Тут он получил от двух илецких казаков, приведенных сакмарским атаманом, известие о разбитии Кара и о взятии ста семидесяти гренадёр. В истине последнего показания Чернышёв не мог усомниться: гренадёры были отправлены им самим из Симбирска, где они находились при отводе рекрут. Он не знал, на что решиться: отступать ли к Переволоцкой, или спешить к Оренбургу, куда накануне отправил он донесение о своём приближении. В сие время явились к нему пять казаков и один солдат, которые, как уверяли, бежали из пугачёвского стана. Между ними находился казацкий сотник и депутат65 Падуров. Он уверил Чернышёва в своём усердии, представил в доказательство свою депутатскую медаль и советовал немедленно идти к Оренбургу, вызываясь провести его безопасными местами. Чернышёв ему поверил и в тот же час, без барабанного бою, выступил из Чернореченской. Падуров вёл его горами, уверяя, что передовые караулы Пугачёва далеки и что если на рассвете они его и увидят, то опасность уже минуется, и он беспрепятственно успеет вступить в Оренбург. Утром Чернышёв пришёл к Сакмаре и при урочище Манке, в пяти верстах от Оренбурга, начал переправляться по льду. С ним было тысяча пятьсот солдат и казаков, пятьсот калмыков и двенадцать пушек. Капитан Ружевский переправился первый с артиллерией и лёгким войском; он тотчас, взяв с собой трёх казаков, отправился в Оренбург и явился к губернатору с сообщением о прибытии Чернышёва. – В самое сие время в Оренбурге услышали пушечную стрельбу, которая через четверть часа и умолкла… Несколько времени спустя Рейнсдорп получил известие, что весь отряд Чернышёва взят и ведётся в лагерь Пугачёва.
Чернышёв был обманут Падуровым, который привёл его прямо к Пугачёву. Мятежники вдруг на него бросились и овладели артиллерией. Казаки и калмыки изменили. Пехота, утомлённая стужею, голодом и ночным переходом, не могла сопротивляться.
Всё было захвачено. Пугачёв повесил Чернышёва, тридцать шесть офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого полковника.
В то же самое время бригадир Корф вступал в Оренбург с двумя тысячами четыремястами человек. Пугачёв напал на него, но был отражён городскими казаками.
Оренбургское начальство казалось обезумленным от ужаса. 14 ноября Рейнсдорп, не подав накануне никакой помощи отряду несчастного Чернышёва, вздумал сделать сильную вылазку. Всё войско, бывшее в городе (включая тут же и вновь прибывший отряд), было выведено в поле под предводительством обер-коменданта. Бунтовщики, верные своей системе, сражались издали и врассыпную, производя беспрестанный огонь из всех своих орудий. Изнурённая городская конница не могла иметь и надежды на успех. Валленштерн принуждён составить каре и отступить, потеряв тридцать два человека. В тот же день майор Варнстедт, отряженный Каром на Ново-Московскую дорогу, встречен был сильным отрядом Пугачёва и поспешно отступил, потеряв до двухсот человек убитыми.
Получив известие о взятии Чернышёва, Кар совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Он донёс обо всём Военной коллегии, самовольно отказался от начальства под предлогом болезни, дал несколько умных советов насчёт образа действий противу Пугачёва и, оставя своё войско на попечение Фрейману, уехал в Москву, где появление его произвело общий ропот. Императрица строгим указом повелела исключить его из службы. С того времени жил он в своей деревне, где и умер в начале царствования Александра.
Императрица видела необходимость взять сильные меры противу возраставшего зла. Она искала надёжного военачальника в преемники бежавшему Кару и выбрала генерал-аншефа Бибикова. …В молодых ещё летах он успел уже отличиться на поприще войны и государственности. Он служил с честию в семилетнюю войну и обратил на себя внимание Фридриха Великого. Важные препоручения были на него возлагаемы: в 1763 году послан он был в Казань для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твёрдостию и благоразумною кротостию вскоре восстановил он порядок. В 1766 году, когда составлялась Комиссия нового уложения, он председательствовал в Костроме на выборах; сам был избран депутатом и потом назначен в предводители всего собрания. В 1771 году он назначен был на место генерал-поручика Веймарна главнокомандующим в Польше, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побеждённых.
В эпоху, нами описываемую, находился он в Петербурге. Сдав недавно главное начальство над завоёванной Польшею… он готовился ехать в Турцию служить при генерале Румянцеве. Бибиков был холодно принят императрицею, дотоле всегда к нему благосклонной. Может быть, она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него досадою; ибо усердный на деле и душою преданный государыне, Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях. Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему на придворном бале с прежней ласковою улыбкой и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу отечеству, и тут же привёл слова простонародной песни, применив их к своему положению:
Сарафан ли мой, дорогой сарафан! Везде ты, сарафан, пригожаешься; А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь.Он безоговорочно принял на себя многотрудную должность и 9 декабря отправился из Петербурга.
Приехав в Москву, Бибиков нашёл старую столицу в страхе и унынии. Жители, недавние свидетели бунта и чумы, трепетали в ожидании нового бедствия. Множество дворян бежало из губерний, уже разоряемых Пугачёвым или угрожаемых возмущением. Холопья, ими навезенные, распускали по площадям вести о вольности и о истреблении господ. Многочисленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь по улицам, с явным нетерпением ожидала Пугачёва. Жители приняли Бибикова с восторгом, доказывавшим, в какой опасности полагали себя. Он оставил Москву, спеша оправдать её надежды66.
Глава четвертая
Разбитие Кара и Фреймана, погибель Чернышёва и неудачные вылазки Валленштерна и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и самонадеянность. Они кинулись во все стороны, разоряя селения, города, возмущая народ, и нигде не находили сопротивления. Торнов с шестьюстами человек взбунтовал и ограбил всю Нагайбацкую область. Чика, между прочим, подступил под Уфу с десятитысячным отрядом и осадил её в конце ноября. Город не имел укреплений, подобных оренбургским; однако ж комендант Мясоедов и дворяне, искавшие в нём убежища, решили обороняться. Чика, не отважившись на сильные нападения, остановился в селе Чесноковке в десяти верстах от Уфы, взбунтовал окрестные деревни, большею частию башкирские, и отрезал город от всякого сообщения. Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали между Уфою и Казанью. Между тем Пугачёв послал Хлопушу с пятьюстами человек и шестью пушками взять крепости Ильинскую и Верхне-Озёрную, к востоку от Оренбурга. Для защиты сей стороны отряжён был сибирским губернатором Чичериным генерал-поручик Декалонг и генерал-майор Станиславский. Первый прикрывал границы сибирские; последний находился в Орской крепости67, действуя нерешительно, теряя бодрость при малейшей опасности и под различными предлогами отказываясь от исполнения своего долга.
Хлопуша взял Ильинскую, на приступе заколов коменданта, поручика Лопатина; но пощадил офицеров и не разорил даже крепости. Он пошёл на Верхне-Озёрную. Комендант, подполковник Демарин, отразил его нападение. Узнав о том, Пугачёв сам поспешил на помощь Хлопуше и, соединясь с ним 26 ноября утром, подступил той же час к крепости. Целый день стрельба не умолкала. Несколько раз мятежники спешась ударяли в копья, но всегда были опрокинуты. Вечером Пугачёв отступил в башкирскую деревню, за двенадцать вёрст от Верхне-Озёрной. Тут узнал он, что с Сибирской линии идут к Ильинской три роты, отряженные генерал-майором Станиславским. Он пошёл пресечь им дорогу.
Майор Заев, начальствовавший сим отрядом, успел, однако, занять Ильинскую (27 ноября). Крепость, оставленная Хлопушею, не была им выжжена. Жители не были выведены. Между ими находилось несколько пленных конфедератов. Стены и некоторые избы были повреждены. Войско всё было взято, кроме одного сержанта и пленного офицера. Анбар был отворен. Несколько четвертей муки и сухарей валялись на дворе. Одна пушка брошена была в воротах. Заев наскоро сделал некоторые распоряжения, расставил по трём бастионам три пушки, бывшие в его отряде (на четвёртый недостало); также учредил караулы и разъезды и стал ожидать неприятеля.
На другой день в сумерки Пугачёв явился перед крепостью. Мятежники приближились, и разъезжая около её, кричали часовым: «Не стреляйте и выходите вон; здесь государь». По ним выстрелили из пушки. Убили ядром одну лошадь. Мятежники скрылись и через час показались из-за горы, скача врассыпную под предводительством самого Пугачёва. Их отогнали пушками. Солдаты и пленные поляки (особенно последние) с жаром просились на вылазку; но Заев не согласился, опасаясь от них измены. «Оставайтесь здесь и защищайтесь, – сказал он им, – а я от генерала повеления не имею».
29-го Пугачёв подступил опять, везя две пушки на санях и перед ними подвигая несколько возов сена. Он кинулся к бастиону, на котором не было пушки. Заев поспешил поставить там две; но прежде, нежели успели их перетащить, мятежники разбили ядрами деревянный бастион, спешась, доломали его и с обычным воплем ворвались в крепость. Солдаты расстроились и побежали. Заев, почти все офицеры и двести рядовых были убиты. Остальных погнали в ближнюю татарскую деревню. Пленные солдаты поставлены были против заряженной пушки. Пугачёв в красном казацком платье приехал верхом в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты поставлены были на колени. Он сказал им: «Прощает вас бог и я, ваш государь Пётр III, император. Вставайте!» Потом велел оборотить пушку и выстрелить в степь. Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли на меня, на своего государя?» – спросил победитель. «Ты нам не государь, – отвечали пленники: – у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. – Потом привели капитана Башарина. Пугачёв, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. «Коли он был для вас добр, – сказал самозванец, – то я его прощаю». И велел его, как и солдат, остричь показацки, а раненых отвезти в крепость. Казаки, бывшие в отряде, были приняты мятежниками, как товарищи. На вопрос, зачем они тотчас не присоединились к осаждающим, они отвечали, что боялись солдат.
От Ильинской Пугачёв опять обратился к Верхне-Озёрной. Ему непременно хотелось её взять, тем более, что в ней находилась жена бригадира Корфа. Он грозился её повесить, злобясь на её мужа, который думал обмануть его лживыми переговорами68.
30 ноября он снова окружил крепость и целый день стрелял по ней из пушек, покушаясь на приступ то с той, то с другой стороны. Демарин для ободрения своих целый день стоял на валу, сам заряжая пушку. Пугачёв отступил и хотел идти противу Станиславского, но, перехватив оренбургскую почту, раздумал и вернулся в Бердскую слободу.
Во время его отсутствия Рейнсдорп хотел сделать вылазку, и 30-го, ночью, войско выступило было из городу; но лошади, изнурённые бескормицей, падали и дохли под тяжестью артиллерии, а несколько казаков бежало. Валленштерн принуждён был возвратиться. В Оренбурге начал сказываться недостаток в съестных припасах. Рейнсдорп требовал оных от Декалонга и Станиславского. Оба отговаривались. Он ежечасно ожидал прибытия нового войска и не получал о нём никакого известия, будучи отрезан отовсюду, кроме Сибири и киргиз-кайсацких степей. Для поимки языка высылал он иногда до тысячи человек, и то нередко без успеха. Вздумал он, по совету Тимашёва, расставить капканы около вала и как волков ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города.
Сами осаждённые смеялись над сею военной хитростию, хотя им было не до смеха; а Падуров в одном из своих писем язвительно упрекал губернатора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться самозванцу69.
Яицкий городок, сие первое гнездо бунта, долго не выходил из повиновения, устрашённый войском Симонова. Наконец частые пересылки с бунтовщиками и ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили приверженцев Пугачёва. Казаки, отряжаемые Симоновым из города для содержания караулов или для поимки возмутителей, подсылаемых из Бердской слободы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать захваченных бунтовщиков, вязать верных старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. Разнёсся слух о приближении мятежнического отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина Мостовщиков выступил противу него. Чрез несколько часов трое из бывших с ним казаков прискакали в крепость и объявили, что Мостовщиков в семи верстах от города был окружён и захвачен многочисленными толпами бунтовщиков. Смятение в городе было велико. Симонов оробел; к счастию, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников под предводительством Толкачёва вошёл в город. Жители приняли его с восторгом и тут же, вооружась чем ни попало, с ним соединились, бросились к крепости изо всех переулков, засели в высокие избы и начали стрелять из окошек. Выстрелы, говорит один свидетель, сыпались подобно дроби, битой десятью барабанщиками. В крепости падали не только люди, стоявшие на виду, но и те, которые на минуту приподнимались из заплотов. Мятежники, безопасные в десяти саженях от крепости, и большею частию гулебщики (охотники) попадали даже в щели, из которых стреляли осаждённые. Симонов и Крылов хотели зажечь ближайшие дома. Но бомбы падали в снег и угасали или тотчас были заливаемы. Ни одна изба не загоралась. Наконец трое рядовых вызвались зажечь ближайший двор, что им и удалось. Пожар быстро распространился. Мятежники выбежали; из крепости начали по них стрелять из пушек; они удалились, унося убитых и раненых. К вечеру ободрённый гарнизон сделал вылазку и успел зажечь ещё несколько домов.
В крепости находилось до тысячи гарнизонных солдат и послушных; довольное количество пороху, но мало съестных припасов. Мятежники осадили крепость, завалили брёвнами обгорелую площадь и ведущие к ней улицы и переулки, за строениями взвели до шестнадцати батарей, в избах, подверженных выстрелам, поделали двойные стены, засыпав промежуток землёю, и начали вести подкопы. Осаждённые старались только отдалить неприятеля, очищая площадь и нападая на укреплённые избы. Сии опасные вылазки производились ежедневно, иногда два раза в день, и всегда с успехом: солдаты были остервенены, а послушные не могли ожидать пощады от мятежников.
Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом.
Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался (и то самым тайным образом) за двадцать пять рублей. По предложению Рычкова (академика, находившегося в то время в Оренбурге) стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко нарубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа.
В сей крайности Рейнсдорп решился ещё раз попробовать счастия оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами под предводительством Валленштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали дружному содействию войск. Наумов первый прибыл к назначенному месту. Мятежники увидели его и успели сделать свои распоряжения. Валленштерн, долженствовавший занять высоты у дороги из Берды в Каргале, был предупреждён. Корф был встречен сильным пушечным огнём; толпы мятежников начали заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от них и, прискакав к колонне Валленштерна, произвели общий беспорядок. Он очутился между трёх огней; солдаты его бежали; Валленштерн отступил; Корф ему последовал; Наумов, сначала действовавший довольно удачно, страшась быть отрезанным, кинулся за ними. Всё войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до четырехсот убитыми и ранеными и оставя пятнадцать орудий в руках разбойников. После сей неудачи Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно и под защитою стен и пушек стал ожидать своего освобождения.
Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В городе не нашёл он ни губернатора, ни главных чиновников. Большая часть дворян бежала в губернии ещё безопасные. Брант был в Козьмодемьянске. Приезд Бибикова оживил унывший город; выехавшие жители стали возвращаться. 1 января 1774 года после молебствия и слова, говоренного казанским архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство и произнёс умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечения правительства о пресечении оного, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель крамолою, и требовал содействия от его усердия к отечеству и верности к престолу. Речь сия произвела глубокое впечатление. Собрание тут же положило на свой счёт составить и вооружить конное войско, поставя с двухсот душ одного рекрута. Генерал-майор Родионов, родственник Бибикова, был избран в начальники легиона. Дворянство симбирское, свияжское и пензенское последовало их примеру… Казанский магистрат также вооружил на своё иждивение один эскадрон гусар.
Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство и в особом письме к Бибикову, именуя себя казанской помещицей, вызывалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. Дворянский предводитель Макаров отвечал императрице речью, сочинённой гвардии подпоручиком Державиным, находившимся тогда при главнокомандующем.
Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчинённых, казался равнодушным и весёлым; но беспокойство, досада и нетерпение терзали его. В письмах к графу Чернышёву, Фонвизину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене: «Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашёл прескверны, так что и описать, буде б хотел, не могу; вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера не выпуская; делаю всё возможное и прошу Господа о помощи. Он един исправить может своею милостиею. Правда, поздненько хватились. Войска мои начали прибывать вчера; баталион гренадёр и два эскадрона гусар, что я велел везти на почте, прибыли. Но к утушении заразы сего очень мало, а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело, и как бы поспевать всюду трудно… Ух! дурно».
В самом деле положение было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отовсюду пресекало сообщение.
Войско было малочисленно и ненадёжно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною. Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были глубоким снегом. Невозможно было двинуться вперёд, не запасшись не только хлебом, но и дровами. Селения были пусты, главные города в осаде, другие заняты шайками бунтовщиков, заводы разграблены и выжжены, чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные изо всех концов государства, подвигались медленно. Зло, ничем не преграждённое, разливалось быстро и широко.
От Илецкого городка до Гурьева яицкие казаки бунтовали. Губернии Казанская, Нижегородская и Астраханская были наполнены шайками разбойников; пламя могло ворваться в самую Сибирь; в Перми начинались беспокойства; Екатеринбург был в опасности. Киргиз-кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией; даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия.
Виновник сего ужасного смятения привлекал общее внимание. В Европе принимали Пугачёва за орудие турецкой политики. Вольтер, тогдашний представитель господствующих мнений, писал Екатерине: «По-видимому, этот фарс разыгрывается по воле шевалье де Тотт, но мы живём уже не во времена Димитрия, и пьеса, имевшая успех двести лет назад, ныне освистана»70. Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением: «Одни только газеты подымают шум по поводу разбойника Пугачёва, который ни в прямых, ни в косвенных отношениях с г. де Тотт не состоит. Пушки, отлитые одним, для меня значат столько же, сколько предприятия другого. Господин де Пугачёв и господин де Тотт имеют, впрочем, то общее, что один изо дня в день плетёт себе верёвку из конопли, а другой в любую минуту рискует получить шёлковый шнурок»71.
Палять будинок Пугачова, арештовують його сім’ю
Несмотря на своё презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного случая образумить ослеплённую чернь. Разосланы были повсюду увещевательные манифесты, обещано десять тысяч рублей за поимку самозванца. Особенно опасались сношений Яика с Доном. Атаман Ефремов был смещён, а на его место избран Семён Сулин. Послано в Черкасск повеление сжечь дом и имущество Пугачёва, а семейство его, безо всякого оскорбления, отправить в Казань, для уличения самозванца в случае поимки его. Донское начальство в точности исполнило слова высочайшего указа: дом Пугачёва, находившийся в Зимовейской станице, был за год пред сим продан его женою, пришедшею в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесён на чужой двор. Его перевезли на прежнее место и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя навеки в запустение, как место проклятое. Начальство от имени всех зимовейских казаков просило дозволения перенести их станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное. Государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потёмкинскую, покрыв мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и отечеству. Жена Пугачёва, сын и две дочери (все трое малолетних) были отосланы в Казань, куда отправлен и родной его брат, служивший казаком во второй армии. Между тем отобраны следующие подробные сведения о злодее, колебавшем государство».
Далі О. С. Пушкін додав до власного тексту свідчення дружини Омеляна Івановича Пугачова Софії Дмитрієвої, дані Військовій колегії, яка судила ватажка одного з найбільших селянських повстань у Росії:
«Описание известному злодею и самозванцу, какого он есть свойства и примет, учинённое по объявлению жены его Софьи Дмитриевой.
1. Мужа её, войска Донского, Зимовейской станицы служилого казака, зовут Емельян Иванов сын, прозывается Пугачёвым.
2. Отец его родной был той же Зимовейской станицы служилый казак, Иван Михайлов сын Пугачёв же, который в давних годах умре.
3. Тому мужу её ныне от роду будет лет сорок, лицом сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он выбит саласками72, ещё в малолетстве в игре, а от того времени и доныне не вырастает. На левом виску от болезни круглый белый признак, от лица совсем отменный, величиною с двухкопеечник; на обеих грудях назад тому третий год были провалы, отчего и мнит она, что быть надобно признакам же. На лице имеет жёлтые конопатины; сам собою смугловат, волосы на голове тёмно-русые по-казацки подстригал, росту среднего, борода была клином чёрная, небольшая.
4. Веру содержал истинно православную; в церковь Божью ходил, исповедывался и святых таки приобщался, на что и имел отца духовного, Зимовейской же станицы священника Фёдора Тихонова; а крест по изображению совокуплял большой с двумя последними пальцами.
5. Женился той муж на ней, и она шла, оба первобрачные, назад лет тому с 10, и с которым и прижили детей пятерых, из коих двое померли, а трое и теперь в живых. Первый сын Трофим десяти лет, да дочери вторая Аграфена по седьмому году, а третья Христина по четвёртому году.
6. Оный же муж её, назад тому три года, послан на службу во вторую армию, где и был два года, и оттуда другой год за грудною болезнию, о которой выше значит, по весне отпущен, а посему и был в доме одно лето, в которую бытность и нанял вместо себя в Бахмуте на Доне казака, а как его звать и прозвания, да где и теперь находится, не знает; – после сего.
7. В октябре месяце 1772 года он, оставивши её с детьми, неведомо куда бежал, и где был, и какие от него происходили дела, об оном, как он ничего не сказывал, так и сама не знала.
8. 1773 года, в великом посту, тот муж тайно пришёл к хуторскому их дому вечером под окошко, которого она и пустила; но того ж самого часу объявила казакам, а они, взявши его, повели к станичному атаману, а он-де отправил в Верхнюю Чирскую станицу к старшине, но о имени его не упомнит, а оттуда в Черкасский; но не довели однако ж до оного, в Цимлянской станице бежал и потому, где теперь находится, не знает.
9. Во время ж той мужа её поимки сказывал он атаману и на сборе всем казакам, что был в Моздоке, но что делал, потому ж не знает.
10. Писем он к ней как с службы в армии, так и с бегов никогда не присылывал: да и чтоб в станицу их или к дому другому писал, не знает, он же вовсе и грамоте не умеет.
11. Что же муж её точно есть упоминаемый Емельян Пугачёв, то сверх её самоличного и детей сознатия и уличения, могут в справедливость доказать и родной брат Зимовейской станицы Дементий Иванов сын Пугачёв (который ныне находится в службе в 1-й армии), да родные ж сёстры, из коих первая Ульяна Ивановна, коя ныне находится в замужестве той же станицы за казаком Фёдором Григорьевым, по прозванию Брыкалиным, а вторая Федосья Ивановна, которая также замужем за казаком из Прусак Симоном Никитиным, а прозвания не знает, кой ныне жительство имеет в Азове, которые все мужа её также знают довольно.
12. Речь и разговоры муж её имел по обыкновении казацкому, а иностранного языка никакого не знал.
13. Домом они жили в Зимовейской станице своим собственным, который по побеге мужа (что дневного пропитания с детьми стало не от чего) продала за 24 руб. 50 коп. Есауловской станицы казаку Ерёме Евсееву на слом, который его в ту Есауловскую станицу по сломке и перевёз, а хутор их, состоящий также неподалеку Зимовейской станицы, сожжён же.
14. Сама же Пугачёва жена, казачья дочь и отец её был Есауловской станицы служилый казак Дмитрий, по прозванию Недюжин, а отчества не припомнит, потому что она после него осталась в малолетстве…»73
Прилагаю не менее любопытное извлечение из показаний бывшего в 1771 году Зимовейской станицы атаманом отставного казака Трофима Фомина:
«В 1771 году, в феврале месяце, Емельян Пугачёв отбыл в город Черкасск для излечения болезни, со взятым у меня станичным билетом, и через месяц возвратился на карей лошади. На допрос мой, где он её достал, отвечал он: на станичном сборе, что купил в Таганрогской крепости конного казацкого полку у казака Василья Кусачкина. Но казаки, не поверя ему, послали его взять письменный вид от ротного командира. Пугачёв и поехал, но пред его возвращением зять его Прусак, бывший Зимовейской станицы казак, а ныне состоящий в Таганрогском казацком полку, явился у нас и на станичном сборе показал, что он с женою и Василий Кусачкин, да ещё третий по уговору Пугачёва бегали за Кубань, на Куму-реку, где он (Прусак), побыв малое время, оставил их и возвратился на Дон. Почему и отправили при станичном рапорте в Черкасск Прусака с женою и родною её матерью, по причине их побега. В декабре того же года Пугачёв был пойман в его хуторе и содержался под караулом. Намерен был я его, как праздношатающегося, выдать находящемуся тогда в сыске и высылке беглых всякого звания людей, старшине Михайле Михайлову. Но Пугачёв со станичной избы из-под караула бежал и уже чрез три месяца на том же хуторе пойман и показал на станичном сборе, что был в Моздоке, почему при рапорте и послан мною к старшине Макарову в Нижнюю Черкасскую станицу, а сей чрез нашу станицу послал его уже при рапорте в Черкасск. Когда его провели, увидя по подорожной, что послан он был в колодке, которой на нём уже не было, приказал я ему набить другую и отослал его в верхнюю Курмоярскую станицу, из которой в принятии оного Пугачёва расписку получил. Через две недели спустя от старшины Макарова по всем станицам прислано было объявление, что оный Пугачёв бежал с дороги, и не иначе ежели явится где изловить; а как он бежал, не знаю».
За неумением грамоте, Василий Ермолаев руку приложил»74.
Продовжуємо пушкінський текст: «Емельян Пугачёв, Зимовейской станицы служилый казак, сын Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был сорока лет отроду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел тёмно-русые, бороду чёрную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен ещё в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обоих грудях знаки, оставшиеся после болезни, называемой чёрной немочью75. Он не знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому десять женился на казачке Софье Недюжиной, от которой имел пятерых детей. В 1770 году был он на службе во второй армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон по болезни. Он ездил для излечения в Черкасск. По его возвращении на родину зимовейский атаман спрашивал его на станичном сбору, откуда взял он карюю лошадь, на которой приехал домой? Пугачёв ответил, что купил её в Таганроге; но казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачёв уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков, поселённых под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугачёва в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своём хуторе, где и был пойман, но успел убежать; скрывался месяца три неведомо где; наконец в великом посту, однажды вечером пришёл тайно к своему дому и постучался в окошко. Жена впустила его и дала знать о том казакам. Пугачёв был снова пойман и отправлен под караулом к сыщику, старшине Макарову, в нижнюю Чирскую станицу, а оттуда в Черкасск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не являлся. Из показаний самого Пугачёва, в конце 1772 года приведенного в Канцелярию дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за польской границей, в раскольничьей слободе Ветке; потом взял паспорт с Добрянского форпоста, сказавшись выходцем из Польши, и перебрался на Дон, питаясь милостыней. – Все сие известия были обнародованы; между тем правительство запретило народу толковать о Пугачёве76, коего имя волновало чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя, когда разрешено было писать и печатать о Пугачёве. Доныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных77.
Глава пятая
Проти повсталих відряджаються великі армійські сили. Посилюються висліджування й репресії
Наконец войска, отовсюду посланные противу Пугачёва, начали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор князь Голицын с своим корпусом должен был заградить Московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовали майор Муфель и подполковник Гринёв. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Декалонг охранял Сибирь и должен был отрядить майора Гагарина с одною полевою бригадою для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков (во Владимирском) оказались было приверженцы Пугачёва. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом возмутители были открыты и захвачены.
Перші успіхи Бібікова
Впоследствии Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, Богу благодарение! (писал он в феврале) идут час от часу лучше; войска подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны (в Петербурге), то я изо всех писем вижу, только спросили бы у гуся: не зябнут ли ноги?»
Майор Муфель с одною полевою командою 29 октября приближился к Самаре, занятой накануне шайкою бунтовщиков, и, встреченный ими, разбил и гнал их до самого города. Тут они, под прикрытием городских пушек, думали сопротивляться. Но драгуны ударили в палаши и въехали в город, рубя и попирая бегущих. В самое сие время в двух верстах от Самары показались старопольские калмыки, идущие на помощь бунтовщикам. Они побежали, увидя высланную противу их конницу. Город был очищен. Шесть пушек и двести пленных достались победителю. Вслед за Муфелем вступили в Самару подполковник Гринёв и генерал-майор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю для усмирения калмыков; но они разбежались, и отряд, не видав их, возвратился в Самару.
Полковник Бибиков, отряжённый из Казани с четырьмя гренадёрскими ротами и одним эскадроном гусар на подкрепление генерал-майора Фреймана, стоявшего в Бугульме безо всякого действия, пошёл на Заинск, коего семидесятилетний комендант, капитан Мещеряков принял с честью шайку разбойников, сдав им начальство над городом. Бунтовщики укрепились как умели, в пяти верстах от города Бибиков услышал уже их пушечную пальбу. Рогатки их были сломаны, батареи взяты, предместья заняты; всё бежало. Двадцать пять бунтовавших деревень пришли в повиновение. К Бибикову являлось в день до четырёх тысяч раскаявшихся крестьян; им выдавали билеты и всех распускали по домам.
Державин, начальствуя тремя фузилёрными ротами, привёл в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племён, кочующих между Яиком и Волгою. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне с намерением идти служить у Пугачёва, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему своё намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже был готов остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось.
Приборкувач польських конфедератів Міхельсон стає до дії
Генерал-майор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои (писал Бибиков) навязался мне братец мой А. Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу». Ларионов оставался в Бакалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место некогда раненного при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера, подполковника Михельсона. Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешёл он через Каму. 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков; Мансуров – 10-го. Войско двинулось к Оренбургу.
Пугачёв знал о приближении войск и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальства. «Попадутся сами нам в руки», – отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае ж поражения собирался он бежать… Для того держал он на лучшем корму тридцать лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерение и роптали. «Ты взбунтовал нас, – говорили они, – и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших». (Казни 1740-го года были у них в свежей памяти). Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачёва в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его как заложника. Бибиков понимал их и Пугачёва, когда писал Фонвизину78 следующие замечательные строки: «Пугачёв не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачёв важен; важно общее негодование».
Повстанці продовжують чинити опір
Пугачёв из-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареею, устроенною при Старице (прежнем русле Яика). Мятежники под дымом и пылью, с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал, но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачёв стоял во рву с копьём в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился девять часов сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. Пугачёв скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и всё семейство последнего, находившегося в то время в Оренбурге. Таким образом обречён был смерти и четырёхлетний ребёнок, впоследствии славный Крылов.
Пугачёв в Яицком городке увидел молодую казачку Устинью Кузнецову и влюбился в неё. Он стал её сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «Помилуй, государь! Дочь наша не княжна, не королевна; как же ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка государыня ещё здравствует?» Пугачёв, однако, женился на Устинье, именовал её императрицей и хотел, чтоб на ектении поминали после государя Петра Фёдоровича супругу его государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получили на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачёва: но он не настаивал в своём требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда покушениями на крепость. Осаждённые с своей стороны не теряли бодрости. Их пальба не умолкала, вылазки не прекращались.
19 февраля ночью прибежал из городу в крепость малолеток и объявил, что с прошедшего дня подведён под колокольню подкоп, куда и положено двадцать пуд пороху, и что Пугачёв назначал того же числа напасть на крепость. Извет показался невероятным. Симонов полагал, что малолеток был подослан нарочно для поселения пустого страха. Осаждённые вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы: двадцатью пудами пороху мудрено взорвать было шестиярусную высокую колокольню. Однако же как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас (что могли знать и мятежники), то и поспешили оный убрать, разобрали кирпичный пол и почали вести контрмину. Гарнизон приготовился; ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был приведён в действо; колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась, и верхние шесть ярусов осели, подавив несколько людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв размётаны, свалились в груду. Бывшие же в самом верхнем ярусе самые шесть часовых при пушке свалились оттоле живы: а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись.
Ещё колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки; гарнизон, стоявший в ружьё, тотчас занял развалины колокольни и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении: чрез несколько минут они подняли свой обычный визг; но никто не шёл вперёд. Напрасно предводители кричали: на слом, на слом, атаманы молодцы! Приступу не было; визг продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачёва, обещавшего им, что при взрыве колокольни на крепость упадёт каменный град и передавит весь гарнизон.
На другой день Пугачёв получил из-под Оренбурга известия о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою пятьсот человек конницы и до полутора тысяч подвод. Сия весть дошла и до осаждённых. Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним чрез две недели. Но минута их освобождения была ещё далека.
Облога Оренбурга продовжується. Пугачовці не піддаються карателям
Во время частых отлучек Пугачёва, Шигаев, Падуров и Хлопуша управляли осадою Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкою Защитой (где добывается каменная соль) и в конце февраля, взяв с собой четыреста человек, напал на оную. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство Хлопуши. Казённое имущество было разграблено; офицеры перебиты, кроме одного, пощаженного по просьбе работников; колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачёв, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение Защиты, как за ущерб государственной казны. Пугачёв выступил против князя Голицына с десятью тысячами отборного войска, оставя под Оренбургом Шигаева с двумя тысячами. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников, Дмитрия Лысова. Несколько дней пред тем они ехали вместе из Каргалы в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачёва и ударил его копьём. Пугачёв упал с лошади; но панцырь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачёв пил ещё с Лысовым за несколько часов до его смерти.
Пугачёв занял крепости Тоцкую и Сорочинскую79 и с обыкновенною дерзостию ночью, в сильный буран, напал на передовые отряды Голицына… В самоё сиё время Мансуров соединился с князем Голицыным. Пугачёв отступил к Новосергиевской, не успев сжечь крепостей, им оставленных… Пугачёв сделал движение на Илецкий городок и, вдруг поворотив к Татищевой, в ней засел и стал там укрепляться…
Царський генерал змушений визнати полководницький талант Пугачова
Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачёвым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачёва удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын сначала отрядил триста человек для высмотру неприятеля. Мятежники, притаясь, приступили к самой крепости и вдруг сделали сильную вылазку, но были удержаны двумя эскадронами, подкреплявшими первых. Полковник Бибиков тот же час послал егерей, которые, бегая на лыжах по глубокому снегу, заняли все выгодные высоты. Голицын разделил войска на две колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который из крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась три часа. Голицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фрейману с левой колонною идти на приступ.
Боротьба повстанців з переважаючими силами ворога продовжується
Пугачёв выставил противу него семь пушек. Фрейман их отнял и бросился на оледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия – и бежали во все стороны. Конница, дотоле не действовавшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до тысячи трёхсот мятежников. На пространстве двадцати вёрст кругом около Татищевой лежали их тела. Голицын потерял до четырёхсот убитыми и ранеными, в том числе более двадцати офицеров. Победа была решительною. Тридцать шесть пушек и более трёх тысяч пленных достались победителю. Пугачёв с шестьюдесятью казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам пят в Бердскую слободу с известием о своём поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На воза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачёв велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что всё пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачёва и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Сотник Логинов, сопровождавший бегство Пугачёва, явился к Рейнсдорпу с сим известием. Бедный Рейнсдорп не смел поверить своему счастию и целых два часа не мог решиться дать требуемый сигнал! Пугачёв и Хлопуша были между тем освобождены ссылочными, находившимися в Берде. Пугачёв бежал с десятью пушками, с заграбленною добычею и с двумя тысячами остальной сволочи. Хлопуша прискакал к Каргале с намерением спасти жену и сына. Татары связали его и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где наконец отсекли ему голову в июне 1774 года.
Оренбургские жители, услышав о своём освобождении, толпами бросились из города вслед за шестьюстами человек пехоты, высланных Рейнсдорпом к оставленной слободе, и овладели жизненными запасами. В Берде найдено осьмнадцать пушек, семнадцать бочек медных денег и множество хлеба. В Оренбурге спешили принести Богу благодарение за нечаянное избавление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп писал ему, поздравляя его с победою и называя спасителем Оренбурга. Отовсюду начали в город навозить запасы. Настало изобилие, и бедственная шестимесячная осада была забыта в одно радостное мгновение. 26 марта Голицын приехал в Оренбург; жители приняли его с восторгом неописанным.
Бибиков с нетерпением ожидал сего перелома. Для ускорения военных действий выехал он из Казани и был встречен в Бугульме известием о совершённом поражении Пугачёва. Он обрадовался несказанно. “То-то жернов с сердца свалился (писал он от 26 марта жене своей). Сегодня войдут мои в Оренбург; немедленно и я туда поспешу добраться, чтоб ещё ловчее было поворачивать своими; а сколько седых волос прибавилось к бороде, то Бог видит, а на голове плешь ещё больше стала…”»80
О. С. Пушкін про нові успіхи повстанців
Каральні війська Катерини справді досягли певного успіху в боротьбі з повстанцями. Він, однак, не був тривалим. Наступний – шостий розділ свого найбільшого історичного твору – О. С. Пушкін починає розповіддю про інше – про успіхи загонів Пугачова: «Пугачёв, коего положение казалось отчаянным, явился на Авзяно-Петровских заводах. Овчинников и Перфильев, преследуемые майором Шевичем, проскакали через Сакмарскую линию с тремястами яицких казаков и успели с ними соединиться…
Пугачёв быстро переходил с одного места на другое. Чернь по-прежнему стала стекаться около него; башкирцы, уже почти усмирённые, снова взволновались. Комендант Верхне-Яицкой крепости, полковник Ступишин, вошёл в Башкирию, сжёг несколько пустых селений и, захватив одного их бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирия не унялась. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казней 1741 года, явился между ними с сыном своим Салаватом. Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачёва; Михельсон силился пересечь ему дорогу; но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи; реки разливались на несколько вёрст; ручьи становились реками…
Успіхи повсталих селян на кріпосних заводах Уралу
Пугачёв, зажёгши ограбленные им Белорецкие заводы, быстро перешёл через Уральские горы и 5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе ни одной пушки. Капитан Тихановский оборонялся храбро. Пугачёв был сам ранен картечью в руку и отступил, претерпев значительный урон. Крепость казалась спасена; но в ней открылась измена: пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты и ворвались. Тихановский с женою были повешены; крепость разграблена и выжжена. В тот же день пришёл к Пугачёву Белобородов81 с четырьмя тысячами бунтующей сволочи.
Генерал-поручик Декалонг из Челябинска, недавно освобождённого от бунтовщиков, двинулся к Верхне-Яицкой крепости, надеясь настигнуть Пугачёва ещё на Белорецких заводах; но, …получил донесение, что Пугачёв идёт вверх по линии от одной крепости на другую, как в начале своего грозного появления. Декалонг спешил к Верхне-Яицкой. Тут узнал он о взятии Магнитной. Он двинулся к Кизильской. Но прошед уже пятнадцать вёрст, узнал от пойманного башкирца, что Пугачёв, услыша о приближении войска, шёл же не к Кизильской, а прямыми горами на Карагайску. Ю. Декалонг пошёл наверх. Приближаясь к Карагайской, он увидел одни дымящиеся развалины: Пугачёв покинул её накануне. Декалонг надеялся догнать его в Петрозаводской, но и тут уже его не застал. Крепость была разорена и выжжена, церковь разграблена, иконы ободраны и разломаны в щепи.
І після поранення Пугачов продовжує керувати повстанням
Декалонг, оставя линию, пошёл внутреннею дорогою на Уйскую крепость. У него оставалось овса только на одни сутки. Он думал настигнуть Пугачёва, хотя в Степной крепости; но узнав, что и Степная уже взята, пустился к Троицкой… 21 мая утром приближился он к Троицкой, … и наконец увидел Пугачёва, расположившегося лагерем под крепостию, взятой им накануне. Декалонг тотчас на него напал. У Пугачёва было более десяти тысяч войска и до тридцати пушек. Сражение продолжалось более четырёх часов. Во всё это время Пугачёв лежал в своей палатке, страдая от раны, полученной им под Магнитною. Действиями распоряжал Белобородов. Наконец мятежники расстроились. Пугачёв сел на лошадь и с подвязанною рукою бросался всюду, стараясь навести порядок; но всё рассеялось и бежало. Пугачёв ушёл с одною пушкою по Челябинской дороге. Преследовать было невозможно. Конница была слишком изнурена…
Пугачёв и Белобородов, ведая, что усталость войска и изнурение лошадей не позволят Декалонгу воспользоваться своею победою, привели в устройство свои рассеянные толпы и стали в порядке отступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. Майоры Гагарин и Жолобов, отряженные Декалонгом на другой день после сражения, преследовали их, но не могли достигнуть»82.
На останньому етапі селянської війни найзапопадливіше діяли проти повстанців каральні загони царського підполковника німецького вихідця Міхельсона. Врешті-решт цим каральним загонам, які відзначалися жорстокими кривавими розправами над повстанцями та співчуваючими їм народами, вдалося завдати поріділим загонам Пугачова смертельних ударів. Останні бої розгорнулися на берегах середньої течії Волги.
«Пугачёв не имел средств выбраться из сетей, его стесняющих. Его сообщники, с одной стороны, видя неминуемую гибель, а с другой – надежду на прощение, стали сговариваться и решились выдать его правительству.
Пугачёв хотел идти к Каспийскому морю, надеясь как-нибудь пробраться в киргизкайсацкие степи. Казаки на то притворно согласились; но сказав, что они хотят взять с собою жён и детей, повезли его на Узени, обыкновенное убежище тамошних преступников и беглецов. 14 сентября они прибыли в селение тамошних староверов. Тут произошло последнее совещание. Казаки, не согласившиеся отдаться в руки правительства, рассеялись. Прочие прошли к ставке Пугачёва.
Ув’язнення О. І. Пугачова
Пугачёв сидел один в задумчивости. Оружие его висело в стороне. Услыша вошедших казаков, он поднял голову и спросил: чего им надобно? Они стали говорить о своём отчаянном положении, и между тем, тихо подвигаясь, старались загородить его от висевшего оружия. Пугачёв начал опять их уговаривать идти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ехали за ним и что уже ему пора ехать за ними. «Что же? – сказал Пугачёв, – вы хотите изменить своему государю?» – «Что делать!» – отвечали казаки и вдруг на него кинулись. Пугачёв успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. «Я давно видел вашу измену», – сказал Пугачёв и, подозвав своего любимца, илецкого казака Творогова, протянул ему свои руки: «Вяжи!» Творогов хотел ему окрутить локти назад. Пугачёв не сдался. «Разве я разбойник?» – говорил он гневно. Казаки посадили его верхом и повезли к Яицкому городку. Во всю дорогу Пугачёв им угрожал местью великого князя. Однажды нашёл он способ высвободить руки, выхватил саблю и пистолет, ранил выстрелом одного из казаков, и закричал, чтоб вязали изменников. Но никто уже его не слушал. Казаки, подъехав к Яицкому городку, послали уведомить о том коменданта. Казак Харчев и сержант Бардовский высланы были к нему навстречу, приняли Пугачёва, посадили его в колодку и привезли в город, прямо к гвардии капитанпоручику Маврину, члену следственной комиссии.
Маврин допросил самозванца. Пугачёв с первого слова открылся ему. «Богу было угодно, – сказал он, – наказать Россию через моё окаянство». Велено было жителям собраться на городскую площадь; туда приведены были и бунтовщики, содержащиеся в оковах. Маврин вывел Пугачёва и показал его народу. Все узнали его: бунтовщики потупили голову. Пугачёв громко стал уличать их и сказал: «Вы погубили меня; вы несколько дней сряду упрашивали принять на себя имя покойного великого государя, а когда и согласился, я долго отрицался, то всё, что ни делал, было с вашей воли и согласия; вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле». Бунтовщики не отвечали ни слова.
Один з найвидатніших полководців в історії О. В. Суворов розпитує О. І. Пугачова про його військові таланти
Суворов между тем прибыл из Узени и узнал от пустынников, что Пугачёв был связан его сообщниками и что они повезли его к Яицкому городку. Суворов поспешил туда же. Ночью сбился он с дороги и нашёл на огни, раскладенные в степи ворующими киргизами.
Суворов напал на них и прогнал, потеряв несколько человек, и своего адъютанта Милорадовича. Через несколько дней прибыл он в Яицкий городок. Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях и повёз его в Симбирск, куда должен был приехать и граф Панин.
Пугачёв сидел в деревянной клетке на двухколёсной телеге. Сильный отряд при двух пушках охранял его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах (во сто сорока верстах от Самары) случился пожар близ избы, где ночевал Пугачёв. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком, и во всю ночь Суворов их караулил. В Коспорье, против Самары, ночью, в волновую погоду, Суворов переправился через Волгу и пришёл в Симбирск в начале октября.
Пугачёва привезли прямо во двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окружённый своим штабом. – «Кто ты таков?» – спросил он у самозванца. «Емельян Иванов Пугачёв», – отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» – «Я не ворон (возразил Пугачёв, играя словами и изъясняясь, по его обыкновению, иносказательно), я воронёнок, а ворон-то ещё летает». – Надобно знать, что яицкие бунтовщики в опровержение общей молвы распространили слух, что между ими действительно находился некто Пугачёв, но что он с государем Петром III, ими предводительствующим, ничего общего не имеет. Панин, заметя, что дерзость Пугачёва поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды. Пугачёв стал на колени и просил помилования. Он посажен был под крепкий караул, скованный по рукам и по ногам, с железным обручем около поясницы, на цепи, привинченной к спине. Академик Рычков, отец убитого симбирского коменданта, видел его тут и описал своё свидание. Пугачёв ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему: «Добро пожаловать», – и пригласил его с ним отобедать. «Из чего, – пишет академик, – я познал его подлый дух». Рычков спросил его, как мог он отважиться на такие великие злодеяния? Пугачёв отвечал: «Виноват перед Богом и государынею, но буду стараться заслужить все мои вины». И подтверждал слова свои божбою (по подлости своей, опять замечает Рычков).
Говоря о своём сыне, Рычков не мог удержаться от слёз; Пугачёв, глядя на него, сам заплакал.
Наконец Пугачёва отправили в Москву, где его участь должна была решиться. Его везли в зимней кибитке на переменных обывательских лошадях; гвардии капитан Галахов и капитан Повало-Шейковский, несколько месяцев перед сим бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах. Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились у его кибитки: помните, дети, что вы видели Пугачёва. Старые люди ещё рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ.
Во всю дорогу он был весел и спокоен. В Москве встречен он был многочисленным народом, недавно ожидавшим его с нетерпением и едва усмирённым поимкою грозного злодея. Он был посажен на Монетный двор, где с утра до ночи, в течение двух месяцев, любопытные люди могли видеть славного мятежника, прикованного к стене и ещё страшного в своём бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса. Перед судом он оказал неожиданную слабость духа.
Вирок і страта Омеляна Івановича Пугачова та його найближчих соратників
Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора. Пугачёв и Перфильев приготовлены были к четвертованию; Чика83 к отсечению головы; Шигаев, Падура и Торнов – к виселице; осьмнадцать человек – к наказанию кнутом и к ссылке на каторжные работы. Казнь Пугачёва и его сообщников совершилась в Москве 10 января 1775 года. С утра бесчисленное множество народа столпилось на болоте, где воздвигнут был высокий помост. На нём сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около помоста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг всё заколебалось и зашумело: везут, везут! Вслед за отрядом кирасиров ехали сани с высоким амвоном. На нём с открытою головою сидел Пугачёв, насупротив его духовники. Тут же находился чиновник Тайной экспедиции. Пугачёв, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовала ещё конница и шла толпа прочих осуждённых. Очевидец (в то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный славою поэта и государственного мужа) описывает следующим образом кровавое позорище:
«Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачёв и любимец его Перфильев84 в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: на караул, и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило.
При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицмейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачёв?» Он столь же громко ответствовал: «Так, государь, я казак Зимовейской станицы, Емелька Пугачёв». Потом, во всё продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев, немалого росту, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупив глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и сошёл с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачёв, сделав с крестным знамением несколько земных поклонов, обратился к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный: отпусти, в чём я согрубил пред тобою… прости народ православный!» При сем слове экзекутор дал знак; палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; начали раздирать рукава шёлкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и в миг окровавленная голова уже висела в воздухе…»
Палач имел тайное поручение сократить мучения казнённых. У трупа отрезали руки и ноги, палачи отнесли их по четырём углам эшафота, голову показали уже потом и воткнули на высокий кол. Перфильев, перекрестясь, простёрся ниц и остался недвижим.
Палачи его подняли и казнили так же, как и Пугачёва. Между тем Шигаев, Падуров и Торнов уже висели в своих высоких содроганиях… В сие время зазвенел колокольчик. Чику повезли в Уфу, где казнь его должна была совершиться. Тогда начались торговые казни; народ разошёлся; осталась небольшая кучка любопытных около столба, к которому один после другого привязывались преступники, присуждённые к кнуту. Отрубленные члены четвертованных мятежников были разнесены по московским заставам и несколько дней после сожжены вместе с телами. Палачи развеяли пепел. Помилованные мятежники были на другой день приведены пред Грановитую палату. Им объявили прощение и при всём народе сняли с них оковы.
Так кончился мятеж, начатый горсткою непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства и поколебавший государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное спокойствие ещё долго не водворялось. Панин и Суворов ещё целый год оставались в усмирённых губерниях, утверждая в них ослаблённое правление, возобновляя города и крепости и искореняя последние отрасли пресечённого бунта. В конце 1755 года обнародовано было общее прощение и повелено всё дело предать общему забвению. Екатерина, желая истребить воспоминание об ужасной эпохе, уничтожила древнее название реки, коей берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие казаки были переименованы в уральские, а городок их назвался сим же именем. Но имя страшного бунтовщика гремело ещё в краях, где он свирепствовал. Народ живо ещё помнит кровавую пору, которую так выразительно назвал он пугачёвщиною»85.
Дотримуючись проголошених у вступі засад, автори цитували видані в далекому минулому твори, не підправляючи їх. Цитоване потребує, на нашу думку, певних пояснень. Особистим цензором найбільшого історичного твору, присвяченого найбільшому селянському повстанню у вітчизняній історії, як відзначалося раніше, був сам цар Микола I (або Микола Палкін). Беручи на себе завдання привернути увагу громадськості до антицарського, нехай і ззовні прикритого зрозумілими тоді громадсько-історичними гаслами повстання, очолюваного Омеляном Пугачовим, О. С. Пушкін мав у деяких випадках користуватися характеристиками, які не мали викликати негативну реакцію цензорів, та обійти її, вдаючися до вживаної у тодішніх історичних творах лексики.
О. С. Пушкін пояснював В. А. Жуковському, своєму близькому другові, тактику, якої він дотримувався у своїй найбільшій історичній праці.
20 січня 1826 р., коли масштаби царської розправи над декабристами далеко не були вже таємницею, висланий у Михайловське Олександр Сергійович звернувся з листом до В. Жуковського. «Я не писал к тебе, во-первых, – пояснював він своєму доброму й впливовому другові, – потому, что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Вот в чём дело: мудрено мне требовать твоего заступничества перед государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о нём? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Всётаки я от жандарма ещё не ушёл, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвинённых. А между ними друзей моих довольно NB: оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? напиши, сделай милость. Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться, но вам (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Моё будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения правительства со мною etc.
Итак, остаётся тебе положиться на моё благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.
В Петербурге я был дружен с майором Раевским, с генералами Пущиным и Орловым.
Я был масоном в Кишинёвской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.
Я наконец был в связи с большою частью нынешних заговорщиков.
Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.
Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастию.
Прости, будь счастлив, это покамест первое моё желание.
Прежде, чем сожжёшь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?
Говорят, ты написал стихи на смерть Александра – предмет богатый! – но в течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрёк ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры – глас народа. Следовательно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба»86.
Справжні історичні погляди О. С. Пушкіна
Отже, Олександр Сергійович оцінював велике селянське повстання XVIII століття зовсім не так, як про це можна тлумачити, посилаючись на відредаговану самим царем «Историю Пугачёвского бунта».
Поет-демократ та безсумнівний прихильник декабристського руху виклав свою оцінку, зокрема, в достовірних підготовчих матеріалах, які він ретельно й відповідально збирав, готуючи свій найбільший історичний твір. Про його особисте ставлення до повстання та до керівника народного руху О. І. Пугачова можна напевно дізнатись, звертаючись радше до його «Замечаний о бунте», «Записей устных рассказов, преданий, песен», а також полемічної статті, надрукованої в 1835 році в журналі «Сын отечества». Більша частина двох названих щойно матеріалів друкується нижче.
Замечания о бунте
1
«…Пугачёв был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос графу Гудовичу87 был: «Жив ли мой отец?»
2
Пугачёв говорил, что сама императрица помогла ему скрыться.
3
Первое возмутительное воззвание Пугачёва к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов.
6
Чернышёв (тот самый, о котором государыня Екатерина II говорит в своих записках) был некогда камер-лакеем. Он был удалён из Петербурга повелением императрицы Елисаветы Петровны. Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями. Старший сын умер в Петербурге комендантом крепости.
7
(Генерал-майор) Кар был пред сим употребляем в делах, требовавших твёрдости и даже жестокости (что ещё не предполагает храбрости, и Кар это доказал). Разбитый двумя каторжниками, он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки. Приехав в Москву, он хотел явиться с оправданиями к князю Волконскому, который его не принял. Кар приехал в Благородное собрание, но его появление произвело такой шум и такие крики, что он принуждён был поспешно удалиться. Ныне общее мнение если и существует, то уж гораздо равнодушнее, нежели как бывало в старину. Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашёл, однако ж, смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостию.
10
Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачёва. «Грех сказать, – говорила мне 80-летняя казачка, – на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал». – «Расскажи мне, – говорил я Д. Пьянову, – как Пугачёв был у тебя посажённым отцом». – «Он для тебя Пугачёв, – отвечал мне сердито старик, – а для меня он был великий государь Пётр Фёдорович…»
12
Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. «Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши». Многие из сих прощённых должны были быть живы во время Пугачёвского бунта.
17
В Саранске архимандрит Александр принял Пугачёва со крестом и Евангелием и во время молебствия, на ектении упомянул государыню Устинию Петровну. Архимандрит предан был гражданскому суду в Казани. 13 октября 1774 года, в полдень, приведен он был в оковах в собор. Его повели в алтарь и возложили на него полное облачение. Солдаты с примкнутыми штыками стояли у северных дверей. Протопоп и протодиакон поставили его посреди церкви во всём облачении и в оковах. После обедни был он выведен на площадь; ему прочли его вины. После того сняли с него ризы, обрезали волоса и бороду, надели мужицкий армяк и сослали на вечное заточение. Народ был в ужасе и жалел о преступнике. В указе велено было вывести Александра в одежде монашеской. Но Потёмкин (Павел Сергеевич) отступил от сего, для большего эффекта.
19
Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных именным указом, не мог ни в каком случае быть казнён смертию. Не знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; может быть, он его не знал; может быть, судья о том не подумал; тем не менее казнь сего злодея противузаконна.
Общие замечания
Весь чёрный народ был за Пугачёва. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачёв и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны. (Nota bene. Класс приказных и чиновников был ещё малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся офицерах. Многие из сих последних были в шайках Пугачёва…)
Все немцы, находившиеся в средних чинах, сделали честно своё дело… Но все, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия…
Разбирая меры, предпринятые Пугачёвым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надёжные и действительные к достижению своей цели. Правительство со своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно.
Нет худа без добра. Пугачёвский бунт показал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии, слишком пространные, разделились; сообщение всех частей государства сделалось быстрее, etc.
Записи устных рассказов, предания, песни
I
Показания Крылова (поэта)
Отец Крылова (капитан) был при Симонове в Яицком городке. Его твёрдость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела и сильно помогли Симонову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25р.! Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачёва в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с сыном. Рейнсдорп был человек очень глупый. Во время осады он задумал было ловить казаков капканами, чем и насмешил весь город, хоть было и не до смеху. После бунта Ив. Крылов возвратился в Яицкий городок, где завелася игра в пугачёвщину. Дети разделились на две стороны: городовую и бунтовскую, и драки были значительные.
Крылов, как сын капитанский, был предводителем одной стороны. Они выдумали, разменивая пленных, лишних сечь, отчего произошло в ребятах, между коими были взрослые, такое остервенение, что принуждены были игру запретить. Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчапов (живой доныне). Мертваго, поймав его в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. Его отцепил прохожий солдат.
II
Из записной дорожной книжки
Из Гурьева городка Протекла кровью река Из крепости из Зерной На подмогу Рассыпной Выслан капитан Сурин Со командою один Он нечаянно в крепость въехал Начальников перевешал Атаманов до пяти Рядовых сот до шести.Декабристи привернули увагу, симпатії та добре відчували підтримку видатних своїх сучасників, зокрема найвизначнішого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. У своїх спогадах І. Д. Якушкін відзначав: «Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языци, если б народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители по приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило всё народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге налево и направо поле было покрыто пёстрой толпой, и мне теперь ещё помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий, каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле»88.
Після завершення Вітчизняної війни 1812 р. нагальні почуття перебудови життя країни заволоділи й Пушкіним. Олександр Сергійович гаряче симпатизував дворянським революціонерам-декабристам. У своєму щоденнику в другій половині липня 1826 р. він занотував звістку про їхню загибель на царській шибениці: «Услышал о смерти Р., П., М., К., Б., 24»89.
Декабристи, щоб зберегти поета від царських переслідувань, всіляко приховували найдрібніші відомості про пушкінські симпатії до них та його зв’язки з ними. Пушкін – також добре розуміючи як загальну ситуацію, так і наміри урядових нишпорок – прагнув не видавати свої гарячі симпатії та щиру любов до страчених Рилєєва, Пестеля, Муравйова-Апостола, Каховського, Бестужева-Рюміна.
Геніальний поет Росії у боротьбі з нестерпним гнобленням царизму
Найболючіше тодішне зло самодержавства Пушкін убачав у закабаленні найбільшої частини населення Росії – селянства. Саме тому він докладав незмінних зусиль для викриття цього зла. Першорядним завданням передових сил суспільства поет справедливо вважав боротьбу з кріпосним ладом. Цій проблемі Олександр Сергійович присвятив глибоко вдумливе, науково обґрунтоване дослідження «О дворянстве»90. Після коротенького вступу, він, як то кажуть, «бере бика за роги», виявляючи неабияке вміння, іронію та високу майстерність, нарешті органічну прихильність до республіканського устрою рідної країни.
«Что такое дворянство? – запитує Пушкін. – Потомственное сословие народа, высшее, т. е. награждённое большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом и его представителями. С какой целию? с целию иметь мощных защитников или близких ко власти и непосредственных представителей. Какие люди составляют сие сословие? люди, какие имеют время заниматься чужими делами. Кто сии люди? люди, отменные по своему богатству или образу жизни. Почему так? богатство доставляет ему способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву du souverain. Образ жизни, т. е. не ремесленный или земледельческий – ибо всё сие налагает на работника или земледельца различные узы. Почему так? Земледелец зависит от земли, им обработанной, и более всех неволен, ремесленник от числа требователей торговых, от мастеров и покупателей. Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? Нужно. Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить – или задушить. Нужны ли они в народе, так же как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они la sauve garde трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества. Кто составляет дворянство в республиках? Богатые люди, которыми народ кормится? А в государствах? Военные люди, которые составляют гвардию и войско государево. Чем кончится дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. а = b.
Что составило в России древнюю аристократию? – Варяги, богатые военные славяне и воинственные пришельцы. Какие были права их? Равные княжеским, ибо они были малые князья, имели свои дружины и переходили от одного государя к другому.
Отчего г. Полевой91 говорит, что они были наравне со смердами? Не знаю. Но самое молчание летописцев о их правах показывает, что права сии были ничем не ограничены. Какое время силы нашего боярства? Во время уделов, удельные князья соделавшись сами боярами. Когда пало боярство? При Иоаннах, которые к одному местничеству не дерзнули прикоснуться. Были ли дворянские грамоты?.. (Минин). Было ли местничество? натурально ли оно? везде ли существовало оно? зачем уничтожено было оно? и было ли в самом деле уничтожено? Пётр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства – уничтоженные плутовством Анны Иоанновны. Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.
Русское дворянство что ныне значит? какими способами делается дворянин? что из этого следует? Глубокое призвание к сему званию. Дворянин помещик. Его влияние и важность – рекрутство. Права. Дворянин в службе – дворянин в деревне. Происхождение дворянства. Дворянин при дворе.
(1830 – 1835)».92
Саме О. С. Пушкін, його друзі й однодумці з лав декабристів, видатний мислитель П. Я. Чаадаєв розпочали рішуче викриття самодержавства. Водночас характерною рисою взаємодії цих сучасників було почуття щирої дружньої взаємної поваги й любові. Показовим виявом цього залишилися записи у пушкінському «Щоденнику», датовані 9 квітня 1821 року.
«Утро провёл с Пестелем; умный человек во всём смысле этого слова. “Mon coer etre materialiste, – говорит он, – mais ma raison s’refuse”93. Мы с ним вели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю…
Получил письмо от Чаадаева. – «Друг мой, упрёки твои жестоки и несправедливы;
никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя. – Жалею, что не получил он моих писем: они бы его обрадовали.
Мне надо его видеть»94.
О. С. Пушкін не міг писати інакше, бо висловив свої справжні щирі й глибокі дружні почуття до П. Я. Чаадаєва у проникливому, широко знаному вірші, написаному ще 1818 року:
К Чаадаеву
Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман. Но в нас горит ещё желанье, Под гнётом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждём с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждёт любовник молодой Минуты верного свиданья. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Товарищ, верь: взойдёт она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!95Про щиру приязнь і непорушну дружбу зі своїми товаришами О. С. Пушкін вірив і пишався ними все своє життя. Ось приклади, запозичені з його «Щоденника»:
«1822
После обеда во сне видел Кюхельбекера.
1 июля день счастливый.
Пушкин.
1827 / 15 октября…
Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошёл высокий, бледный и худой молодой человек с чёрной бородой в фризовой шинели, и с виду настоящий жид – я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург, для доносов или объяснений. Увидев меня, он с живостию на меня взглянул.
Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера96. Мы кинулись друг к другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательствами – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, – но куда же ли?»97
Микола І у боротьбі з повсталими військовими поселеннями
У пушкінському «Щоденнику» зафіксовано не лише сумні, але разом з тим і радісні нотатки про пам’ятні зустрічі з товаришами по серцю й спільними прагненнями друзями. В них йдеться й про суцільно сумні переживання, пов’язані з одверто насильницькими діями царя Миколи І проти повстанців так званих аракчеєвських «військових поселень».
Звертаємось до запису від 26 липня 1831 р.:98 «Вчера государь император отправился в военные поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших здесь беспокойств. Несколько офицеров и лекарей убито бунтовщиками. Их депутаты пришли в Ижору с повинной головой и с распискою одного из офицеров, которые перед смертию принудили бунтовщики показать, будто бы он и лекарь отравливали людей. Государь говорил с депутатами мятежников, послал их назад, приказал во всём слушаться графа Орлова99, посланного в поселения при первом известии о бунте, и обещал сам к ним приехать. “Тогда я вас прощу, – сказал он им. – Кажется, всё усмирено, а если нет ещё, то всё усмирится присутствием государя”»100.
Останніми днями того-таки липня 1831 року читаємо: «Бунт в Новгородских колониях усмирён его присутствием, – наводить «Щоденник» заангажований офіційний урядовий коментар. – Несколько генералов, полковников и почти все офицеры полков Аракчеевского и короля Прусского почти все перерезаны. Мятежники имели списки мнимых отравителей, т. е. начальников и лекарей. Генерала они засекли на плаце; над некоторыми жертвами убийцы ругались. Посадив на стул одного майора, они подходили к нему с шутками: «Ваше высокоблагородие, что это вы так побледнели? Вы сами не свои, вы так смирны», – и с этим словом били его по лицу. Лекарей убито 15 человек; один из них спасён больными, лежащими в лазарете. Этот лекарь находился 12 лет в колонии, был отменно любим солдатами за его усердие и добродушие. Мятежники отдавали ему справедливость, но хотели, однако же, его зарезать, ибо и он стоял в списке жертв. Больные вытребовали его из-под караула. Мятежники хотели было ехать к Аракчееву в Грузино, чтобы убить его, а дом разграбить. 30 троек были уже готовы. Жандармский офицер, взявший над ними власть, успел уговорить их оставить это намерение. Он было спас и офицеров Прусского короля, уговорив мятежников содержать несчастных под арестом; но после его отъезда убийства совершились. Государь обедал в Аракчеевском полку. Солдаты встретили его с хлебом и мёдом. Арит101, находившийся при нём, сказал им с негодованием: «Вам бы должно вынести кутью». Государь собрал полк в манеже. Приказал попу читать молитвы, приложился ко кресту и обратился к мятежникам. Он разругал их, объявил, что не может их простить, и требовал, чтобы они выдали ему зачинщиков. Полк обещался. Свидетели с восторгом и с изумлением говорят о мужестве и силе духа императора.
Восемь полков, возмутившихся в Старой Руссе, получили повеление идти в Гатчину»102.
Запис у незабутню дату – 14 грудня:
«11-го декабря получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращён «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшею ценсурою; стихи:
И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова —вымараны. На многих местах поставлен (?), – всё это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным103».
Цього ж таки пам’ятного дня О. С. Пушкін лишив красномовний запис: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. Эти четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год следует должно стараться о снискании работ и о уменьшении цен на хлеб; если же крестьяне узнают, что правительство или помещики намерены их кормить, то они не станут работать, и никто не в состоянии будет отвратить от них голода. Всё это очень соблазнительно. В обществе ропщут, – а у Нессельроде и Кочубей будут балы (это также есть способ льстить двору)»104.
Ставлення Пушкіна до царської «ласки»
Новий 1834 р. не змінив ані ставлення й намірів царя Миколи І до Пушкіна, ані позиції й творчих планів поета на майбутнє. 1 січня в його «Щоденнику» записано: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau»105.
У новорічному записі за 1834 р. він відзначає: «Встретил Новый год у Натальи Кирилловны Загряжской106. Разговор со Сперанским о Пугачёве, о Собрании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc».
Через тиждень, 7 січня: «Государь сказал княгине Вяземской: “J’espere que Pouchkine a pris en bonne part sa nomination. Jusqu’a present in m’a tenu parole, et j’ai ete content de lui” etc. etc. 107. Великий князь намедни поздравил меня в театре: – Покорнейше благодарю, ваше высочество, до сих пор надо мною все смеялись, вы первый меня поздравили»108. За десять днів, 17 січня, у «Щоденнику» запис: «Бал у графа Бобринского, один из самых блистательных. Государь мне о моём камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моём «Пугачёве», он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нём пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей109, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфорской» (в 1774 году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но далеко от своей донской станицы, на чужой холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим добродушием»110.
А ось запис у «Щоденнику» Олександра Сергійовича від 26 січня:
«Барон д’Aнтес111 и маркиз де Пина112, два шуана113, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет»114.
Запис 28 лютого: «Протекший месяц был довольно шумен, – много балов, раутов etc… Государь позволил мне печатать «Пугачёва»; мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными). В воскресение на бале, в концертной, государь долго со мною разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков115, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения»116.
Запис 6 березня: «Царь дал мне взаймы 20 000 на напечатание «Пугачёва». Спасибо»117.
Запис 17 березня: «Вчера было заседание литераторов у Греча об издании русского Conversations Lexikon. Нас было человек сто, большей частию неизвестных мне русских людей. Греч сказал мне предварительно: «Плюшар118 в этом деле есть шарлатан, а я пальяс: пью его лекарство и хвалю его»119. Так и вышло. Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку. Предприятие в миллион, а выгоды не вижу. Не говорю уже о чести. Охота лезть в омут, где полощатся Булгарин, Полевой и Свиньин120. Гаевский подписался, но с условием. Князь Одоевский и я последовали его примеру. Вяземский не был приглашён на сие литературное сборище. Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои «Воспоминания о Царском Селе». Устрялов сказывал мне, что издаёт процесс Никонов121. Важная вещь!122
2 апреля. Кн. Одоевский, доктор Гаевский, Зайцевский и я выключены из числа издателей Conversations Lexikon. Прочие были обижены нашей оговоркою; но честный человек, говорит Одоевский, может быть однажды обманут; но в другой раз обманут только дурак. Этот лексикон будет не что иное, как «Северная пчела»123 и «Библиотека для чтения»124 в полном порядке и объёме.
В прошлое воскресение обедал я у Сперанского125. Он рассказывал мне о своём изгнании в 1812 году. Он выслан был из Петербурга по Тихвинской глухой дороге. Ему дан был в провожатые полицейский чиновник, человек добрый и глупый. На одной станции не давали ему лошадей; чиновник пришёл просить покровительства у своего арестанта: «Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают». Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении Зла и Блага. Он отвечал комплиментами и советовал мне писать историю моего времени.
7 апреля…
Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семёрку и туза… Гоголь по моему совету начал «Историю русской критики»126.
16-го. Вчера проводил Наталию Николаевну до Ижоры. Возвратясь, нашёл у себя приглашение на дворянский бал и приказ явиться к графу Литте127. Я догадался, что речь идёт о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в Вербное воскресенье. Так и вышло: Жуковский сказал мне, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и сказал: «Если им тяжело выполнять свои обязанности, то я найду средство их избавить…»
Однако ж я не поехал на головомытьё, а написал изъяснение.
Говорят, будто бы на днях выйдет указ о том, что уничтожается право русским подданным пребывать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, если слух сей оправдается.
3 мая… Вышел указ о русских подданных, пребывающих в чужих краях. Он есть явное нарушение права, данного дворянству Петром ІІІ; но так как допускаются исключения, то и будет одною из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и во вред правительству.
10 мая. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо моё ходит по городу и что государь о нём ему говорил. Я вообразил, что дело идёт о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которое публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, написанное мною Наталье Николаевне, и, нашед в нём отчёт о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всём полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила его государю, который сгоряча также его не понял. К счастию, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Всё успокоилось. Государю неугодно было, что о своём камерюнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – и давать ход интриге, достойной Видока128 и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным129.
22 июля. Прошедший месяц был бурен130. Чуть было не поссорился я со двором, – но всё перемололось. Однако это мне не пройдёт131.
28 ноября. Я ничего не записывал в течение трёх месяцев. Я был в отсутствии – выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами – своими товарищами… Воротился к 15 октября в Петербург, где и проживаю. «Пугачёв» мой отпечатан. Я ждал всё возвращения царя из Пруссии132.
5 декабря. Завтра133 надобно будет явиться во дворец. У меня ещё нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними. Царь рассердится, – да что мне делать…
Я всё-таки не был 6-го во дворце – и рапортовался больным. За мною царь хотел послать фельдъегеря или Арндта134.
18-го дек. Третьего дня был я наконец в Аничковом. Опишу всё в подробности в пользу будущего Вальтер Скотта.
Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в 8½ в Аничковом, мне в мундирном фраке, Наталье Николаевне как обыкновенно. В 9 часов мы приехали.
На лестнице я встретил старую графиню Бобринскую135, которая всегда за меня лжёт и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами; но это ещё не всё)… Граф Бобринский136, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели… Я заговорил с Ленским137 о Мицкевиче и потом о Польше. Он прервал разговор, сказав: – Mon cher ami, ce n’est pas ici le lieu de parle de la Pologne. Choisissons un terrain neutre, chez l’ambassadeur d’Autriche par exemple138…
22 декабря, суббота. В субботу был у Хитровой139. Имел долгий разговор с великим князем140. Началось журналами: «Вообрази, какую глупость напечатали в «Северной пчеле», дело идёт о пребывании государя в Москве… Пчела говорит: «Государь император обошёл соборы, возвратился во дворец и с высоты красного крыльца низко (низко!) поклонился народу». Этого не довольно: журналист дурак продолжает: «Как восхитительно было видеть великого государя, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими!» – Не забудь, что это читают лавочники. Великий князь прав, а журналист, конечно, глуп. Потом разговорились о дворянстве. Великий князь был противу постановления о почётном гражданстве: зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers etat, сию вечную стихию мятежа и оппозиции? Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать, или (что всё равно) всё будет дворянством. Что же касается до tiers etat, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещениями, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много? Говоря о старом дворянстве, я сказал: «Nous, qui sommes aussi bons gentilshommts que l’impereur et vous…» ets. Великий князь был очень любезен и откровенен. «Vous etes bien de votre famille, – сказал я ему: – tous les Romanof sont revolutsonnaires et niveleurs». «Спасибо: так ты жалуешь меня в якобинцы! благодарю, voila une reputation que manguait». Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!
Цензор Никитенко141 на обвахте под арестом, и вот по какому случаю: Деларю142 напечатал в «Библиотеке» Смирдина перевод оды В. (Г)Юго, в которой находится следующая глубокая мысль: «Если-де я был бы Богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Милены или Хлои». Митрополит143 (которому досуг читать наши бредни) жаловался государю, прося защитить православие от нападок Деларю и Смирдина. Отселе буря.
Крылов сказал очень хорошо:
Мой друг! Когда бы был ты бог, То глупости такой сказать бы ты не мог.Это всё равно, заметил он мне, что я бы написал: когда б я был архиерей, то пошёл бы во всём облачении плясать французский кадриль. А всё виноват Глинка (Фёдор)144. После его ухарского псалма145, где он заставил Бога говорить языком Дениса Давыдова, ценсор подумал, что он146 пустился во всё тяжкое…
Псалом Глинки уморительно смешон.
1835
8 января. Начнём новый год злословием, на счастие…
Бриллианты и дорогие каменья были ещё недавно в низкой цене. Они никому не были нужны. Выкупив бриллианты Натальи Николаевны147, заложенные в московском ломбарде, я принуждён был их перезаложить в частном ломбарде, не согласившись продать их за бесценок. Их требуют в кабинет, и вот по какому случаю.
Недавно государь приказал князю Волконскому148 принести к нему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9000 руб. Князь Волконский принёс табакерку. Государю показалась она довольно бедна. – «Дороже нет», – отвечал Волконский. «Если так, делать нечего, – отвечал государь: – я хотел тебе сделать подарок, возьми её себе». Вообразите себе рожу старого скряги. С той поры начали требовать бриллианты. Теперь в кабинете табакерки завелись уже в 60 000 р.
Великая княгиня149 взяла у меня Записки Екатерины II150 и сходит от них с ума.
Февраль. С генваря очень я занят Петром… Придворными сплетнями мало занят…
Филарет сделал донос на Павского151, будто бы он лютеранин. Павский отставлен от великого князя152. Митрополит и синод подтвердили мнение Филарета. Государь сказал, что в делах духовных он не судья; но ласково простился с Павским. Жаль умного, учёного и доброго священника! Павского не любит Шишков153, который набил академию попами, никак не хотел принять Павского в число членов за то, что он, зная еврейский язык, доказал какую-то нелепость в корнях президента. Митрополит на место Павского предлагал Кочтова154, плута и сплетника. Государь не захотел и выбрал другого человека155, говорят, очень порядочного. Этот приехал к митрополиту, и старый лукавец сказал:
«Я вас рекомендовал государю». Qui est-ce que l’on trompe ici?156
В публике очень бранят моего Пугачёва, а что хуже – не покупают. Уваров157 большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков158 (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои произведения с одного согласия государя… Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках159. Об нём сказали, что он начал тем, что был б… потом нянькой и попал в президенты Академии, как княгиня Дашкова160. Он крал казённые дрова и до сих пор на нём есть счёты (у него 11 тысяч душ, казённых слесарей употреблял в собственную работу etc, etc). Дашков (министр)161, который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвёл его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!»
Ценсура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:
Царствуй лёжа на бокуи
Сказка ложь, да в ней намёк, Добрым молодцам урок.Времена Красовского162 возвратились. Никитенко глупее Бирукова163».
СПОГАДИ СУЧАСНИКІВ ПРО ПУШКІНА
Відкриваючи епоху розквіту рідної літератури, геніальний поет привертає чільну увагу своїх сучасників. Коли ж йдеться про таку громадську життєлюбну товариську особу, яким був Олександр Сергійович Пушкін, така увага подвоюється, якщо не помножується. Спогадів про справжнього фундатора російської літератури безліч. Автори пропонованої праці змогли включити до неї лише одиниці.
Ф. Глинка. «Удаление А. С. Пушкина из С. – Петербурга в 1820 году»164
Відомий декабрист Ф. Глінка165 свідчить про перше заслання О. С. Пушкіна: «Познакомившись и сойдясь с Пушкиным с самого выпуска его из лицея, я очень любил его как Пушкина и уважал, как в высшей степени талантливого поэта. Кажется, и он это чувствовал и потому дозволял мне говорить прямо на насчёт тогдашней его разгульной жизни. Мне даже удалось отвести его от одной дуэли. Но это постороннее: приступаю к делу. Раз утром выхожу я из своей квартиры (на Театральной площади) и вижу Пушкина, идущего мне навстречу166. Он был, как и всегда, бодр и свеж; но обычная (по крайней мере, при встречах со мною) улыбка не играла на его лице, и лёгкий оттенок бледности.
– Я к вам.
– А я от себя!
И мы пошли вдоль площади. Пушкин заговорил первый:
– Я шёл к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пиесах, разбежавшихся по рукам, дошёл до правительства. Вчера, когда я возвратился домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесёт их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжёг все мои бумаги. При этом рассказе я тотчас узнал Фогеля с его проделками.
Теперь, – продолжал Пушкин, немного озабоченный, – меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться?.. Вот я и шёл посоветоваться с вами…
Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему:
– Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт; но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.
Тут, ещё поговорив немного, мы расстались. Пушкин пошёл к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место.
Часа через три явился и я к Милорадовичу, при котором, как при генерал-губернаторе, состоял я, по высочайшему повелению, по особым поручениям, в чине полковника гвардии. Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своём зелёном диване, окутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу:
– Знаешь, душа моя! (это его поговорка) у меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все бумаги; но я счёл более деликатным (это тоже любимое его выражение) пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои стихи сожжены! – у меня ничего не найдётся на квартире; но если вам угодно, всё найдётся здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу всё, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с отметкою, что моё и что разошлось под моим именем». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал… и написал целую тетрадь… Вот она (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу её государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою (это тоже его словцо) обхождения.
После этого мы перешли к очередным делам, а там занялись разговорами о делах графа, о Вороньках (имение в Полтавской губернии), где он выстроил великолепный дом, развёл чудесный сад (он очень любил садоводство) и всем этим хотел пожертвовать в пользу института для бедных девиц Полтавской губернии.
На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее и поджидал его возвращения от государя. Он возвратился, и первым словом его было:
– Ну, вот дело Пушкина и решено!
Разоблачившись потом от мундирной формы, он продолжал:
– Я вошёл к государю с своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: «Здесь всё, что разбрелось в публике, но вам, государь, этого не надо читать!» Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно, и наконец спросил: «А что ж ты сделал с автором?» – Я сказал ему от вашего имени прощение. Тут мне показалось, – продолжал Милорадович, – что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «Не рано ли?» Потом, ещё подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг».
Вот как было дело. Между тем, в промежутке двух суток, разнеслось по городу, что Пушкина ссылают. Гнедич167, с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах), бросился к Оленину168; Карамзин, как говорили, к государыне; а незабвенный для меня Чаадаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению…169
Кто таков упомянутый здесь Фогель? Фогель был одним из знаменитейших, современных ему агентов тайной полиции. В чине надворного советника он числился (для вида) по полиции; но действовал отдельно и самостоятельно. Он хорошо говорил пофранцузски, знал немецкий язык, как немец, говорил и писал по-русски, как русский.
Во время Семёновской истории170 он много работал и удивлял своими донесениями. Служил он прежде у Вязмитинова171, потом у Балашова172, и вот один из фактов его искусства в ремесле. В конце 1811 года с весьма секретными бумагами на имя французского посла в Петербурге выехал из Парижа тайный агент. Его перехватили и перевезли прямо в Шлюссельбургские казематы, а коляску его представили к Балашову, по приказанию которого её обыскали, ничего не нашли и поставили рядом с министерскими экипажами. Фогеля послали на разведку. Он разведал и объявил, что есть надежда открыть, если его посадят как преступника рядом с заключённым. Так и сделали. Там, отделённый тонкою перегородкою от нумера арестанта, Фогель своими вздохами, жалобами и восклицаниями привлёк внимание француза, вошёл с ним в сношение, выиграл его доверенность и чрез два месяца неволи вызнал всю тайну. Возвратясь в С. – Петербург, Фогель отправился прямо в каретный сарай, снял правое заднее колесо у коляски, велел отодрать шину и из выдолбленного под нею углубления достал все бумаги, которые, как оказавшиеся чрезвычайно важными, поднёс министру. Вот какого полёта была эта птица, носившаяся и над головою Пушкина!»173
В. І. Ленин зазначав: «Декабристы разбудили Герцена». Олександр Іванович і став їхнім першим істориком, їх наступником, який 13(1) вересня 1850 р., як завжди, щиро й одверто та принципово писав знаному італійському революціонеру й сучаснику Джузеппе Мадзіні: «Я не сижу сложа руки, у меня ещё слишком много крови в жилах и энергии в сердце, чтобы удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С 13 до 38 лет я служил одной идее, был под одним знаменем: война против всякой власти, против всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Я буду продолжать эту маленькую партизанскую войну, как настоящий казак, “auf eigene Faust”174, как говорят немцы, связанный с великой революционной армией, но не вступая в правильные кадры её, пока она совсем не преобразуется, т. е. не станет вполне революционною»175.
Декабристський рух був, очевидно, першим широким антисамодержавним рухом у Росії. «По вычислениям современного исследователя, – пише інший ґрунтовний знавець декабризму Н. Я. Ейдельман, – офицеры – участники тайных обществ 1825 г., а также офицеры, не входившие в общества, но принимавшие активное участие в вооружённых выступлениях, составляют всего около 0,6 % от всех офицеров и генералов русской армии того времени (169 декабристов на 26 424 офицера и генерала).
Если же исходить из известного Алфавита декабристов, включающего около 600 имён, и принять во внимание десятикратное число «сочувствующих» (о чём не раз толковали и декабристы и их враги) – тогда получится, что в движении была замешана заметная доля взрослого мужского дворянского населения страны».
За життя спадкоємного дворянина О. С. Пушкіна настали часи, коли більшість передових людей Росії почали віддавати собі звіт у тому, що головною перешкодою на шляху вільного розвитку величезної держави є кріпосництво. Геніальний російський поет, як відомо, шанував Петра І й таврував його наступників. «Аристокрация после его, – писав Олександр Сергійович, – неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких176 и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твёрдое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещёнными народами Европы. Памятниками неудачного борения аристокрации с деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливо должны были бы стыдиться.
Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их за счёт народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать – значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сём отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало её владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, она возбуждала гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве.
Много было званых и много избранных; но в длинном списке её любимцев, обречённых презрению потомства имя странного Потёмкина будет отмечено рукою потомства. Он разделит с Екатериной часть воинской её славы, ибо ему обязаны мы Чёрным морем и блестящими, хоть и бесплодными победами в северной Турции».177
Ю. М. Лотман178 в ряде работ справедливо отмечает, что главным итогом русской культуры XVIII – начала XIX в. было именно формирование нового просвещённого прогрессивного человеческого типа. «Именно эти люди двигают вперёд, живят русское просвещение, учат и учатся в первых университетах, лицеях. Это они – «дети 1812 года», разделившие с солдатами все тяготы двухлетней кампании, увидевшие на Западе многое (по мнению начальства, слишком многое) и ожидающие перемен в собственной стране. Это они – активные читатели Истории Карамзина и ранних стихов Пушкина.
Общественное значение мыслящего меньшинства умножалось разнообразными формами дружеских, литературных, политических объединений, в которых они участвовали (Арзамас, Зелёная лампа, Вольные литературные общества, лицейские, полковые содружества, «артели», масонские ложи, наконец, первые тайные общества). Это были люди той эпохи, о которой Чаадаев позже скажет «время надежд».
Появление на исторической сцене такого яркого, энергичного слоя и для многих современников и для позднейших наблюдателей-исследователей казалось неожиданным, отчасти загадочным.
«Богатыри не вы!» – восклицает лермонтовский герой, противопоставляя сегодняшних – вчерашним; и сам Лермонтов, понятно, согласен, что к людям 1812 – 1825 гг. не применимо его «толпой угрюмою…». Всё, что угодно, только не угрюмость. Девиз той эпохи – в пушкинских строчках:
Пусть остылой жизни чашу Тянет медленно другой, Мы ж утратим юность нашу Вместе с жизнью дорогой…»179Ясність у розумінні рушійних сил декабристського руху, його місця й ролі в боротьбі проти самодержавства з’ясував В. І. Ленін, аналізуючи новий, вищий етап революційного руху – першу народну революцію в Росії, що відбулася на самому початку ХХ століття. «Особенно интересно, – пише він у «Докладе о революции 1905 года», – сравнить военные восстания в России 1905 года с военным восстанием декабристов в 1825 году. Тогда руководство политическим движением принадлежало почти исключительно офицерам, и именно дворянским офицерам; они были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн. Масса солдат, состоявшая тогда из крепостных крестьян, держалась пассивно»180.
У цій же доповіді декабристський рух отримав більш розгорнуту характеристику. «В 1825 году, – відзначав В. І. Ленін, – Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами. С того момента и до 1881 года, когда Александр II был убит террористами, во главе движения стояли интеллигенты из среднего сословия. Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно эти жертвы пали не напрасно, несомненно. Они способствовали – прямо или косвенно – последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть»181.
Герцен – історик і наступник революційного декабристського руху
О. І. Герцен був не лише безмежно відданим справі боротьби революціонерів, а їх вдумливим проникливим істориком і наступником декабристського руху. У надрукованому в «Колоколі» циклі статей-листів «Концы и начала» він зазначав: «Казалось бы, что могло зародиться, вырасти, окрепнуть путного на этих грядах между Аракчеевыми182 и Маниловыми183? Что воспитаться этими матерями, брившими лбы, резавшими косы, колотившими прислугу, этими отцами, подобострастными перед всеми высшими, дикими тиранами со всем низшим? А именно между ними развились люди 14 декабря, фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя… Оно им пошло впрок! Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рождённых в среде палачества и раболепия. Но кто же их-то душу выжег огнём очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, он наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..»184
Досвід цих дворянських революціонерів мав стати надбанням всіх громадських сил, що виступали проти царського самодержавства в Росії. Це й стало поштовхом до створення дослідження «О развитии революционных идей в России», виданого німецькою мовою у 1851 р. Значну увагу приділено в ньому діяльності декабристів та її місцю в розвитку вітчизняного революційного руху. Однак, перший переклад цієї праці не був авторизованим, що одразу ж відзначив О. І. Герцен у листі з Парижа московським друзям від 19 червня 1851 року і негайно взявся за виправлення її: «Я напечатал в Ницце небольшую брошюрку о России. Это исправленное издание статей, бывших в журнале Колачека185 о России, исправленных186 редакцией и переводчиком»187. Виправлений твір було видано французькою мовою у 1853 р. «В русском переводе впервые издано в 1863 г., без участия Герцена, в Москве, нелегально, литографским способом, под названием «Историческое развитие революционных идей в России А. Герцена. Издание первое в переводе. Посвящается студентам Московского университета». М., 1861. Это издание было выпущено московским студенческим кружком П. Г. Заичневского188 и П. Э. Аргиропуло189».
Звернемось до російського перекладу останнього, надрукованого в зібранні творів визначного революційного демократа та полум’яного борця з кріпосницькою Росією190. З семи розділів «небольшой брошюрки» один цілком присвячений декабристському повстанню, ще два – його незаперечному впливу на подальший розвиток історичної епохи.
Місце знакової праці в творчості О. І. Герцена. Його історичні погляди
Зосередимо увагу на характеристиці, складеній дослідниками-літературознавцями щодо книги Олександра Івановича Герцена «О развитии революционных идей в России»: їй «принадлежит особое место в литературном наследстве Герцена. В ней с наибольшей полнотой раскрывается его историческая концепция в том виде, в каком она сложилась к началу 50-х годов. Это сочинение Герцена, целостно и разносторонне освещая как историю России от древнейших времён до середины XIX века, так и историю развития русского освободительного движения и передовой мысли, занимает исключительно важное место среди произведений русских революционеров-демократов, касающихся тех же вопросов. Подробный анализ развития русской литературы, данный в книге Герцена, ставит её рядом с «Очерками гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского.
Понимание Герценом ряда важных проблем русского исторического процесса, при всех отличиях, находится в глубоком внутреннем сродстве с исторической концепцией Белинского, а также с высказанными позднее взглядами Чернышевского и Добролюбова. Используя своё положение революционного эмигранта, Герцен имел возможность открыто выступить с такими суждениями о русской действительности и её прошлом и настоящем, которые не могли быть выражены в России ни Белинским, ни даже впоследствии Чернышевским, Добролюбовым, их соратниками и единомышленниками.
Всем этим и определяется большое значение книги Герцена как для изучения его исторической концепции, так и для раскрытия системы исторических взглядов идеологов русской революционной демократии.
Герцен не сводил историю России к истории самодержавно-крепостнического государства, он выдвигал на первый план историю народа, судьбы которого всегда находились в центре его внимания. Говоря о трудностях, преодолённых русским народом в процессе его исторического развития, Герцен показал, что в борьбе с ними закалились и окрепли его силы, складывались такие черты русского национального характера, как свободолюбие, патриотизм, энергия в труде и высокая духовная одарённость.
Освещая основные этапы исторического развития русского народа, Герцен в разрешении некоторых вопросов сумел выдвинуть новые и оригинальные положения, имевшие несомненное научное значение. Так он указывал на выдающееся историческое значение древнерусского государства – Киевской Руси; он справедливо гордился её высокой культурой и проницательно отметил, что русский народ в своём государственном и культурном развитии до монголо-татарского нашествия не уступал западноевропейским народам. Оценивая героическую борьбу русского народа с иноземными завоевателями, Герцен указывал на прогрессивное значение преодоления удельной раздробленности и складывания в процессе этой борьбы единого русского государства. В отличие от Карамзина и позднейших буржуазных историков (Кавелина, Соловьёва), идеализировавших развитие государственности в России и замалчивавших социальные противоречия, Герцен пытался раскрыть сложный и противоречивый характер социально-политического развития России после образования централизованного государства. Он показал различие интересов угнетённых народных масс и закрепощавших их бояр и помещиков, которым активно содействовала великокняжеская власть, с течением времени превратившаяся в самодержавную и всё более враждебную народным массам. Герцен отметил крестьянские движения XVII – XVIII веков, выражавших народный протест против закрепощения.
Значительное внимание уделил Герцен характеристике преобразований в России, связанных с деятельностью Петра І. Оценивая эти преобразования, Герцен по сути дела выступал как против огульного отрицания их значения славянофилами, так и против идеализации западниками-космополитами. Герцен пытался раскрыть исторические предпосылки преобразований Петра I, он указывал на их необходимость и прогрессивное значение, но вместе с тем подчёркивал дальнейшее ухудшение положения народных масс в результате укрепления самодержавно-крепостнического строя на протяжении XVIII века. Герцен подверг резкой критике политику правящих кругов после Петра I, показал противоположность между Россией самодержавно-помещичьей и Россией народной, крестьянской.
Герцен отмечал, что одновременно с нарастанием стихийного возмущения крестьянских масс крепостническим гнётом в России начали зарождаться освободительные идеи в среде дворянской интеллигенции, передовые представители которой постепенно переходили от критики пороков дворянского общества к отрицанию самодержавнокрепостнического строя.
О. І. Герцен – фундатор вивчення декабристського руху
Исходным историческим рубежом в развитии освободительного движения в нашей стране Герцен считал Отечественную войну 1812 г. и порождённый ею подъём национального самосознания.
В оценке истории революционного движения и передовой общественной мысли в России с особой силой выявились новаторство и самостоятельность исторических взглядов Герцена, заложивших научное изучение этих важнейших проблем русской истории. В своей книге Герцен дал развёрнутую характеристику декабристскому движению, он раскрыл его исторические корни, оценил деятельность и программные требования тайных декабристских организаций, показал историческое значение героических выступлений 14 декабря 1825 г., а также отметил главную причину поражения декабристов, заключавшуюся в отсутствии связи у них с народом. Вместе с тем Герцен, оставаясь на позициях дворянской революционности, по-прежнему считал, что основной движущей силой революционного движения является передовая дворянская интеллигенция. Важнейшую задачу развивавшегося освободительного движения в России Герцен видел в установлении прочных связей с народными массами. Соединение стихийных стремлений народа к освобождению от крепостнического гнёта с революционными идеями, выработанными деятелями освободительного движения, Герцен считал решающим условием уничтожения самодержавно-крепостнического строя в России. Развитие общественной мысли в России после выступления декабристов Герцен рассматривал с точки зрения борьбы за решение этой важнейшей задачи.
Герцен раскрыл сложный процесс роста общественной мысли в России, освоение лучшими её представителями исторического и идейного опыта человечества в интересах разрешения коренных национальных задач. Он показал, как прогрессивная политическая мысль в России и в особенности передовая русская литература всё более полно отражали назревающий протест народных масс против крепостничества и самодержавия.
Герценовская характеристика истории русской литературы находится в органической связи с историко-литературной концепцией Белинского…
Герцен переконливо доводить велику роль провідних російських письменників у поширенні визвольних ідей у суспільстві
Опираясь в своей характеристике развития русской литературы на общую концепцию, намеченную в своё время Белинским, Герцен, однако, впервые смог открыто и отчётливо установить связь русской литературы с революционным движением. Он, в частности, по-новому осмыслил и осветил политическую роль творчества Пушкина и впервые в нашей историографии неразрывно связал автора «Евгения Онегина» и «Истории Пугачёва», с одной стороны, с декабристами, а с другой – с передовой литературой и общественной мыслью 30-х и 40-х годов, с Лермонтовым, Гоголем и Белинским.
Герцен со всей силой подчеркнул значение передовой русской литературы как могучего средства распространения освободительных идей в России. Постоянно углублявшееся в русской литературе изображение действительности и отражение стремлений угнетённого народа определяли, по мнению Герцена, рост её реализма, её творческое своеобразие.
Герцен дал классические по идейной точности и эстетическому чутью характеристики деятельности и творчества виднейших писателей – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, показав их связь с русским освободительным движением, подробно обрисовав в завершающей главе общественно-политическую борьбу в России в 40-х годах.
В то же время в книге отразились и слабые стороны воззрений Герцена. Идеалистическое понимание истории не позволило ему раскрыть глубочайшие экономические и социальные основы русского исторического процесса, подлинную картину классовой боротьбы. С этим, например, связана слишком высокая оценка им внешних влияний – варяжского, византийского, монголо-татарского – в историческом развитии России. Древнерусское государство Герцен, в отличие от Чернышевского и Добролюбова, рассматривал как бесклассовое. Герцен несколько переоценивал значение политических факторов в русской истории, в частности, Петра I и других государственных деятелей.
Загальна оцінка книжки «О развитии революционных идей в России»
Система исторических взглядов Герцена с её сильными и слабыми сторонами, отразившаяся в книге «О развитии революционных идей в России», – при всей её оригинальности – в значительной мере опиралась на итоги предшествующего развития исторической мысли в России, прежде всего, на суждения прогрессивных деятелей по вопросам русской истории. Так, например, высказывания Герцена о своеобразии «удельного периода» в истории России, заключавшемся в отсутствии феодальных отношений, его оценки татарского ига, борьбы русского народа за национальную независимость, его понимания прогрессивности создания единого русского государства, оценка Герценом преобразований Петра I и Отечественной войны 1812 г. находились, несомненно, в тесной связи с суждениями по этим вопросам Пушкина, декабристов, Белинского. В трактовке вопроса о происхождении крепостного права в России значительное влияние на Герцена оказала, кроме того, книга Н. Тургенева «Россия и русские».
Сила й слабкість історичних поглядів О. І. Герцена
Взгляды Герцена на историю России и перспективы её развития, нашедшие выражение в книге «О развитии революционных идей в России», основывались на деятельном и глубоком изучении им отечественной истории. Но на исторической концепции Герцена отразилась и его теория «русского социализма». Эта утопическая теория получила своё первоначальное обоснование в 1849 г. в статье «La Russie» («Россия» – см. т. VI наст. издания), отрывок из которой, раскрывающий народнические взгляды Герцена, дан им в виде приложения к книге. Крайне переоценив значение сельской общины в русской истории, Герцен неправомерно преувеличивал и своеобразие русского исторического процесса сравнительно с западноевропейским, особенно до реформ XVIII в.
Однако следует учитывать, что при всей ошибочности суждений Герцена о роли общины в русском историческом процессе, доказательство прочности общинных отношений в России было связано у него со стремлением сохранить общину от посягательств помещиков и царского правительства, обосновать право крестьян на обладание землёй, т. е. преследовало цель защиты интересов крестьянства, что подчёркивает демократическую основу этих народнических взглядов Герцена.
В некоторых суждениях и оценках, содержащихся в книге, проявились колебания во взглядах Герцена. Так доверяя демагогической славянофильской критике западноевропейского буржуазного общества, он ошибочно пытался сблизить их воззрения с идеями социализма, вступая в противоречия с собственной оценкой их реакционной идеологии. В своей книге, появившейся на французском и немецком языках, Герцен обращался прежде всего к западноевропейскому читателю, ибо на проникновение сколько-нибудь значительного числа экземпляров в Россию в то время рассчитывать не приходилось. Герцен стремился опровергнуть легенды о положительной роли самодержавия, имевшие известное хождение в реакционных кругах Западной Европы, и дать верное представление о русском народе и русском освободительном движении, значение которого в то время за рубежом грубо недооценивалось…
В книге Герцена заметна перекличка с вышедшей в 1849 г. анонимно в Лейпциге брошюрой М. А. Бакунина «Russische Zustande». Герцен ставил эту брошюру очень высоко… Особенно близки были ему народнические идеи книги Бакунина. В комментируемом сочинении Герцен воспользовался данной Бакуниным характеристикой русского сектантства, а также крестьянского патриотического движения в эпоху Отечественной войны 1812 г.
Но в отличие от Бакунина Герцен не придаёт сектантству безусловного революционного значения, допуская, в частности, возможность и того, что оно, к радости царизма, враждебно столкнётся с революционным движением, возглавляемым передовыми людьми.
В то время как Бакунин утверждал, что в 1812 г. «вольные отряды» крестьян «громко заявляли: «Мы завоевали себе волю в бою»… Герцен говорит о всенародном патриотическом характере движения…
В России первыми прочитали книгу немногие представители правящих кругов, высшей придворной знати, имевшие возможность получать без каких-либо цензурных ограничений заграничные издания. С их слов судили о книге и московские друзья Герцена, полагавшие, что книга эта способна вызвать лишь новые правительственные преследования против прогрессивного лагеря, принести последнему только вред. В. П. Боткин дошёл до того, что назвал эту книгу «доносиком»… Таким настроениям поддался даже Т. Н. Грановский, охарактеризовав ее в 1851 г. в полном несправедливых упрёков письме Герцену. Примерно так же оценивал книгу в 1853 г. и М. С. Щепкин… Однако в письме, отправленном Герцену в августе 1853 г., Грановский признал ошибочность первоначальной своей оценки, сложившейся «под влиянием толков и сплетен о книге»…
П. Я. Чаадаев благодарил Герцена за упоминание его имени в книге «О развитии революционных идей в России»… Гоголь болезненно переживал критику Герценом его отступничества, как о том свидетельствуют воспоминания современников… Специальным постановлением Комитета иностранной цензуры в октябре 1851 г. французское издание книги Герцена подлежало «безусловному» запрещению в России.
Глубокий интерес возбудила книга Герцена в среде молодой, революционно настроенной интеллигенции, которой она внушала веру в силу русского освободительного движения. Большое значение придавал этой книге Н. А. Добролюбов… Об интересе революционной молодёжи к книге свидетельствует и… литографированное издание её»191.
Отже спочатку – безпосередньо присвячений декабризму та декабристам розділ книги О. І. Герцена.
IV
1812 – 1825
Первая часть петербургского периода закончилась войною 1812 года. До этого времени во главе общественного движения стояло правительство; отныне вместе с ним идёт дворянство. До 1812 года сомневались в силе народа и питали несокрушимую веру во всемогущество правительства: Аустерлиц был далеко, Эйлау принимали за победу, а Тильзит – за славное событие. В 1812 г. неприятель вошёл в Мемель и, пройдя через всю Литву, очутился под Смоленском, этим «ключём» России. Объятый ужасом Александр примчался в Москву молить о помощи дворянство и купечество. Он пригласил их в заброшенный Кремлёвский дворец, чтобы обсудить, как помочь отечеству. Со времён Петра I русские государи не говорили с народом; надо думать, что велика была опасность, если император Александр во дворце, а митрополит Платон в соборе заговорили об угрозе, которая нависла над Россией. Дворяне и купцы протянули руку помощи правительству и выручили его из затруднения. А народ, забытый даже в это время всеобщего несчастия или слишком презираемый, чтобы просить его крови, которую вправе проливать и без его согласия, – народ этот, не дожидаясь призыва, поднимался всей массой за своё собственное дело.
Впервые со времени восшествия на престол Петра I имело место это безмолвное единение всех классов. Крестьяне безропотно вступали в ряды ополчения, дворяне давали каждого десятого из своих крепостных и сами брались за оружие; купцы жертвовали десятую часть своих доходов. Народное волнение охватило всю империю; спустя шесть месяцев после оставления Москвы на границах Азии появились толпы вооружённых людей, спешивших из глубины Сибири на защиту столицы. Весть о её взятии и пожаре потрясла всю Россию, ибо для народа подлинной столицей была Москва. Она искупила, пожертвовала собой усыпляющий царский строй; она вновь поднималась в ореоле славы; сила врага сломилась в её стенах; в Кремле началось отступление завоевателя, которому предстояло закончиться лишь на острове Св. Елены. При первом же пробуждении народа Петербург затмился, а Москва, столица без императора, принесшая себя в жертву для общего отечества, приобрела новое значение.
Впрочем, после этого кровавого крещения вся Россия вступила в новую фазу.
Невозможно было сразу перейти от волнений национальной войны, от славной прогулки по всей Европе, от взятия Парижа к мёртвому штилю петербургского деспотизма. Само правительство не могло сразу же вернуться к своим старым замашкам. Александр, тайком от князя Меттерниха, притворялся либералом, высмеивал ультрамонархические проекты Бурбонов и разыгрывал роль конституционного короля Польши192.
Что же до нищего крестьянина, то он возвратился в свою общину, к своей сохе, к своему рабству. Ничто для него не изменилось, ему не пожаловали никаких льгот в благодарность за победу, купленную его кровью. Александр подготавливал ему в награду чудовищный проект военных поселений.
Вскоре после войны в общественном мнении обнаружилась большая перемена. Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь под неприятельские пули, были уже не так покорны, не так сговорчивы, как прежде. В обществе стали часто проявляться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до сих пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесённой над народом милостью государей. В то же время дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнёт стали вызывать всеобщий ропот. Было ясно, что правительство, организованное таким образом, не могло, при всей его доброй воле, ограждать от этих злоупотреблений, что нечего было ждать справедливости от богадельни для стариков, которую торжественно именовали правительствующим сенатом, – от этого собрания смиренных невежд, игравшего роль кладовой, куда правительство убирало старых чиновников, не заслуживавших ни быть оставленными в аппарате управления, ни быть оттуда изгнанными. Государственные люди, пользующиеся большим авторитетом, как, например, старик адмирал Мордвинов, говорили вслух о крайней необходимости многих реформ. Сам Александр желал улучшений, но не знал, как приступить к ним. Историк-абсолютист Карамзин и Сперанский, составитель свода законов Николая I, работали по его приказу над проектом конституции193.
Люди энергичные и серьёзные не стали ждать окончания этих несбыточных проектов. Они задумали создать большое тайное общество. Это общество должно было заниматься политическим воспитанием молодого поколения, распространять идеи свободы и тщательно изучать сложный вопрос радикальной и полной реформы образа правления в России. Не удовольствовавшись одной лишь теорией, они в то же время организовали своё общество таким образом, чтобы воспользоваться первым удобным случаем и поколебать императорскую власть. Все самые благородные среди русской молодёжи – молодые военные, как Пестель, Фонвизин, Нарышкин, Юшневский, Муравьёв, Орлов, самые любимые литераторы, как Рылеев и Бестужев, потомки самых славных родов, как князь Оболенский, Трубецкой, Одоевский, Волконский, граф Чернышёв, – поспешили вступить в ряды этой первой фаланги русского освобождения. Вначале общество приняло название «Союза благоденствия».
Как ни странно, но в то самое время, когда эти пылкие молодые люди, полные веры и сил, давали клятву ниспровергнуть петербургский абсолютизм, Александр давал клятву накрепко связать Россию с неограниченными монархиями Европы. Он только что создал знаменитый Священный союз – союз мистический, бесполезный, невозможный, нечто вроде абсолютистского Грютли, Тугендбунда194, образованного тремя коронованными студентами, среди которых Александр играл роль горячей головы.
Те и другие сдержали клятву: одни – идя умирать за свои идеи на виселицу или на каторгу, а Александр – оставив корону своему брату Николаю.
Десять лет, со времени возвращения войск и до 1825 года, являются апогеем петербургского периода. Россия Петра I чувствовала себя сильной, юной, полной надежд. Она полагала, что свобода может привиться с такою же лёгкостью, как цивилизация, забывая, что цивилизация ещё не проникла дальше поверхности и является достоянием лишь очень незначительного меньшинства. Но меньшинство это дйствительно обладало таким развитием, что не могло мириться с провизорными условиями царского строя.
Это была первая поистине революционная оппозиция, создавшаяся в России. Оппозиция, встреченная цивилизацией в начале XVIII столетия, была консервативной. И даже та, что её образовали в царствование Екатерины II несколько вельмож, подобно графу Панину, не выходила из круга строго монархических идей: порою она была энергичной, но всегда оставалась покорной и почтительной. Направление умов после 1812 года было совершенно иным. Столкновение между покровителем – деспотизмом и покровительствуемой – цивилизацией стало неминуемым. Первая битва между ними состоялась 14(26) декабря. Победителем остался абсолютизм, показав, какой силой он располагал для причинения зла.
Слово провизорный195, употреблённое нами применительно к условиям императорского режима, могло показаться странным, но оно хорошо передаёт то характерное, что больше всего поражает при близком рассмотрении действий русского правительства.
Его установление, законы, проекты – всё в нём явно непостоянно, преходяще, лишённое определённости и законченной формы. Это не какое-нибудь консервативное правительство, в духе австрийского, например, потому что ему нечего сохранять, кроме материальной силы и целостности своей территории. Оно дебютировало тираническим разгромом установлений, традиций, нравов, законов и обычаев страны, а продолжает – целым рядом переворотов, не приобретая устойчивости и упорядоченности. Каждое царствование ставит под вопрос большую часть прав и установлений; то, что предписано было вчера, сегодня воспрещается; законы то меняются, то воспрещаются, то упраздняются. Свод законов, изданный Николаем, – лучшее свидетельство отсутствия принципов и единства в императорском законодательстве. Этот свод представляет собою собрание всех существующих законов, это смесь распоряжений, повелений, указов, более или менее противоречивых, которые гораздо лучше выражают характер государя или интересы дня, нежели дух единого законодательства. Основой служат Уложения царя Алексея, а продолжением указы Петра I, проникнутые совсем иной тенденцией; рядом с законом Екатерины в духе Беккариа и Монтескье (??), находишь там суточные приказы Павла I, превосходящие всё нелепое и своевластное, что было в эдиктах римских императоров. Русское правительство, подобно всему, что лишено исторических корней, не только не консервативно, но, совсем напротив, оно до безумия любит нововведения. Оно ничего не оставляет в покое и, если редко что улучшает, зато постоянно изменяет. Такова история беспрерывного и беспричинного видоизменения форменной одежды как гражданских, так и военных чинов, – это развлечение обошлось, разумеется, в огромную сумму… Порою в России совершаются целые революции, но это остаётся вовсе неизвестным за границей вследствие недостатка гласности и общей немоты. Так в 1838 году коренным образом было изменено управление всеми сельскими общинами империи. Правительство вмешалось в дела общины, установило двойной полицейский надзор за каждой деревней, начало вводить принудительную организацию полевых работ, обездолило одни общины, обогатив за их счёт другие, наконец, создало для 170 000 000 человек новую форму управления196, причём даже это событие, чуть ли не достигшее размеров революции, осталось не известным Европе.
Крестьяне, опасаясь кадастра197 и вмешательства чиновников, которых знали как одетых в мундир привелигировнных грабителей, во многих местах взбунтовались. В некоторых уездах Казанской, Вятской и Тамбовской губерний дело дошло до того, что крестьян расстреливали картечью, и новый порядок был сохранён198.
Подобное положение вещей долго длиться не может, и впервые это почувствовали после 1812 года.
Время для тайного политического общества было выбрано прекрасно во всех отношениях. Литературная пропаганда велась очень деятельно. Душой её был знаменитый Рылеев; он и его друзья придали русской литературе энергию и воодушевление, которыми она никогда не обладала ни раньше, ни позже. То были не только слова, то были дела. Знали, что принято решение, что есть определённая цель и, не заблуждаясь относительно опасности, шли твёрдым шагом, с высоко поднятой головой, к неотвратимой развязке.
У народа, лишённого общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести.
Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы. Революционные стихи Рылеева и Пушкина можно найти у молодых людей, в самых отдалённых областях империи. Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая бы не знала их наизусть, ни одного офицера, который бы не носил их в своей полевой сумке, ни одного поповича, который не снял бы с них дюжину копий. В последние годы пыл этот значительно охладел, ибо они уже сделали своё дело: целое поколение подверглось этой пылкой юношеской пропаганде.
Заговор с необычайной быстротой распространился в Петербурге, Москве и Малороссии, среди офицеров гвардии и 2-й армии. Полные безразличия, пока у них отсутствует побуждение к действию, русские легко дают себя увлечь. А увлёкшись, они идут на все последствия и не ищут какого-либо соглашения.
Со времени Петра I много говорилось о способности русских к подражанию, которое они доводят до смешного. Несколько немецких учёных утверждали, будто славяне вовсе лишены самобытности, будто отличительным их свойством является лишь переимчивость. Славяне действительно обладают большой эластичностью. Выйдя однажды из своей патриотической исключительности, они уже не находят непреодолимого препятствия для понимания других национальностей. Немецкая наука, которая за Рейном, и английская поэзия, которая ухудшается, переправляясь через Па-де-Кале, давно приобрели право гражданства у славян. К этому надо прибавить, что в основе переимчивости славян есть нечто своеобразное, нечто такое, что хотя и поддаётся внешним влияниям, всё же сохраняет свой собственный характер.
Мы встречаем эту черту русской души и в ходе интересующего нас заговора. Вначале он имел конституционную и либеральную тенденцию в английском смысле. Но стоило этому воззрению получить поддержку, как Союз преобразился: он стал более радикальным, вследствие чего многие его покинули. Ядро заговорщиков стало республиканским и не пожелало более довольствоваться представительной монархией. Они справедливо считали, что если хватит у них силы ограничить самодержавие, то её хватит и на то, чтобы её уничтожить. Главари Южного общества имели в виду республиканскую федерацию славян, они подготавливали революционную диктатуру, которая должна была установить республиканские формы.
Более того, когда полковник Пестель посетил Северное общество, то он там поставил вопрос по-иному. Он полагал, что провозглашение республики ни к чему не приведёт, если не вовлечь в революцию поземельную собственность. Не будем забывать, что дело здесь идёт о событиях, которые произошли между 1817 и 1825 годами. Социальные вопросы никого тогда не занимали в Европе, «безумец и дикарь» Гракх Бабеф был уже забыт, Сен-Симон писал свои трактаты, но никто не читал их, в том же положении был Фурье, не больше интересовались и опытами Оуэна. Самые видные либералы того времени – Бенжамены Констаны, П. Л. Курье – встретили бы негодующими криками предложения Пестеля, – предложения, сделанные не в клубе, членами которого были пролетарии, но перед большим обществом, целиком состоявшим из самых богатых дворян. Пестель предлагал этим дворянам добиваться, пусть даже ценою жизни, экспроприации их собственных имений. С ним не соглашались, его убеждения ниспровергали только что усвоенные принципы политической экономии. Но ему не приписывали желания грабить и убивать: Пестель всё же оставался истинным вождём Южного общества, и весьма вероятно, что в случае успеха он стал бы диктатором, – он, который был социалистом, прежде чем появился социализм.
Пестель не был ни мечтателем, ни утопистом: совсем напротив, он весь принадлежал действительности, он знал дух своей нации. Оставить земли дворянам означало бы создать олигархию; народ даже не понял бы своего освобождения, ибо русский крестьянин хочет быть свободным не иначе, как владея собственной землёй.
Именно Пестель первый задумал привлечь народ к участию в революции. Он соглашался с друзьями, что восстание не может иметь успеха без поддержки армии, но во что бы то ни стало хотел также увлечь за собой раскольников – глубокий замысел, правильность и дальновидность которого докажет будущее.
После всех событий мы можем сказать, что Пестель заблуждался: ни друзья его не могли подготовить социальную революцию, ни народ – участвовать в общем деле с дворянством; но только великим людям дано ошибиться подобным образом, предвосхищая развитие народных масс.
Он ошибался практически, в сроке, теоретически же это было откровением. Он был пророком, а всё общество – огромной школой для нынешнего поколения.
14(26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания, и – что может оказаться странным – причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем теория, – было само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, в сибирских рудниках. Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений: им недоставало случая, который дал бы им смелость инициативы. Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. Подобный пример всего необходимей там, где человек не привык осуществлять свою волю, выступать открыто, полагаться на себя и чувствовать свои силы; где, напротив, он всегда был несовершеннолетним, не имея ни голоса, ни своего мнения, хоронился за общиной, будто за неприступной стеной, и был поглощён государством, как бы затерявшимся в нём. Вместе с цивилизацией, естественно, развивались также идеи свободы, но пассивное недовольство слишком вошло в привычку, – от деспотизма хотели избавиться, но никто не хотел взяться за дело первым.
И вот эти первые пришли, явив такое величие души, такую силу характера, что правительство не посмело в своём официальном донесении ни унизить их, ни заклеймить позором; Николай ограничился жестоким наказанием. Безмолвию, немому бездействию был положен конец; с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз.
Не менее решительным было действие заговора 14 декабря на самое правительство; от Петра до Николая правительство высоко держало знамя прогресса и цивилизации; с 1825 года – ничего похожего: власть только о том и думает, как бы замедлить умственное движение; уже не слово «прогресс» пишется на императорском штандарте, а слова «самодержавие, православие и народность» – это mane, fares, takel деспотизма199, причём последние два слова стояли там только для проформы. Религия, патриотизм были всего лишь средством укрепить самодержавие, народ никогда не обманывался насчёт национализма Николая; ярчайшее выражение его царствования: «Пусть погибнет Россия, лишь бы власть осталась неограниченной и нерушимой». Этот дикарский девиз устраняет все недоразумения, именно 14 декабря принудило правительство отбросить лицемерие и открыто провозгласить деспотизм.
Незадолго до мрачного царствования, которое началось на русской, а продолжалось на польской крови200, появился великий русский поэт Пушкин, а появившись, сразу стал необходим, словно русская литература без него не могла обойтись. Читали других поэтов, восторгались ими, но произведения Пушкина – в руках у каждого образованного русского, и он перечитывает их всю свою жизнь. Его поэзия уже не проба пера, не литературный опыт, не упражнение: она – его призвание, и она становится зрелым искусством; образованная часть русской нации обрела в нём впервые дар поэтического слова.
Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен иностранцам. Он редко подделывается под просторечие русских песен, он передаёт свою мысль такой, какой она рождается в нём. Подобно всем великим поэтам он всегда на уровне своего читателя. Он становится величавым, мрачным, грозным, трагичным, стих его шумит, как море, как лес, раскачиваемый бурею, и в то же время он ясен, прозрачен, сверкает, полон жаждой наслаждения и душевных волнений. Русский поэт всегда реален во всём, в нем нет ничего болезненного, ничего от того преувеличенного патологического психологизма, от того абстрактного христианского спиритуализма, которые так часто встречаются у немецких поэтов. Муза его – не бледное создание с расстроенными нервами, закутанное в саван, а пылкая женщина, сияющая здоровьем, слишком богатая подлинными чувствами, чтобы искать поддельных, и достаточно несчастная, чтобы иметь нужду в выдуманных несчастьях. У Пушкина была пантеистическая и эпикурейская натура греческих поэтов, но был в его душе и элемент вполне современный. Углубляясь в себя, он находил в душе горькую думу Байрона, едкую иронию нашего века.
В Пушкине видели подражателя Байрона. Английский поэт действительно оказал большое влияние на русского. Общаясь с сильным и привлекательным человеком, нельзя не испытать его влияния, нельзя не созреть в его лучах. Сочувствие ума, которое мы высоко ценим, даёт нам вдохновение и новую силу, утверждая то, что дорого нашему сердцу.
Но от этой естественной реакции далеко до подражания. После первых своих поэм, в которых очень сильно ощущается влияние Байрона, Пушкин с каждым новым произведением становится всё более оригинальным; всегда глубоко восхищаясь великим английским поэтом, он не стал ни его клиентом, ни паразитом201, ни traduttore, ни traditore202.
К концу своего жизненного пути Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от друга, и по весьма простой причине: Байрон был до глубины души англичанин, а Пушкин – до глубины души русский, – петербургского периода. Ему были ведомы все страдания цивилизованного человека, но он обладал верой в будущее, которой человек Запада уже лишён. Байрон, великая свободная личность, человек, уединившийся в своей независимости, всё более замыкающийся в своей гордости, в своей надменной, скептической философии, становится все более мрачным и непримиримым. Он не видел перед собой никакого близкого будущего и, удручённый горькими мыслями, полный отвращения к свету, готов связать свою судьбу с племенем славяно-эллинских морских разбойников, которых принимает за греков античных времён. Пушкин, напротив, всё более успокаивается, погружается в изучение русской истории, собирает материалы о Пугачёве, создаёт историческую драму «Борис Годунов», – он обладает инстинктивной верой в будущность России; в душе его звучали торжествующие, победные клики, поразившие его ещё в детстве, в 1813 и 1814 годах; одно время он даже увлекался петербургским патриотизмом, который похваляется количеством штыков и опирается на пушки. Эта спесь, конечно, столь же мало извинительна, как и доведенный до крайности аристократизм лорда Байрона, однако причина её не ясна. Грустно сознаться, но патриотизм Пушкина был узким; среди великих поэтов встречались царедворцы, свидетельством тому Гёте, Расин и др.; Пушкин не был ни царедворцем, ни сторонником правительства, но грубая сила государства льстила его патриотическому инстинкту, вот почему он разделял варварское желание отвечать на возражения ядрами. Россия – отчасти раба и потому, что она находит поэзию в материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пугалом народов.
Те, кто говорит, что пушкинский «Онегин» – это русский «Дон Жуан», не понимают ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по формальным признакам. «Онегин» – самое значительное творение Пушкина, поглотившее половину его жизни. Возникновение этой поэмы относится именно к тому периоду, который нас занимает, она созрела под влиянием печальных лет, последовавших за 14 декабря. И кто же поверит, что подобное произведение, поэтическая автобиография, может быть простым подражанием?
Онегин – это ни Гамлет, ни Фауст, ни Манфред, ни Оберман, ни Тренмор, ни Карл Моор; Онегин – русский, он возможен лишь в России; там он необходим, и там его встречаешь на каждом шагу. Онегин – человек праздный, потому что он никогда и ничем не был занят; это лишний человек в той среде, где он находится, не обладая нужной силой характера, чтобы вырваться из неё. Это человек, который испытывает жизнь вплоть до самой смерти и который хотел бы отведать смерти, чтобы увидеть, не лучше ли она жизни. Он всё начинал, но ничего не доводил до конца. Он тем больше размышлял, чем меньше делал, в двадцать лет он старик, а к старости он молодеет благодаря любви. Как и все мы, он постоянно ждал чего-то, ибо человек не так безумен, чтобы верить в длительность настоящего положения в России… Ничто не пришло, а жизнь уходила. Образ Онегина настолько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом.
Чацкий, герой знаменитой комедии Грибоедова – это Онегин-резонёр, старший его брат.
Герой нашего времени Лермонтова – его младший брат. Онегин появляется даже во второстепенных сочинениях; утрировано ли он изображён – его всегда легко узнать. Если это не он сам, то, по крайней мере, его двойник. Молодой путешественник в «Тарантасе» гр. Соллогуба203 – ограниченный и дурно воспитанный Онегин. Дело в том, что все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками.
Цивилизация нас губит, сбивает нас с пути; именно она делает нас – бездельных, бесполезных, капризных. В тягость другим и самим себе, заставляет переходить от чудачества к разгулу, без сожаления растрачивать наше состояние, наше сердце, нашу юность в поисках занятий, ощущений, развлечений. Подобно тем ахенским собакам у Гейне, которые, как милости, просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку204. Мы занимаемся всем: музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забыть об угнетающей нас огромной пустоте.
Цивилизация и рабство – даже без всякого лоскутка между ними, который помешал бы раздробить нас физически или духовно меж этими двумя насильственно сближенными крайностями!
Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: «Оставайтесь рабами, немыми и пассивными, иначе вы погибли». В возмещение за нами сохраняется право драть шкуру с крестьянина и проматывать за зелёным сукном или в кабаке ту подать крови и слёз, которую мы с него взимаем.
Молодой человек не находит ни малейшего живого материала в этой игре низкопоклонства и мелкого честолюбия. И однако именно в этом обществе он осуждён жить, ибо народ ещё более далёк от него. «Этот свет» хотя бы состоит из падших существ одной с ним породы, тогда как между ним и народом ничего нет общего. Пётр I так разорвал все традиции, что никакая сила человеческая не соединит их – по крайней мере, в настоящее время. Остаётся одиночество или борьба, но у нас не хватает нравственной силы ни на то, ни на другое. Таким-то образом и становятся Онегиными, если только не погибают в домах терпимости или в казематах какой-нибудь крепости.
Мы похитили цивилизацию, и Юпитер с той же яростью пожелал наказать нас, с какой он терзал Прометея.
Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского, другую жертву русской жизни, vice versa205 Онегина. Это – острое страдание рядом с хроническим. Это одна из тех целомудренных чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращённой и безумной среде, – приняв жизнь, они больше ничего не могут принять от этой нечистой почвы, разве только смерть. Эти отроки – искупительные жертвы – юные, бледные, с печатью рока на челе, проходят, как упрёк, как угрызения совести, и печальная ночь, в которой «мы движемся и пребываем», становится ещё чернее.
Пушкин обрисовал характер Ленского с той нежностью, которую испытывает человек к грёзам своей юности, к воспоминаниям о временах, когда он был так полон надежды, чистоты поведения. Ленский – последний крик совести Онегина, ибо это он сам, это его юношеский идеал. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукою Онегина – Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел ранить. Пушкин сам испугался этого трагического конца; он спешит утешить читателя, рисуя ему пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта.
Рядом с Пушкиным стоит другой Ленский – то Веневитинов, правдивая поэтическая душа, сломленная в свои двадцать два года грубыми руками русской действительности.
Между этими двумя типами, между самоотверженным энтузиастом-поэтом и человеком усталым, озлобленным, лишним, между могилой Ленского и скукой Онегина медленно течёт глубокая и грязная река цивилизованной России, с её аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, великими князьями и императором, – бесформенная и безгласная масса низости, жестокости и раболепства, жестокости и зависти, увлекающая и поглощающая всё, «сей омут, – как говорит Пушкин, – где мы с вами купаемся, дорогой читатель»206.
Пушкин дебютировал великолепными революционными стихами. Александр выслал его из Петербурга к южным границам империи, и, новый Овидий, он провёл часть своей жизни от 1819 до 1825 года в Херсонесе Таврическом. Разлученный с друзьями, вдали от политической жизни, среди роскошной, но дикой природы, Пушкин, поэт прежде всего, весь ушёл в свой лиризм; его лирические стихи – это фазы его жизни, биография его души; в них находишь следы всего, что волновало эту пламенную душу: истину и заблуждение, мимолётное увлечение и глубокие неизменные симпатии.
Николай вернул Пушкина из ссылки через несколько дней после того, как были повешены по его приказу герои 14 декабря. Своею милостью он хотел погубить его в общественном мнении, а знаками своего расположения – покорить его.
Возвратившись, Пушкин не узнал ни московского общества, ни петербургского. Друзей своих он уже не нашёл, даже имена их не осмеливались произносить вслух; только и говорили, что об арестах, обысках, ссылке; всё было мрачно и объято ужасом. Он встретился мельком с Мицкевичем, другим славянским поэтом; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами грохотала гроза. Пушкин возвратился из ссылки, Мицкевич отправлялся в ссылку207. Их встреча была горестной, но они не поняли друг друга. Курс, прочитанный Мицкевичем в College de France208, обнаруживал существование между ними разногласий: для русского и поляка время взаимного понимания ещё не наступило.
Продолжая комедию, Николай произвёл Пушкина в камер-юнкеры. Тот понял этот ход и не явился ко двору. Тогда ему предложили на выбор: ехать на Кавказ или надеть придворный мундир. Он уже был женат на женщине, которая позже стала причиной его гибели, и вторичная ссылка ему казалась теперь ещё более тяжкою, чем первая; он выбрал двор. В этом недостатке гордости и сопротивления, в этой странной податливости узнаёшь дурную сторону русского характера.
Как-то великий князь-наследник поздравил Пушкина с производством: «Ваше высочество, – ответил ему тот, – вы первый поздравляете меня по этому случаю»209.
В 1837 г. Пушкин был убит на дуэли одним из чужеземных наёмных убийц, которые подобно наёмникам средневековья или швейцарцам наших дней, готовы предложить свою шпагу к услугам любого деспотизма. Он пал в расцвете сил, не допев своих песен и не досказав того, что мог бы сказать.
За исключением двора с его окружением, весь Петербург оплакивал Пушкина; только тогда стало видно, какою популярностью он пользовался. Когда он умирал, плотная толпа теснилась около его дома в ожидании известий о здоровье поэта. Это происходило в двух шагах от Зимнего дворца, и император мог наблюдать из своих окон толпу; он проникся чувством ревности и лишил народ права похоронить своего поэта; морозной ночью тело Пушкина, окружённое жандармами и полицейскими, тайком переправили в церковь чужого прихода, там священник поспешно отслужил по нём панихиду, и сани увезли тело поэта в монастырь, в Псковскую губернию, где находилось его имение. Когда обманутая таким образом толпа бросилась к церкви, где отпевали покойного, снег уже замёл всякий след погребального шествия.
Ужасный, скорбный удел уготован у нас каждому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин мыслитель – всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы – это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство – едва успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью.
La sotto giorni brevi e nebulosi Nasce una gente a cui il morir non duole210.Рылеев повешен Николаем.
Пушкин убит на дуэли, тридцати восьми лет.
Грибоедов предательски убит в Тегеране.
Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе.
Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет.
Кольцов убит своей семьёй, тридцати трёх лет.
Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой.
Полежаев умер в военном госпитале, после восьми лет принудительной солдатской службы на Кавказе.
Баратынский умер после двенадцатилетней ссылки211.
Бестужев погиб на Кавказе совсем ещё молодым, после сибирской каторги…
«Горе народам, которые побивают камнями своих пророков!» – говорит Писание212.
Но русскому народу нечего бояться, ибо ничем уже не ухудшить несчастной его судьбы».
Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года
Глибокий, щирий та назвичайно чуйний Герцен всім своїм єством відчував зміни, які відбулися в напруженому й складному громадсько-політичному житті Росії після відкритого виступу декабристів проти царського самодержавства. Цим історичним процесам Олександр Іванович присвятив окремий – п’ятий – розділ свого піонерського дослідження.
«Двадцать пять лет, которые следуют за 14 (26) декабря, труднее характеризовать, нежели весь истекший период со времени Петра I. Два противоположных течения, – одно на поверхности, а другое в глубине, где его едва можно различить, – приводят в замешательство наблюдателя. С виду Россия продолжала стоять на месте, даже, казалось, шла назад, но, в сущности, всё принимало новый облик, вопросы становились всё сложнее, а решения менее простыми.
На поверхности официальной России, «фасадной империи», видны были только потери, жестокая реакция, бесчеловечные преследования, усиление деспотизма. В окружении посредственностей, солдат для парадов, балтийских немцев и диких консерваторов, виден был Николай, подозрительный, холодный, упрямый, безжалостный, лишённый величия души, – такая же посредственность, как и те, что его окружали. Сразу же под ним располагалось высшее общество, которое при первом ударе грома, разразившемся над его головой после 14 декабря, растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не оправилась в царствование Николая, пора её цветения прошла; всё, что было в ней благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири. А то, что осталось или пользовалось расположением властелина, докатилось до той степени глупости или раболепия, которая известна нам по картине этих нравов, нарисованной Кюстином.
Затем следовали гвардейские офицеры, – прежде блестящие и образованные, они всё больше превращались в отупелых унтеров. До 1825 года все, кто носил штатское платье, признавали превосходство эполет. Чтобы слыть светским человеком, надо было прослужить года два в гвардии или хотя бы в кавалерии. Офицеры являлись душою общества, героями праздников, балов, и, говоря правду, это предпочтение имело свои основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем пресмыкающиеся, трусливые чиновники. Обстоятельства изменились, и гвардия разделила судьбу аристократии; лучшие из офицеров были сосланы, многие оставили службу, не в силах выносить грубый и наглый тон, введенный Николаем. Освободившиеся места поспешно заполнялись усердными служаками или столпами казармы и манежа. Офицеры упали в глазах общества, победил фрак, – мундир преобладал лишь в провинциальных городишках да при дворе – этой первой гауптвахте империи. Члены императорской фамилии, как и её глава, выказывают военным подчёркнутое и недопустимое для царских особ предпочтение. Холодность публики к мундиру всё же не доходила до того, чтобы допускать гражданских чиновников в общество. Даже в провинции к ним испытывали неотвратимое отвращение, что отнюдь не помешало росту влияния бюрократии. После 1825 года вся администрация, ранее аристократическая и невежественная, стала мелочной и искусной в крючкотворстве. Министерства превратились в конторы, их главы и высшие чиновники стали дельцами или писарями. По отношению к гражданской службе они являлись тем же, чем тупые служаки по отношению к гвардии. Большие знатоки всевозможных формальностей, холодные и нерассуждающие исполнители приказов свыше, они были преданы правительству из любви к лихоимству. Николаю нужны были такие офицеры и такие администраторы.
Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки. Слепая и лишённая здравого смысла дисциплина в сочетании с бездушным формализмом австрийских налоговых чиновников – таковы пружины знаменитого механизма сильной власти в России. Какая скудость правительственной мысли, какая проза самодержавия, какая жалкая пошлость! Это самая простая и самая грубая форма деспотизма.
Добавим к сему и графа Бенкендорфа, шефа корпуса жандармов – этой вооружённой инквизиции, полицейского масонства, имевшего во всех уголках империи, от Риги до Нерчинска, своих братьев, слушающих и подслушивающих, – начальника III Отделения канцелярии его величества (так именуется центральная контора шпионажа), который судит всё, отменяет решения судов, вмешивается во всё, а особенно в дела политических преступников. Время от времени перед лицо этого судилища-конторы приводили цивилизацию под видом какого-либо литератора или студента, которого ссылали или запирали в крепость, и на месте которого вскоре появлялся другой.
Словом, официальная Россия внушала только отчаянье: здесь – Польша, рассеянная во все стороны и терзаемая с чудовищным упорством; там – безумие войны, длящейся всё время царствования, поглощающей целые армии, не продвигая ни на шаг завоевание Кавказа; в центре – всеобщее опошление и бездарность правительства.
Зато внутри государства совершалась великая работа, – работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; всюду росло недовольство, революционные идеи за эти двадцать пять лет распространились шире, чем за всё предшествующее столетие, и тем не менее, в народ они не проникли.
Русский народ продолжал держаться вдали от политической жизни, да и не было у него оснований принимать участие в работе, происходившей в других слоях нации. Долгие страдания обязывают к своеобразному чувству достоинства; русский народ слишком много выстрадал и поэтому не имел права волноваться из-за ничтожного улучшения своей участи, – лучше попросту остаться нищим в лохмотьях, чем переодеться в заштопанный фрак. Но если он и не принимал никакого участия в идейном движении, охватившем другие классы, это отнюдь не означает, что ничего не произошло в его душе. Русский народ дышит тяжелее, чем прежде, глядит печальней; несправедливость крепостничества и грабёж чиновников становятся для него всё невыносимей. Правительство нарушило спокойствие общины принудительной организацией работ; с учреждением в деревне сельской полиции (становых приставов), досуг крестьян был урезан и взят под надзор в самой его избе. Значительно увеличилось число дел против поджигателей, участились убийства помещиков, крестьянские бунты. Огромное раскольничье население ропщет; эксплатируемое и угнетаемое население духовенством и полицией, весьма далеко, чтобы сплотиться, но порой и в этих мёртвых, недоступных для нас морях слышится смутный гул, предвещающий ужасные бури. Недовольство русского народа, о котором мы говорим не способен уловить поверхностный взгляд. Россия кажется всегда спокойной, что трудно поверить, будто в ней может что-либо происходить. Мало кто знает, что делается под тем саваном, которым правительство прикрывает трупы, кровавые пятна, экзекуции, лицемерно и надменно заявляя, что под этим саваном нет ни трупов, ни крови. Что знаем мы о поджигателях из Симбирска, о резне помещиков, устроенной крестьянами одновременно в ряде имений? Что знаем мы о местных бунтах, вспыхнувших в связи с новым управлением, которое ввёл Киселёв? Что знаем мы о казанских, вятских, тамбовских восстаниях, когда власти прибегли к пушкам?..
Умственная работа, упомянутая нами, совершалась не на вершине государства, не у его основания, но между ними, т. е. главным образом, среди мелкого и среднего дворянства. Факты, которые мы приведём, казалось бы, не имеют большого значения, но не надо забывать, что пропаганда, как и всякое воспитание, лишена внешнего блеска, в особенности, когда она даже не осмеливается показаться при свете дня.
Влияние литературы заметно усиливается и проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и сохраняет либеральный и просветительский характер, насколько это удаётся ей при цензуре.
Жажда образования овладевает всем новым поколением, гражданские ли школы или военные, гимназии, лицеи, академии переполнены учащимися; дети самых бедных родителей стремятся в различные институты. Правительство, которое ещё в 1804 году приманивало детей в школы разными привилегиями, теперь всеми способами сдерживает их прилив; создаются трудности при поступлении, при экзаменах; учеников облагают платой; министр народного просвещения издаёт приказ, ограничивающий право крепостных на образование. Тем не менее, Московский университет становится храмом русской цивилизации; император его ненавидит, сердится на него, ежегодно отправляет в ссылку целую партию его воспитанников и, приезжая в Москву, не удостаивает его своим посещением, но университет процветает, влияние его растёт; будучи на плохом счету, он не ждёт ничего, продолжает свою работу и становится подлинной силой. Цвет молодёжи из соседних с Москвой губерний направляется в её университет, и каждый год фаланга закончивших курс рассеивается по всему государству в качестве чиновников, врачей или учителей.
В недрах губерний, а главным образом, в Москве, заметно увеличивается прослойка независимых людей, которые, отказавшись от государственной службы, сами управляют своими имениями, занимаются наукой, литературой; если они и просят о чём-либо правительство, то разве только оставить их в покое. То была полная противоположность петербургскому дворянству, связанному с государственной службой, двором и снедаемому низким честолюбием, уповая во всём на правительство, он жило его милостями.
Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места – всё это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции. Правительство косилось на этих праздных людей и было ими недовольно. Действительно, они представляли собой ядро людей образованных, дурно относящихся к петербургскому режиму. Одни из них жили целые годы за границей, привозя оттуда либеральные идеи; другие приезжали на несколько месяцев в Москву, остальную же часть года сидели взаперти в своих поместьях, где читали всё, что выходило нового, и были хорошо осведомлены об умственном движении в Европе. Среди провинциального дворянства чтение стало модою. Люди хвастались тем, что у них есть библиотека, и выписывали на худой конец новые французские романы, «Journal des Debats» и «Аугсбургскую газету»; иметь у себя запрещённые книги считалось образцом хорошего тона. Я не знаю ни одного приличного тома, где бы не нашлось сочинения Кюстина о России213, которое было запрещёно специальным приказом Николая. Молодёжь, лишённая участия в какой бы то ни было деятельности, находившаяся под вечной угрозой тайной полиции, с тем большей горячностью увлекалась чтением. Сумма идей, бывших в обращении, всё возрастала.
Каковы же были эти новые мысли и тенденции, появившиеся после 14 декабря?214
Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своём горестном положении порабощённого и гонимого существа. Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, которая не имела бы близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна не осмелилась надеть траур или выказать свою скорбь. Когда же отворачивались от этого печального зрелища холопства, когда погружались в размышления, чтобы найти какое-либо указание или надежду, то сталкивались с ужасной мыслью, леденящей сердце.
Невозможны уже были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, её надлежало восстановить, но каким образом? В этомто и состоял великий вопрос. Одни полагали, что нельзя ничего достигнуть, оставив Россию на буксире у Европы; они возлагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошлому. Другие видели в будущем лишь несчастье и разорение, они проклинали ублюдочную цивилизацию и безразличный ко всему народ. Глубокая печаль овладела душою всех мыслящих людей.
Только звонкая и широкая песнь Пушкина создавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далёкое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадёжности и упадка, не слагают своих песен – они нисколько не подходят к похоронам.
Вдохновение Пушкина его не обмануло. Кровь, прихлынувшая к сердцу, поражённому ужасом, не могла там остановиться, скоро она дала о себе знать вовне.
Уже появился публицист, мужественно возвысивший свой голос, чтобы объединить боязливых. Этот человек, проживший всю свою молодость на родине, в Сибири, занимаясь торговлей, которая быстро ему наскучила, пристрастился к чтению. Лишённый всякого образования, он самостоятельно изучил французский и немецкий языки и приехал жить в Москву. Тут, без сотрудников, без знакомств, без имени в литературе, он задумал издавать ежемесячный журнал. Вскоре он изумил читателей энциклопедическим разнообразием своих статей. Он смело писал о юриспруденции и музыке, о медицине и санскритском языке. Одной из его специальностей была русская история, что не мешало ему писать рассказы, романы и, наконец, критические статьи, которыми он скоро приобрёл большую известность.
Тщетно искать в писаниях Полевого215 большой эрудиции, философской глубины, но он умел в каждом вопросе выделить его гуманистическую сторону; его симпатии были либеральными. Его журнал «Московский телеграф» пользовался большим влиянием, мы тем более должны признать его заслугу, что печатался он в самые мрачные времена. Что можно было писать назавтра после восстания, накануне казней? Положение Полевого было очень трудным. В эту эпоху писали мало: половина литераторов была в ссылке, другая – хранила молчание. Небольшая группа ренегатов вроде сиамских близнецов Греча216 и Булгарина217, связалась с правительством, загладив своё участие в 14 декабря доносами на друзей и устранением фактора, который по их приказанию набирал в типографии Греча революционные прокламации218. Они одни господствовали тогда в петербургской журналистике – но в роли полицейских, а не литераторов. Полевой сумел удержаться, наперекор всякой реакции, до 1834 года, не изменив своему делу; нам не должно этого забывать.
Полевой начал демократизировать русскую литературу, он заставил её спуститься с аристократических высот и сделал её более народной или по крайней мере более буржуазной. Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которые он нападал с безжалостной иронией. Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, сумевший освободиться от гнёта великих имён и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе. До Полевого критики порой отваживались – хоть и не без множества недомолвок и извинений – делать незначительные замечания по адресу Державина, Карамзина и Дмитриева219, признавая вместе с тем всю неоспоримость их величия. А Полевой, с первого же дня став с ними на совершенно равную ногу, начал предъявлять обвинения этим исполненным важности и догматизма особам, этим великим мастерам. Старик Дмитриев, поэт и бывший министр юстиции, с грустью и ужасом говорил о литературной анархии, которую вводил Полевой, лишённый чувства почтения к людям, заслуги коих признавались всей страной.
Полевой атаковал не только литературные авторитеты, но и учёных; он, этот мелкий сибирский торговец, нигде не учившийся, дерзнул усомниться в их науке. Учёные ex officio220 объединились с заслуженными седовласыми литераторами и начали форменную войну против мятежного журналиста.
Зная вкусы публики, Полевой уничтожал своих врагов язвительными статьями. На учёные возражения он отвечал шуткой, а на скучные рассуждения – дерзостью, вызывавшей громкий хохот. Трудно себе представить, с каким любопытством следила публика за ходом этой полемики. Казалось, она понимала, что, нападая на авторитеты литературные, Полевой имел в виду и другие. Действительно, он пользовался всяким случаем, чтобы затронуть самые щекотливые вопросы политики, и делал это с изумительной ловкостью. Он говорил почти всё, но так, что никогда не давал повода к себе придраться. Надо сказать, что цензура чрезвычайно способствует развитию слога и искусства сдерживать свою речь. Человек, раздражённый оскорбляющим его препятствием, хочет победить его и почти всегда преуспевает в этом. Иносказательная речь хранит следы волнения, борьбы; в ней больше страсти, чем в простом изложении. Недомолвка сильнее под своим покровом, всегда прозрачным для того, кто хочет понимать. Сжатая речь богаче смыслом, она острее; говорить так, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова для неё находил сам читатель, – лучший способ убеждать. Скрытая мысль увеличивает силу речи, обнажённая – сдерживает воображение. Читатель, знающий, насколько писатель должен быть осторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тайная связь: один скрывает то, что он пишет, а другой – то, что понимает. Цензура – та же паутина: маленьких мух она ловит, а большие её прорывают. Намёки на личности, нападки умирают под красными чернилами: но истинные мысли, подлинная поэзия с презрением проходят через эту переднюю, позволив, самое большее, немного себя почистить221.
С «Телеграфом» в русской литературе начинают господствовать журналы. Они вбирают в себя всё умственное движение страны. Книг покупали мало, лучшие стихи и рассказы появлялись в журналах, и нужно было что-нибудь из ряда вон выходящее, – поэма Пушкина или роман Гоголя, – чтобы привлечь внимание публики столь разбросанной, как читатели в России. Ни в одной стране, исключая Англию, влияние журналов не было так велико. Это действительно лучший способ распространить просвещение в обширной стране. «Телеграф», «Московский вестник», «Телескоп», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» и побочный их сын «Современник», независимо от их весьма различных направлений, распространили за последние двадцать пять лет огромное количество знаний, понятий, идей…
Полевой ухитрился выпускать «Телеграф» до 1834 года. Однако после польской революции преследование передовой мысли усилилось. Победивший абсолютизм потерял всякий стыд, всякую скромность. Школьные шалости наказывались, как вооружённые восстания, детей 15 – 16 лет ссылали или отдавали пожизненно в солдаты. Студент Московского университета Полежаев222, уже известный своими поэтическими произведениями, написал несколько либеральных стихотворений. Николай под суд его не отдал, а велел привести его к себе, приказал ему прочесть вслух стихи, поцеловал его и послал в полк простым солдатом; мысль о таком нелепом наказании могла возникнуть лишь в уме потерявшего рассудок правительства, которое принимало русскую армию за исправительное заведение или за каторгу. Восемь лет спустя солдат Полежаев умер в военном госпитале. А через год братья Крицкие223, тоже московские студенты, отправились в тюрьму за то, что – если я не ошибаюсь, – разбили бюст императора. С тех пор никто о них не слышал. В 1832 году, под предлогом, что это тайное общество, арестовали дюжину студентов224 и тут же отправили в оренбургский гарнизон, где присоединили к ним и сына лютеранского пастора, Юлия Кольрейфа, который никогда не был русским подданным, никогда ничем не занимался, кроме музыки, но осмелился сказать, что не считает своим долгом доносить на друзей. В 1834 году и нас, моих друзей и меня225, бросили в тюрьму, а спустя восемь месяцев сослали писцами в канцелярии отдалённых губерний. Нас обвиняли в намерении создать тайное общество и желании пропагандировать сен-симонистские идеи; нам прочитали в качестве скверной шутки смертный приговор, а затем объявили, что император, по своей поистине непростительной доброте, приказал подвергнуть нас лишь исправительному наказанию – ссылке. Это наказание длилось более пяти лет.
В том же 1834 году был запрещён «Телеграф». Потеряв журнал, Полевой оказался выбитым из колеи. Его литературные опыты успеха более не имели; раздражённый и разочарованный, он покинул Москву и переселился в Петербург. Первые номера его нового журнала («Сын отечества») были встречены с горестным удивлением. Он стал покорен, льстив. Печально было видеть, как этот смелый боец, этот неутомимый работник, умевший в самые трудные времена оставаться на своём посту, лишь только прикрыли его журнал, пошёл на мировую со своими врагами. Печально было слышать имя Полевого рядом с именами Греча и Булгарина; печально было присутствовать на представлениях его драматических пьес, вызывавших рукоплескания тайных агентов и чиновных лакеев.
Полевой чувствовал, что терпит крушение, это заставляло его страдать, он пал духом. Ему даже хотелось оправдаться, выйти из своего ложного положения, но у него не было на это сил, и он лишь вредил себе в глазах правительства, ничего не выигрывая в глазах общества. Более благородный по своей натуре, нежели по поступкам, он не мог долго выносить эту борьбу. Вскоре он умер, оставив свои дела в совершенном расстройстве. Все его уступки ни к чему не привели.
Было два продолжателя дела Полевого – Сенковский226 и Белинский.
Обрусевший поляк, ориенталист и академик Сенковский был очень остроумным писателем, большим тружеником, но совершенно беспринципным человеком, если только не счесть принципами глубокое презрение к людям и событиям, к убеждениям и теориям. В Сенковском нашёл своего подлинного представителя тот духовный склад, который приняло общество с 1825 года, – блестящий, но холодный лоск, презрительная улыбка, нередко скрывавшая за собой угрызения совести, жажда наслаждений, усиливаемая неуверенностью каждого в собственной судьбе, насмешливый и всё же невесёлый материализм, принуждённые шутки человека, сидящего за тюремной решёткой.
Белинский являлся полной противоположностью Сенковскому – то был типичный представитель московской учащейся молодёжи; мученик собственных сомнений и дум, поэт в диалектике, оскорбляемый всем, что его окружало, он изнурял себя волнениями. Этот человек трепетал от негодования и дрожал от бешенства при вечном зрелище русского самодержавия.
Сенковский основал свой журнал227, как основывают торговое предприятие. Мы не разделяем всё же мнения тех, кто усматривал в журнале какую-либо правительственную тенденцию. Его с жадностью читали по всей России, чего никогда не случилось бы с газетой или книгой, написанной в интересах власти. «Северная пчела», пользовавшаяся покровительством полиции, являлась лишь кажущимся исключением из этого правила: то был единственный политический, но не официальный листок, который терпели, этим и объясняется его успех; но как только официальные газеты приобрели сносную реакцию, «Северная пчела» была покинута своими читателями. Нет славы, нет репутации, которые устояли бы при мертвящем и принижающем соприкосновении с правительством. В России все те, которые читают, ненавидят власть; все те, кто любит её, не читают вовсе или читают французские пустячки. От Пушкина – величайшей славы России – одно время отвернулись за приветствие, обращённое им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения228. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболепной брошюрой229. Звезда Полевого померкла в тот день, когда он заключил союз с правительством. В России ренегату не прощают.
Сенковский с презрением отзывался о либерализме и о науке, зато он не питал уважения и ни к чему другому. Он воображал себя в высшей степени практичным, ибо проповедовал практический материализм, но, как всякий теоретик, он был превзойдён другими теоретиками, мыслившими ещё более отвлечённо, но имевшими пламенные убеждения, – а это несравненно практичнее и ближе к действию, нежели практология.
Поднимая на смех всё самое святое для человека, Сенковский невольно разрушал в умах идею монархии. Проповедуя комфорт и чувственные удовольствия, он наводил людей на весьма простую мысль, что невозможно наслаждаться жизнью, непрестанно думая о жандармах, доносах и Сибири, что страх – не комфортабелен, и что нет человека, который мог бы с аппетитом пообедать, если он не знает, где будет спать.
Сенковский целиком принадлежал своему времени, подметая у входа в новую эпоху, он выметал вместе с пылью и вещи ценные, но он расчищал почву для другого времени, которого не понимал. Он и сам это чувствовал; как только в литературе проглянуло чтото новое и живое, Сенковский убрал паруса и вскоре совсем стушевался.
Возле Сенковского был кружок молодых литераторов, которых он губил, развращая их вкус. Они ввели стиль, казавшийся с первого взгляда блестящим, а со второго – фальшивым. В поэзии петербургской, или еще лучше, в васильеостровской230, в этих исторических образцах, порождённых Кукольниками, Бенедиктовыми, Тимофеевыми и др., не было ничего жизненного, реального. Подобные цветы могли расцвести лишь у подножья императорского трона или под сенью Петропавловской крепости.
Славнозвісний лист П. Я. Чаадаєва, його значення й вплив
В Москве вместо запрещённого «Телеграфа» стал выходить журнал «Телескоп»; он не был столь долговечен, как его предшественник, зато смерть его была поистине славной. Именно в нём было помещено знаменитое письмо Чаадаева231. Журнал немедленно запретили, цензора уволили в отставку, главного редактора сослали в Усть-Сысольск. Публикация этого письма была одним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лёд после 14 декабря. Наконец пришёл человек с душой, переполненной скорбью, он нашёл страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать всё, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчёта во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, что мы покупаем такой ценой, чем мы заслужили своё положение; он анализирует это с неумолимой, приводящей в отчаяние проницательностью, а закончив эту вивисекцию, с ужасом отворачивается, проклиная свою страну, в её прошлом, в её настоящем и в её будущем. Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы»232. Он сказал России, что прошлое её было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у неё нет. Не соглашаясь с Чаадаевым, мы всё же отлично понимаем, каким путём он пришёл к этой мрачной и безнадежной точке зрения, тем более, что и до сих пор факты говорят за него, а не против него. Мы верим, а ему довольно указать пальцем; мы надеемся, а ему довольно лишь развернуть газету, чтобы доказать свою правоту. Заключение, к которому приходит Чаадаев, не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; своё значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потрясает душу и надолго оставляет её под тяжёлым впечатлением. Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком быстро забываем своё положение, мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах.
Статья эта была встречена воплем скорби и изумления, она испугала, она глубоко задела даже тех, кто разделял симпатии Чаадаева, и всё же она лишь выразила то, что смутно волновало душу каждого из нас. Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну, которая на все благородные порывы отвечает лишь мучениями, которая спешит нас разбудить лишь затем, чтобы подвергнуть пытке? Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвёртую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель – царь, а царь – коронованный полицейский надзиратель? Кто из нас не предавался всевозможным страстям, чтобы забыть этот морозный, ледяной ад, чтобы хоть на несколько минут опьяниться и рассеяться? Сейчас мы видим всё по-другому, мы рассматриваем русскую историю с иной точки зрения, но у нас нет оснований ни отрекаться от этих минут отчаяния, ни раскаиваться в них; мы заплатили за них слишком дорогой ценой, чтобы забыть о них; они были нашим правом, нашим протестом, они нас спасли.
Чаадаев замолк, но его не оставили в покое. Петербургские аристократы – эти Бенкендорфы, эти Клейнмихели – обиделись за Россию. Важный немец Вигель, – по-видимому, протестант, – директор департамента иностранных вероисповеданий, ополчился на врагов русского православия233. Император велел объявить Чаадаева впавшим в умственное расстройство. Этот пошлый фарс привлёк на сторону Чаадаева даже его противников; влияние его в Москве возросло. Сама аристократия склонила голову перед этим мыслителем и окружила его уважением и вниманием, представив тем самое блистательное опровержение шутке императора.
Письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе: сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса: на арену вышли молодые бойцы, свидетельствуя о безмолвной работе, производившейся в течение этих десяти лет.
14 (26) декабря слишком резко отделило прошлое, чтобы литература, которая предшествовала этому событию, могла продолжаться. Назавтра после этого великого дня мог ещё появиться Веневитинов234, юноша, полный мечтаний и идей 1825 года. Отчаяние, как и боль после ранения, наступает не сразу. Но, едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики.
Веневитинов не был жизнеспособен в новой русской атмосфере. Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надо было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать всё, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а напротив, – давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать безграничной гордостью, чтобы с кандалами на руках и ногах высоко держать голову.
Каждая часть «Онегина», появлявшаяся после 1825 года, отличалась всё большей глубиной. Первоначальный план поэта был непринуждённым и безмятежным; он его наметил в другие времена, поэта окружало тогда общество, которому нравился этот иронический, но доброжелательный и весёлый смех. Первые песни «Онегина» весьма напоминают нам язвительный, но сердечный комизм Грибоедова. И слёзы и смех – всё переменилось.
Два поэта, которых мы имеем в виду и которые выражают новую эпоху русской поэзии – это Лермонтов и Кольцов. То были два мощных голоса, доносившихся с противоположных сторон.
Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым, Пушкин – часто недовольный и печальный, оскорблённый и полный негодования, всё же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой. Ибо ничто не требовало такого самопожертвования. Он не шёл, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.
Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой заклеймил низкие интриги, предшествовавшие дуэли, – интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, – воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!»235 Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Это произошло в 1837 году; в 1841-м тело Лермонтова было опущено в могилу у подножья Кавказских гор.
И то, что ты сказал перед кончиной, Из слушавших тебя не понял ни единый …Твоих последних слов. Глубокое и горькое значенье Потеряно236.К счастью для нас, не потеряно то, что написал Лермонтов за последние четыре года своей жизни. Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днём, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слёзы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли – и какие мысли! Это уже не были идеи просвещённого либерализма, идеи прогресса, – это были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасение в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжёлый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлечённая мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова – его поэзия, его мученье, его сила237. Симпатии его к Байрону были глубже, чем у Пушкина. К несчастью быть проницательным у него присоединялось и другое – он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои чувства и мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделить ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве. Когда Лермонтов, вторично приговорённый к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово. Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть.
Но можно ли сомневаться в существовании находящихся в зародыше сил, когда из самых глубин нации зазвучал такой голос, как голос Кольцова.
В течение века или даже полутора веков народ пел одни лишь старинные песни или уродливые произведения, сфабрикованные в первой половине царствования Екатерины II238. Правда, в начале нашего века появились несколько довольно удачных подражаний народной песне, но этим искусственным творениям недоставало правды; то были попытки, причуды. Именно из самых недр деревенской России вышли новые песни. Их вдохновенно сочинял прасол, гнавший через степи свои стада. Он родился в Воронеже, до десяти лет посещал приходскую школу, где научился читать и писать без всякой орфографии. Отец его, скотопромышленник, заставил сына заняться тем же делом. Кольцов водил стада за сотни вёрст и привык благодаря этому к кочевой жизни, нашедшей отражение в лучших его песнях. Молодой прасол любил книги и постоянно перечитывал кого-нибудь из русских поэтов, которых брал себе за образец, попытки подражания давали ложное направление его поэтическому инстинкту. Наконец проявил себя его подлинный дар; он создал народные песни, их немного, но каждая – шедевр. Это настоящие песни русского народа. В них чувствуется тоска, которая составляет характерную их черту, раздирающая душу печаль, бьющая через край жизнь (удаль молодецкая). Кольцов показал, что в душе русского народа кроется много поэзии, что после долгого и глубокого сна в его груди осталось что-то живое. У нас есть ещё и другие поэты, государственные мужи и художники, вышедшие из народа, но они вышли из него в буквальном смысле слова, порвав с ним всякую связь. Ломоносов был сыном беломорского рыбака. Он бежал из отчего дома, чтобы учиться, поступил в духовное училище, затем уехал в Германию, где перестал быть простолюдином. Между ним и русской земледельческой Россией нет ничего общего, если не считать той связи, что существует между людьми одной расы. Кольцов же остался при стадах и при делах своего отца, который его ненавидел и с помощью других родственников сделал жизнь такой тяжёлой, что в 1842 году он умер. Кольцов и Лермонтов вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела.
Но в области прозы деятельность усилилась и приняла иное направление.
Гоголь, не будучи в отличие от Кольцова, выходцем из народа по своему происхождению, был им по своим вкусам и складу ума. Гоголь полностью свободен от иностранного влияния; он не знал никакой литературы, когда сделал уже себе имя. Он больше сочувствовал народной жизни, нежели придворной, что естественно для малоросса.
Малоросс, даже став дворянином, никогда так резко не порывает с народом, как русский. Он любит отчизну, свой язык, предания о казачестве и гетманах. Независимость свою, дикую и воинственную, но республиканскую и демократическую, Украина отстаивала на протяжении веков, вплоть до Петра I. Малороссы, терзаемые турками, поляками и москалями, втянутые в вечную войну с крымскими татарами, никогда не складывали оружия. Добровольно присоединившись к Великороссии, Малороссия выговорила себе значительные права. Царь Алексей поклялся их соблюдать. Пётр I, под предлогом измены Мазепы, оставил одну лишь тень от этих привилегий. Елизавета и Екатерина ввели там крепостное право. Несчастная страна протестовала, но могла ли она устоять перед этой роковой лавиной, катившейся с севера до Чёрного моря и покрывавшей всё, что носило русское имя, одинаковым ледяным саваном рабства? Украина претерпевает судьбу Новгорода и Пскова, хотя и немного позже; но одно столетие крепостного состояния не могло уничтожить всё, что было независимого и поэтического в этом славном народе. Там наблюдается более самобытное развитие, там ярче местный колорит, чем у нас, где вся народная жизнь, без различия, втиснута в жалкую форменную одежду. Люди у нас родятся, чтобы склонить голову перед несправедливым роком, и умирают бесследно, предоставляя своим детям начать сначала ту же безнадёжную жизнь. Наш народ не знает своей истории, тогда как в Малороссии каждая деревушка имеет своё предание. Русский народ помнит лишь о Пугачёве и 1812 годе.
Рассказы, с которыми выступил Гоголь, представляют собою серию подлинно прекрасных картин, изображающих нравы и природу Малороссии, – картин, полных весёлости, изящества, живости и любви. Подобные рассказы невозможны в Великороссии за отсутствием сюжета и героев. У нас народные сцены сразу приобретают мрачный и трагический характер, угнетающий читателя; я говорю «трагический» только в смысле Лаокоона239. Это трагические судьбы, которой человек уступает без сопротивления.
Скорбь превращается здесь в ярость и отчаяние, смех – в горькую и полную ненависти иронию. Кто может читать, не содрогаясь от ненависти и стыда, замечательную повесть «Антон Горемыка» или шедевр И. Тургенева «Записки охотника»?
С переводом Гоголя из Малороссии в среднюю Россию исчезают в его произведениях простодушные, грациозные образы. Нет в них больше полудикого героя, наподобие Тараса Бульбы, нет добродушного патриархального старика, так хорошо описанного в «Старосветских помещиках». Под московским небом всё в его душе становится мрачным, пасмурным, враждебным. Он продолжает смеяться, даже больше, чем прежде, но это другой смех, он может обмануть лишь людей с чёрствым сердцем или слишком уж простодушных. Перейдя от своих малороссов и казаков к русским, Гоголь оставляет в стороне народ и принимается за двух его заклятых врагов: за чиновника и за помещика. Никто и никогда до него не написал такого полного курса патологической анатомии русского чиновника. Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой нечистой зловредной души. Комедия Гоголя «Ревизор», его роман «Мёртвые души» – это страшная исповедь современной России, под стать разоблачениям Кошихина240 в XVII веке.
Присутствуя на представлениях «Ревизора», император Николай умирал со смеху!!! Поэт, в отчаянии, что всего лишь это августейшее веселье да самодовольный смех чиновников, совершенно подобных тем, которых он изобразил, но пользовавшихся большим покровительством цензуры, счёл своим долгом разъяснить в предудомлении, что его комедия не только очень смешна, но и очень печальна, что «за его улыбкой кроются горячие слёзы»241.
После «Ревизора» Гоголь обратился к поместному дворянству и вытащил на белый свет его неведомое племя, державшееся за кулисами, вдалеке от дорог и больших городов, схоронившееся в деревенской глуши, – эту Россию дворянчиков, которые, уйдя втихомолочку в своё хозяйство, таят развращённость, более глубокую, чем западная. Благодаря Гоголю мы видим их, наконец, за порогом их барских палат, их господских домов; они проходят перед нами без масок, без прикрас, пьяницы и обжоры, угодливые невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, пьющие жизнь и кровь народа с той же естественностью и простодушием, с каким ребёнок сосёт грудь своей матери.
«Мёртвые души» потрясли всю Россию.
Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукой мастера. Поэзия Гоголя – это крик ужаса и стыда, которые издаёт человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале своё оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения. Тот, кто откровенно сознаётся в своих слабостях и недостатках, чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он не поглощён ими целиком, что есть ещё в нём нечто, не поддающееся, сопротивляющееся падению, что он может ещё искупить прошлое и не только поднять голову, но, как в трагедии Байрона, стать из Сарданапаланеженки – Сарданапалом-героем.
Тут мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с важным вопросом: где доказательство того, что русский народ может воспрянуть, и каковы доказательства противного? Вопрос этот, как мы видели, занимал всех мыслящих людей, но никто из них не нашёл решения.
Полевой, ободрявший других, ни во что не верил; разве иначе он так скоро впал бы в уныние, перешёл бы на сторону врага при первом ударе судьбы? «Библиотека для чтения» одним прыжком перемахнула через эту проблему, она обошла вопрос, даже не попытавшись разрешить его. Решение Чаадаева – не решение.
Поэзия, проза, искусство и история показали нам образование и развитие этой нелепой среды, этих оскорбительных нравов, этой уродливой власти, но никто не указал выхода. Нужно ли было приспособляться, как это впоследствии сделал Гоголь, или бежать навстречу своей гибели, как Лермонтов? Приспособиться нам было невозможно, погибнуть – противно; что-то в глубине нашего сердца говорило, что ещё слишком рано уходить; казалось, за мёртвыми душами есть ещё души живые.
И вновь вставали эти вопросы, с ещё большей настойчивостью; всё, что надеялось, требовало решения любой ценой.
После 1840 года внимание общества было приковано к двум течениям. Из схоластических споров они вскоре перешли в литературу, а оттуда – в общество.
Мы говорим о московском панславизме и о русском европеизме.
Борьбу между этими двумя течениями закончила революция 1848 года. То была последняя оживлённая полемика, которая занимала публику; тем самым она приобретает известное значение. Мы посвящаем ей поэтому следующую главу.
Московский панславизм и русский европеизм
Пора реакции против реформ Петра I настала не только для правительства, отступавшего от своего же принципа и отрекавшегося от западной цивилизации, во имя коей Пётр I попирал национальность, но и для тех людей, которых правительство оторвало от народа под предлогом цивилизации и принялось вешать, когда они стали цивилизованными.
Возврат к национальным идеям естественно приводил к вопросу, сама постановка которого уже являлась реакцией против петербургского периода. Не нужно ли искать выхода из создавшегося для нас печального положения в том, чтобы приблизиться к народу, который мы, не зная его, презираем? Не нужно ли возвратиться к общественному строю, который более соответствует славянскому характеру, и покинуть путь чужеземной насильственной цивилизации? Это вопрос важный и злободневный. Но едва только он был поставлен, как нашлась группа людей, которая тут же, решив его в положительном смысле, создала исключительную систему, превратив её не только в доктрину, но и в религию. Логика реакции так же стремительна, как логика революций.
Наибольшее заблуждение славянофилов заключается в том, что они в самом вопросе услышали ответ и спутали возможность с действительностью. Они предчувствовали, что их путь ведёт к великим истинам и должен изменить нашу точку зрения на современные события. Но вместо того, чтобы идти вперёд и работать, они ограничились этим предчувствием. Таким образом, извращая факты, они извратили своё собственное понимание. Суждение их не было уже свободным, они уже не видели трудностей, им казалось, что всё решено, со всем покончено. Их занимала не истина, а поиски возражения своим противникам.
К полемике примешались страсти».
Декабристський рух в Україні
Україна була одним з найбільших вогнищ підготовки повстання та його основного вибуху. Перші декабристські товариства виникли в Петербурзі (1816 р. «Союз спасения»). Після того, як він припинив своє існування, у Москві почав діяти «Союз благоденствия». Його найактивнішою Тульчинською управою керував легендарний Павло Іванович Пестель. Він же очолив створене одразу після розпуску «Союза благоденствия» «Южное общество». (Про це йтиметься нижче.)
Військова служба П. І. Пестеля до арешту
Полковник Пестель був хоробрим і вправним воїном, який розпочав військову службу вісімнадцятирічним юнаком. «Я вступил на службу, – свідчив Павло Іванович на суді, – в 1811 году в ноябре месяце из Пажеского корпуса в лейб-гвардии Литовский, что ныне лейб-гвардии Московский полк. По открытии кампании 1812 года находился я во фронте при полку и был с полком в сражении при селе Бородине, где под самый уже вечер 26 августа ранен был жестоко ружейною пулею в ногу с раздроблением костей и повреждением жил, за что и получил золотую шпагу с надписью за храбрость. От сей раны пролежал я до мая 1813 года и, не будучи ещё вылечен, но имея рану открытою, из коей чрез весь 1813 год косточки выходили, отправился к армии графа Витгенштейна, к коему был назначен в адъютанты. При нём находился я всю кампанию 1813 и 1814 годов и во всех был сражениях, где он сам находился. За Лейпцигское сражение получил я орден Святого Владимира четвёртой степени с бантом, а за все предшествующие дела 1813 года, в коих находился после перемирия, был произведен за отличие в поручики. За кампанию 1814 получил орден Святыя Анны 2-го класса.
По окончании войны в 1814 году был я переведен в Кавалергардский полк с оставлением в прежней должности, в коей пребывал до 1821 года, быв переведен в начале 1820 года в Мариупольский гусарский полк подполковником. В 1821 году, когда открывался поход в Италию, тогда был я переведен в Смоленский драгунский полк, не оставаясь уже более адъютантом. В полку, однако же, я не был налицо, потому что сказанный поход в Италию был отменён, а я между тем употреблён был в главной квартире 2-й армии по делам о возмущении греков и по сим же делам был трикратно послан в Бессарабию, представив тогда начальству две большие записки о делах греков и турков, которые и были отосланы к министру иностранных дел»242.
Пестель знаний і як автор оригінальних соціально-політичних та економічних праць243, але найбільш визначним і відомим його твором є «Русская Правда244 или Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащая первый наказ как для народа, так и для временного народного правления».
Україна – найактивніше вогнище декабристського руху
Зовсім невипадково, що більш радикальне, ніж Північне товариство – Південне було створено й провадило свою послідовну революційну антисамодержавну діяльність в Україні. «…Приблизился январь 1823 г. – значительная дата в жизни Южного общества декабристов. В Киеве «на контрактах»245 должен был собраться новый – второй по счёту – съезд его руководителей, на котором решено было подвести итоги рассмотрения предложенных на первом съезде основ конституционного проекта. Истекал годичный срок, данный членам организации для обдумывания основ конституции будущей революционной России, доложенных Пестелем в 1822 г. Члены общества должны были отвергнуть или принять предложенный им проект. Годичный срок для обдумывания предоставлял широкие возможности творчества, длительность срока говорила о серьёзности подхода к вопросу.
Съезд собрался в киевской квартире Волконского246 (в доме матери декабриста Давыдова). Позже, после восстания декабристов, цесаревич Константин писал Николаю I, что уже давно обращал внимание императора Александра I на Киев и Одессу, которые «не хороши» и являются «очагами» «всех этих происков». Вероятно, какие-то смутные сведения агентуры о киевских собраниях декабристов доходили до Константина.
На «контракты» декабристов 1823 г. съехались Пестель, Юшневский, Волконский, Давыдов, Сергей Муравьёв-Апостол…
Очевидно, Пестель не имел непосредственной необходимости готовить новый специальный доклад о своей конституции ко второму съезду. Такой доклад уже был им сделан на первом съезде. Слово теперь было уже не за ним, а за другими участниками собрания, взявшими год для обдумывания его. Он председательствовал на съезде… и участвовал в обсуждении. Разъяснял оставшиеся неясными или спорные вопросы, убеждал колеблющихся, а главное – подвёл итоги годичным размышлениям участников, в чём и был основной смысл съезда. Конечно, Пестель в порядке напоминания вновь изложил свои главные положения: «Как в 1822, так и в 1823 году было рассуждаемо о республиканском Правлении, и я при этом объяснял свои мысли и свой План конституции», – показывает Пестель.
Основы конституционного проекта, предложенные Пестелем, после тщательного рассмотрения были приняты съездом. Получили в основном одобрение и «способы действий» для достижения поставленных целей. Программа и тактика общества, таким образом, были приведены в ясность, «сокровенная цель» определилась. По ряду вопросов имели место жаркие прения, другие сразу оказались ясны и даже не потребовали обсуждения. Некоторые спорные вопросы были выделены для последующего рассмотрения, но они не колебали основных принятых принципов. Сергей Муравьёв-Апостол показывает: «Пестель снова объяснял “Русскую Правду”, которая была принята всеми членами с некоторыми возражениями». В другом месте он свидетельствует ещё более отчётливо и без оговорок, что на киевских контрактах 1823 г. «единодушно приняты были всеми членами. “Русская Правда” и образ введения оной в Россию». Значит, несмотря на упомянутые возражения, очевидно, снятые голосованием, “Русская Правда” была принята съездом»247.
Головні, за Пестелем, обов’язки держави щодо громадян
Кожна історична епоха народжує генія, який, випереджаючи свій час, не мириться з кричущими неподобствами життя, та робить багато – коли не все, для перебудови сучасного їм суспільства.
Чітко та ясно і разом з тим – відповідно до тодішнього світогляду передових членів суспільства – викладав П. І. Пестель основні підходи до своїх планів перебудови державного устрою царської Росії: «Обязанности в государстве истекают из цели государства. Цель же государственного устройства должна быть – возможное благоденствие всех и каждого. А посему всё, ведущее к благоденствию, есть обязанность. Но поелику понятия о благоденствии бывают весьма различны и разнообразны, то и нужно сему положить некоторые основные или коренные правила. Обязанности, на человека от Бога посредством веры наложенные, суть первейшие и непременнейшие. Они связывают духовный мир с естественным, жизнь бренную с жизнию вечною, и потому все постановления государственные должны быть в связи и согласии с обязанностями человека в отношении к вере и всевышнему созидателю миров. Сей первый род обязанностей касается мира духовного. Они нам известны из Священного писания.
Второй род обязанностей касается мира естественного. Они нам известны из законов природы и естественных. Бог – творец вселенной. Есть и творец законов природы, нужд естественных. Сии законы глубоко запечатлены в сердцах наших. Каждый человек им подвластен, никто не в силах их низвергнуть, и потому постановления государственные должны быть в таком же согласии с неизменными законами природы, как и со святыми законами веры.
Громадянське суспільство має піклуватися про всіх людей і разом з тим – про кожну людину
Наконец третий род обязанностей порождается составлением гражданских обществ или государств. Первое правило248 в сём деле состоит в том, что всякое стремление в государстве к правилодоставлению оному благоденствия должно быть в соответствии с законами духовными и законами естественными.
Второе правило: что все государственные постановления должны стремиться единственно к благоденствию гражданского общества, причём всякое действие, сему благоденствию противное или ему вредящее, признаваемо быть должно преступлением.
Третье правило, что благоденствие общественное должно считаться важнее благоденствия частного, и ежели оные находятся в противуборстве, то первое должно получить перевес.
Четвёртое правило, что благоденствием общественным признаваемо должно быть благоденствие совокупности народа, из чего следует, что истинная цель государственного устройства должна непременно быть – возможно большее благоденствие многочисленнейшего числа людей в государстве, почему и должны всегда выгоды части или одного нераздельного уступать выгодам целого, признавая целым совокупность или массу народа.
Пятое, наконец, правило состоит в том, что частный человек, делая усилия к доставлению себе благоденствия, не должен выступать из круга своего действия и входить в круг действия другого, т. е. что благоденствие одного человека не должно наносить вреда, а тем ещё менее, гибели другому.
Підсумок суджень П. І. Пестеля про «государственное благоденствие»
Коль скоро все деяния как правительства, так и частных людей на сих правилах основаны будут, то государство несомненно, пользоваться будет возможным благоденствием. Все же законы и постановления государственные непременно с сими правилами в полной мере совершенно согласоваться…
Выше пояснено, что государство состоит из правительства и народа. Народ есть совокупность всех тех людей, которые, принадлежа к одному и тому же государству, составляют гражданское общество, имеющее целью своего существования возможное благосостояние всех и каждого. Непреложный закон гражданских обществ заключается в том, что каждое государство состоит из народа и правительства, следовательно, народ не есть правительство, а каждое из оных имеет свои особенности и права; однако же правительство существует для блага народа и не имеет другого основания своему бытию и образованию, как только благо народное, между тем наш народ существует для собственного своего блага и для выполнения воли всевышнего, призвавшего людей на сей земле прославлять его имя, быть добродетельными и счастливыми. Сей закон Божий поставлен для всех людей в ровной мере, и, следовательно, все имеют право на его исполнение. А посему народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а не народ существует для блага правительства»249.
«Основное понятие о правительстве…»
«Правительство есть совокупность всех лиц, занимающихся отправлением дел общественных, – зазначає в наступному параграфі «Русской Правды» П. І. Пестель. – Оно поставлено в обязанность доставлять народу благоденствие и потому имеет право государством управлять для достижения сей предназначенной цели. Обладая сим правом, оно должно иметь и соразмерную власть, дабы обязанность была выполнена, и право было бы действительным. Сия власть, посредством которой правительство исполняет свои обязанности, употребляет своё право и достигает предназначенной цели, есть Верховная власть…»
Про двоєдині завдання держави
«Государственное благоденствие, – визначає П. І. Пестель завдання політики держави, – состоит из двух главных предметов: из безопасности и благосостояния. Отличительное и главное качество безопасности есть охранение, а благосостояния – есть приобретение. Безопасность должна быть первою целью правительства, потому что может быть достигнута посредством общего только действия соединённых сил и волей, каковое соединение в правительстве именно и представляется, и что она ответствует первоначальной обязанности человека, состоящей в сохранении своего бытия. Сверх того не может быть благосостояния, если не существует безопасности, а потому и служит она основанием сооружения государственного здания. Благосостояние должно быть второю целью правительства, ибо понятия об оном до такой степени различны, что приобретение его должно быть предоставлено каждому члену гражданского общества особенно, и что участие правительства в сём отношении должно быть ограничено дарованием защиты и удалением тех препятствий, которые могли бы превышать силы и способы частных людей, тем более, что частные люди собственными трудами могут доставить себе благосостояние, но не могут одними частными своими силами утвердить безопасность».
Що є передумовою здійснення завдань перебудови життя країни?
На це запитання відповідає вже заголовок чергового параграфа вступної частини: «Необходимость Россию преобразовать и новые законы издать»250.
Під цим заголовком – наступний підсумковий текст: «Таковы коренные начальные понятия, на которых основаны быть должны существование, жизнь и образование всякого благоустроенного государства, дабы оно находилось под властью и управлением законов общественных, а не прихотей личных властителей и доставляло бы возможное благоденствие всем и каждому, а не зловластвовало над всеми для выгоды единого или нескольких. – Всё, что от сих правил удаляется, а тем паче оным противоречит, есть зловластие, ниспровержение прав и уничижение, нарекание наносящее, и гибель совершающее. Применяя сии неизменные и непреложные коренные правила к России, ясно можно видеть, что самые коренные правила непременно требуют изменения существующего ныне государственного порядка в России и введение на место его такого устройства, которое было бы основано на одних только точных и справедливых законах и постановлениях, не предоставляло бы ничего личному самовластию и в совершенной точности удостоверило бы народ российский в том, что он составляет устроенное гражданское общество, а не есть и никогда быть не может чьей-либо собственностью или принадлежностью. Из сего явствуют две главные для России необходимости: первая состоит в совершенном преобразовании государственного порядка и устройства, а вторая – в издании полного нового уложения или свода законов, сохранив притом все полезное и уничтожив всё вредное».
Необхідність зміни вищої влади та невідкладних конституційних перетворень
«Сия двойная цель не может быть с успехом достигнута, – наполягає П. І. Пестель, – как посредством учреждения временного Верховного правления и обнародования Русской Правды ко всеобщему сведению. Причины тому суть следующие: предполагаемый новый порядок, по обширности государства и многочисленности статей и предметов, переобразованию подлежащих, не может быть введён одним разом. Для сего нужно много мер приуготовительных или переводных, которые должны постепенно в ход и действие быть приводимы, дабы государство не подвергалось беспорядкам, волнениям и превращениям, которые вместо улучшениям могли бы только ввергнуть оное в гибель. Все происшествия в Европе, в последнем полустолетии совершившиеся, доказывают, что народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственных преобразований, впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу самовластия и беззакония. Сие доказывает необходимость приступить к переобразованию государства постепенными мероприятиями. Кому может быть поручено исполнение сего важного дела, как не временному Верховному правлению: прежняя власть довольно уже доказала враждебные свои чувства противу народа русского, и представительный собор не может быть созван, ибо начала представительного верховного порядка в России ещё не существуют. Но поелику Россия должна иметь залог в том, что временное Верховное правление точно будет действовать для одного только блага России и для всевозможного усовершенствования положения и состояния её по всем предметам и статьям, то необходимым оказывается издание Русской Правды в виде наказа Верховному правлению. С другой стороны, составление уложения или полного свода законов есть дело обширное, многотрудное, требующее много времени и больших соображений, дабы все статьи оного пребывали в совершенном между собой согласии и соответствии. А поэтому и не может оно быть вдруг ныне издано. К тому же государственное уложение должно содержать одни только точные и положительные законы и постановления, утверждающие будущий порядок в государстве, а следовательно, и не должно оно содержать:
1) ни воспоминания о ныне существующем порядке, ибо оный прекратит своё существование;
2) ниже изложения переводных и приуготовительных мероприятий или средств, коими нынешний порядок изменён будет предполагаемым новым, ибо приуготовительные и переводные меры суть действия преходящие;
3) ниже, наконец, пояснения основных умозрительных соображений и правил, на коих государственное здание имеет быть сооружено, ибо умозрения не могут входить в состав положительных законов или уложения. Но поелику сии три предмета преимущественно важны и России непременно известны быть должны при самом начале её возрождения и преобразования, то тем ещё более оказывается необходимость в Русской Правде, которая, излагая коренные начала и основания сего преобразования, содержала бы указание на целое государство и на все оного части, члены и отрасли.
Місце «Русской Правды» в прийдешніх корінних перетвореннях Росії
Русская Правда есть по сему верховная Всероссийская грамота, определяющая все перемены, в государстве последовать имеющие, все предметы и статьи, уничтожению и ниспровержению подлежащие, и, наконец, коренные правила и начальные основы, долженствующие служить неизменным руководством при сооружении нового государственного порядка и составлении нового государственного уложения. Она содержит определение некоторых важнейших положительных законов и постановлений будущего порядка вещей, исчисление главных предполагаемых переводных [м. б., в значении – переходных. – (Авт.)] мероприятий и вместе с тем пояснение коренных соображений, начальных причин и основных доводов, утверждающих предполагаемое для России государственное устройство.
Итак Русская Правда есть наказ или наставление временному Верховному правлению для его действий, а вместе с тем и объявление народу, от чего он освобождён будет и чего вновь ожидать может. Она содержит обязанности, на временное Верховное правление возлагаемые, и служит для России ручательством, что временное Верховное правление единственно ко благу отечества действовать будет. Недостаток в таковой грамоте ввергнул многие государства в ужаснейшие бедствия и междоусобия, потому что в оных правительство действовать всегда могло по своему произволу, по личным страстям и частным видам, не имея перед собой ясного и полного наставления, коим бы обязано было руководствоваться, и что народ между тем никогда не знал, что для него предпринимают, никогда не видел ясным образом, к какой цели стремятся действия правительства, и волнуемый страхами, а потом и разными страстями, часто предпринимал беспокойные действия, и, наконец, междоусобия производил.
Русская Правда отвращает своим существованием всё сиё зло и приводит государственное преобразование в положительные ход и действие тем, что всё определяет и на все предметы коренные правила издаёт. Посему обязаны с нею в полной мере сообразоваться как Временное правление со всеми частями, отраслями и степенями правительства, так равно и весь народ со всеми оного членами или гражданами. Временное Верховное правление обязано новый государственный порядок, Русскою Правдою установленный, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а народ обязан сему введению не только не противиться, но, напротив того, временному Верховному правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию народного возрождения и государственного преобразования»251.
Далі детально викладається текст самої «Русской Правды», з якої ми наведемо лише останній розділ, присвячений ролі й значенню конституції майбутньої держави Росія:
«КОНСТИТУЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВЕТ
1) Границы Российского государства суть… При сем случае действуют два правила: Правило благоприличия для России и правило народности племён смежных или подвластных. Когда дело идёт о народе, могущем пользоваться независимостию и самостоятельностию, тогда правило народности берёт перевес. Когда же дело идёт о народе, не могущем оными пользоваться и долженствующем быть под покровительством и зависимостию у другой славнейшей державы, тогда правило благоприличия для России берёт перевес. Польша. – Правило народности объявляет независимость и самостоятельность народа, но правило благоприличия определяет в сём случае частности границерасположения.
2) Российское государство разделяется в отношении законного своего пространства на 10 областей и 3 удела. Уделы суть столичный, в коем пребывает и сосредоточивается государственное правление, – Нижний Новгород или Москва, Донской и Киргизский. Каждая область состоит из 5 губерний или округов. Губернии состоят из уездов, уезд состоит из волостей. Волости бывают цельные или приписные – 1000 обывателей мужеского пола.
3) Государство состоит из народа и правительства.
4) Весь российский народ составляет одно сословие – гражданское; все нынешние сословия уничтожаются и сливаются в одно сословие – гражданское. Все различные племена, составляющее Российское государство, признаются русскими и, слагая различные свои названия, составляют один народ русский. Все россияне расписаны по волостям. Каждый российский гражданин есть член которой-либо волости. Сие заменяет теперешнее распределение россиян по сословиям. Волость имеет для своих членов два списка – гражданский и скарбовый. В скарбовый список вносятся граждане, имеющие в волости какую-нибудь собственность. Подать берётся с собственности, посему может один и тот же человек в скарбовых списках многих волостей быть записан, но в гражданском списке может каждый быть записан только по одной волости, ибо гражданский список означает политическое состояние, а политическим правом пользуется каждый русский в той только волости, в которой состоит в гражданском списке.
5) Вся земля, к каждой волости принадлежащая, разделяется на две части: волостную и частную. Первая принадлежит всему обществу, вторая – частным людям. Первая составляет собственность общественную, вторая – собственность частную. Волостная земля есть неприкосновенна, она разделяется на участки, участки раздаются в наём посторонним людям не иначе, как на один год. Если требуется более участков, нежели сколько таковых имеется, тогда не удовлятворяются требования тех, которые наибольшее число участков взять желают; участки сии переходят из рук в руки в тех только случаях, когда являются новые требователи. Сии требователи суть как такие, кои прежде никакого участка не брали или желают ныне взять более. У кого участок отбирается, тот сам назначает, какой участок он отдаёт. Правило совокупной стоятельности (principe de la solidarite): перед правительством является всегда волость, а не люди порознь. Россияне составляют народ, состоящий из одних обывателей земли; все россияне суть помещики, или частные, или общественные.
6) Переход из нынешнего положения в порядок, здесь предлагаемый, есть постепенный. У нынешних помещиков земля откупается оброком или работою летнею. Наперёд заводится сие в казённых имениях и волостях, а потом уже в частных. Оброчные селения и пахотные селения, дворовые люди, заводские крестьяне продолжают нынешние занятия положенное время, те же сами откупаются, а дворовые в волости поступают.
7) Правительство разделяется на Верховную власть и государственное правление.
8) Насчёт устроения Верховной власти отвергается правило равновесия властей, но принимается правило определительности круга действия. Верховная власть разделяется на законодательную и верховно-исполнительную. – Первая поручается Народной вече, вторая – Державной Думе. Сверх того нужна ещё власть блюстительная, дабы те две не выходили из своих пределов. Власть блюстительная поручается верховному собору.
9) Народная веча состоит из народных представителей, выбранных народом на 5 лет. Каждый год пятая часть нисходит и заменяется новыми выборами. Тот же самый может опять быть выбран.
Устройство внутреннего порядка вечи принадлежит ему самому. Председатель выбирается ежегодно из членов последний год заседающих. Народная веча есть одно целое и на каморы не разделяется. Вся законодательная власть в ней обретается. Она объявляет войну и заключает мир.
Различие в составлении законов заветных и всех прочих законов. Первые обнародываются и на суждение всей России предлагаются.
Народная веча имеет своё время, когда не заседает, тогда оставляется временная комиссия. Никто не может распустить Народной вечи. Она представляет волю в государстве, душу народа.
10) Державная Дума состоит из 5 членов, народом выбранных на 5 лет. Ежегодно один из Думы выходит и заменяется другим выбором. Председатель есть член, заседающий последний, или пятый год. Ежегодно предлагает каждая губерния своего кандидата. Из числа сих кандидатов выбирает Народная веча окончательно. Державная Дума имеет всю верховно-исполнительную власть, ведёт войну и производит переговоры, но не объявляет войны и не заключает мира. Все министерства и все вообще правительствующие места состоят под ведомством и начальством Державной Думы, но действуя с разрешения и исполняя с приказанием. Она имеет собственную свою канцелярию.
11) Верховный собор состоит из 120 членов, именуемых боярами. Бояре назначаются на всю жизнь и не могут участвовать ни в законодательном, ни в исполнительном порядке. Губернии назначают кандидатов, а Народная веча замещает упразднившееся число бояр. Председатель выбирается на год самим собором. Собор имеет верховную блюстительную власть. Народная веча препровождает к нему на утверждение свои законы. Собор не рассуждает о сущности предметов, но смотрит на одни формы, дабы во всём соблюдено законное; после сего утверждения получает закон свою действительную силу. Сам же собор не действует. Собор назначает из своих членов по одному генерал-прокурору в каждое министерство и по одному генерал-губернатору в каждую область (приказный блюститель, областной посадник). Генерал-прокурор рассматривает журналы палат министерства и утверждает их определение, взирая на одну законность и соблюдение предлагаемого порядка, но не входя в суждение о сущности самого содержания; без их утверждения не может исполнение последовать; они (отвечают) за свои действия. Державная Дума решает, а Верховный собор может чиновника отдать под суд. Отданный под суд судится судебным порядком. Генерал-губернатор имеет таковые же обязанности в отношении областных правлений. Из сего явствует, что собор удерживает в пределах законности Народную вечу и Державную Думу. Сам же не имеет никакого действия положительного. Главнокомандующие действующих армий назначаются Верховным собором. Он принимает начальство над армиею, когда выступает за пределы государства, и слагает, когда в пределы вступает губернии на военном положении»252.
Повстання Чернігівського полку
Арешт П. І. Пестеля. Повстання на Півдні розгорається
13 грудня 1825 р. Пестель був арештований. Але посіяні ним зерна волелюбства – не загинули, а проросли на Україні вони вибухнули славнозвісним повстанням Чернігівського полку. «Через две недели после выступления на Сенатской площади, – відзначає М. В. Нечкіна, – 29 декабря 1825 г., на юге на Украине, вспыхнуло новое вооружённое восстание, организованное декабристами, – восстание Черниговского полка…
Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади было разгромлено. Но восстание декабристов ещё не закончилось, – оно продолжалось.
Как только весть о северном восстании дошла до юга, там вспыхнуло ответное восстание, тесно связанное с северным, – восстание Черниговского полка. Оно длилось около шести дней: началось 29 декабря 1825 г. и было разгромлено 3 января 1826 г.» 253.
На чолі повстання одразу став член Директорії «Южного общества» командир батальйону Чернігівського полку підполковник Сергій Іванович Муравйов-Апостол254.
Знаний дослідник гуманітарних проблем і визвольних рухів в Україні у ХІХ ст. Г. Я. Сергієнко зупиняється на ході повстання Чернігівського полку. Головним організатором повстання став С. І. Муравйов-Апостол. Йому активно допомагали М. П. Бестужев-Рюмін та М. І. Муравйов-Апостол255. Придушення повстання в Петербурзі не порушило планів і дій керівників антиурядових дій Васильківської управи.
«Восстание Черниговского полка, – зазначає М. В. Нечкіна, – отражено довольно обширным кругом источников. Доклад Аудиториатского департамента с подробной передачей показаний подсудимых, дела Сергея Муравьёва-Апостола, Бестужева-Рюмина и Матвея Муравьёва-Апостола, где несколько раз излагается фактический ход восстания, сообщается об его замысле и внутренних отношениях, а также правительственная переписка по делу о восстании и мемуарная литература – основные источники, дошедшие до нас. В них довольно подробно освещён ход событий восстания и в известной мере отражена его идеология, драгоценными памятниками которой являются революционный «Катехизис» Сергея Муравьёва-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина и их революционное воззвание к народу.
Однако изучение восстания встречается и с рядом существенных трудностей: аудиторский доклад нельзя сверить с подлинниками дел, так как южное делопроизводство до нас не дошло256; отсутствуют личные дела активнейших участников восстания – членов Славянского общества Сухинова257, Кузьмина258, Соловьёва. С. Муравьёв-Апостол умышленно не открывал следователям всей правды и благородно брал основную вину на себя, стремясь оправдать товарищей. Отметим и то, что он давал показания, будучи тяжелораненным. М. П. Бестужев-Рюмин не был щедр на подробности и не отличался «откровенностью» на следствии. Переписка во время восстания подробно передаёт действия правительства и ход разгрома восстания, но не отражает совсем или затрагивает лишь крайне поверхностно и редко внутреннюю жизнь восстания, давая о ней, как правило, грубо искажённое представление. Активные участники восстания – С. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, Кузьмин, Щепилло259 – не могли написать воспоминаний: первые два были казнены, третий застрелился, четвёртый убит; оставшийся в живых член Славянского общества Н. Н. Сухинов, попав в невероятно тяжёлые условия Зерентуйской каторги, не сравнимые ни с Читой, ни с Петровским Заводом, разумеется, не мог заниматься мемуарами; попытавшись организовать восстание в Зерентуйском руднике, он кончил жизнь самоубийством, накануне приведения в исполнение смертного приговора…
Місце й завдання повстання в Україні у спільному збройному виступі декабристів
Мысль об открытом вооружённом выступлении на юге органически связана не только с историей Южного общества, но и со всем движением декабристов в целом, – відзначає Мілиця Василівна Нечкіна. – Южное восстание не может быть понято в отрыве от основного, длительно созревавшего общего замысла восстания, который разрабатывался в тайном обществе с момента его возникновения, т. е. с Союза спасения. Васильковская управа Южного общества – активный участник этой работы: она решалась на открытое выступление по меньшей мере четырежды: в первый раз… в 1823 г., когда 9-я дивизия стояла в Бобруйской крепости (восстание намечалось во время царского смотра), затем дважды предлагала планы выступления при ожидаемых царских смотрах в 1824 и 1825 гг. (так называемые первый и второй «Белоцерковские планы» 1824 и 1825 гг.) и, наконец, в 1825 г. при сборе корпуса под Лещиным. Неуверенность в успехе заставила отложить действия, но было твёрдо решено, что 1826 год никак не будет пропущен. Последнее решение, разрабатывавшееся Пестелем, имело особо важное значение для всего движения.
В свете вопроса о «соединении» обоих обществ, при их сговоре выступать совместно, южное восстание особено отчётливо предстаёт как неразрывное звено общего декабристского плана. Это – общеизвестное положение, и во всей литературе о декабристах, как дореволюционной, так и советской, никто никогда не высказывал мнения, что восстание Черниговского полка – одинокая случайность, оторванная от общего хода событий, от основной истории декабристов.
Грізне ускладнення обстановки, при якій повстали чернігівці
Восстание Черниговского полка не могло бы возникнуть в той форме, в какой возникло, если бы не произошло восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Но оно осуществилось в совершенно новой для для декабристов обстановке рухнувшего основного – петербургского – восстания. В силу этого иногда встречающееся в литературе прямолинейное утверждение, что восстание Черниговского полка было «заранее задумано» декабристами чуть ли не за несколько лет до событий, задумано как органическое звено всего их плана в том виде, в котором осуществлялось, – не выдерживает критики. Будучи глубочайшим событием спаяно с основным планом, оно тем не менее возникло и развилось в столь новой обстановке, что необходимо специально остановиться на особенностях последней. Для этого надо предварительно вспомнить ту реальную смену конъюнктур, которая произошла в дни междуцарствия, и уяснить себе, какие формы приобрела она в своём дальнейшем развитии, после разгрома северного восстания.
Разгром восстания 14 декабря создаёт совершенно неожиданную и совершенно н о в у ю конъюнктуру, на которую и падает восстание Черниговского полка. По счёту эта конъюнктура, как видим, четвёртая и коренным образом отличная от предшествующей, – в этом суть события.
Завдання, характер, умови та особливості повстання на Півдні
Южное восстание, по плану – восстание многих полков, захватывающее по предположениям Васильковской управы, около 70 тысяч человек, должно было в соответствии с общей конъюнктурой, создавшейся в первой половине декабря, развернуться для поддержки и помощи восстанию в северной столице… Одна из трагических сторон восстания декабристов состоит в том, что …восстание в Петербурге началось и кончилось в один и тот же день – 14 декабря – и кончилось разгромом. Весть об этом пришла на юг на одиннадцатый день после разгрома – 25 декабря. Поддерживать в этот момент было уже нечего. С восстанием в столице было уже покончено, захвата власти не произошло, за первыми борцами против царизма захлопнулись двери тюремных камер Петропавловской крепости, присяга новому императору состоялась. Никакой героизм южных единомышленников не мог в тот момент возродить движение в столице и не мог реализовать главное в революции – захват власти.
Відрядження Бестужева-Рюміна до Москви
Прошла томительная неделя со дня ареста Пестеля. Юг ничего не знал о петербургском восстании, несмотря на то, что оно произошло на следующий же день после ареста Пестеля. Длились мучительные дни ожидания. Из Петербурга не было вестей, хотя отбывший туда гонец – Корнилович – уже должен был осуществить связь. Проект поездки Бестужева-Рюмина в Москву, возникший было в этот момент, – очевидный осколок замысла скорейшей связи с Северным обществом.
Штрафных семёновских офицеров в отпуск не пускали, но личные обстоятельства Бестужева-Рюмина внезапно сложились так, что возникла, как представлялось Васильковской управе, возможность просить об исключении из правил: Бестужев получил внезапное известие о смерти матери (семья жила в Москве), казалось реальным получить разрешение на поездку в Москву. А из Москвы, где уже было немало связей с обществом, можно было в случае нужды промчаться в Петербург, – ведь южные декабристы ещё ничего не знали о разгромленном восстании. Мог при этом вспомниться и тот вариант южного выступления, в котором активную роль играл московский Сенат (согласно одному из планов Васильковской управы, революционный манифест мог быть издан через московский Сенат). Москва была более близкой, более достижимой для южан, пунктом, менее охраняемым силами старого строя. Поэтому попытки Васильковской управы послать Бестужева-Рюмина в Москву – это, разумеется акция, осмысленная планом тайного общества, входящая составной частью в общий план восстания. Это – попытка расставить силы в предположении определённого плана действий.
Командир полтавского полка Тизенгаузен260 – член тайного общества – не мог сам отпустить Бестужева-Рюмина в Москву, но, чтобы дать ему попытать счастья у генераллейтенанта Рота, послал его из Бобруйска в Киев для принятия полкового жалованья. Предлог был фиктивным: жалованье было уже принято квартирмейстером, и «донеся» об этом Тизенгаузену, Бестужев из Киева передвинулся в Васильков, чтобы направить Сергея Муравьёва в Житомир с просьбой об отпуске для Бестужева.
С. Муравьёв, оставив ждать его в Василькове, двинулся вместе с братом Матвеем в Житомир к генерал-лейтенанту Роту (кстати сказать, уже знавшему из доноса Майбороды, что Сергей Муравьёв и Бестужев-Рюмин члены тайного общества). Предварительно по команде был подан соответствующий рапорт Бестужева генералу Тихановскому – командующему дивизией (22 октября). Настроение Сергея и Матвея было крайне тревожным. Выехали они 24 декабря.
Влада добре поінформована; у боротьбі з нею повсталим серйозно бракує інформації
Поскольку они ещё не знали о состоявшемся и затем разгромленном восстании Северного общества, они могли придерживаться лишь давно принятого общего плана совместных с севером действий. Они полагали, что восстание на севере ещё не состоялось, и считали его возможным, хотя уже была принесена присяга Константину. Обстоятельства междуцарствия доходили до них в крайне смутной форме. Инициатива выступления уже ушла от юга, её вероятность была сведена к нулю доходившими предположениями о новом императоре – Николае. В случае объявления присяги Николаю инициатива выступления непререкаемо закреплялась за севером, поскольку захват власти как основная цель декабристского выступления продолжал быть душой замысла, а с момента объявления присяги Николаю власть в государстве уже нельзя было захватить на юге. Не забудем, что Сергей Муравьёв в этот момент действует уже не как председатель Васильковской управы. По свидетельству Артамона Муравьёва… он, в силу сложившихся обстоятельств, выступает… в другой функции: он «главнокомандующий» южным восстанием после ареста Пестеля. Вдумываясь в его планы и всю совокупность его распоряжений, мы видим, как пытается он организовать не только восстание Черниговского полка, а южное восстание в целом.
Задуми керівника повстання на Півдні та дійсність
Сергей Муравьёв, придерживаясь, как и все декабристы, общего плана выступления, в тот момент, следовательно, полагал, что выступают как юг, так и север, совместно действующие и распределяющие между собой функции, преследующие общую цель. Поэтому мы вправе спросить, нет ли ещё данных о том, что именно задумал сделать отправляющийся в Житомир Сергей Муравьёв, ещё не знавший о разгроме восстания 14 декабря. В деле самого Сергея Муравьёва по понятным причинам отсутствуют свидетельства об этих нереализованных замыслах. Но по этому вопросу имеется ценное показание офицера Черниговского полка Соловьёва (члена Славянского общества), которому другой черниговский офицер Щепилло (тоже «славянин») передал, что «Муравьёв под предлогом отпуска поехал в Корпусную квартиру для того, дабы известить всех сообщников о времени начала действия, предполагая начать с Черниговского полка, будет у братьев своих командующих Ахтырским и Александрийским гусарскими полками, которые, равно как Алексопольский пехотный и 17-й егерский присоединятся к ним, а в Корпусной квартире встретит их 8-я дивизия и артиллерийская бригада». К сожалению, дело Соловьёва не дошло до нас; Щепилло же – активный участник Южного восстания – был убит при его подавлении. Приведенное выше свидетельство сохранилось лишь в рапорте комиссии военного суда при главной квартире первой армии. По прямому смыслу свидетельства оно относится ко времени отъезда Сергея Муравьёва в Корпусную квартиру, т. е. к тому… моменту, когда Сергей Муравьёв ещё не знал ни о восстании 14 декабря в Петербурге, ни о его разгроме. Свидетельство Соловьёва раскрывает общий с севером план. С минуты на минуту ожидая известия о начале северного восстания, Сергей Муравьёв решил объехать полки, на которые рассчитывали декабристы, и дать указания «о времени начала действий». Сигналом к выступлению должно было явиться предполагаемое известие о северном восстании, которого ждали с минуты на минуту.
Сили, на які розраховували декабристи Півдня
Как видно из приведенного выше перечня полков, Сергей Муравьёв-Апостол надеялся на значительные силы, которые выступили бы на помощь северу. Соловьёв со слов Щепиллы при своей явно неполной информации перечисляет пять полков (Черниговский, Ахтырский и Александрийский гусарские, Алексопольский пехотный и 17-й егерский), а также всю 8-ю дивизию и артиллерийскую бригаду. В предполагаемом составе восставших частей, таким образом, в этот момент налицо пехота, конница и артиллерия. Существенно и дополнительное замечание Соловьёва: «Сверх того Щепилло говорил ему о других корпусах, готовых последовать за ними, и о всеобщем ропоте войска». Таким мощным в тот момент рисовалось Сергею Муравьёву-Апостолу южное восстание, поднимающееся на помощь северному. Оставалось лишь ждать сигнала о захватывающем власть северном восстании. Заметим, что даже Николай I в момент первого известия о восстании Черниговского полка ждал присоединения к нему Полтавского и Ахтырского полков.
Поразка повстання в Петербурзі та становище декабристів на Півдні
На последней перед Житомиром станции братья встретили сенатского курьера, развозившего листы для присяги Николаю I. Он сообщил им о восстании 14 декабря и его трагическом исходе.
Эта весть как громом поразила декабристов. Она в корне меняла ситуацию. Она меняла её самым глубоким, принципиальным и непредвиденным образом.
Можно представить себе волнение братьев. Оно усиливалось уверенностью, что Южное общество открыто, – вести об этом носились в воздухе ещё до ареста Пестеля.
За обедом у генерал-лейтенанта Рота ещё раз подтвердилось сообщение сенатского курьера…
Самым грозным, самым неожиданным, самым роковым было то, что получена была весть не о восстании, а о разгроме восстания, причём о разгроме, происшедшем в тот же день, когда началось восстание. Это было как раз то, что менее всего предвидели. Предположение, что восстание хоть сколько-нибудь продержится, и можно будет успеть выступить для его поддержки, было чрезвычайно твёрдой, всеми принятой презумпцией южного выступления. Но её-то сейчас и не было – она рушилась под напором сложившихся обстоятельств.
Не имея ещё никакого точного решения, братья Сергей и Михаил Муравьёвы-Апостолы продолжают намеченный путь и приезжают в Траянов к Александру Муравьёву, который не был членом общества. Вспыхнувшая было надежда на выступление полка Александра Муравьёва тут же и гаснет. Граф Шуазель только что получил из Петербурга письмо, где подробно описывалось восстание 14 декабря. Вероятно, именно к этому визиту в Траянове и относятся слова Матвея Муравьёва в его воспоминаниях: «Во время стола не было другого разговора, кроме как о петербургском событии: поминали о смерти графа Михаила Александровича Милорадовича». Сам Матвей Муравьёв относит этот разговор к пребыванию у Рота, но это едва ли верно: писавший свои показания по горячим следам происшедшего его брат Сергей сообщает, что в Житомире они обо всём узнали глухо и без всяких подробностей; в Траянове же информация о 14 декабря была основана не на курьерском сообщении, а на подробном частном письме. Создавшееся общее положение стало ещё более ясным.
Надії на успіх повстання в столиці зникли. Що робити на Півдні?
Сведение о том, что Северное общество уже выступило с целью захвата власти и оказалось разгромленным, сопровождалось подробностями. Картечь, десятки арестованных, захват правительством всего руководящего ядра общества – всё это сразу и всем стало известным. Все говорили о том, что новой попытки восстания в северной столице уже не будет, тайному обществу на севере нанесён смертельный удар. Курьер развозит присяжные листы, завтра на юге начнётся присяга новому императору – Николаю I. В этой совершенно новой обстановке нельзя было восстановить основное в замысле декабристского восстания – захват власти.
При всех вариантах декабристских практических планов восстания последние были отнюдь не самоцелью, а лишь средством достичь основного. В декабристских планах – всех без исключения, начиная даже с фантастического лунинского плана 1816 г. (нападение в масках на царя посреди большой дороги), совокупность первых практических действий всегда строилась на достижении основной цели.
Теперь эта цель была потеряна. Сколько полков на юге ни удалось бы поднять Сергею Муравьёву-Апостолу, прежняя основная задача восстания теперь уже казалась недостижимой.
Перемога реальна лише за спільного успіху декабристів Півночі й Півдня
…восстание с первых же шагов, в соответствии с основной целью, мыслилось декабристами как совокупное и согласованное действие двух обществ – Северного и Южного. Иначе и не могло быть. Инициативный момент и «захват правительства», естественно, выпадал на долю того общества, которое в данной ситуации могло это сделать. Разумеется, в Бобруйском и Белоцерковском вариантах это решающе важное первое действие оказывалось задачей южан, ибо царь находился в тот момент на юге, на войсковом смотре, и лишь южане, а не северяне при данной ситуации могли «захватить» царя или «нанести ему удар». В других вариантах, в том числе и в реальном плане выступления 14 декабря 1825 г. захватить царя или, вернее, претендента на престол, могли лишь северяне. Другое общество должно было оказать мощную поддержку восстанию, развёртывая его на периферии в помощь огромному, решающему по значению первому акту – «захвату» правительства. Таковы были планы. Но теперь коренным образом всё менялось.
Значення, мета й вага виступу декабристів на Півдні
Таким образом, южное восстание объективно становилось лишь стихийным выступлением, показателем народного недовольства, антифеодальным натиском на старый строй, силой его расшатывающей, – и только. Это было немало, но не это, а захват власти был целью декабристов. Участие в стихийном возмущении войск, выражающих протест против угнетения, было принципиально новой перспективой, далеко не столь обдуманной, если даже не совсем обдуманной революционерами-дворянами. Не всякий соглашался на это новое дело, и, как увидим далее, хрупкая дворянская революционность многих членов Южного общества, которых нельзя заподозрить в личной трусости, не выдержала этого испытания.
Послідовність поглядів самовідданого революціонера Сергія Муравйова-Апостола
Немедленно здесь же в Житомире Сергей Муравьёв известил председателя Польского общества графа П. Мошинского, как тот показывает на следствии, о необходимости убить царевича Константина. Показание это явно неполно и неясно. О необходимости полякам убить Константина говорилось много раньше, и это сообщение не было новостью для Польского революционного общества. Очевидно, не желая сказать о всём содержании разговора, П. Мошинский заменил деталью целое. Сергей Муравьёв предупреждал о только что узнанных петербургских событиях Польское общество и настаивал на его выступлении – очевидно, с предполагаемым южным восстанием. Упоминание о необходимости убить царевича Константина было, очевидно, лишь моментом приступа к действию. Отсюда ясно, что Сергей Муравьёв при всех колебаниях уже в Житомире, узнав о разгромленном северном восстании, решил действовать: организовывать южное выступление, причём, в силу прежней договорённости, совместно с Польским обществом. Тут же в Житомире Сергей Муравьёв спешно послал со своим дворовым человеком Никитой, его сопровождающим, французское письмо Бестужеву-Рюмину в Васильков.
Письмо не дошло до нас, но поскольку оно было прочтено и устно переведено на русский язык в присутствии Грохольского, его показание доносит до нас хотя бы частично содержание письма. В письме находилось «извещение Муравьёва о бывшем в Петербурге происшествии 14 декабря», упоминалось «имя князя Трубецкого, Якубовича и о смерти генерала Милорадовича» и содержалось указание, чтобы Бестужев «немедленно ехал в Киев к полковнику Рененкампфу, но зачем, не сказано». Рененкампф был обер-квартирмейстером второй армии и, допрошенный П. Киселёвым261, показал, что Муравьёв «перед самым возмущением предлагал ему действовать для перемены правления». Осюда ясно, что Киев входил в орбиту первоначально предлагаемого Сергеем Муравьёвым района действия южного восстания. Письмо С. Муравьёва не было доставлено Бестужеву, поскольку он незадолго до прибытия дворового Никиты сам выехал на поиски Муравьёвых, но оно – важный документ первоначальных планов С. Муравьёва, возникших ещё в Житомире, сейчас же вслед за вестью о восстании 14 декабря.
Сутність первинних планів С. Муравйова-Апостола
Под предлогом необходимости торопиться в Васильков для присяги Сергей и Матвей Муравьёвы поспешили из Траянова в Любар к Артамону Матвееву, командиру ахтырских гусар.
В Любаре и настигло их новое известие. Бестужев-Рюмин нагнал Муравьёвых и сообщил им, что получен приказ об их аресте, и жандармы уже гонятся по их следам.
Оказывается, в то время, как Муравьёвы были в пути, 25 декабря к командиру Черниговского полка Гебелю явились два жандармских офицера… и передали ему секретное предписание начальника главного штаба первой армии генерал-адъютанта барона Толя о немедленном аресте С. Муравьёва-Апостола и опечатании его бумаг («По воле государя императора покорнейше прошу ваше сиятельство приказать немедленно взять под арест служащего в Черниговском пехотном полку подполковника Муравьёва-Апостола с принадлежащими ему бумагами, так, чтобы он не имел времени к истреблению их и прислать оные, как и его самого под строжайшим присмотром в С. – Петербург прямо к его императорскому величеству»). Гебель с жандармами немедленно ринулись в васильковскую квартиру Муравьёва, где в то время… ещё находился Бестужев-Рюмин. Там же был разжалованный в рядовые офицер-семёновец Башмаков. Бумаги, письма и книги Муравьёва были забраны жандармами при обыске. Приказом об аресте Бестужева-Рюмина жандармы ещё не располагали. Утром 26-го жандармы с полковником Гебелем со всей поспешностью выехали в Житомир, чтобы захватить и арестовать Сергея Муравьёва.
Через несколько минут после обыска в квартиру Муравьёва вбежали четыре славянина, бывшие на балу у Гебеля. Приезд жандармов, остановивших бал, был всеми замечен и сразу дал славянам понять, что наступил решительный момент в жизни общества. Сначала славяне попытались было собрать солдат, чтобы арестовать Гебеля и жандармов, но была уже ночь, и по праздничному времени солдаты давно разошлись по деревням. Это решение арестовать полкового командира Черниговского полка говорит за себя. Оно доказывает, что славяне самостоятельно решили, что настал момент восстания. Прежнее решение Сергея Муравьёва начинать южное восстание выступлением Черниговского полка было им известно, и они хотели самостоятельно приступить к его реализации, полагая, что вопрос ясен. Но возможности арестовать Гебеля, как видим, у них не оказалось. Тогда решено было, что Бестужев-Рюмин сейчас же отправится в путь, постарается всеми силами обогнать жандармов и раньше, чем они настигнут Муравьёвых, предупредить их о грозящем аресте. Тем временем славяне будут готовиться к восстанию. Всё было выполнено с такой скоростью, что Бестужев четвертью часа раньше Гебеля был на первой станции и нагнал Муравьёвых в Любаре.
Тем временем на той же квартире Муравьёва в Василькове появляются два новых вестника о событиях. Первым был дворовый человек Сергея Муравьёва Никита с упомянутым письмом Бестужева-Рюмина. Письмо ввиду отсутствия адресата было распечатано членом Славянского общества поручиком Щепиллой. Из него славяне узнали о восстании 14 декабря и его разгроме. Вторым вестником был член Славянского общества Андреевич 2-й. Он выехал из Киева в Васильков 26 декабря, узнав о восстании в Петербурге и присяге новому императору, и немедленно явился на квартиру Сергея Муравьёва, которую члены тайного общества после ареста Пестеля не без основания рассматривали как штаб восстания. По показаниям Грохольского, на квартире Сергея Муравьёва, кроме упомянутых М. Бестужева-Рюмина, его самого, Щепиллы и Сухинова, находились ещё поручики Кузьмин, Петин, Войнилович, штабс-капитан барон Соловьёв и разжалованный Башмаков. Находившиеся там офицеры Черниговского полка, которые «почти не покидали квартиры Муравьёва, ожидая его возвращения», сообщили Андреевичу обо всём, что только что произошло, и потребовали, чтобы он немедленно поехал по следам С. Муравьёва, отыскал его, попросил его остановиться в 8-й дивизии или в каком-нибудь гусарском полку и там поднял «знамя бунта». Вместе с тем, как свидетельствуют «Записки» о Славянском обществе, «славяне» попросили Андреевича успокоить Муравьёва на их счёт, «ибо коль скоро они узнают о восстании, то немедленно взбунтуют Черниговский полк и придут на сборное место». Сверх всего этого Андреевича просили, «чтобы он известил всех известных ему членов, как Южного, так и Славянского общества о начале восстания», и наконец, если Муравьёв арестован, – чтобы он «действовал к освобождению арестованного». Андреевич принял поручение, несмотря на его трудности и явную его опасность. Он поспешно отправился в путь с чужой подорожной в кармане (на имя декабриста И. Сухинова), рискуя каждую минуту быть арестованным. Поскольку у него не было денег, славяне собрали ему вскладчину какую-то небольшую сумму (по «Запискам Неизвестного» – 25 руб.).
Из всего сказанного ясно, что члены Славянского общества, уже давно ожидавшие революционного выступления и осведомлённые о нём, не только, нимало не колеблясь, приняли в трудных условиях самостоятельное решение о начале восстания, но сразу же стали весьма активно действовать, принимая все зависящие от них меры для его подготовки.
Останній аргумент для повстання на Півдні після поразки в Петербурзі
Мы оставили Сергея Муравьёва в Любаре в тот момент, когда догнавший его Бестужев сообщил ему приказ об аресте. Это известие было последним доводом за необходимость восстания. И раньше обсуждалась возможность начала восстания в том случае, если начнутся аресты.
Аресты воспринимались, как сигнал к началу выступления, но какого? Того же самого большого революционного выступления, давно продуманного, как план захвата власти. Однако сейчас оно уже не могло сохранить этот характер, перерождаясь в стихийное восстание антифеодального протеста. Сергею Муравьёву приходилось выступать уже «одному» – без северян. Он мог надеяться только на одно Южное общество. И Сергей Муравьёв и Бестужев трагически сознавали это. Сознавали – и всё же решились выступить, в этом новизна выступления. На что же они рассчитывали? Конечно, на помощь южных полков, но эта помощь являлась лишь средством, способом, а не самоцелью. Расчёт был опять-таки на дух всеобщего недовольства в армии и в народе. Хотел этого Муравьёв или нет, но восстание, на которое он шёл, помимо воли его руководителей, начинало перерастать именно в ту форму, которой декабристы боялись: оно апеллировало к активной форме сочувствия народа, иначе теряло смысл. Положим, намеченные полки поддержат восстание, а что же дальше? Ни в Киеве, ни в Житомире власти не возьмёшь, власть остаётся в руках Петербурга. Но вот, если в силу южного почина и объявления свободы крестьянам раскачается страна, тогда вопрос о власти вновь приобретает значение, однако решаться он будет уже иными способами. Новизна положения, конечно, была ещё крайне смутна для руководителей, но потеря непосредственной цели ощущалась ими ясно и крайне усиливала их колебания. Именно эта новая ситуация и явилась основной силой, размежевавшей ту декабристскую среду, через которую проходили теперь со знаменем восстания в руках Сергей Муравьёв и Бестужев-Рюмин с их новым призывом: всё-таки восставать, хотя восстание уже не могло опираться на столицу. Всётаки восставать, хотя восстание уже не могло преследовать цели непосредственного захвата власти. Такого восстания декабристы раньше никогда не задумывали.
Лави повстанців залишає навіть брат Сергія Муравйова Артамон, стаючи зрадником
Первым выявил размежевание Артамон Муравьёв, пылкий дворянский революционер, до этого многократно предлагавший себя в цареубийцы, торопивший с выступлением и обещавший пожертвовать всем.
Вернёмся же в Любар, где Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин после сильных колебаний приняли совместное решение выступать. Именно в Любаре, когда мысль Муравьёвых лихорадочно работала в поисках планов действий, Матвей Муравьёв предложил даже самоубийство, но это предложение было отброшено. Возникало даже намерение «скрыться», но и эта мысль была решительно отвергнута: «Обдумав, что мы несомненно будем найдены, Муравьёв решился действовать, опираясь на воспомоществование прочих членов общества». Первым членом общества, к которому они обратились, и был Артамон Муравьёв, командир Ахтырского гусарского полка, квартировавшего в Любаре.
Артамон Муравьёв был старым участником декабристского движения. Принятый ещё осенью 1817 г. в Союз спасения, он не «отстал» от общества ни на одном из крутых поворотов его истории – ни в 1820 г., ни после Московского съезда 1821 г., ни в момент основания Южного общества. Как мы знаем, он постоянно стоял за скорейшее выступление, и было бы наивно и непродуманно приписать его более чем восьмилетнее пребывание в тайной организации и позицию, которую он занимал в её ответственных решениях, простому бахвальству. Правда, сам Артамон Муравьёв на следствии усердно развивал именно эту версию: во все преступления он якобы был вовлечён необузданным языком, «страстью врать и казаться решительнее других», но сердце его якобы «никогда в оных не участвовало». Следствие отвергло это выгодное для подсудимого простецкое объяснение, и Верховный уголовный суд приговорил Артамона Муравьёва за его «бахвальство» к лишению чинов, дворянства и вечной каторге. Источник его колебаний в решающие дни декабря 1825 г. надо признать более сложным. Ситуация была явно новой, и хрупкая дворянская революционность Артамона Муравьёва сломалась, не выдержав напора новых обстоятельств. Он давал когда-то согласие на несколько иное восстание. И даже не раз заявлял о своём решении взять на себя инициативу. Но теперь положение коренным образом изменилось, и он проявил самые постыдные для революционера колебания.
Тщательно сопоставив многочисленные и нередко противоречивые свидетельства о характере предложения, адресованного Артамону Муравьёву, можно прийти к следующему выводу. Сергею Муравьёву и Бестужеву-Рюмину нужно было прежде всего поднять Черниговский полк и надо было торопиться именно туда. Ближайшим к главной квартире полком, обещавшим действовать, оставался именно Ахтырский (конница). Поэтому Сергей Муравьёв хотел поручить Артамону весьма серьёзную и в ближайших условиях основную задачу: «Немедленно собрать Ахтырский полк, идти в Траянов, увлечь за собой Александрийский гусарский полк (что и прежде обещал Артамон Муравьёв), явиться нечаянно в Житомир и арестовать всю корпусную квартиру». Артамон Муравьёв в страхе отказался от этого центрального по значению акта и, дойдя до предела либеральных колебаний, предложил другой выход: добиться выполнения своих преобразовательных планов через… завоевание на свою сторону самой власти, ныне обновляемой вступлением на трон нового царя. Иначе говоря, поехать в Петербург к новому царю, познакомить его с благородными целями общества и убедить в правоте декабристских планов не только царя, но и часть лиц из его окружения. Этот капитулянтский, либеральный и наивно-фантастический план Сергей Муравьёв с негодованием отверг. Артамон в своих колебаниях ссылался на то, что принял полк недавно (в декабре 1824 г.). Ротмистр Семичев, бывший при разговоре, стал убеждать его всё же начать действия, уверяя, что полк готов восстать. Артамон вновь пообещал было действовать. Согласились на том, что начнёт восстание Сергей Муравьёв с Черниговским полком, а Артамон Муравьёв поднимет свой полк вслед за этим и присоединится к восставшим. Бестужев-Рюмин, свидетельствуя об этом, вместе с тем отмечает трудности принятого варианта: «Артамон обещал присоединиться к нам, если мы выступим, но расстояние, которое необходимо было покрыть для достижения этого соединения, было велико».
Сверх того, Артамон Муравьёв принял на себя и обязательство оповестить славян о начале действий. Он оставался ближайшим к славянам соседом, и подобная функция напрашивалась сама собой. С. Муравьёв написал славянам Спиридову и Тютчеву записки о начале действий и просил Артамона сейчас же отправить их с нарочным. Артамон обещал. Взялся он также передать славянам записку Бестужева о начале восстания (славяне были «подведомственны» Бестужеву). Однако, как только Сергей Муравьёв и Бестужев уехали, Артамон Муравьёв записку тотчас, по собственному признанию, «истребил», скатившись к позорному обману руководителей тайной организации. Создавшаяся ситуация сломила его решимость. Восстание представлялось ему обречённым на гибель.
«По возвращении с манёвров, – показывает Артамон Муравьёв следственной комиссии, – узнав мои переговоры и сношения с Муравьёвым, [супруга] требовала от меня со слезами, окружённая детьми, оные прервать и пощадить моё семейство». Тот обещал ей это сделать и сдержал слово. Об этом говорят многие факты и характернейший из них таков: 27 декабря у Артамона были в Любаре братья Муравьёвы, и он, как мы видели, всё же обещал действовать, а 29 или 30-го числа, по его собственному признанию, он подал начальству рапорт об увольнении его по болезни от командования на 28 дней».
Спільне й відмінне в політиці та діях декабристських товариств Півдня
Серед джерел, залишених декабристськими авторами, особливу цінність становлять «Записки», що належать видатному діячеві декабристського руху Івану Івановичу Горбачевському262. Незаперечний інтерес викликають і погляди автора (можливо, часом дещо суб’єктивні), який предметно розбирає відмінність і схожість двох товариств дворянських революціонерів, що діяли в Україні – «Южного общества» и «Общества соединённых славян». Та найбільше – значення їх об’єднання як закономірний розвиток декабристського руху та підготовку до активного антиурядового виступу. Таке сталося восени 1825 р. в містечку Лещино (під Житомиром).
«Краткое описание… происшествий Лещинского лагеря, – підсумовує свої «Записки» І. І. Горбачевський, – доказывает, сколь сильное влияние имело соединение двух обществ на направление действий и будущую судьбу оных. Постараемся теперь означить, сколько возможно, отличительные черты каждого из этих обществ: сие сближение яснее покажет составные части и характер оных.
Члены Южного общества действовали большею частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием вступления в общество; они думали произвести переворот одною военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом и обещаниями, а последних – или теми же средствами или деньгами и угрозами. Сверх того, так как члены Южного общества были большею частью люди зрелого образа, занимавшие довольно значащие места, имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было бы тягостно самое равенство их свободного соединения; привычка повелевать несколько брала верх и мешала повиноваться равному себе и тем более препятствовала иметь договорённость в сношениях по обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии.
Славяне в своих действиях руководствовались совершенно противоположными началами: они требовали от своего сочлена, ни мало невзирая на светские его отношения, старания стремиться к собственному усовершенствованию, презрения к предрассудкам и твёрдого, обдуманного желания полного во всём преобразования. Они были проникнуты обширностью своего плана и для приведения его в исполнение считали необходимым содействие всех сословий; в народе искали они помощи, без которой всякое изменение непрочно; собственным же своим положением убеждались, что частная воля, частное желание ничтожны без сего всемогущего двигателя в политическом мире. Славяне все без исключения люди молодые, пылкие, доверчивые и решительные, не могли ограничиваться одними желаниями: деятельность сделалась потребностью их души, жаждущей овладеть желаемым. Равенство и даже подчинённость в стремлении к общему делу не могли устрашить тех, которые не вкусили ещё яда власти.
Однако, несмотря на разномыслие в средствах и образе действий, сии люди соединились и поклялись, жертвуя всем, достигнуть цели. Сближение сие, конечно, изменило несколько характер Васильковской управы, но не могло вполне пробудить её от бездействия. Славяне же, укреплённые новыми силами, начали ещё с большим рвением действовать на своих подчинённых. Плодом их действия было восстание Черниговского полка, которое составляет главный предмет нашего рассказа. Сила обстоятельств заставила, может быть, несколько ранее, нежели следовало, и надолго удалила Россию от того благоденствия, которое ей обещало сие благородное усилие людей истинно благомыслящих…»263.
Труднощі зміни первинного плану повстання й створення нового
«Из Любара Муравьёвы вместе с Бестужевым направились через Бердичев на Паволочь. План действий не был ещё достаточно ясен, что и было естественно: положение оказывалось, несмотря на всю подготовку, новым, необдуманным. Возникали и отпадали предположительные решения, мысль лихорадочно искала правильного выхода из сложнейшей и почти невероятной по трудности обстановки. Колебания не исчезли у самого Муравьева. У него малькала мысль доехать из Бердичева к Паволочи до своего полка и «скрывшись там, узнать все обстоятельства изыскания нашего и по сим известиям решиться уже на что-нибудь». Но обстановка ещё не вполне уяснилась. Поддержат ли восстание другие полки? Это был важнейший в данный момент вопрос.
Порятунок від переслідувань царських жандармів у зоні квартирування Чернігівського полку
Тем временем жандармы и Гебель, узнав в Житомире, что Муравьёвы уехали, бросились по их следам в Любар по Бердичевской дороге, но и там никого не застали. У корчмы они неожиданно съехались ещё с одним жандармом. Жандармский поручик Ланг вёз приказ о новом аресте: правительство приказывало захватить поручика Полтавского пехотного полка Бестужева-Рюмина…
Сначала Ланг поскакал в Бердичев, где «хозяин квартиры» Бестужева сказал, что тот уехал в Любар, Гебель сообщил Лангу, что в Любаре Бестужева уже нет, и теперь весь состав погони ринулся опять в Бердичев, где было выяснено, что Муравьёвы выехали в Паволочь. Тут жандармы решили разделиться: Ланг остался с Гебелем, а Несмеянов и Скоков разъехались в разные стороны искать Муравьёвых.
В это время Муравьёвы и Бестужев-Рюмин, опять перегнав жандармов, переехали Паволочь и направились дальше, как объяснили в корчме, на Фастов. Действительной же целью их движения были Трилесы. Там они уже оказывались в зоне квартирования Черниговского полка (в Трилесах была расположена 5-я рота полка, которой командовал член тайного общества поручик Кузьмин, в то время находившийся в Василькове, в квартире самого Муравьёва). Сергей Муравьёв немедленно послал с рядовым 5-й мушкетёрской роты Савицким записку в Васильков, в которой просил Кузьмина приехать в Трилесы, никому не разглашая о присутствии там Муравьёва. Кроме Кузьмина приглашались ещё барон Соловьёв и Щепилло.
В тот же час из Трилес куда-то выехал Бестужев-Рюмин с каким-то спешным поручением. Каким же?
Наміри зв’язатися з лідером польського революційного руху здійснюються
Сергей Муравьёв и сам Бестужев в своих показаниях согласно говорят о том, что он поехал к славянам в Новоград-Волынск, но, узнав в Брусилове, что Муравьёва ищут жандармы, возвратился. У Бестужева сказано, что он узнал это от графа Олизара. Это упоминание имени польского революционера в данной обстановке чрезвычайно важно. Бестужев должен был в этот решающий момент связаться с поляками, побудить их действовать в силу ранее принятых решений. Однако свидетельство, что от Олизара Бестужев узнал об ищущих Муравьёва жандармах и потому возвратился, явно требует критики. О том, что жандармы ищут Муравьёва, все уже знали (весть об этом привёз сам Бестужев), поэтому правильнее другое сообщение Бестужева: он узнал, что жандармы ищут именно его самого. Но предположение, что Бестужев действительно хотел проехать к славянам, вызывает сомнения. Мы знаем, что он обещал вернуться к рассвету. Доскакать из Трилес в Новоград-Волынск и вернуться обратно в одну ночь невозможно. К тому же у Артамона Муравьёва уже была оставлена записка для передачи славянам. Очевидно, Бестужев предполагал отправиться к славянам позже, а в ближайшую свою поездку рассчитывал связаться с более близкими воинскими частями, может быть, с полком Швейковского. Доехать до Брусилова и даже Радомысля и вернуться вполне возможно. В Радомысле же стоял Швейковский, на которого надеялись, что он поднимет Алексопольский полк, а в Брусилове – Кременчугский полк, на который также возлагались надежды.
С этим предположением совпадают два мемуарных свидетельства: в «Записках» о Славянском обществе написано, что Бестужев был у Швейковского; по рассказу Соловьёва, Быстрицкого и Мозалевского, записанному Вадковским264, также видно, что Бестужев был у Швейковского и Набокова, командира Кременчугского полка. В обоих местах его постигла неудача: бывшие пылкими на словах члены общества отказались вывести полки. Их колебания и конечная позиция повторили линию Артамона Муравьёва. Ещё раз надо подчеркнуть, – ситуация была коренным образом иная, нежели ранее предполагалось, и в обстановке рухнувшего петербургского восстания члены общества не решались поднять на восстание свои южные, «окраинные» полки. Это было совсем не то, что предполагалось раньше, и дворянская революционность не выдержала этого испытания».
Серед членів «Общества соединённых славян» такі випадки, якщо вони були – залишились поодинокими. Свідчень про таке в пам’яті прогресивних кіл вітчизняного прогресивного громадянства – не знайти. Зате безмежною повагою були оточені послідовно керівники антиурядових виступів. Про них складалися легенди – часом не завжди засновані на достеменно перевірених фактах.
«Гебель с Лангом между тем узнали в Паволочи, что Муравьёвы выехали на Фастов. Погоня продолжалась. По дороге на Фастов погоня остановилась в Трилесах кормить лошадей. Жандармы с Гебелем остановились, зашли на квартиру поручика Кузьмина обогреться и узнать, проезжали ли Муравьёвы. В квартире было темно. Гебель и Ланг засветили огонь, вошли в комнату и …увидели там Сергея Муравьёва.
Он стоял в комнате совсем одетый, хотя было 4 часа ночи. Матвей спал в соседней комнате.
Расставив вокруг дома стражу, Гебель предложил Матвею одеться и прочёл братьям приказ об аресте. Муравьёвы наружно приняли приказ спокойно и даже пригласили Гебеля напиться чаю, «на что он охотно согласился». Итак, арест стал фактом. Правительственная рука уже не только лежала на горле революционного выступления, но и крепко сжимала его. Все положение невероятно и на первый взгляд безвыходно осложнилось.
Наступило утро. От денщика Кузьмина Гебель узнал, что Бестужев-Рюмин куда-то выехал накануне вечером и что Муравьёвы наказывали ему непременно возвратиться в Трилесы на рассвете. Гебель стал ждать возвращения Бестужева, желая захватить всех вместе. Но о записке, посланной накануне С. Муравьёвым поручику Кузьмину, Гебель не знал.
В ночь на 29 декабря Кузьмин получил записку от Муравьёва, вызывавшую его в Трилесы. Настроение Кузьмина и других славян, бывших с ним неразлучно, отличались колебаниями другого рода. Они все колебались, начать ли действовать без Муравьёва или ждать от него известий. И вдруг эти известия пришли. Сразу стало ясно, что наступил момент решительных действий. Сухинов поехал в Трилесы на зов Муравьёва, хотя его и не звали. Предположение, что Гебель мог нагнать С. Муравьёва в Трилесах и арестовать его, возникало у черниговских офицеров и единодушно было решено в таком случае Муравьёва освободить силой оружия. Славяне, давно решившие действовать, были в данном случае вполне последовательны. Предполагая, что Гебель поедет с арестантом в Васильков, куда из Трилес вели две дороги – большая и просёлочная, славяне, чтобы не пропустить его, разделились: Кузьмин и Щепилло поехали просёлочной дорогой, а Соловьёв и Сухинов – большой. Первыми приехали Кузьмин и Щепилло, вскоре за ними – Сухинов и Соловьёв. Это было на рассвете 29 декабря.
Сергей Муравьёв рассказывает дальше, что Кузьмин, войдя в комнату арестантов, спросил у Матвея, что делать. На это Матвей отвечал: «ничего», а Сергей сказал: «освободить нас». В это время возвратился расставлявший часовых Гебель и набросился с криком на приехавших офицеров, негодуя, как посмели они говорить с арестантом и отлучиться без позволения от своих рот. Гебель требовал немедленного возврата офицеров к своим воинским частям. Кузьмин напомнил Гебелю, что он у себя на квартире, и отказался повиноваться. Гебель, у которого уже зародились подозрения, послал поручика Ланга узнать, готовы ли лошади, но как только тот, отворив дверь, хотел войти в избу, где были караульные солдаты, туда ворвались за ним и черниговские славяне. Как передаётся в «Записках» о Славянском обществе, они объявили солдатам роты Кузьмина о начале восстания. «Успех был неимоверный: солдаты изъявили готовность во всём повиноваться своим офицерам». Щепилло и Соловьёв вошли в сени, отделявшие караулку от помещения арестованных, и стали совещаться «о начале предприятия». Увидя Ланга, направлявшегося к караулке, Щепилло, думая, что он подслушал их разговор, схватил солдатское ружьё, стоявшее у дверей, и хотел пронзить Ланга штыком со словами: «Этого первого надо убить!» Ланг успел спрятаться за дверь и держал её до тех пор, «пока Щепилла не отстал от оной». Метавшийся Гебель отдавал в это время приказания солдатам охранять арестованных Муравьёвых, но не успел он ещё кончить своего приказания, как в кухню ворвались четыре славянина и потребовали у Гебеля отчёта, за что арестован Муравьёв. Получив ответ, что это не их дело, Щепилло с криком: «Ты, варвар, хочешь погубить Муравьёвых!», схватил из рук стоявших там караульных ружьё и пробил Гебелю грудь». Остальные три черниговских офицера также схватили ружья, бросились за Гебелем во двор и стали колоть его штыками. Гебель звал на помощь и кричал солдатам, чтобы возмутителей «кололи», но те не двинулись с места.
Сергей Муравьёв, услышав шум, разбил окно и выскочил на улицу вместе с братом. «Часовой, стоявший у окна сего, преклонив на меня штык, хотел было воспрепятствовать мне в том, но я закричал на него и вырвал у него ружьё из рук». Налево от квартиры Муравьёв увидел Гебеля в борьбе с Кузьминым и Щепиллой и нанёс Гебелю штыком рану в живот. Гебель вырвался, нагнавший его Щепилло переломил стволом ружья правую руку Гебеля и нанёс ему сильную рану штыком. Гебель «в жару» бросился на него, вышиб ружьё и бегом побежал к корчме. Раньше чем офицеры нагнали его, он успел вскочить в стоявшие около корчмы порожние крестьянские сани с парой лошадей и погнал их, истекая кровью. Вдогонку за Гебелем был послан Сухинов, которому удалось было поворотить лошадей назад, но встретившийся рядовой 5-й мушкетёрской роты Иванов, вскочив в сани и узнав от Гебеля, кто он, привёз его по его же указанию к корчме, несмотря на все запрещения и угрозы Сухинова, приказывавшего Иванову везти Гебеля на ротный двор. Иванов доставил Гебеля в господский дом, а оттуда степью в селение Снитинку «в 1-ю гренадёрскую роту к капитану Козлову». Вероятно, уже оттуда Гебель был перевезен к себе на квартиру в Васильков. <…> Инициатива восстания представляла собой совокупность решительных действий Сергея Муравьёва, членов Общества соединённых славян Кузьмина, Щепиллы, Соловьёва и Сухинова и активной поддержки солдат, державших караул у арестованного Муравьёва. Не поддержи солдаты активности декабристов, усилия офицеров-славян и Сергея Муравьёва пропали бы даром. Не появись славяне с их безоговорочной решимостью действовать, одному Муравьёву не удалось бы освободиться от ареста. Роль славян и солдат в событиях чрезвычайно велика.
Сам Муравьёв приписывает огромное значение событий в Трилесах: «Происшествие сие решило все мои сомнения; видев ответственность, с коей подвергли себя за меня четыре сии офицеры, я положил, не отлагая времени, начать возмущение».
Таков был пролог восстания Черниговского полка.
Теперь предстояла важнейшая задача – поднять на восстание первые роты полка, а затем полк и сделать восстание его общим делом. Как показывает Матвей МуравьёвАпостол, солдаты ненавидели полкового командира Гебеля, «сочувствовали своим офицерам и питали к ним полное доверие». Что касается самого Сергея Муравьёва, «они ему говорили, что готовы следовать за ним, куда бы он их не повёл».
На солдатском согласии выступать против ненавистных крепостников-командиров, против крепостнических порядков в армии объективно основано всё восстание Черниговского полка. Тут не было агитации именем царевича Константина, использование наивно-монархической стороны солдатского миропонимания или обещаний дать народу «доброго царя». Тут не было сложной ситуации с отказом присягать одному монарху во имя верности другому – более законному и более «народному». Черниговцы уже принесли присягу и Константину и Николаю, равным образом им ненавистным. Восстание сразу развернулось под республиканскими лозунгами, которые… не только не скрывались от восставших солдат, а которые им прямо были объявлены.
Сергей Муравьёв-Апостол дал отчётливые распоряжения о сборе восставшего полка.
Он показывает, что «отдав поручику Кузьмину приказание собрать 5-ю роту и идти на Ковалёвку, сам поехал вперёд для сбора 2-й гренадёрской роты. Соловьёву же и Щепилле приказал из Ковалёвки ехать в свои роты и привести их в Васильков.
Вечером 29 декабря 5-я рота, первая из числа восставших, пришла в Ковалёвку. Была сильная метель, и Муравьёву с солдатами пришлось там переночевать. Из Ковалёвки Муравьёв послал унтер-офицера Какаурова в Белую Церковь к подпоручику 17-го егерского полка А. Ф. Вадковскому, уведомляя его, что восстание в Черниговском полку началось, и предлагая подымать 17-й егерский полк. Кроме того, он приглашал Вадковского приехать для переговоров в Васильков.
Незначні сили повстанців
С. Муравьёв выступил в Васильков с двумя ротами – 5-й мушкетёрской и 2-й гренадёрской поутру 30 декабря. По дороге в Мытнице, недалеко от Василькова, его нагнал приехавший из Брусилова М. Бестужев-Рюмин и присоединился таким образом к восстанию.
Появление восставших сильно взволновало жителей Василькова. Они ещё раньше узнали о возмущении. По приказанию майора Трухина, приехавшего с конвоем того же 30 декабря (до прихода Муравьёва), были всюду удвоены караулы, а барон Соловьёв и Щепилло взяты под арест.
В Василькове Муравьёв увидел себя во главе пяти рот (недоставало 1-й гренадёрской и 2-й мушкетёрской), и здесь же был намечен конкретный тактический план восстания, при разработке которого выявились внутренние противоречия, затушёвывать которые при исследовании восстания было бы недопустимо.
Перед восставшими сразу встали две задачи: во-первых, спаять восстание, сомкнуть его в единое целое, привлечь участников, держать в повиновении примкнувших, урегулировать внутреннюю жизнь восстания, заботиться о ресурсах восстания, деньгах, провианте; вторая задача большой важности – выработка планов действия: что делать, куда идти?
Кто решал обе задачи? Документы дают несомненные указания, что военный совет, фактически руководивший восстанием, состоял из возглавившего восстание Сергея Муравьёва, Бестужева-Рюмина и четырёх офицеров-славян: Сухинова, Кузьмина, Щепиллы и Соловьёва. Об этом «штабе» восстания говорит сам С. Муравьёв, указывая вместе с тем, что брат его Матвей, как отставной, влияния на восстание иметь не мог. Мы узнаём при этом деталь: Матвей Муравьёв был в штатской одежде (во фраке). Разумеется, правдоподобнее другое – что и Матвей влиял на выработку планов.
«Из черниговских же офицеров самое большое участие находил я в четырёх, вышеназванных мною. Прочие же все участники – Маевский, Петин, Войнилович, АпостолКегин, Белелюбский, Сизиневский и другие – большей частью разбежались и никакой роли не играли», – показывает С. Муравьёв. Поручик Петин уверяет, что ничего не знал о планах Муравьёва и «заметил, что Муравьёв имел секрет с братьями своими и офицерами: Соловьёвым, Сухиновым, Щепиллою и Кузьминым». Этот «штаб» неотлучно находился при Муравьёве – это отметили главнейшие очевидцы восстания.
Северный гонец с известием о решении восстания в Петербурге, посланный самими восставшими, прибыл в Васильков только в этот момент. Это был юный 19-летний Ипполит Муравьёв-Апостол, родной брат Сергея и Матвея Муравьёвых, прапорщик квартирмейской части. Наконец, он встретился с братьями – и встретился уже в момент начавшегося восстания. Скорее нельзя было действовать, но как поздно и с какими трудностями установилась связь!
Дві різні тактики успіху в боротьбі проти царату
Обе основные задачи, вставшие перед руководителями восстания, решались не совсем одинаково Муравьёвым и Бестужевым, с одной стороны, и славянами – с другой. Известное разногласие прежде проявилось в создании планов дальнейших действий. Тактика Муравьёва была выжидательной, он всё время ожидал присоединения новых частей. Особенностью этого ожидания была надежда, что полки, высланные против него, к нему и присоединятся, – эта тактика близко напоминала тактику восстания в Петербурге на Сенатской площади. Сергей Муравьёв поэтому несколько медлил, стремясь узнать, какие полки пришли в движение и кого именно двинули на восставших черниговцев. Необходимо подчеркнуть, что Муравьёв делал ставку на полки членов Южного общества, но поездка БестужеваРюмина кончилась неудачей: в поддержке отказали и Кременчугский и Алексопольский полки, ещё ранее обманула надежда на Артамона Муравьёва и ахтырских гусар. Вызванный запиской А. Ф. Вадковский дал обещание содействия 17-го егерского полка (иначе нельзя объяснить движения восставших на Белую Церковь), но, очевидно, не смог выполнить обещания. Удачных попыток связаться с славянами, сосредоточенными вокруг Новоград-Волынска, не было: оставленная Бестужевым записка к славянам в Любаре у Артамона Муравьёва и неприведенное в исполнение намерение из Трилес приехать в Новоград-Волынск – вот слабые попытки соединиться с ними и поднять там восстание. Посылка к славянам разжалованного Башмакова, который должен был также ехать в Ахтырский и Александрийский полки, также кончилась неудачей»265.
«Медлительность Муравьёва и выжидательная позиция резко не соответствовали настроению солдат, не говоря уже об офицерах. Чувствуется, что надежда на членов Южного общества не оставляла Муравьёва даже после явных признаков их нежелания действовать. Брусилов всё время мелькает в показаниях Муравьёва, как некий сборный пункт частей, руководимых южанами.
Послідовна й непримиренна тактика слов’ян
Славяне же поддерживали идею не выжидания, а быстрого наступления. Ещё до того момента, когда они узнали, что Муравьёв в Трилесах, они выработали в Василькове план идти на Киев. Это совпадало с одним из вариантов первоначального плана С. Муравьёва, позже им оставленного. По их мнению, сделать это необходимо было с предельной быстротой, упасть на Киев, как «снег на голову». Попытка занять Киев, как полагали славяне, произвела бы огромное влияние на «умы». «В Киеве, – значится в «Записках» о Славянском обществе, – он (С. Муравьёв. – М. Н.) мог бы надеяться на присоединение Курского пехотного полка и даже других полков, стоявших в окрестностях города. Кроме того, артиллерийские офицеры, находившиеся при арсенале, вероятно, сдержали бы слово, данное ими Андреевичу…» План наступления на Киев славяне усиленно поддерживали и во время пребывания восставшего полка в Василькове266.
Муравьёв сначала противился, потом пошёл на уступки: он послал из Василькова в Киев Мозалевского с четырьмя рядовыми, во-первых, для разведки, во-вторых, для разбрасывания воззваний, призывавших к восстанию. Разбрасывание воззваний по городу – прямая аппеляция к населению – замечательная черта восстания Черниговского полка.
Плани Слов’янського товариства – здобути Київ
«Записки Неизвестного» сохранили память о трёх письмах Муравьёва какому-то генералу, подполковнику (майору) Крупенникову и одному члену Польского общества. По «Запискам Горбачевского» два первые письма были отданы по назначению, третье же Мозалевский проглотил, когда был схвачен жандармами. Следствие знает лишь одно письмо – … передать которое не смог… К делу восстания Мозалевский был привлечён славянами… Муравьёв вступил в Васильков. Щепилло, Кузьмин, Сухинов и Соловьёв прислали к нему разжалованного из штабскапитанов в рядовые Грохольского с просьбой присоединиться к восстанию («почему я и пришёл к ним», – пояснил Мозалевский). И в дальнейшем ходе восстания славяне всё время поддерживают с ним связь и сообщают ему о всех важнейших решениях. Посылка Мозалевского – осколок плана славян двинуться на Киев. Мозалевский прибыл туда в ночь на Новый год, как раз в тот момент, когда Киев узнал о восстании Черниговского полка и готовился действовать. Если бы в Киев в этот момент явился не Мозалевский, а весь восставший полк, как предполагали славяне, дело, возможно, получило бы несколько другой оборот.
Мозалевский был арестован около Киева, на возвратном пути оттуда к Муравьёву. Видя, что он не возвращается, и Муравьёв и славяне поняли, что ставка на Киев безнадежна. Приходилось придумывать и разрабатывать новый план, и тут восторжествовала политика Муравьёва – выжидание. Полк двинулся из Василькова в деревню Мотовиловку. Целью движения был Брусилов.
Вторая задача – забота о внутренней спайке восстания, об его внутреннем управлении также вызывала известные разногласия. Как поступать с нежелающими примкнуть к восстанию или с колеблющимися? Сергей Муравьёв тем, кто не желал примкнуть к восстанию, разрешал уйти. Эту политику С. Муравьёва обрисовывают и «Записки Неизвестного», и материал показаний, собранный аудиоториатом… Славянская же часть «штаба» Муравьёва действовала иначе: держать всех восставших вместе, запрещать уход, препятствовать измене и бегству, поддерживать высокую степень революционной спайки и напряжения, каких бы жертв это ни стоило, – такова была позиция славян. И по всему ходу событий видно, с каким удивительным бесстрашием и самопожертвованием выполняли свою роль славяне. На первом месте среди них и тут приходится назвать Сухинова.
Н. И. Сухинов сыграл немалую роль в поддержании внутренней дисциплины восстания. Эта роль его отразилась в показаниях всех колеблющихся, нерешительных или прямо изменивших делу восстания. Для всех этих лиц Сухинов – первый объект жалоб. Многие решительные революционные действия приписываются его инициативе, он – якобы главная причина всех «несчастий» дезертиров. При вступлении в Васильков Сухинов нёс ответственную роль командира авангарда, и от его поведения и личной храбрости зависело очень многое. «В 3 часа пополудни, – говорится в «Записках» о Славянском обществе, – авангард С. Муравьёва под командою Сухинова спокойно вошёл в город, достиг городской площади без всякого сопротивления, и не обнаружил никаких неприязненных расположений против жителей». Такова передача лица, всецело преданного восстанию. Штабс-капитану Маевскому, который был захвачен восстание (восставшими. – Авт.) позже, картина представляется несколько иною: «…Между тем временем 2-я гренадёрская и 5-я мушкетёрская роты шли с Муравьёвым уже в Васильков, – показывает он, – при вступлении означенных рот Сухинов, идя впереди солдат с заряженными ружьями, в большом азарте буйствовал по городу». Документы при сопоставлении показывают, что никаких особых «буйств» вроде бесчинных грабежей и т. п. не было – был обычный ряд революционных мероприятий для захвата города восставшими. И «он, Маевский, от испуга, что намерены были лишить его жизни за то, что приказал бить тревогу, ушёл и, скрывшись в клуне, просидел там до ночи, и хотя искали его, но не нашли».
Майор Трухин – заместитель Гебеля по полку во время отлучки последнего для поисков С. Муравьёва – тоже испытал на себе решительную руку Сухинова, с которым заодно действовал и Бестужев-Рюмин. Трухин встретил восставший полк при вступлении его в Васильков. В «Записках» передаётся, что «миролюбивый вид мятежников ободрил майора Трухина; надеясь обезоружить их одними словами, он в сопровождении нескольких солдат и барабанщика подошёл к авангарду и начал ещё издалека приводить его в повиновение угрозами и обещаниями; но, когда он подошёл поближе, его схватили Бестужев и Сухинов, которые, смеясь над его витийством, толкнули его в середину колонны. Мгновенно исчезло миролюбие солдат: они бросились с бешенством на ненавистного для них майора, сорвали с него эполеты, разорвали на нём мундир, осыпали его ругательствами, насмешками и, наконец, побоями». Сам Трухин передаёт дело так: эполеты сорвал с него Сухинов, «бросил на землю и топтал их ногами, потом оторвали у него, Трухина, шпагу…», а «шайка» Муравьёва целую ночь кричала «ура!». «Очень часто приходили к нему на гауптвахту Щепилло и Мозалевский с заряженными пистолетами и пробовали, есть ли порох на полке; кроме того, был и Сухинов, спрашивая, спит ли он, Трухин, или нет. В таком опасном положении провёл он на гауптвахте целую ночь».
Ответственное поручение Муравьёва в начале пребывания в Василькове – захватить знамёна и полковой ящик – также выпадет на долю Сухинова. По словам Горбачевского, Сухинов пошёл вместе с Мозалевским на квартиру Гебеля. Входя в дом, Мозалевский заметил, что на левом фланге взвода, назначенного под знамёна, недостаёт несколько рядов; тут же услышал он в комнатах шум и крик. Он тотчас догадался, что солдаты, оставив ряды, ворвались во внутренность дома и предаются бесчинству. Догадки свои он сообщил Сухинову, который, обнажив саблю, бросился в комнаты и увидел пред собою толпу разъярённых солдат, готовых принести Гебеля в жертву мщения. Они оскорбляли несчастную жену своего командира, а некоторые даже предлагали убить её вместе с малолетними детьми… Сначала Сухинов обещал наказать смертью тех, которые, забыв воинскую дисциплину, оставили ряды без приказания офицера, осмелились нарушить спокойствие бедной женщины… Но, видя, что его слова не производят никакого действия, он решился подтвердить оные делом и наказать немедленно первого виновного. Раздражённые солдаты вздумали обороняться, отводя штыками сабельные удары, и показывали явно, что готовы покуситься на жизнь любимого офицера. Сухинов, не теряя духа, бросился в штыки, осыпал сабельными ударами угрожавших ему убийц и выгнал их из дома». Мозалевский поддерживал дисциплину у дверей дома. Мужество Сухинова сохранило дисциплину.
Уже упомянутый штабс-капитан Маевский, по словам его, усиленно просил Муравьёва, «уволить его» от восстания. «На сие Муравьёв согласился с тем, что, когда полк утром будет выступать, то, отойдя версту или более, под видом командировки его, Маевского, отпустить». Это слышал Щепилло и сейчас же попросил Маевского идти на квартиру Кузьмина ночевать вместе. Дело было уже в Мотовиловке. Когда ночью Маевский вышел из комнаты, «Кузьмин, Соловьёв, Щепилла и Сухинов начали один другому говорить, что никого выпускать не должно, и положили намерение, если только он, Маевский, отлучится, лишить его жизни, что слышала хозяйка дома и после рассказывала Маевскому». Ранее в Василькове, после того как Маевский вышел из «клуни», Кузьмин и Щепилло несколько раз приходили к нему на квартиру с пистолетами, и Кузьмин говорил притом: «Счастлив его бог, что его, Маевского, не застали; однако… не избегнет он наших рук, за ним послано искать».
Поручик Петин, командовавший 2-й гренадёрской ротой Черниговского полка, жаловался, что никак не мог «отстать» от бунта, «потому, что приверженцами его (Муравьёва. – М. Н.) Сухиновым, Кузьминым и бароном Соловьёвым был везде преследован, которые, дабы увеличить шайку свою, наблюдали за ним, Петиным, неотступно, а он никак не мог до 3 генваря уклониться от их партии».
Сопоставим это с разрешением Муравьёва не желающим следовать за восставшими ротным командирам идти, куда они хотят. Подпоручик Войнилович, призванный к восстанию, получил от Муравьёва распоряжение относительно снабжения полка провиантом. Он отложил исполнение поручения, так как был поздний вечер, «а поутру на другой день, – как показывает он сам, – в 7 часов пришёл к нему, Войниловичу, на квартиру поручик Сухинов с заряженным пистолетом, угрожая, чтобы он, Войнилович, не оставался, а шёл за полком и не упущал бы никакого средства к выполнению предприятий Муравьёва, в чём и требовал от него клятвы». Таким образом, Сухинов, вынудив от Войниловича согласие, ушёл от него. После Муравьёв позвал его к себе, велел ему принять провиант. Когда Войниловичу сам Муравьёв даёт ответственное поручение – приказать капитану Козлову привести 1-ю гренадёрскую роту туда же, где находится 1-я мушкетёрская, то он ссылается на Сухинова, уже явно признавая его значительную роль как одного из первых своих помощников и, вероятно, сознавая, как заметна для окружающих роль Сухинова в качестве восстановителя дисциплины. Войнилович передаёт, что Муравьёв говорил ему, «что если он осмелится не выполнить данного ему приказания, то посланы будут за ним поручик Сухинов и другие по разным дорогам, которые не преминут поймать и лишить его, Войниловича, жизни». Многие ответственные распоряжения, в частности, тому же Войниловичу, Муравьёв даёт через Сухинова.
Подпоручик Рыбаковский, услыхав тревогу при вступлении восставших в Васильков, вышел из своей квартиры и едва только показался на улице, как «в то же время поручик Сухинов, вооружённый пистолетом, подойдя к нему с толпою солдат, требовал от него согласия на их сообщничество». Согласие это Рыбаковский дал и был поставлен у Киевской заставы с приказом никого не пропускать, останавливать проезжающих, отбирать у них бумаги и направлять к Муравьёву. Подпоручик Кондырев, по его показанию, получил от Гебеля важнейшее поручение: заколоть барона Соловьёва и Щепиллу, если они покусятся освободить себя (они в тот момент сидели в Василькове под арестом, а С. Муравьёв еще только вступил в город). Кондырев для этого бросился на гауптвахту и «был там схвачен Сухиновым». С него сорвали эполеты и шпагу и самого отвели на гауптвахту под арест. Сухинов и тут сыграл, таким образом, большую роль, помешав убить двух важнейших участников – руководителей движения. Общее заключение Кондырева таково, что «насилия и угрозы более всех были оказываемы Кузьминым, Сухиновым и Щепиллой, в чём равномерно участвовал и Соловьёв».
Прапорщик князь Мещерский, бывший в Василькове, показывает, что также услышал вечером 30 декабря тревогу и выехал верхом посмотреть, что делается в городе. «Вдруг поручик Сухинов с толпой солдат окружил его, князя Мещерского, и, приставя к груди его пистолет, говорил, чтобы он согласился быть участником их». По мнению Мещерского, Муравьёв тогда ещё в город не вступил, а пришёл немного позже. К Муравьёву же «представил» Мещерского тот же Сухинов. Когда Мозалевский арестовывает у заставы поручика Несмеянова и прапорщика Апостол-Кегича, он отправляет их сначала на квартиру к Сухинову, Щепилле, Кузьмину и Соловьёву (они так и жили все вместе), где его допрашивают и привлекают к восстанию, а лишь затем посылают Несмеянова на гауптвахту, а Кегича отпускают на его квартиру. Даже нижние чины 5-й мушкетёрской роты показали, что по приходе в Васильков были помещены в одном доме с Соловьёвым, Кузьминым, Сухановым, и их «никуда не выпущали при строгом за ними наблюдении» этих офицеров. На эту роль Сухинова и его товарищей обратил большое внимание аудиториат и ранее военный суд при главной квартире первой армии.
Ночь с 30 на 31 декабря была проведена восставшими в Василькове. Судя по «Запискам Неизвестного», С. Муравьёв вечером отдал приказ всем ротам собраться на площади в 9 часов утра. Час исправляется показаниями Муравьёва: он приказал собраться около 12 часов дня. Офицеры-славяне всю ночь не спали, готовились к походу, вели деятельную агитацию среди солдат, проявляя заботливость, предусмотрительность и ясное, практическое отношение к делу. «Каждый занимался своим делом, забывая опасность; деятельность и усердие членов общеста были беспримерны; они старались одушевить солдат новым мужеством и поддержать бодрость их духа. Чтобы успешнее действовать на них, они всеми силами старались обеспечить их продовольствием. Сами солдаты в приготовлении к походу показывали не менее ревности: ружья, патроны и вся амуниция были осмотрены с величайшим тщанием и все недостатки были исправлены.
С. Муравьев в эту решающую ночь дописывал свой «Катехизис», в агитационную силу которого он глубоко верил. Действительно, «Катехизис» является замечательным идеологическим памятником южного восстания и революционного республиканизма декабристов вообще.
На разведку в Киев был послан Мозалевский с приглашением прибыть в Брусилов, а на следующий день решено было выступить из Василькова в Мотовиловку в надежде соединиться там с ротами Черниговского полка, ещё не присоединившегося к восстанию. Мотовиловка лежала по дороге в Брусилов. С. Муравьёв говорит, что он сразу склонялся к движению и на Брусилов, и на Киев. Из Брусилова (в случае удовлетворительного ответа Крупенникова) был один переход на Киев, «в противном же случае я находился также в расстоянии одного перехода от Житомира».
Ценнейшие показания о смысле похода на Киев дал Мозалевский. При приглашении последовать в Брусилов ему сказано было, что там собраны будут «Алексопольский и Кременчугский пехотные, Ахтырский и Александрийский гусарские полки, которые равно и другие полки бунтуются, и из Брусилова пойдут к Житомиру, где будто бы собрана уже и 8-я пехотная дивизия. Когда рота Кузьмина просилась из Василькова на ротный двор в Трилесы «для забрания своих вещей», то он, Кузьмин, дав на роту 200 руб. ассигнациями, говорил: «Мы ни в чём нуждаться не будем, сходим только в Брусилов и Житомир, а потом опять в Васильков». Достаточно вспомнить, что на Алексопольский полк имел влияние Повало-Швейковский, а во главе Ахтырского стоял Артамон Муравьёв, чтобы понять, что Брусилов был новой ставкой С. Муравьёва на изменивших членов Южного общества, – надежда, что они останутся верны обществу и выполнят обещание, всё же не покидала С. Муравьёва.
В Василькове особенно высоко поднялся дух восставших.
31 декабря 1925 г. по сборе рот на площади Василькова был прочитан перед восставшим Черниговским полком революционный «Катехизис», один из замечательнейших идеологических памятников движения декабризма, освещающий своим идейным светом южное восстание.
Исследование идеологии декабристов было бы неполно без привлечения этого памятника. Он сосредоточен непосредственно на вопросе о свержении самодержавия. Таких документов в силу их особой конспиративности и остроты темы сохранилось не так много в документальном комплексе движения декабристов. Революционный «Катехизис» ярко и точно свидетельствует о республиканской идеологии восстания.
По примеру ранее возникавших в истории революционной борьбы катехизисов, созданный Сергеем Муравьёвым и Бестужевым-Рюминым документ состоит из вопросов и ответов и написан простым языком, рассчитанным на читателя и слушателя – солдата, человека из народа.
Самовідданість та благородство С. І. Муравйова-Апостола
Отлично представляя себе, как отягощает вину в глазах следствия признание в авторстве такого революционного документа, Сергей Муравьёв сначала берёт всю вину на себя. Ещё 31 января 1826 г., находясь в Петербурге и не раз допрошенный, он твердит следователям, что «катехизис, читанный нижним чинам Черниговского полка при возмущении, сочинён им, без участия других и без ведома Директории». Однако это не убеждает следствие, – в его руках уже имеется свидетельство, данное Матвеем Муравьёвым-Апостолом ещё 9 января: «Катехизис сей сочинён Бестужевым и братом». А 27 января 1826 г., т. е. за четыре дня до упомянутого выше допроса Сергея Муравьёва, безоговорочно сознался в авторстве «Катехизиса» и сам Бестужев-Рюмин. «Обе прокламации и катехизис были сочинены Сергеем Муравьёвым и мною», – показывает он. Далее в той же следственной анкете он свидетельствует, что полковой священник прочёл перед восставшим полком «написанный нами катехизис». Ту же формулу применяет он на более позднем допросе 15 апреля: «Я дал Ушакову написанный нами катехизис». Таким образом, не остаётся сомнения, что у этого замечательного документа русского революционного движения два совместно работавших автора: Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. С этими двумя именами и должен связываться документ, – обычное его наименование «Катехизисом» Сергея Муравьёва надо признать неточным267.
Недооцінка й нерозуміння П. Є. Щоголевим самостійності революційного за духом вітчизняного «Катехізису»
В специальной работе П. Е. Щёголева, посвящённой революционному «Катехизису», основные усилия автора посвящены поискам его литературного прототипа. Последний найден в испанском революционном катехизисе 1809 г. Поводом сочинения русского «Катехизиса» является, согласно П. Е. Щёголеву, французский роман «Дон Алонзо или Испания», сочинённый Н. А. де Сальванди и прочтённый С. Муравьёвым незадолго до восстания. Даже самая «страстность призывов к уничтожению тирании», по Щёголеву, была перенесена в русский катехизис с испанского! Выходит, что если бы декабристы – авторы «Катехизиса», не прочли бы указанного романа и не вдохновились страстностью испанских революционных призывов, в «Катехизисе» не было бы южного восстания с его революционным пафосом.
Надо отметить глубокую принципиальную разницу между русским революционным документом и испанским катехизисом 1809 г., которым (в беллетристическом пересказе Сальванди) оперирует П. Е. Щёголев. Испанский катехизис – конституционно-монархический документ, русский – республиканский. Испанский катехизис призывает защищать «своё отечество и своего короля», его текст должен воодушевлять «каждого верноподданного». На вопрос «какого счастья мы должны искать», испанский катехизис отвечает, что желательно монархическое правление по испанским конституциям», а на вопрос, кто должен совершить освобождение страны от иностранного ига, следует ответ: «Наш дорогой Фердинанд VII». Уже этих сопоставлений достаточно для констатации глубокой разницы между русским и испанским революционными документами. Разница ещё и в том, что идеи природного равенства всех людей испанский текст не содержит, в то время как русский документ пронизан этой мыслью.
Анализ идейного содержания русского революционного «Катехизиса» был бы неполон без вопроса о народе. Прямые воспоминания о последнем характере для него. Хотя «Катехизис обращён непосредственно к солдатам, наряду с ними он упоминает о народе, и несчастья солдат и народа одинаково и без малейшего различия возводятся к самодержавию. «Катехизис» спрашивает: «От чего же русский народ ирусское воинство несчастно?» Ответ: «От того, что цари похитили у них свободу». Доводом решающего значения является утверждение, что цари «тиранят только народ». Далее утверждается, что «русский народ и русское воинство» страдают потому, что покоряются царям.
Не подлежит никакому сомнению, что основная общая идея протеста против самодержавия адресована, по прямому смыслу текста, не только к воинству, но и к народу. Вопрос: что ж святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству? Ответ требует ополчиться «против тиранства» не только воинам, а вообще «всем чистым сердцем». Именно они должны «взять оружие и смело следовать за глаголящим во имя господне». Далее в конце декабристского «Катехизиса» есть самостоятельный текст, адресованный специально «христолюбивому русскому воинству», которое (тут уже особо, отдельно) призывается «ополчиться всем вместе против тиранства и восстановить веру и свободу в России».
Системний підхід декабристів до революційної агітації
В полном соответствии с этим находится и отдельная прокламация к народу, написанная рукой Бестужева-Рюмина. Кроме ней, его же рукой набросан третий документ – прокламация квоинству, развивающая мысль «Катехизиса». Таким образом, перед нами – несомненный замысел создать систему одновременно действующих агитационных документов.
Все три документа имеют разные функции. Прокламация к народу объясняет ему смысл восстания, глухо, как и «Манифест к русскому народу», доводя до его сведения весть об освобождении от крепостного права. Как и северный документ, она воздерживается от прямых формулировок (очевидно, с той же целью не вызвать народных восстаний, которых декабристы боялись, и сохранить столь нужное для них «спокойствие» народа). «Мы сбросили с себя у з ы рабства, противные закону христианскому. Отныне вся Россия свободна», – вот и всё, что сказано в прокламации на эту тему. По линии же политической набросанная Бестужевым прокламация говорит лишь о том, что будто восстановлено «Правление народное», которое заменит самодержавие. В полном соответствии с классовой ограниченностью дворянских революционеров прокламация не призывает народ к прямому революционному действию, хотя цитированные выше строки революционного «Катехизиса» призывали «ополчиться против тирании» не только воинство, но вообще народ и «всех чистых сердцем». Сочувствие народа совершаемой революции крайне нужно декабристам, но они хотят только сочувствия. «Итак да благочестивый народ наш пребудет в мире и спокойствии и умолит Всевышнего о скорейшем свершении святого дела нашего».
Идейное содержание этих документов выявляется и в том замечательном обстоятельстве, что они были совершенно свободны от «константиновского» лозунга, вовсе не оперировали именем цесаревича Константина. Это существенное отличие южного восстания от северного, где лозунг верности Константину служил в некоторых случаях внешним поводом для вывода солдат на Сенатскую площадь и некоторым прикрытием истинных целей, о которых солдаты должны узнать не сразу, а постепенно и немного позже. Правда, это положение не было основным. В данном же случае этого лозунга вообще не было. Южные декабристы прямым образом обратились к солдатам с призывом свержения самодержавия и установления республики. Этого не провозглашали в петербургских гвардейских казармах перед выходом на Сенатскую площадь, – это был дальнейший и более решительный шаг к демократическим позициям. Эта особенность чрезвычайно важна и характерна.
Революционный «Катехизис» имел, сверх всего этого, чисто военную функцию: это был документ, освобождающий войско от только что принятой присяги и призывающий его к восстанию. Черниговский полк принял присягу царю и восстал после присяги – чрезвычайно важное обстоятельство. Черниговцы в этом отношении сходны с лейбгренадёрами, вышедшими на Сенатскую площадь после принесения присяги. Отсюда возникла необходимость освободить воинство от принесенной присяги и тем облегчить последующие революционные действия.
Этот момент очень многое объясняет в избранной религиозной форме, в цитатах из Священного писания, доказывающих невозможность и «богопротивность» клятвы царям, в подробном объяснении, откуда взялась эта нечестивая клятва царям и почему царей поминают в церкви. Вопрос: «Стало, присяга царям Богу противна?» Ответ: «Да, Богу противна, цари предписывают принуждённые присяги народу для губления его». Эти и подобные утверждения имели чрезвычайно важную для восставшего полка функцию – освободить солдата от только что принесенной присяги и поднять его на восстание. Заметим, что лично руководителей этот вопрос не касался. Сергей Муравьёв по личному показанию, «на подданство ныне царствующему императору не присягал, ибо меня во время присяги не было налицо при полку». Бестужев-Рюмин, как подпоручик Полтавского пехотного полка, также не присягал по той же причине.
Однако, дело этим не ограничивается. Следственные документы дают ряд точных доказательств того, что революционный «Катехизис» имел ещё другую ясную и весьма важную цель, он был предназначен для того, чтобы в создавшихся конкретных условиях полки, только что присягнувшие царю, поднять на восстание и в этой связи заменить присягу царю присягой революции. Это была важнейшая функция революционного «Катехизиса».
С целью поднять на восстание окрестные полки и были спешно переданы полковым писарям 11 экземпляров «Катехизиса». Они были предназначены для полков, которые должны были, по мысли Сергея Муравьёва и Бестужева-Рюмина, примкнуть к восстанию.
Их также не должна была связывать принесенная присяга Николаю. Вероятно, руководителям Черниговского восстания представлялось, что молебны, подобно отслуженному в Василькове, чтение «Катехизиса», снятие только что принесенной клятвы царю и принесение клятвы в верности революции и республике также должны иметь место на сборе тех полков, которые примкнут к восстанию.
Посланный в Киев Сергеем Муравьёвым прапорщик А. Мозалевский поехал поднимать на восстание киевский гарнизон, а не просто передать какие-то письма и бросить на киевских улицах три «Катехизиса». Это довольно туманная и общая картина уточняется и приобретает ясную функцию, если обратиться к документам.
Личное послание Мозалевского, к счастью, сохранившееся в составе дела Сергея Муравьёва, (дело Мозалевского не дошло до нас), сообщает, что Сергей Муравьёв, будучи в Василькове, вызвал Мозалевского, дал ему надеть «партикулярное платье», сделал ему наставления быть осторожным и вручил запечатанные в конверт три «Катехизиса», приказав по приезде в Киев распечатать конверт и отдать «Катехизисы» сопровождавшим его трём рядовым и одному унтер-офицеру «с тем, чтобы они роздали те катехизисы состоящим в Киеве солдатам. Вместе с Мозалевским были посланы… солдаты… С солдатских шинелей С. Муравьёв сам отпорол погоны в целях конспирации, чтобы рядовые и унтер-офицеры не могли быть опознаны. Показания об основном целевом назначении «Катехизиса» – раздача солдатам киевского гарнизона – имеет чрезвычайную важность и вносит ясность в вопрос. Эта формулировка, несомненно подтверждённая и усным допросом, нашла себе место и в докладе Аудиториатского департамента по делу Соловьёва, Быстрицкого, Мозалевского, Сухинова и других участников восстания Черниговского полка – как в части констатирующей, так и в «мнении» главнокомандующего графа Сакена, отлично знавшего все материалы по южному следствию и судопроизводству (не дошедшему до нас). Сакен, осведомлённый по всей сумме показаний Мозалевского, а также и в прочих, не дошедших до нас материалах южных допросов, передал их содержание таким образом: Мозалевский обвинялся в принятии «от него, Муравьёва, сочинённого им с дерзкими против монаршей власти изречениями катехизиса для доставления оного в Киев к произведению там подобного в войсках возмущения». Эта формулировка заслуживает внимания.
Аудиториатский же доклад в четвёртом своём подразделении, посвящённом специально Мозалевскому, приходит даже к выводу (очевидно, основываясь на каких-то не дошедших до нас показаниях), что сии катехизисы по прибытии в Киев брошены солдатами в разных местах, на тот конец, чтобы оные были сысканы воинскими чинами».
Конечно, трудно себе представить, чтобы «Катехизисы» разбрасывались с тем, чтоб именно солдаты и никто другой разыскали их на киевских улицах, – это позднейшее осмысление событий на основе показаний о первоначальной цели. Мозалевскому… не удалось раздать «Катехизисы» именно солдатам, поскольку, согласно следственным материалам, не удалось добиться связи с соответствующими полковыми командирами (майором Крупниковым или Крупенниковым, личность которого следствию так и не удалось идентифицировать). Если же опираться на свидетельство «Записок Неизвестного», мы узнаём, что писем к военачальникам, на которых тайное общество возлагало надежды, у Мозалевского было не одно, а три: одному генералу, которого фамилия не названа, но дана лишь примета местожительства («он жил на Печерске» – не Рененкампф ли?), тому же (неразысканному) «подполковнику Крупенникову» (названному в делах следствия майором) и «одному поляку». Все эти лица, призывались активно содействовать восстанию – очевидно, организацией выступления тех войсковых частей, которые были под их командой. Заслуживает внимания формулировка поручения Мозалевскому в передаче «Записок Неизвестного»: Муравьёв просил пересказать ему («одному генералу, фамилия которого неизвестна») о событиях и узнать от него, что думают другие члены о происшествии 14 декабря и о восстании Черниговского полка, «расспросить его о мерах со своей стороны, объявить ему о надеждах Муравьёва на Киев, где находится так много членов русского и польского обществ…». Из контекста совершенно ясно, о каких «надеждах» С. Муравьёва идёт речь, поставлен вопрос о поддержке восстания воинскими частями. Сопоставляя это с данными следствия, мы можем внести в вопрос дополнительную ясность: по показанию Грохольского, письмо С. Муравьёва сообщало «Крупенникову», чтобы он последовал на сборный пункт». По «Запискам Неизвестного» подполковник Крупенников – реальное лицо; он, как сообщают «Записки», дал положительный ответ на письмо Муравьёва («Буду иметь случай соединиться с вами, исполнить данное обещание и разделить общую опасность»).
В свете этого понятен и эпизод со штабс-ротмистром гусарского принца Оранского полка Ушаковым, проезжавшим через Васильков во время восстания. Он был задержан на заставе и приведен к Муравьёву. В полку были близкие по настроениям люди, – сам Ушаков проявил сочувствие к делу восстания и возбудил надежды руководителей. Было желательно присоединить к восстанию и этот полк. Бестужев рассказывает об Ушакове: «Видя, что мы восприняли действия, он воспламенился и желал нам успеха». Руководители восстания поручили Ушакову уведомить о виденном офицеров его полка… Ушакову вручили один экземпляр революционного «Катехизиса». Очевидно, и в этом случае документ должен был иметь указанную выше функцию на случай, если гусарский принца Оранского полк примкнёт к восстанию».
Всё это объясняет и то обстоятельство, что Сергей Муравьёв-Апостол раздал не все переписанные катехизисы: по-видимому, он предполагал, что при встрече с присоединившимися полками в них может возникнуть надобность. По свидетельству Матвея Муравьёва, последние копии революционного «Катехизиса» сохранялись до самого последнего момента, и лишь «когда отряд… забрал Черниговский полк, сии копии были истреблены».
В пересказе мемуарной литературы эта ближайшая практическая функция документа оказалась необъяснённой. Рассказ о поездке Мозалевского в Киев в «Записках Неизвестного» уже занят непосредственно объяснением не первоначальной цели (раздать «Катехизис» солдатам), а того особого поворота, который получился в действительности – раздача «Катехизиса» народу просто как революционной прокламации. Конечно, и такую роль могла сыграть эта замечательная прокламация русского революционного движения, но задумана и подготовлена она была прежде всего как практический и крайне необходимый документ восстания: снять только что принесенную присягу царю, тормозящую восстание, и заменить её присягой революции и лозунгу республики, выходя с ним на восстание.
Аналогичное сопоставление показаний, данных на следствии, и последующее освещение вопроса в мемуарной литературе позволяет некоторые уточнения и в эпизоде с Даниилом Кейзером, священником Черниговского полка, который прочёл перед восставшими черниговцами революционный «Катехизис». Как известно, Муравьёв, желая хоть несколько ослабить вину священника во время следствия, подчёркивал в своих показаниях, что дал ему за выполнение приказания 200 руб., т. е. снял вопрос идейного характера и заменил его узкоматериальной причиной. Между тем священник Кейзер соглашался на предложение Муравьёва из идейных соображений (в «Записках Неизвестного»: «Готов умереть с вами для общей пользы»), но в то же время, ссылаясь на семью, – жену детей, проявлял колебания. «Если ваше предприятие не удастся, то что будет с ними? Бедность, нищета и даже позор ожидают мою жену и моих сирот». Тогда Муравьёв, желая успокоить справедливое опасение священника, дал ему 200 рублей, после чего он согласился». Но столь небольшая сумма не могла же устроить судьбу семьи священника в том случае, если бы она потеряла кормильца.
Опять-таки непосредственные документы следствия, в первую очередь допросы самого Даниила Кейзера и церковников Дмитрия Краскова и Ивана Ахзлестина, вносят ясность в этот вопрос. Сергей Муравьёв встретил согласие со стороны Кейзера прочесть «Катехизис» перед полком, и согласие это, очевидно, было дано вполне сознательно. Но далее Муравьёв потребовал, чтобы Кейзер следовал за восставшим полком. Между тем подъёмных средств у Кейзера не было. Двести рублей, данные ему Муравьёвым, и сыграли роль «подъёмных»: на эти деньги священником сейчас же была куплена «брычка», следовательно, речь вовсе не шла непосредственно о материальной поддержке его семьи. С. Муравьёв, по показанию Кейзера, дал ему 200 руб. чтобы он мог «сколько ни есть справиться с семейством и следовать в поход», – отсюда немедленная покупка Кейзером у васильковского экспедитора дорожной брички за 70 руб., т. е. трата более нежели трети всей суммы. Следовательно, этот поступок Муравьёва, как и действия Кейзера, был понятен, целенаправлен и в данной обстановке имел вполне практическое значение. Таким образом, нельзя давать веры показанию Сергея Муравьёва, что после того, как Черниговский полк выстроился на площади в Василькове, – «священник, коему, дабы склонить на сие, дал 200 руб., отслужил молебен, прочёл катехизис, мною сочинённый». Как видим, это показание нельзя принять точным, – деньги имели иное назначение и вовсе не были «покупкой» согласия священника.
Имя священника Даниила Кейзера (впервые в литературе упомянутое П. Е. Щёголевым и прокомментированное в его работе о революционном «Катехизисе») по праву занимает своё место в истории декабристского движения.
С. Муравьёв показывает, что «Катехизис» будто бы остался непонятен солдатам, и он вынужден был для поднятия их духа опять прибегнуть к имени цесаревича Константина, даже отмечает на следствии якобы отрицательное впечатление, которое произвело на солдат чтение революционного «Катехизиса» на площади в Василькове. Однако это свидетельство, несомненно, опровергается его собственными поступками: почему же он посылает из того же Василькова прапорщика Мозалевского в Киев для раздачи солдатам киевского гарнизона катехизиса? Очевидно, он не сделал бы этого, если бы в действительности заметил отрицательное воздействие этого документа.
Важно учесть, что «Катехизис» многократно разъяснялся и комментировался солдатам. Прапорщик Апостол-Кегич свидетельствует, что «Сухинов, Кузьмин, барон Соловьёв и Щепилло часто читали солдатам «Катехизис», говорили им о вольности…» Что же иное может разуметься под «вольностью», как не освобождение от крепостного права? Без сомнения, это частое чтение есть толкование солдатамреволюционной прокламации».
Олександр Іванович Герцен – продовжувач справи декабристів
О. І. Герцен пішов далі, ніж декабристи. Він вважав, що російська сільська громада – це зародок соціалістичного суспільства.
Виступаючи 27 лютого 1855 р. на міжнародному зібранні в Лондоні, присвяченому роковинам європейських революцій 1848 року, Герцен сказав268:
«Граждане!
Когда Международный совет пригласил меня сказать моё слово в этом собрании, меня сначала взяло раздумье, говорить ли мне во имя небольшого числа русских братьев наших, говорить ли мне среди разгрома войны, в разгаре неистовых страстей, среди святой глубокой грусти, в которую всё погружено ныне. Я сообщил это Совету. Он возобновил своё приглашение, и притом с такой любовью, что мне стало совестно за минуту сомнения, за недостаток веры…
Война свирепствует в ином мире. Гром её умирает у порога этой палаты, в которой изгнанники и выходцы всех стран соединяются с англичанами, свободными от предрассудков своей родины, во имя воспоминания, во имя надежды, во имя страдающих.
Так христиане первых веков собирались на скромные свои трапезы, в спокойствии и ясности духа, между тем как буря, вызванная кесарями и преторианцами, потрясала древние основы Римской империи.
На этом празднестве народной братовщины русскому голосу должно быть место.
В России сверх царя – есть народ; сверх люда казённого, притесняющего – есть люди страждущие, несчастные; кроме России Зимнего дворца – есть Русь крепостная, Русь рудников. Во имя этой-то Руси должен здесь быть услышан русский голос.
Спешу сказать, что я не имею никакого уполномочения от русских выходцев. Они не составляют сомкнутого общества. Полномочие моё говорить во имя России – вся моя жизнь, моя привязанность к русскому народу, моя ненависть к царю.
Да, я имею смелость высказать это, я считаю себя представителем мысли восстания в России – среди вас, я имею право на голос; это говорит мне моё сердце, моё сознание, моя совесть.
Седьмой год издаю я сочинения о России. Сначала европейская публика, озадаченная неистовым поведением властей после 1848 года, слушала мои слова снисходительно. Теперь времена изменились; война возбудила удивительно боевой дух, особенно в некоторых немецких газетах, они дошли до яростной нетерпимости. Мне стали ставить в укор мою любовь к славянам, мою веру в величие их будущности, наконец, самую мою деятельность. Обвинительные статьи два раза переплывали через океан – другие удостоились чести быть воспроизведёнными «Монитером».
Доселе никогда ещё не требовали ни от одного выходца или изгнанника, чтобы он ненавидел своё племя, свой народ. У нас отнимают настоящее, нас хотят лишить будущего, хотят убить нашу надежду!
Если б я ненавидел русский народ, если б я не верил в него, меня бы не было здесь. Народ свободный, республиканский дал мне права гражданства у себя269; я там бы и остался, не занимаясь страною, в которой меня преследовали.
Странная сбивчивость понятий.
Царствование Николая начинается огромным заговором. Он едет короноваться в Москву под триумфальными воротами пяти виселиц. Сотни заговорщиков с цепями на ногах отправляются в рудники. Гурьбы молодых людей следуют за ними и исчезают в Сибири… Всё это происходит незамеченно в Западной Европе, между тем как наглый образ воплощённого самодержавия отбрасывает на нас, гонимых им, тень заслуженной им ненависти.
Я знаю, что вы верите в существование революционной партии в России; иначе появление моё на этой трибуне было бы нелепостью. Но большинство людей, называющих себя радикалами, старается этому не верить. Они довольствуются союзом и братством между народами, внесёнными в их список, получившими от них революционный диплом.
Как вспомнишь, что добрый «заступник человечесского рода», Анахарсис Клоотс, сам раскрасил своего из своих родственников, для того чтоб на празднике французской республики не было недостатка в представителе из Отанти270, так что нельзя не сознаться, что с тех пор международное братство не так далеко ушло вперёд.
Николай нас вешает, ссылает в Сибирь, сажает в темницы, но он, по крайней мере, не сомневается в том, что мы существуем, напротив того, он чересчур внимателен к нам. Граждане, я в первый раз в моей жизни ставлю его величество в пример.
Но нам говорят, что мы, в свою очередь, не верим ни в силу, ни в нынешнее устройство Европы. Разумеется, нет. А вы? Разве вы верите? Дело в том, что русский, при выходе из своего острога, летит в Европу, полный надежд… и находит повсюду другие издания царского самодержавия, бесконечные вариации на тему «Николай».
И он осмеливается это высказывать… вот в чём беда.
Нам, очевидцам Июньских дней и всего рода злодейств, совершённых торжествующими правительствами в Европе, – злодейств, которые превзошли всё, что мог бы вообразить самый мрачный предсказатель, – нам ставят в укор наши слёзы, стон боли, вырывающийся из нашей груди?.. Нас упрекают в том, что на наших губах одни горькие слова, одни проклятия… когда в груди кипит злоба, а в душе одно сомнение!
Что же, следовало молчать, скрывать?
Зачем же нам льстить этому старому миру – миру битой колеи и насилия, который вас первых раздавит, который громоздит трупы прошедшего, чтоб загородить дорогу будущему…
Довольно портили царей лестью и молчанием. С какой стати развращать ими народы?
Положим, что наши мнения преувеличены; положим, что они ложны; но с чего берут себе право подозревать их искренность?
Нельзя покончить ошибочное мнение, провозгласив его ересью, панславизмом, марая его подлыми и нелепыми намёками.
Простите мне эти подробности – они лежали у меня на сердце. Я ничего не отвечал на нападки; чувство глубокого приличия, которое вам легко понять, заставляло меня хранить молчание во время войны. Но мне казалось невозможным держать между вами речь, не касаясь этого личного вопроса.
Теперь отвернёмся от междоусобиц императоров и журналистов и посмотрим на то, что происходит в этом немом краю света, который называется Русью.
Там вы встретите два зародыша движения: один – преимущественно отрицающий, разлагающий – рассыпается в малых кружках, но готов составить большой, деятельный заговор. Другой – более положительный, хранящий в себе почки будущего образования – находится в состоянии дремоты и бездействия. Я говорю о молодом дворянстве и о сельской общине, которая представляет основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянского государства.
Над ними – подавляя одних, истощая других – стоит казённая Россия; живой курган (как я уже сказал) притеснителей, обманщиков, взяточников, связанных между собою дележом грабительства, завершаемых царём, и опирающихся на семьсот тысяч живых машин со штыками.
Императорство никогда не сделается ручным; оно всегда останется опасностью для Европы, несчастием для славян. Оно, по естеству своему, заносчиво, хищно, ненасытно. Очень скудное смыслом, вовсе не даровитое во внутреннем устройстве, ему удалось создать одно – войско. Потому-то воевать ему необходимо, это его ремесло, его спасение.
Петербургское правительство не народно; оно слишком держится дворян и слишком немцев, чтобы быть народным. Единственная живая мысль, привязывающая к правительству, – это мысль о народном единстве. Правительство знает это очень хорошо и пользуется этим. Вот одна из главных причин, почему войну следовало перенесть в Польшу. Объявление Польши независимою было бы хорошо принято не только малороссами, но и большей частию великороссов; оно было бы принято как восстание, а не как нападение.
Будьте уверены, что ничего столько не опасаются, как независимости Польши. В тот день, когда в Варшаве будет восстановлена республика, петербургский орёл повесится на одну из своих голов.
Не буду разбирать историческую необходимость солдатского и чиновнического управления, заведенного Петром I. В отношении к прошедшему оно, полагаю я, было понятно, даже нужно для того, чтоб спаять части России воедино. Но теперь это время минует, оно держится лишь искусственным, насильственным образом. С 1813 года императорская власть в России становится бесплодною. С восшествия на престол Николая деятельность правительства исключительно отрицательная; оно усмиряет, подавляет, гонит – и только.
Потому, что в первый день своего вступления на царство Николай увидел людей, которые его устрашили; он их никогда не мог забыть.
– Дай честное слово, что ты оставишь свои замыслы, и я тебе прощаю, – сказал он Муравьёву.
– Не нужно мне помилования, не нужно произвола, – отвечал осужденный на смерть Муравьёв, – мы хотели свергнуть вас с престола именно для того, чтоб не быть зависимыми от ваших прихотей.
Его повесили.
– Вы торжественно поклялись над кинжалом, в заседании вашего общества, убить императора? – спросил Пестеля председатель следственной комиссии.
– Неправда, – отвечал Пестель, – я просто сказал, что хочу его убить; не было ни кинжала, ни клятв; я никогда терпеть не мог мелодрамных сцен.
И его тоже повесили. Верёвка порвалась, трое упали на землю. Муравьёв встал и сказал: «Проклятая страна, в которой и повесить не умеют!»
Знать, что такого рода люди существовали невдалеке от дворца, что их и теперь найдётся… нехорошо для высочайшего сна.
Тридцать лет Николай ждёт, чтоб у него попросили прощения, ждёт и не дождётся.
Смерть прощает несчастных ссыльных. Какие люди! Какие предания!
Другой Муравьёв – их было четверо в заговоре, – бывший полковником генерального штаба, жил после десяти лет, проведенных им в каторге, посельщиком в маленькой избе, срубленной им самим в глуши Сибири; с ним жили вместе два других каторжника – генерал Юшневский и полковник Абрамов. В 1841 г. он умирает. Два друга сколотили гроб и понесли покойника в ближайшую деревню – за десятки вёрст. Старик генерал любил Муравьёва, как мать может любить своего сына. Дорогой он не вымолвил ни слова; пришедши в церковь, он стал на колени возле гроба и закрыл себе лицо руками.
Когда покойника отпели, дьячок, которого удивила неподвижность Юшневского, подошёл к нему. Старик был мёртв. Абрамов побрёл себе один куда-то по снежному морю; об нём не было слышно271.
Сколько Николай не упорствовал в жестокости272, сколько он не обнаруживал редкое бездушие против людей свободного образа мыслей – образ-то мыслей он не успел подавить; напротив того, он стал сильнее, более возмужалый и более народный. Несколько месяцев тому назад вышла во Франции замечательная книга о России. Сочинитель её, г. Гале де Кюльтюр, только что возвратился из России; он после меня видел, что там делается. Позвольте мне прочесть несколько строк из этого сочинения273:
«Царь не затеял бы этой неправедной войны из-за пустого предлога заступиться за веру христиан в Турции. Он по причине весьма важной вышел из бездействия. После двадцати лет царствования он не мог больше управлять Россиею. Быв столько лет неограниченным владыкою надо всем, он под конец увидел, что не имеет власти ни над чем. Приближающаяся старость показывала ему не только явный упадок его личных сил, но и упадок всего порядка, возводимого им. Мысль преобразования, обновления, возрастая подобно морскому приливу, под постоянным и неотразимым влиянием, подмывает изгнившее, старое учение самодержавия. Притом среди дворянского сословия – сословия опасного, мятежного – составились общества, которые, просто осмеивая меры правительства, намеренно держались от него поодаль, они состояли из людей с умом, с сильной волей, с сильной верой и живою жаждой мести; эти общества привлекали к себе всё молодое поколение».
Говоря о донесении тайной полиции о деле Петрашевского и его товарищей, составивших заговор 1849 г., автор приводит следующие слова Липранди Набокову:274
«Воспитанники многих учебных заведений напитаны самыми превратными мыслями; каждое слово, каждая строка их отзывается пагубными учениями. Слепо предаваясь им, они считают себя призванными преобразовать всё общество, всё человечество и готовы стать апостолами и мученниками своих несчастных заблуждений. От таких людей можно всего ожидать. Ничто их не остановит; ибо, по их убеждению, они трудятся не для себя, а ради всего рода человеческого, не для настоящего времени, а для будущего».
«Нельзя, – сказал один очень замечательный человек г. Кюльтюру, – нельзя определить, когда именно в России будет восстание, но оно близко и облечётся в новый, особый образ, оно явится в русском виде… Весь народ единогласно воспрянет, чтоб ниспровергнуть порядок дел, издавна осужденный духом времени, – вооружённое страшилище, покамест ещё внушающее страх, но уже не возбуждающее ни единой струны в сердце человеческом. Затем возникнут большие распри; поборники движения захотят нового, некоторые из «славянофилов» пожелают вернуться к старой Руси, к Руси Иоаннов – между тем народ возьмётся за робеспьеровский топор и начнёт срубать чины и головы». Вот, граждане, что делается под ледяной корой, под однообразной наружностью северного самодержавия. Посмотрим теперь в глубь этого омута, взглянем, какие там дремлют бури-силы, могущие взволновать народные стихии.
Прежде всего надобно вам сказать, что на Западе не только сомневаются в существовании революционной партии в России, которая по необходимости прячется, не сомневаются и в том, что у нас есть особый быт сельский, т. е. сомневаются, так или нет живут пятьдесят миллионов людей в двух шагах от Германии.
По странному противуречию наша сельская община, задавленная сверху властью, опирается на широкую и явно социальную основу. Права её велики. Само собою разумеется, что здесь речь не идёт о правах государственных; во всей России один Николай Павлович пользуется таковыми; здесь речь идёт о праве внутреннего управления в делах, касающихся общины и её земли. Не стану повторять того, что я столько раз говорил об устройстве русской сельской общины и её преимуществах; напротив того, я намерен указать вам на огромный её недостаток.
Русский крестьянин вечно остаётся малолетним; он никогда не самостоятелен; во всех случаях он опирается на общину, прячется за неё. Лицо поглощается миром.
Согласовать личную свободу с миром – тут вся задача социализма. Она не разрешена Соединёнными Штатами Северной Америки, ещё менее разрешена славянской общиной. Славянская сельская община – бессознательный зародыш, который будет вызван к деятельной жизни лишь тогда, когда человек в общине потребует себе все права, принадлежащие ему как особе, не утрачивая при том прав, которые он имеет в общине.
Вот этой – непокорной личности, этой закваски революционной и недоставало семейнообразной общине русской. Она бы долго ещё могла ужиться с царём, тем больше, что ему мало выгоды нарушать её права. Но есть закон судеб, по которому сами властители вызывают народы к восстаниям.
Крепостное состояние, исподволь, лукаво введенное в семнадцатом столетии, приняло в восемнадцатом огромные размеры: более трети всех земледельцев было отдано в частное владение.
Народ не раз восставал, более ста тысяч людей стояло на Волге с Стенькой Разиным. Царь Алексей Михайлович перевешал тысячи мятежников, престол Екатерины II был несколько месяцев сряду потрясаем Пугачёвым. Привезенный в Москву в клетке, Пугачёв был казнён, порядок восторжествовал, крепостной народ был побеждён.
Александр I ocтановился в изумлении перед чудовищем крепостной власти. Он понял зло, но не нашёл против него средства: он не смел ни потворствовать ему, ни искоренить его. Преступление было совершено, царь был связан с помещиками, народ отлучен от него дворянством. Голос царя не мог больше доходить до него… И когда Николай – этот всемогущий император – осмелился в апреле 1842 г. дать дворянству робкий совет полюбовно уладить дело с крестьянами275, министр внутренних дел Перовский прибавил к его совету такое пояснение, что бледные слова Николая потеряли всякое значение. Циркуляром министра предписывалось губернаторам считать мятежниками тех крестьян, которые вздумали бы принять за обязательный августейший совет императора.
Луч вольности промелькнул перед глазами несчастного крепостного – и исчез. Смутные слухи шёпотом разнеслись по народу и остались у него в памяти. Местные восстания, убийства помещиков, которые так часто случались на Руси, умножились. В Симбирской губернии крестьяне устроили было облаву на помещиков. В Тамбовской собрались люди разных волостей и пошли, вооружённые кольями и топорами, неся с собой солому, от одного господского двора к другому, перед ними шла крестьянка босая, простоволосая и пела похоронные молитвы и псалмы – она пела, а дома горели, и в них помещичьи семьи.
Я много жил с нашими крестьянами – и не только глубоко люблю их, но и знаю довольно хорошо. Ребёнком я проводил каждое лето в поместье отца моего; в ссылке я имел целых семь лет, чтоб изучить крестьянина от Урала и Волги до Новгорода, и клятвенно уверяю вас, граждане, что в крестьянах внутренних губерний меньше низости, меньше раболепства, чем в петербургском вельможестве, в царедворцах и чиновниках.
Это заметили и Кюстин276, и Гакстгаузен277, и добросовестный учёный Блазиус278.
«Мужику нужна земля!»
Воля России начнётся с восстания крепостных или с их освобождения. Русский мужик слушать не хочет обольнении его в состояние бездомного бобыля (пролетария). Он хочет земли – и он прав в этом; земля будет за ним. Дворяне были бы рады отпустить крестьян на волю, оставив за собой всю землю.
Пестель говорил своим друзьям: «Мы можем отделаться от царя, можем, пожалуй, провозгласить республику – и всё-таки мало будет толку. У нас нет всенародного восстания, доколе мы не коснёмся поземельной собственности дворян. Мужику нужна земля».
Это было сказано перед 1825 г. Теперь в правительстве и дворянстве поняли, что «мужику нужна земля». Опыты свести крестьян на самомалейшую долю земли были сделаны – и не удались.
Как разделить земли, указывает само положение дел и дух народа. Мужик хочет себе лишь мирскую землю, которую он оросил потом лица своего, которую приобрёл святым правом работы; больше он не требует. Мужик русский не верит, чтобы мирская земля могла принадлежать иному, нежели миру. Он скорее верит, что он сам принадлежит земле, нежели, что землю можно отнять у мира. Это чрезвычайно важно!
Все вопросы, относящиеся до собственности, подлинно – вопросы религиозные, основанные на верованиях, на догматах. Вместе с верой падает дело, исчезает факт.
Теперь сообразите: между крестьянином верящим, что земля принадлежит миру, и молодым дворянством, не верящим в своё право владения, нет ничего, кроме грубой власти, мертвящей привычки, бессмысленного невежества, старающегося поддерживать старое. Никаких преданий, никаких вековых, заветных опор для престола; он не окружён ни почтением в глазах народа, ни спаян с выгодами торгового сословия. Духовенство греко-российское слишком смиренно, слишком малотелесно, чтоб вступиться в дела мира сего; оно осталось византийским и воздаёт кесарю кесарево, не много заботясь о том, кто таков кесарь.
Отличительная черта петербургского императорства состоит в том, что оно не становится монархической властью; оно неограниченная диктатура и больше ничего. В какой бы вид царь ни облёкся – представляй он из себя папу восточного, фельдфебеля прусского, хана татарского, он всё-таки не что иное, как представитель грубой силы и уже минующей исторической необходимости.
В России, впрочем, ничто не носит на себе отпечаток косности, застоя, оконченности, которые встречаешь у народов, выработавших себе долгим трудом формы быта, отчасти соответствующие их образу мыслей.
Не забудьте, сверх того, что Россия не знала почти нисколько трёх бичей, сильно останавливающих Запад, – католицизма, римского права и господства мещан. Это весьма упрощает вопрос. Мы идём вам навстречу в будущем перевороте; нам не нужно для этого проходить через те топи, по которым вы прошли; нам не нужно истощать свои силы в полумраке тех государственных форм, которые можно назвать между волком и собакой279 и которые нигде не произвели великого и сильного, кроме там, где они народны.
Нам вовсе не нужно проделывать вашу длинную, великую эпопею освобождения, которая вам так загромоздила дорогу развалинами памятников, что вам трудно сделать шаг вперёд. Ваши усилия, ваши страдания – для нас поучения. История весьма несправедлива, поздно приходящим даёт она не оглодки, а старшинство опытности. Всё развитие человеческого рода есть не что иное, как эта хроническая неблагодарность.
Без воспоминаний, без обязанностей относительно прошедшего мы находимся в том положении, в котором в Европе находится рабочий класс и безсобственники. Мы и они лишены наследства, нам и им от нынешнего света достались в удел одни оскорбления, одни несчастия – потом мы не принимаем его судьбу очень к сердцу.
Полицейский чиновник был прав, говоря, что «нас ничто не остановит». Нет у нас ничего общего ни со старой Россией, ни со старым миром. У нас ничего нет – да есть отвага надежды.
Мы ничего не сделали. Тем лучше! Тем больше остаётся дела для нас. Пора рабочая для нас настаёт. И потому-то нужно, чтоб вы знали славянских братий ваших. Бедный европейский работник должен знать, что бедный русский крестьянин не падшее, одичалое существо, а человек очень несчастный, имеющий с ним одинакие стремления и удручённый однаким роком…
Поле общественного переворота расширяется… Разве мы не видели Вену возмутившеюся? …короля прусского, стоявшего с обнажённою и повинной головою перед народом?280 Всё это миновало, как сон, но бывают сны пророческие. Но эта сходка всех выходцев в Лондоне, этот обмен мыслей, это взаимное понимание, этот общий уровень, на который мы становимся, – это не сон. Нет! это не сон, потому что англичанин протягивает нам руку; а вы знаете, когда англичанин даёт руку, он даёт и сердце! И русский приглашён участвовать в поминке февральского восстания!.. Разве вы не видите в этом признаков, знамений?
Посмотрите на эту залу – посмотрите на эти обломки всех бурь, изгнанников всех стран, старых бойцов и молодых соратников против всех тиранств, сошедшихся праздновать страницу из летописи революции, и именно тогда, когда Она, отчизна революции, не имеет права торжественно помянуть своё прошедшее!281 Тогда, как Франция погружена в дремоту, истощившись, лучезарно светя революцией на весь мир.
Велика судьба Франции! Она двигает вперёд даже тогда, когда сама идёт вспять! Так поборая социализм, она возвысила его на степень грозной мощи, признанной и ратующей.
Всё содействует революции – ибо всё содействует Будущему!
Оставим же мёртвым хоронить мёртвых! Давно забытые надежды снова возникают. Борьба их между собою принесёт нам пользу; они не подозревают, что побеждают для нас. Царства и цари пройдут, но социализм не пройдёт. Разве вы не узнаёте – это юный наследник отходящего старца!»282
Т. Г. ШЕВЧЕНКО. ПОЧАТОК ТВОРЧОСТІ
ПЕРШІ КРОКИ У МИСЕЦТВІ
Від початку 1846 року Шевченко – громадянин столиці Росії. Цією датою позначена і його заява до Правління Академії: «Получив свободу от помещика своего, вот уже год посещаю рисовальные классы императорской Академии художеств.
Не будучи приписан ещё ни к какому званию, числясь только посторонним учеником Академии, прошу покорнейше Правление императорской Академии художеств в таком качестве выдать мне на свободное жительство в С. – Петербурге билет, какой по положению выдаётся для вольноприходящих учеников Академии»283.
Вийшовши на волю, Шевченко сумує за Батьківщиною, листується з рідними
Перші листи звільнений з кріпацтва Тарас Григорович надіслав своїм рідним. Не люблячи скаржитися на свою недолю, він міг тепер вільніше й частіше спілкуватися зі своїми рідними, виявляючи свою любов та сердечне піклування про сестер і братів.
15 листопада 1839 р. Тарас Григорович звертається до старшого брата в родині, що залишилася в селі: «Микито, рідний брате!
Минуло вже більш як півтора року, як я до тебе не написав ні півсловечка. Вибачай, голубе сизий, так трапилось. Скажу щиру правду, не те, щоб ніколи було або що, а так собі, ні се ні те, ще раз вибачай; я так собі думав – що ж, що я напишу письмо, хіба їм буде легше? Твого лиха не візьму на себе, а свого тобі не оддам. Так що ж з тих писем? Папір збавлять та й годі. Воно, бач, і так і не так, а все-таки лучше, коли получиш, прочитавши хоч одно слово рідне. Серце ніби засміється, коли знаєш, що там діється. Так отаке-то, мій голубе, нудно мені стало, що я не знаю, що у вас робиться. Та й ти таки не без того, щоб не згадав свого брата Тараса, школяра, – бо вже дуже давно, як ми з тобою бачились, та що ж робити ма(є)ш, коли Бог так хоче, потерпим ще трохи, а там, коли живі та здорові будем, – то може й побачимось.
Ну коли то ще буде, чи побачимось, чи ні, а тепер про себе скажу от що, – слава богу милосердному, жив і здоров, учуся малювати, коли трапиться, заробляю гроші, оце на тім тижні заробив трохи, то й тобі посилаю – (25 рублів асигнаціями). А коли буде більш, то й ще пришлю. Так от, бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь, і нікого не боюсь, окроме Бога – велике щастя бути вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Поклонися усім родичам од мене, а надто дідові, коли живий, здоровий. Скажи, нехай не вмира, швидко побачимось, поцілуй брата Йосипа так, як би я його поцілував, і сестер Катерину, Ярину і Марусю, коли жива, та скажи, будь ласкав, як і де вона живе, чи одягнена, чи обута. Купи їй що-небудь к святкам з оцих грошей, що я тобі посилаю – покищо, а то я їй буду посилать окреме, коли трапляться у мене гроші.
Та ще скажи зятям нашим Антонові і Федорові, щоб і вони до мене коли-небудь написали хоч одне слово. А сам, як тільки получиш оце моє письмо, зараз до мене напиши, щоб я знав. Та, будь ласкав, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому.
Бо москалі – чужі люде, Тяжко з ними жити; Немає з ким поплакати Ні поговорити.Та нехай же я хоч через папір почую рідне слово, нехай хоч поплачу веселими сльозами, бо мені тут так стало скушно, що я всяку ніч тілько й бачу во сні, що тебе, Керелівку, та рідню, та бур’яни (ті бур’яни, що колись ховався од школи); весело стане, прокинусь, заплачу. Ще раз прошу, напиши мені письмо, та по-своєму, будь ласкав – а не по-московському… Коли напишеш письмо, то проси Івана Станіславича Димовського284, щоб послав до мене, бо він знає, де я живу. Оставайся здоров – лягаю спать, уже північ, може ві сні й тебе побачу…
Ще письмо, яке найдеш у моєму письмі запечатане, оддай Івану Станіславичу Димовському і поклонись йому від мене та попроси, щоб і він написав до мене що-небудь, та вкупі пришліть, як я вам посилаю, оставайся здоров —
Не забудь же, зараз напиши письмо – та по-своєму»285.
Одужавши після хвороби, Т. Г. Шевченко знову 2 березня 1840 р. пише старшому братові: «Брате, Микито, треба б тебе полаять, та я не сердитий. Нехай буде так, як робиться. Бач за що я тебе хочу лаять, чом ти, як тільки получив моє письмо, до мене не написав, бо я тут турбувався. Трапляється, що письма з грішми пропадають, – а вдруге за те, що я твого письма не второпаю, чорт зна як ти його скомпонував, не по-нашому, не по-московському – ні се ні те, а я ще тебе просив, щоб ти писав по-своєму, щоб я хоч з своїм письмом побалакав на чужій стороні язиком людським. Ну та й за те спасибі, а тепер ось що. Просиш грошей, а не пишеш, чи багато тобі їх треба, – ну, та гроші така річ, що хоч і сто рублів, то не пошкодить, а поки у мене їх не трапилось – то візьми поки що 50 рублів асигнацій, а коли треба буде ще, то напиши. Та знай, що мені гріх позичать братам гроші – коли трапляться, то так дам, а коли ні, то вибачайте.
Що-то як маляр, то вже скрізь понамальовує всякої всячини. Ти вибачай, забув, що письмо до тебе, та й ну малювать – задумуюсь іноді, не тобі кажучи.
Поцілуй старого діда Івана за мене і поклонись всій рідні нашій, яка єсть, доглядай сестру Марусю та, коли можна, помагай і бідній Ярині – а малярові поганому скажи, коли він не схаменеться, то опиниться там, де йому й не снилось. Кланяйся сестрі Катерині і Антонові, братові Йосипу і всім, хто мене не забув. Може я літом приїду побачиться, коли матиму час, та навряд, треба перш добре навчиться малювать…
Як тілько получиш моє письмо, зараз пиши до мене – та поклонися Івану Станіславичу Димовському»286.
Шевченко хворіє
У колективній біографії Шевченка розповідається про захворювання його на тиф. Ця небезпечна хвороба спіткала Тараса Григоровича наприкінці 1839 року. «Щоб створити йому кращі умови і можливість постійно наглядати за ним, друзі подбали про переведення його на квартиру до Академії. Тут поет жив в одній кімнаті з художником П. Пономарьовим. Останній писав у своїх спогадах, що його майстерня складалася з однієї кімнати й антресолей. «На этих антресолях, – читаємо в його спогадах, – мой бедный Тарас помещался во время болезни, поглощавшей наши скудные средства. В это самое время он написал с себя масляными красками свой портрет… и подаренный мне торс св. Севастьяна с натуры в классах академии…»287
Після одужання, десь на початку 1840 р., Шевченко перейшов на квартиру в будинок… на Васильєвському острові (нині № 16). Про цю квартиру поет пізніше згадав у повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали»: «Мне представилась комната в 9-й линии, в доме булочника Донерберга; комната со всеми её подробностями, не говорю с мебелью – это была бы неправда. Вдоль передней стены над рабочим столом висят две полки: верхняя уставлена статуэтками и лошадками барона Клодта, а нижняя в беспорядке завалена книгами. Стена, противуположная полузакрытому единственному окну, увешана алебастровыми слепками следков и ручек, а посреди их красуется маска Лаокоона и маска знаменитой натурщицы Фортунаты»288.
Дружба Шевченка з польськими студентами
У повісті «Художник», як відомо, Шевченко багато й щиро говорить про дружбу зі студентом-поляком Леонардом Демським. У списках студентів Петербурзького університету такого прізвища досі не виявлено, але цілком можливо, що поет за рекомендацією знайомого інспектора університету Фіцтума, запросив до себе на квартиру якогось бідного студента-поляка, який допомагав йому вивчати французьку мову.
Навіть після того, як студент-поляк перейшов на іншу квартиру, щирі дружні стосунки з ним Шевченко не поривав. Він часто відвідував його, допомагав йому матеріально, хоч і сам жив бідно, клопотався про його лікування. Безнадійно хворий на туберкульоз студент наполегливо вчився, мріяв про написання дисертації. Та сили його швидко згасали, і весною 1841 р. він помер, не дочекавшись, як пише Шевченко, і «вскрытия Невы».
Смерть товариша поет переживав дуже боляче. В повісті «Художник» детально описуються останні хвилини життя студента. Шевченко заплатив господарці квартири борг покійника, за свій рахунок організував похорони, поклав на могилу друга гранітну плиту з написом «Leonard Demski, mort anno 18…»289.
Разом з друзями-поляками, зокрема з братами Карлом і Рудольфом Жуковськими, Шевченко читав багато творів польської літератури, серед них – Адама Міцкевича і польського історика Й. Лелевеля, твори якого в Росії були заборонені.
Художник Шевченко працює й добивається визнання
Вчився Шевченко з захопленням, оволодіваючи різними жанрами художнього мистецтва. Його успіхи відзначалися авторитетними фахівцями. 4 жовтня 1835 р. «Общество поощрения художников» вирішило: «…По рассмотрении рисунков постороннего ученика Шевченко, Комитет нашёл оные заслуживающими похвалу и положил иметь его в виду на будущее время»290. До чергового терміну щорічного нагородження Ради Академії в кінці вересня 1840 р. не додавався вже колишній термін «посторонний»: «Определено: записать в журнал настоящего Собрания имена учеников, удостоившихся за представленные работы награды серебряными медалями:
2-го достоинства Тараса Шевченко за первый опыт его в живописи масляными красками – картину «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке», сверх того положено объявить ему похвалу»291.
Непересічний талант юнака вражав. Через два місяці Шевченка привітав віце-голова Товариства заохочення художників: «Известясь, что Вы за первый опыт в живописи удостоились награждения от императорской Академии художеств серебряною медалью 2-й степени. Комитет Общества поощрения художников поставляет себе приятною обязанностью изъявить Вам, сколь радостны для него успехи, оказываемые Вами на избранном Вами поприще, и если в дальнейших Ваших занятиях по живописи Вы будете продолжать оказывать то же прилежание и ревность к искусству, то бессомненно всегда найдёте в членах Комитета самых усердных и постоянных одобрителей»292.
Колишній кріпак стає вільним студентом Академії мистецтв
Зрозумілим наслідком високої оцінки творчості молодого художника стало прийняття його рівноправним учнем найвидатнішого тодішнього метра Академії мистецтв – К. Брюллова. Таке рішення стало відповіддю на звернення Т. Г. Шевченка від 10 грудня 1840 р.: «Желая посвятить себя изучению живописи под руководством г. профессора К. Брюллова и с сею целью посещать художественные классы императорской Академии и представленный мне от сей Академии на жительство билет и рисунки с натуры – прочих же документов никаких не имею, покорнейше прошу Совет императорской Академии художеств принять меня в число вольноприходящих учеников, посещающих художественные классы, причём обязываюсь вносить следуемую плату за билеты до входа в рисовальные классы и в точности исполнять всё, что о вольноприходящих учениках постановлено; а равно посещать и классы наук – по избранному мною роду художеств в Академии преподаваемых; в случае же неисполнения сего подвергаюсь строгой ответственности»293.
Прохання було задоволено. Шевченко плідно навчався у Брюллова, що дістало належну оцінку Ради Академії. 26 вересня 1841 р. вона постановила: «Определено: вольноприходящих учеников Академии за успехи в художестве, доказанные представленными работами по живописи исторической и портретной, Тараса Шевченко за картину, изображающую «Цыганку», …наградить серебряными медалями 2-го достоинства…»294
Улюблений учень Брюллова
Починалось активне творче життя Тараса Григоровича Шевченка в образотворчому мистецтві. «В то время, – згадує відомий російський письменник Дмитро Васильович Григорович (1822 – 1899), – вся Академия (художеств) фанатически была увлечена Брюлловым: он сосредоточивал на себе всё внимание, ни о чём больше не говорили, как о нём. Все академисты, от мала до велика, горели одним желанием: попасть в ученики к Брюллову.
В числе учеников Брюллова находился в то время Т. Г. Шевченко, с которым, сам не знаю как, я близко сошёлся, несмотря на значительную разницу лет. Тарасу Григорьевичу было тогда лет тридцать, может быть, больше; он жил в одной из линий Васильевского острова и занимал вместе с каким-то офицером крошечную квартиру. Я посещал его довольно часто и заставал за работой над какою-нибудь акварелью – единственным его средством к существованию. Сколько помню, Шевченко был тогда постоянно в весёлом настроении духа; я ходил слушать его забавные рассказы и смеялся детским, простодушным смехом»295.
Про це згадує і його молодший товариш по Академії В. В. Ковальов: «В 1844 году я поступил в Академию художеств; тогда же Тарас Григорьевич за исполненную им программу «Мальчик с собачкою» получил звание художника. Я, подобно многим нашим землякам, стремящимся к художественному образованию, приехал в столицу с ничтожными денежными средствами. В таком положении обычно сближаешься с подобными же себе товарищами и устраиваешь жизнь свою сообща, как можно проще; и вот, сойдясь с такими же тремя юношами К(арпом), Г(удовским) и Р(аевым), мы заняли в доме Бема на Васильевском острове в 1-й линии весьма скромное помещение, состоящее из одной проходной комнаты с перегородкой. За перегородкой жили мы четверо, а налево, не доходя до перегородки, вела дверь в другую комнату, которую занимал Тарас Григорьевич. Это была уютная комнатка с одним окном, убранная заботливой женской рукой кисейными занавесками. Мы, как новички, только что поступившие в Академию, смотрели на Тараса Григорьевича с подобострастием; в наших глазах это был уже законченный художник и притом ещё поэт, получивший уже среди малороссов известность. Случалось, что Тарас Григорьевич, когда, бывало, захочется отвести душу народной песней, выходил к нам за перегородку, садился на единственный, стоявший в комнате деревянный диван, и говаривал: «А нуте, хлопцы, заспеваем!» Карпо брал свою скрипку, Гуд(овский) держал баса – и при помощи наших молодых тогда голосов песня лилась, и мы забывали нашу тяжёлую нужду. Чаще всего при этом пели песню на слова Тараса Григорьевича: «Ой, повій, вітре з великого лугу, та розвій нашу тугу»; эту песню он сам пел с нами и руководил пением; и напев к ней был им же сочинён; пели, конечно, без нот.
Тарас Григорьевич в то время был в дружественных отношениях с Брюлловым К. П., у которого часто собирались два Кукольника; вечера у них кончались не всегда благополучно. Брюллов наконец не выдержал и, разойдясь с Кукольниками, впоследствии говаривал: «Чёрт бы их побрал, я чуть не сделался через них горьким пьяницей». К тому же времени относятся и шалости Брюллова карандашом: так в альбоме Тараса Григорьевича я видел карикатуру, начерченную Брюлловым, где Тарас Григорьевич изображён с растопыренными пальцами, за ногтями которых была намазана чернейшая грязь; в этом же альбоме было много эскизов друга Тараса Григорьевича – Штернберга (из Диканьки), необыкновенно талантливого молодого человека, отправленного за границу для совершенствования, и там, к сожалению, умершего. Из числа эскизов Тараса Григорьевича в этом альбоме лучшим был «Король Лир», нарисованный сепией. Энергическая фигура короля была почти в нагом виде, с факелом в руках, в припадке безумия бегущего поджечь свой дворец. В таком положении мне никогда не случалось видеть «Короля Лира» на сцене при выполнении этой роли лучшими артистами. Эскиз Тараса Григорьевича производил сильное впечатление и по эффективному освещению. Тарас Григорьевич готовился его исполнить, но неблагоприятные обстоятельства тому воспрепятствовали: тут же был эскиз «Мальчик с собачкой», за исполнение которого он получил звание художника»296.
Художник Шевченко отримує мистецьке звання
10 грудня 1845 р. йому було надано звання «неклассного художника». У відповідному документі зазначалось: «Из импер[аторской] Акад[емии] художеств бывшему вольноприходящему ученику её Тарасу Шевченко в том, что он во внимание к хорошим успехам его в живописи исторической и портретной, за которые он награждён от Академии серебряною медалью второго достоинства, на основании параграфа 13 высочайше утверждённого в 4 день марта 1840 года преобразования училища императорской Академии художеств, Академическим Советом 22 марта 1845 (года) возведён в звание неклассного художника и утверждён в оном публичным Собранием Академии 18 ноября того же года бывшим, с правом, по силе всемилостивейшее дарованной Академии художеств привилегии, пользоваться с потомством его вечною и совершенною свободою и вольностью и вступать в службу, в какую сам как свободный художник пожелает. Во уверение чего и дан ему, Шевченко, сей аттестат с приложением академической печати»297.
«Живописная Украйна»
Любов до живопису не полишала Шевченка. Через недовгий час свідоцтвом визнання Тараса Григоровича як митця стало задоволення його заповітного бажання про відрядження Академією поїздки до рідної України. Весною 1845 р. у відповідному «Прошении» Шевченко писав: «Имея надобность по художественным моим делам ехать в Малороссию, всепокорнейше прошу правление Академии о выдаче мне билета на проезд как туда, так и обратно, равно как и на беспрепятственное на месте пребывания жительство»298.
Через три дні Шевченко отримав «Билет № 275», в якому зазначалося: «Предъявитель сего, удостоенный звания неклассного художника имп[ераторской] Акад[емии] худ[ожеств] Тарас Шевченко отправляется в малороссийские губернии для художественных занятий, почему г. г. (господа) на заставах команду имеющие, благоволят чинить ему как туда, так и обратно свободный пропуск, равно и беспрепятственное на месте, где сколько нужно будет, пребывание. Во уверение чего и дан ему, Шевченко, сей билет с приложением академической печати»299.
Однак, все виглядало не так просто. Вже на шляху до України виникли перешкоди. Річні звітні збори «Общества поощрения художников» за 1844 р. дещо прохолодно сприйняли намір Тараса Григоровича створити альбом «Живописная Украйна». У відповідному протоколі зазначалось: «…Читая прошение бывшего воспитанника Общества Тараса Шевченка об оказании ему пособия по случаю предпринятого им издания «Живописной Украины» с определением представить Обществу 100 экземпляров этого издания, – Комитет с одной стороны не признал нужным приобрести означенное число экземпляров, по неимению в виду никакого для них употребления, но с одной стороны находя, что труд Т. Г. Шевченки и самое предприятие его заслуживает некоторого поощрения, положил выдать ему одновременно триста рублей ассигнациями безвозмездно, с тем, чтобы он по выпуске первой тетради представил один экземпляр в Общество»300.
Власті в Україні не заперечували проти творчого плану Шевченка
Дещо інакше поставились до задуму Тараса Григоровича власті в Україні. Вони прагнули використати «Живописную Украйну» для зміцнення власного іміджу. У вересні 1844 р. чернігівський, полтавський і харківський губернатор князь М. А. Долгоруков радив предводителю чернігівського губернського дворянства сприяти виданню «Живописной Украйны»: «Находящийся при императорской Академии художеств в С. – Петербурге классный художник Шевченко, известный поэт-живописец, посвятив себя изучению всего достойного замечания в пределах отечества, – писав він, – предпринял периодическое издание, которое будет иметь целью изображение в картинах важнейших достопримечательностей южного края России, столь богатого историческими воспоминаниями и разнообразными красотами природы.
Издание своё г. Шевченко назвал «Живописной Украйною». Оно выходить будет отдельными выпусками, в количестве 12 эстампов ежегодно по программе, распубликованной в столичных газетах и ведомостях. В последней половине текущего года выйдут первые шесть выпусков, из коих три уже совершенно готовы.
Не сомневаясь в том, что в числе г. г. дворян, предводительствуемых вашим превосходительством, найдутся многие лица любители изящного, коим приятно будет содействовать успеху сего предприятия, тем более, что оно по назначению своему непосредственно касается их родины и, следовательно, не может быть для них чуждым, – я покорно прошу вас, милостивый государь, принять в этом деле зависящее с вашей стороны участие приглашением желающих из дворян Черниговской губернии к подписке на упомянутое издание г. Шевченко, которому он назначил цену за шесть гравюр первого выпуска три рубля серебром. Подписку эту не оставьте препроводить в канцелярию мою, коею немедленно потребовано будет от издателя потребное количество экземпляров и по получении тотчас же вышлют подписчикам отпечатанные уже эстампы, изображающие: а) вид в Киеве, б) мирскую сходку и в) приношение даров в 1649 году от трёх держав Богдану и Украинскому народу; на остальные же три эстампа, предназначенные к выпуску не позже будущего декабря месяца, подписчики вместе с тем получат билеты.
О распоряжениях, какие по предмету сему будут вами сделаны, и о последующем прошу ваше превосходительство уведомить меня безотлагательно»301.
Невдовзі М. Долгорукий особисто зустрівся з Т. Г. Шевченком. 16 січня Тарас Григорович, дотримуючись прийнятої тоді манери листування, – так би мовити, «на вищому рівні», – дякував князеві: «Ваше сиятельство соизволили, в пребывание своё в Петербурге, осчастливить меня дозволением поднести вам первые три эстампа издаваемой мною «Живописной Украйны»302.
20 жовтня предводитель відповів: «Отношение вашего сиятельства… я сообщил г. уездным предводителям дворянства для приглашения г. г. дворян к подписке на периодическое издание г. Шевченка… и просил их подписку на это издание проводить прямо от себя в канцелярию вашего сиятельства»303.
Громадськість дізнається про творчі плани Шевченка
Широка громадськість була ознайомлена з задумом і програмою «Живописной Украйны». Цим займалася тодішня преса, розраховуючи «мати зиск» від праці молодого талановитого митця. Перше відкрите повідомлення про творчі плани Т. Г. Шевченка надрукувала столична газета «Северная пчела»: «Назначение всех изящных искусств представлять взору или воображению красоты и ужасы природы, жизнь государств и быт частного человека, силу страстей и события, поражающие душу или наполняющие нас чувством тихим и безмятежным… Исполненный этого убеждения, известный и любимый поэт-живописец Т. Г. Шевченко решается приступить к изданию, названному им «Живописная Украйна».
Сюда войдут рисунки по следующим предметам:
1. Виды южной России, примечательные по красоте своей или по историческим событиям. Всё, что время пощадило от совершенного истребления: развалины замков, храмов, укрепления, курганы найдут здесь своё место.
2. Народный быт настоящего времени, обряды, обычаи, поверья, содержание народных песен и сказок, и
3. Важнейшие события, известные из бытописаний Южной России, начиная от оснований Киева, имевшие влияние на судьбу этого края. В сем последнем отношении г. Шевченко воспользовался сведениями, почерпнутыми им от известнейших учёных малороссиян: Буткова, Стороженко, Бодянского, Кулеша и пр. Эстампы гравированы будут на меди, шириною в 6 и высотою в 5 вершков. Первые четыре картины уже готовы и изображают:
4. Вид в Киеве, 2. Мирскую сходку, 3. Содержание известной сказки: Солдат и Смерть, 4. Приношение от трёх держав даров Богдану и украинскому народу в 1649 году. «Живописная Украйна» продаваться будет: в С. – Петербурге, …в Москве, …в Киеве, Харькове, Одессе и Варшаве»304.
Газетну рекламу підхопили губернатори на місцях та відповідні губернські предводителі.
Як бачимо, спершу неабияку майстерність початкуючого художника не могли не схвалювати й власті, сподіваючись використати у своїх інтересах появу мистецького зібрання «Живописная Украйна». Звідси первісна підтримка запланованого Шевченком періодичного видання «Живописная Украйна», що – за задумом Шевченка – мав складатися з офортів, які б наочно й переконливо розкривали перед громадськістю красу його рідної землі.
Між тим сама передплата розгорталася поволі. В середині листопада від «щедрот своїх» виділив Харківський університет. Його правління повідомило Т. Г. Шевченка: «Правление императорского Харьковского университета, желая приобрести издаваемую вами в картинах «Живописную Украйну», покорнейше просит ваше высокоблагородие, по выходе в свет сказанных картин, доставлять таковые в правление университета в двух экземплярах, за каковые издания следующие деньги будут к вам высылаемы, за картины сего года – по получении оных, а за продолжение издания, в следующие годы – по получении годового издания»305.
29 грудня 1844 р. керуючий справами канцелярії чернігівського, полтавського та харківського генерал-губернатора писав «Господину классному художнику, состоящему при Императорской Академии художеств Шевченку»: «Канцелярия, …препровождая при сём к вашему высокоблагородию 18 р. сер., покорнейше просит Вас, м(илостивый) г(осударь), выслать ей 6 экземпляров издаваемых Вами эстампов под названием «Живописная Украйна», для вручения оных г. г. подписчикам.
При сём канцелярия генерал-губернатора прилагает также у сего и билет, присланный от начальника Харьковской губернии на получение от вас второго выпуска изъяснённых эстампов»306. Ця інстанція продовжувала подальші замовлення на одержання Шевченкового видання. Відповідно у Полтавському облархіві зберігся аналогічний документ, датований 7 вересня 1846 р.307
Ще 6 – 7 травня 1844 р. Т. Г. Шевченко писав землякові, видатному вченому – засновникові вітчизняної славістики – О. М. Бодянському про свій первісний задум: «Ще ось що, чи я вам розказував, що я хочу рисовать нашу Украйну, коли не розказував, то слухайте. Я її нарисую в трьох книгах308, в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії прикметні, в другій теперішній людський бит, а в третій історію. Три естампи уже готові – Печерська, Київська криниця, Судна в селі рада і Дари Богданові й українському народові. У тім місяці пришлю в Москву з білетами на подписку. В год буде виходити 10-ть картин. На види і на людський бит тексти буду сам писать або Куліша проситиму, а на історію потурбуйтесь, будьте ласкаві, ви писати три листочки в год»309.
Визнаний майстер офорта гаряче й відповідально готуючись до роботи, діяльно брався за неї. Її зміст, природно, уточнювався. 29 червня 1844 р. Шевченко писав Бодянському: «Я рисую тепер Україну – і для історії прошу вашої помоги, я, здається, тойді вам розказував, як я думаю це зробить. Бачите, ось як. Нарисую види, які єсть на Україні, чи то історією, чи красотою прикметні, вдруге – як теперішній народ живе, втретє – як він жив і що виробляв; із теперішнього биту посилаю вам одну картину для штампу, а ще три будуть готові в августі, а в год будуть виходить 10-ть з текстом, а текст исторический будете ви компоновать, бо треба, бачте, по-нашому або так, як єсть в літописях. А ви як що-небудь начитаєте таке, що можна нарисовать, то зараз мені і розкажіть, а я й нарисую. Будкова і Стороженка я теж оцим турбую, а Грабовський буде мені польські штуки видавать, а Куліш буде компоновать текст для народного теперішнього биту, так отакуто я замісив лемішку, якби тільки добрі люди помогли домісить, а потім і виїсти. Будьте здорові, пишіть швидче, бо лаятиму»310.
Гарячі сподівання й невтішна дійсність
6 – 7 вересня Шевченко писав М. А. Цертелєву311 про труднощі, які доводилося долати йому, тяжко зайнятому задуманою великою працею: «Якби мені бог поміг докончить те, що я тепер зачав, то тойді склав би руки та й у домовину. Було б з мене: не забула б Україна мене мізерного. Та ось що! зачав-то я зачав, а вже кончу, не знаю як, бо без людей і грошей не втну нічого. Та здається, що ще ніхто нічого не зробив без цього товариства. На те вони люди, на те вони гроші, будьте ласкаві, помагайте мені, ви маєте і силу, і славу, і любите ту країну, що я тепер заходився рисовать… Тепер уже три картини готові, а ще три вийдуть к Новому року. Посилаю вам оці три і вельми прошу наберіть субскрементів у Харкові, коли вам бог поможе, і шліть до мене за квитами і картинами. За 6-ть картин три карбованці. Спасибі, сіятельний наш губернатор узявся мені помагать. Та ще як ваша мость та інші добрі люди скинуться та поможуть то тойді оживе наша країна хоч на папері. Шлю вам оці три картини і квит на шталт, а ви, якщо там зберете, то шліть до мене в С. П. Б. в імпер. Академію художеств на ім’я Тараса Григоровича Шевченка»312.
Ще до того Тарас Григорович відвідав рідні землі, 26 листопада в листі на Кубанщину Я. Г. Кухаренку він писав: «Був я уторік на Україні – був у Межигірського спаса. І на Хортиці, скрізь був і все плакав, сплюндрували нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися.
Заходився оце, вернувшися в Пітер, гравировать и издавать в картинах остатки нашої України. На тім тижні вийде 6-ть картин, і тобі пришлю»313.
А ось що згадує про здійснення Шевченкового задуму В. В. Ковальов: «Около 47 года Тарас Григорьевич предпринял издание альбома «Живописная Украйна»314, которого была одна тетрадь в небольшом количестве экземпляров; тетрадь эта состояла из четырёх рисунков: «Дары в Чигирине», «Подача рушников», третьего не помню, и четвёртый – «Судная рада» (гравированные самим Тарасом Григорьевичем иглою на меди). На этом последнем рисунке с удивительною верностью схвачены экспрессии наших заспоривших на сходке землячков; в их числе изображён, по-видимому, старшина, который, потупив глаза в землю, тычет палочкою кизяк. Под картиною написано: «Се дило треба розжувати». Теперь это рассказывается, как анекдот, и я хочу восстановить в памяти (читателей), откуда он взят и кто творец этого сюжета. Издание это, как и вообще вся другая его деятельность, вследствие ссылки Тараса Григорьевича прекратилась.
Тут уместно вспомнить, что Тарас Григорьевич первый у нас в России начал гравировать иглою на меди по способу и манере фламандцев XVII стол., придерживаясь манеры Рембрандта»315.
Утім, праця над «Живописной Украйной», що, на превеликий жаль, завершилась виданням лише одного випуску, принесла митцю не тільки прикрощі, а й жадану творчу наснагу. В житті Шевченка відбулися значущі події. По-перше, це був його перший приїзд зі столиці на рідну Україну, про який він завжди мріяв і до якого прагнув усім серцем. По-друге, його мистецькі успіхи дарували йому цікаву й бажану працю.
Завершував Шевченко свої заняття над «Живописной Украйной» в Києві. 13 листопада 1846 р. він повідомляв канцелярію чернігівського, полтавського й харківського генерал-губернатора: «Имею честь уведомить о постоянном моём местопребывании в г. Киеве, и прошу покорнейше адресовать требования на издаваемые мною эстампы под названием «Живописная Украйна» в г. Киев, в Киевскую Археографическую Комиссию на моё имя»316.
Керівництво «Временной Комиссии для разбора древних актов» – так тоді йменувалася Археографическая Комиссия, – розуміючи високий авторитет Шевченка, невдовзі по його приїзді на батьківщину залучила його до свого складу. Це засвідчує офіційне подання:
«1845 года, декабря 10-го дня, Временная Комиссия для разбора древних актов, в присутствии своём, рассуждая о средствах к успешнейшему ходу занятий и находя необходимым сделать для этого некоторые изменения в своём составе, полагает:
10. Всепокорнейше просить г. киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора о приглашении… художника Академии Тараса Шевченка в звание сотрудника Комиссии для снимков с предметных памятников.
11. Всепокорнейше просить г. киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора разрешить Комиссии… сотруднику Санчилле-Стефановскому продолжать платить 150 рублей серебром в год жалованья и такое же жалованье назначить художнику Академии Шевченке»317.
Праця в цій науковій установі серйозно цікавила Тараса Григоровича, який віддавався їй з усією відповідальністю. Так, 21 вересня 1846 р. він отримав підписане генерал-губернатором Д. Бібіковим доручення «отправиться в разные места Киевской, Подольской и Волынской губерний и постараться собрать следующие сведения:
1. О народных преданиях, местных повестях и сказаниях и песнях и всему, что Вы узнаете, составить описание, а песни, рассказы и предания сколько можно списать в том виде, как они есть.
2. О замечательных курганах и урочищах, где и в каком месте они есть и какие за счёт собственно их существуют на месте предания и рассказы, а также и исторические сведения. С этих курганов снять эскиз на счёт их формы и величины и списать каждый по собранным сведениям.
3. Осмотреть замечательные монументальные памятники и древние здания и составить их описание, чтобы можно было распорядиться снять с них в будущем году рисунки. Если бы где Вы имели возможность достать какие-либо древности, письменные грамоты и бумаги, то такие доставать ко мне, узнав, где они находятся, и о том донести.
4. Кроме сего отправьтесь в Почаевскую Лавру и там снимите: а) общий наружный вид Лавры, б) внутренность храма и в) вид на окрестность с террасы.
Все собранные Вами сведения, описания и рисунки, по возвращении Вашем в Киев представить ко мне.
Подорожную и примерно на прогоны и кормовые 150 рубл. сереб. При расходной тетради вы получите из моей канцелярии»318.
Тоді ж за підписом того самого Д. Бібікова Т. Г. Шевченко отримав «Открытое предписание»: «Предъявителю сего, сотруднику высочайше утверждённой при мне Времен(ной) Комиссии для разбора древних актов, свободному художнику Шевченке поручено собрать в Киевской, Подольской и Волынской губерниях разные сведения о народных преданиях, рассказах о курганах, древних памятниках, а также древние акты, бумаги и т. под. Почему предписывается градским и земским полициям Киевской, Подольской и Волынской губерний оказывать г. Шевченке при исполнении сего поручения самое деятельное законное содействие»319.
Шевченко прагне працювати в Київському університеті
Енергійного й працьовитого юнака не задовольняла праця лише у не зовсім розрахованій на активне громадсько-політичне життя установі. Він волів дістатися до молоді на батьківщину, познайомити її зі своєю волелюбною творчістю й виплеканими думками про майбутнє українського народу.
27 листопада 1846 р. датоване його прохання попечителю Київського учбового округу про призначення вчителем малювання Київського університету: «Окончив курс учения в императорской Академии художеств в классе профессора истории Карла Брюллова и посвятив себя преимущественно изучению старины нашего отечества, – писав Тарас Григорович, – я бы желал употребить приобретённые мною в искусстве сведения на образование в оном молодых людей по тем самым началам, какие я усвоил себе под руководством знаменитого моего учителя, а потому осмеливаюсь покорнейше просить в(аше) п(ревосходительст)во определить меня на открывшуюся вакансию учителем рисования в университете Св. Владимира, где я, кроме преподавания живописи, обязываюсь исполнять безвозмездно все поручения начальства по части литографирования в состоящем при университете литографическом заведении»320.
Подібного змісту заява 10 грудня була надіслана й київському генерал-губернатору: «Окончив воспитание в С. – Петербургской Академии художеств, в которой я был одним из первых учеников профессора Карла Брюллова, я по прибытию в Киев принял на себя сотрудничество в Киевской Археографической Комиссии, поручения которой я исполняю в течение года.
Ныне, по случаю открытия вакансии учителя живописи в Киевском университете, я вступил с прошением к г. попечителю Киев(ского) учеб(ного) округа об определении меня на эту должность; но как с тем вместе я желаю остаться сотрудником Археографической Комиссии, то дабы со стороны ея не могло встретиться препятствия, и по состоянию Комиссии под высоким начальством вашего в(ысоко)п(ревосходительст)ва, имею честь всепокорнейше испрашивать вашего благосклонного разрешения и содействия к определению меня на вакансию учителя рисования в университете Св. Владимира»321. Нестримна активність Шевченкова суперечила розміреному існуванню малоцікавих до суспільного життя архівістів. Вочевидь, вона могла певною мірою турбувати й владу. Так чи інакше, але в перший день весни 1847 р. діяльний працівник Комісії Шевченко був звільнений: «1847 г., марта 1 дня, Временная Комиссия для разбора древних актов, имея в виду, что сотрудник Комиссии Шевченко без всякого согласия Комиссии отлучился из Киева и по Комиссии не занимается, определила: исключить его из состава Комиссии, с прекращением производившегося ему жалованья по 12 рубл. 50 коп. серебр. в месяц»322.
Водночас незаперечна висока кваліфікація одного з найталановитіших випускників мистецької Академії вплинула на рішення щодо надання Шевченкові бажаної ним університетської посади. Про це свідчить подання генерал-губернатора міністрові народної освіти С. Уварову, надіслане 21 грудня 1846 р.: «Имею честь препроводить на благоусмотрение вашего сиятельства поданную ко мне просьбу художника С. – Петербургской Академии художеств, воспитанника профессора Брюллова Тараса Шевченка об определении его на вакансию учителя рисования в университете Св. Владимира…»323 Це було підтверджене поданням департаменту народної освіти, надісланим попечителю Київського учбового округу 9 січня 1847 р.: «Департамент народного просвещения по приказанию министра имеет честь препроводить… доставленное…
киевским военным, подольским и волынским генерал-губернатором прошение художника Тараса Шевченко об определении его учителеми рисования при университете Св. Владимира»324.
Отримавши листа попечителя Київського учбового округу325, 21 лютого міністр народної освіти затятий реакціонер Уваров відповідав: «Рассмотрев представления… от 10 истекшего генваря о кандидатах на должность учителя рисования при университете Св. Владимира, я представляю Вам сделать распоряжение об определении исправляющим эту должность неклассного художника Шевченко в виде опыта на один год, для удостоверения в его способностях, если по истребованию документов из Академии художеств и по сношению с киевским военным, подольским и волынским генерал-губернатором, по состоянию Шевченко при Киевской Археографической Комиссии не встретится к тому препятствия. По истечении означенного срока от вашего усмотрения будет зависеть окончательное утверждение Шевченко в учительской должности, или замена его другим, способнейшим»326.
1 березня Шевченко був звільнений зі складу Тимчасової комісії для розбору давніх актів у Києві327. А 15 березня міністр нарешті повідомив про остаточне відхилення кандидатури іншого претендента та про те, що «в должность учителя назначен художник Шевченко»328.
Та невдовзі ситуація кардинально змінилася. Шевченко назавжди був позбавлений надій працювати в Київському університеті. Це засвідчив лист попечителя Київської учбової округи про розкриття Кирило-Мефодіївського товариства.
ПОЧАТОК ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА-РЕВОЛЮЦІОНЕРА
Історичне значення «Кобзаря»
Почнемо розповідь про поетичну творчість Т. Г. Шевченка загальною характеристикою його поезій, що наведена у згаданому вище «Нарисі української літературі», який побачив світ у пам’ятному й щасливому 1945 році: «1840 року в Петербурзі вийшла з друку невеличка книжечка під назвою «Кобзар», що відкрила нову сторінку не тільки в українській літературі, а поклала початок справді глибоко народній, революційно-демократичній літературі всіх слов’янських народів. Автором її був геніальний український поет Тарас Шевченко».
Шевченко – епохальне явище не лише художньої літератури. Своєю революційною діяльністю він виходить далеко за межі літератури, мистецтва, культури. Шевченко – видатний, геніальний поет, прозаїк, драматург, майстер пензля, але, крім того, Шевченко – політична постать в нашій історії, перший революціонер-демократ на Україні і в Росії. У революційних прагненнях він іде далі своїх сучасників-демократів – Бєлінського і Герцена, і тільки пізніше знаходить собі спільників і однодумців в особі Добролюбова і Чернишевського.
Він вийшов з самих глибин народу, найбільш пригнобленої, пригніченої його частини. Не з літератури, не з книжок, не із сторонніх спостережень над життям народної маси пізнав він, що таке кріпацтво.
Мені аж страшно, як згадаю Оту хатину край села!У вірші «Якби ви знали, паничі», звідки взяті ці рядки, життя покріпаченого селянства названо «пеклом»:
Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились, Найперші сльози. Я не знаю, Чи єсть у бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило?..Досить лише цієї одної автобіографічної поезії, щоб усією душею, усім серцем відчути весь біль поета, який через багато років зі страхом згадував своє дитинство, своє юнацтво…
Разом з паном Енгельгардтом молодий Шевченко виїжджає на довгий час з України.
1831 року Шевченко прибуває у Петербург, де проминули кращі роки його життя. Тут він здобув волю, тут здобув знання, викував свідомість, познайомився з кращими людьми свого часу, написав чимало визначних творів.
Лише кілька років тому придушено декабристський рух. Провідців революційного руху страчено, заслано, але їхні друзі і знайомі лишилися. Декабристів пам’ятають, їх не забули.
Саме місто, із численними пам’ятниками історії, мистецтва, архітектури розширює кругозір юнака…
Сталася неймовірна зміна: кріпак-попихач, власність свого пана, стає вільною людиною, починає вчитися у вищій художній школі Росії – Академії мистецтв, під керівництвом великого Брюллова.
Шевченко весь віддається науці, наполегливо працює над собою й у вільні хвилини пише українські вірші. Ще навчаючись у сільського дяка, він списував у саморобну, мережану власними візерунками книжечку, твори Сковороди, українські колядки. Можливо, «кропав»329 він туди і свої власні вірші, які до нас не дійшли.
Листування Шевченка з Квіткою-Основ’яненком
Перші Шевченкові поезії: баладу «Причинна», «На вічну пам’ять Котляревському» та ін. бере собі Гребінка для надрукування в альманасі «Ластівка». (Але альманах трохи затримався в друку, і сталось так, що деякі твори, зібрані поетом у книжечку під назвою «Кобзар», з’явилися раніше за «Ластівку», яка побачила світ 1841 р.)
Тарас Шевченко зустрічався з Євгеном Павловичем Гребінкою на літературних вечорах, які влаштовував цей відомий письменник. Мабуть, тому їм непотрібно було листуватись. Зате збереглися листи поета-початківця з популярним тоді українським письменником та громадським діячем Григорієм Федоровичем Квіткою-Основ’яненком. Перший з тих, що збереглися, датований «23 октября 1840 р.» – належить Основ’яненку.
«Десь я думаю, – писав він Шевченкові, – ні з одним чоловіком і ні з одним письмом не було мені того, що мені було з Вами, мій коханий пане, Тарас Григорьевич. Щось дуже просто почалося і до чого воно дійдеться – побачимо. А почалося із почину, що Вас я кріпко улюбив, знайшовши таке м’якесеньке серденько і душу чисту, мов хрусталь. Улюбив, кажу Вам, та не знаю кого, і хто він, і де він, і як його назвати. Хтось такий – я люблю кріпко, хоч би і у вічі побачив, то не пізнав би, бо зроду не бачив, і не знаю, хто такий є. Ось слухайте, батечку, як нас з самого першу зводило докупи.
Вже перше видання «Кобзаря» вражає відомих письменників
Сидимо ми удвох з моєю жіночкою та де об чім базікуємо, аж ось і примчали нам книжок, знаєте тих, котрими нас дуремків обдурюють, – грошики попереду злуплять, та й пишуть і дрюкують московську нісенітницю, як разляпушка вбивалася об своїм бахурові або як який живчик одурив джинджигилясту панянку, що боялася і на людей дивитись, а тут… треба колиску дбати… От таке усе пишуть – звісно москаль: він по своїй вірі так і пише. Отаких-то книжок нам нанесли, а тут і письмечко… не вгадаю від кого. Я взяв гарненько і розпечатав… Господи милостивий! Се ж по нашому!.. Читаю… ну! ну! Сміємося ми з жінкою, як у вас там поводилося з панею, що усе каже: pardon… А далі як почали вірші читати… так ну!.. Бодай Ви мене не злюбили, коли брешу: волосся в мене на голові, що вже його і не багацько, та і те навстопужилося, а біля серця так щось і щемить, ув очах… зеленіє. Дивлюсь… жіночка моя хусточкою очиці втира… «Отсе так, – кажу, – хтось мудро написав і живо усю правду списав… хто ж такий?.. Перебендя… Вгадуй же його, що і хто воно є… не знаємо. Послали до мого брата, що край нас живеть, і що то за чоловік: бував не тільки у Москві, у Києві бував, та у самому Петербурсі і зайців добре стріля, та й лисиця не попадайся, – так і вшкварить; так і той, прочитавши, поплямкав та й сказав: «Хто такий писав – не звісно, а дуже розумно написано». Нуте. Що ж нам робити? Як до «Перебенді» звістку подати, що його думка впала нам на душу і так полоскотала її, мов чорнява дівчина з чорнявими очицями біленькими пальчиками пошурудила за шиєю. Як обізватись? Куди? До кого? – Отак сумуємо, а думкою Вашою потішаємося… Аж ось у одній книжці читаємо звістку, що каже, є написаний «Кобзар» от з такими думами і з піснями, та й списав одну… а ми з жінкою так і вдарились об поли і кажемо: «Се Перебендя, непримінно Перебендя!»330 Ну тепер, коли знаємо, що списав сії думки пан Шевченко. Та хто він? Та де він? Як до нього відізватись? Невжеж зробити, як Євгеній Павлович зробив, що написав Грицьку Основ’яненку та так і пустив. Так добре ж, що поштарі наші уторопали, де мене знайти: а у Вас, кажуть, город трохи чи не більш і самих Кобеляків, і вулиць більше: де ж там знайти без імення? Отак і розсуждаємо і думаємо написати до пана Шевченка та й послати у журнал який-небудь. Так що ж бо?
Треба написати по-нашому, а москаль, що журнал компонує, закопилить губу та й не схоче дрюкувати. Не приходиться. А, головонька бідна! Так собі сумуємо і таки піджидаємо, чи не озоветься сам пан Шевченко до нас… і усе ждемо, не знаючи, що робити… Аж гульк! Тільки що позавчора несуть з пошти письмо і книжечку. А письмо пише Пётр Иванович Мартос та й пише слово в слово так: «Посылаю «Кобзаря», сочинение такого-то. Оно было поручено одним из товарищей, ехавшему в Малороссию, для доставления Вам (мне бы то), но как он ехал не через Харьков, то книга поступила ко мне (к г. Мартосу); при книге было и письмо к вам (ко мне) от автора, но оно затеряно его товарищем».
Отака-то кумедія лучилася з Вашими письмами.
А книжку як розгорнув, дивлюсь – «Кобзар», та вже дуже вичитаний. Дарма! Я його притулив до серця, бо дуже шаную Вас, і Ваші думки кріпко лягають на душу. А що «Катерина», то так, що «Катерина»! Гарно, батечку, гарно! Більш не вмію сказати! Отак-то москалики-воєнні обдурюють наших дівчаток! Списав і я «Сердешну Оксану», от точнісінько, як і Ваша «Катерина! Будете читати, як пан Гребінка видрюкує. Як то ми думали одне про бідних дівчаток та при бузовірових москалів…
Ні. Вже так, що Ваші думки! Прочитаєш і по складам, і по верхам, та вп’ять спершу, а серце так і йока! Що б то, паночку-голубчику, як Ви так гарно складаєте вірші, що б то, як би ви мою «Панну Сотниківну» (в 3 кн. «Современника» сього 1840, года) та розказали по-своєму, своїми віршами: тогді б вона була дуже гарно розказана, і яка була добра, і як постраждала. Та ще б змалювали її патрет, бо чую, що ви лучче малюєте, чим Борисівський іконописець, що салдата колись списав.
Не здивуйте на моє письмо і вибачайте, що тут є. Єй, істинно! Від серця я дякую і прошу: утніть іще що! Потіште душу, мов топленого маслечка злийте на неї, а то від московських побрехеньок щось дуже вже до печінок доходить. Вірте, що шаную Вас дуже і повік Вам щирий на услугу.
Григорій Квітка або Основ’яненкоP. S. Коли ласка Ваша буде що написати до мене, то спишіть і те письмечко, що пропало, коли усе згадаєте. Та ще що припишіть»331.
Другий лист Квітки-Основ’яненка
Другий адресований Шевченкові лист написано весною наступного, 1841 р. (22 березня). Він починається частим для стилю листування Квітки грайливим перебільшенням: «Ой мій милий, мій любезний паночку, Тарас Григорьевич. Я ж кажу, як в тебе та були довгі руки, щоб досягти сюди, то узяв би довгу палюгу та попобив би мене, скільки душі завгодно, або за патли вискуб би гаразд, що я против тебе, за твою ласку, щирую душу, був такий незвичайний, не писав до тебе місяців з двадцятеро. Тривай лишень, голубчику, не сердись, а розпитай перше, а я перед тобою, мій друже, висповідуюсь, як є перед панотцем, що от люди ходють та возють його. Слухайте ж, пожалуйте, що тут було. Прочитав ваше перше письмо та й голову повісив. Думаю собі: гай, гай! Отже справді позабував козак наших усіх! Хотів парубка змалювать, а тут дід, або ще півдіда, вже згорбився, на старість закандюбився. Та й дівчина наряжена щось не по-нашому. Треба йому помочі подати, послати християнської одежі, щоб надивився на неї та щоб не обмоскалилися овсі…»
У такому полегшено-жартівливому тоні витримано більшу частину листа, аж поки Квітка-Основ’яненко перейшов, як то кажуть, – «до діла». Саме з неї видно, що Шевченко вже тоді був знаним і бажаним авторитетом у видавничій справі демократичного напрямку. Наводимо ці рядки листа: «Гайдамаки» добра штука буде. Читав я декому з наших. Поцмакують. А що вже Гулак-Артемовський, коли знаєте, той дуже Вас улюбив за «Кобзаря». Дрюкуйте швидше, лишень… А що наш Евгений Павлович з своїм альманахом? Чи воно ж буде що? І швидко? Нічого до мене вже не пише. Коли ще не опізнююся, то от посилаю йому дві гарненькі штучки у його альманах, нехай притулить як зна. Вони вже були раз у Петербурсі, та пан Лобасов, що їх сконпоновав, не так написав до пана Гребінки, не у тую хату надписав, так йому і вернули, а він до мене вже прислав та й просив відіслати.
Будьте ласкаві, віддайте йому, попросіть, щоб притулив де у альманасі. Коли ж вже пізно, що альманах відрюкований, то нехай ткне або в «Літературну газету», або у «Маяк». Там наше приймається. Та якого гаспида він надувся та ні словечка до мене не напише? І чому він так завередував?
Нуте, тепер ось яке діло. Александр Павлович Башуцкий332 друкує дуже мудру книжку. Там будуть усякії народу; і школярі, і купці, і ковалі, і усякі. Я списав нашого «Знахаря»333.
І як треба до нього картинки, то я ваших вирізав та й послав йому, бо на виду він настояще так дивиться, як треба знахарю, що обдурює народ і мошеннича; та й вона дивиться на нього теж лукаво. Припадають вони обидва до моєї казки, тільки не знаю, щоб хто його обділав як треба їх по-нашому, так я і вказав на Вас і прохав його сеє письмо відіслати до Вас. Коли проситиме Вас об сім, то, будьте ласкаві, учешіть наших так, щоб пальці знати було, щоб наші на славу пішли. Як знаєте, так з ним і скомпонуйте, бо й він также штукар на усяке діло. Прощайте ж. Бувайте здорові з празником, з Великоднем, нехай Вас самі найлучші дівчата тричі по тричі поцілують. Ждіть од мене скоро звістки.
Щиро вас кохаючий Гриць Квітка334».Ось витяг з «Нарису історії української літератури» про місце й значення Шевченкового «Кобзаря» в розвитку літературного процесу на Україні: «В першому «Кобзарі» було тільки вісім поезій: «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч».
Поруч з титульною сторінкою був уміщений малюнок художника Штернберга – сліпий кобзар з хлопчиком-поводирем…
Уся прогресивна критика в основних російських журналах позитивно оцінила Шевченків «Кобзар».
1841 року окремим виданням вийшла поема «Гайдамаки». Окремо вийшла поема «Гамалія» (1843). Твори Шевченка друкуються в альманахах «Ластівка», «Молодик».
Живучи в російській столиці, обертаючись у колі російської інтелігенції, український поет починає писати російською мовою. 1842 року він написав поему «Слепая». Російські твори друкуються на сторінках петербурзького журналу «Маяк».
Навчаючись в Академії мистецтв, Шевченко швидко зростає як письменник і культурна людина. Він слухає лекції найвидатніших професорів, відвідує деякі лекції в університеті. Шевченко – улюблений учень Брюллова, знайомиться з багатьма найвидатнішими представниками петербурзької інтелігенції. Він довідується про революційний рух у Західній Європі і мріє вирватись із задушливої атмосфери кріпосницької Росії. Із листів поета до харків’янина Корольова335 ми довідуємось про Шевченкову подорож пароплавом закордон (жодних документів про одержання поетом закордонного паспорта немає). У дорозі він захворів і змушений був повернутися назад у Ревель (Таллінн).
Перший період творчості Шевченка
До приїзду Шевченка в Україну 1843 року творчість його становить окремий період. Майже всі твори поета цього періоду були відразу ж надруковані.
Уже на цьому першому етапі Шевченко виступає як геніальний поет-демократ, що виводить українську поезію з провінційних закутків на широкі простори світової літератури.
Шевченко виростає на ґрунті попередньої української культури і літератури. Символічно звучить його поезія «На вічну пам’ять Котляревському» (1838). Рік смерті фундатора нової української літератури був роком народження родоночальника революційнодемократичної літератури.
Автор «Кобзаря» виростає в оточенні українських поетів-романтиків. Відчувається часто спільність тем, жанрів, образів. Разом з тим твори Шевченка відмінні від усієї попередньої літератури глибокою і справжньою народністю, величезним розмахом поетичної думки, справді народною мовою, мелодійним віршем, задушевністю і разом з тим вогнем, пристрастю, яких не знала наша поезія раніше.
Великий поет виріс на ґрунті не лише української культури. Живучи в Петербурзі, Шевченко знайомиться з сучасною йому російською поезією. Пушкін і Лермонтов стають його улюбленими поетами. Наша література до Шевченка не могла освоїти Пушкіна. Навіть перекладаючи один з кращих творів геніального російського поета – «Полтаву», Є. Гребінка не міг передати його краси і збивався на бурлескно-травестійні манівці. Кращі, адекватніші були переклади Боровиковського, але й його скромна власна творчість не могла відбити пушкінської величі.
Шевченко не перекладав Пушкіна, але він знав його твори мало не напам’ять. Пушкінський вогонь, пушкінська пристрасть, пушкінське сяйво горить у Шевченковій поезії. Велич українського поета в тому й полягає, що він, повною мірою сприймаючи спадщину Пушкіна, Лермонтова, всієї попередньої літератури, залишався оригінальним, самобутнім поетом. Він прийшов у світ сказати людству своє нове слово»336.
Україна дарує світові геніального поета
Історія й обставини першого видання «Кобзаря»
Поява молодого генія рішуче змінює культурну атмосферу в країні. Це починають розуміти в різних суспільно-громадських колах. Серед панівних верств знаходяться поміщики, що прагнуть перебрати на себе частку Шевченкової слави, видаючи себе за першовідкривачів геніального поета.
Про власне захоплення новим яскравим і незаперечним талантом Тараса Шевченка писав після смерті поета причетний до першого видання «Кобзаря» полтавський поміщик Петро Іванович Мартос: «Шевченко я знал коротко, я познакомился с ним в конце 1839 года в Петербурге, у милого, доброго земляка Е. П. Гребёнки, который рекомендовал мне его как талантливого ученика К. П. Брюллова… Я просил Шевченко сделать мой портрет акварелью, и для этого мне надобно было ездить к нему. Квартира его была на Васильевском острове, невдали от Академии художеств, где-то под небесами, и состояла из передней, совершенно пустой, и другой небольшой, с полукруглым вверху окном, комнаты, где едва могла помещаться кровать, что-то вроде стола, на котором разбросаны были в «живописном» беспорядке принадлежности артистических занятий хозяина, разные полуизорванные исписанные бумаги и эскизы, мольберт и один полуразломанный стул; комната вообще не отличалась опрятностью: пыль толстыми слоями лежала везде; на полу тоже лежали полуизорванные, исписанные бумаги; по стенам стояли обтянутые на рамах холсты, на некоторых были начаты портреты и разные рисунки. Однажды, окончив сеанс, я поднял с пола кусок исписанной карандашом бумажки и едва мог разобрать четыре стиха:
Червоною гадюкою несе Альта вісті, Щоб летіли круки з поля ляшків-панків їсти.– Що се таке, Тарас Григорьевич? – спросил я хозяина.
– Та се, добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець, – отвечал он.
– Так що ж? Се ваше сочинение?
– Еге ж!
– А багато у вас такого?
– Та є чималенько.
– А де ж воно?
– Та оттам, під ліжком у коробці.
– А покажіть!
Шевченко вытащил из-под кровати лубочный ящик, наполненный бумагами в кусках, и подал мне. Я сел на кровать и начал разбирать их, но никак не мог добиться толку.
– Дайте мені оці бумаги додому, – сказал я, – я их прочитаю.
– Цур йому, добродію! Воно не варто праці.
– Ні, – варто – тут є щось дуже добре.
– Що? Чи ви не смієтесь із мене?
– Та кажу ж, ні.
– Сількось (sic!) – візьміть, коли хочете; тільки, будьте ласкаві, нікому не показуйте й не говоріть.
– Та добре ж, добре!
Взявши бумаги, я тотчас же отправился к Гребёнке, и мы с большим трудом кое-как привели их в порядок и, что могли, прочитали.
При следующем сеансе я ничего не говорил Шевченке об его стихах, ожидая, не спросит ли он сам о них, – но он упорно молчал; наконец я сказал:
– Знаете що, Тарас Григорьевич? Я прочитав ваші стихи – дуже, дуже добре! Хочете – напечатаю?
– Ой ні, добродію! Не хочу, не хочу, не хочу, далебі, що не хочу! Щоб іще попобили! Цур йому!
Много труда стоило мне уговорить Шевченко; наконец он согласился и в 1840 году напечатал «Кобзаря».
Цензура дає дозвіл на вихід у світ першого збірника поезій Шевченка
При этом не могу не рассказать обстоятельства с моим цензором.
Это был почтенный, многоуважаемый Пётр Александрович Корсаков.
Последняя пьеса в «Кобзаре» (моего издания) – «Тарасова ніч». С нею было наиболее хлопот, чтобы привести её в порядок. Печатание приближалось уже к концу, а она едва только поспела. Поскорее переписавши её, я сам отправился к Корсакову, прося его подписать её.
– Хорошо! – сказал он, – оставьте рукопись, – и дня через два пришлите за нею.
– Нельзя, Пётр Александрович, в типографии ожидают оригинала.
– Да мне теперь, право, некогда читать.
– Ничего – подпишите, не читавши; всё равно вы не знаете малороссийского языка.
– Как не знаю? – сказал он обиженным тоном.
– Да почему же вы знаете малороссийский язык?
– Как же! Я в 1824 году проезжал мимо Курской губернии.
– Конечно, этого достаточно, чтобы знать язык, и я прошу у вас извинения, что усомнился в вашем знании! Но, ей-богу, мне некогда ждать; пожалуйста, подпишите скорее, – повторяю, в типографии ожидают оригинала.
– А что тут решительно «такого»?
– Решительно нет.
Добрейший П. А. (Корсаков) подписал; «Кобзарь» вышел.
В то время был в Петербурге Григорий Степанович Тарновский, с которым я познакомил Шевченко, а вскоре приехал Николай Андреевич Маркевич, поссорившись с московскою цензурою за свою «Историю Малороссии» и надеясь найти петербургскую более снисходительною. Я свёл его с добрейшим Петром Александровичем и в то же время познакомил с ним и Шевченко»337.
Науковці уточнюють дані про публікацію першої збірки поезій Шевченка
До стоп’ятдесятиріччя з дня народження поета видано ґрунтовну наукову «Біографію» Т. Г. Шевченка. Там цю епохальну подію в житті геніального митця зображено інакше, об’єктивніше. «В кінці 1839 р. Є. Гребінка познайомив Шевченка із своїм земляком – поміщиком П. Мартосом, з ім’ям якого зв’язане перше видання «Кобзаря». Пізніше П. Мартос писав, що Є. Гребінка рекомендував йому Шевченка тільки як талановитого учня К. Брюллова, тобто як художника. І лише незабаром, мовляв, коли йому довелося часто бувати на квартирі Шевченка, який згодився малювати його портрет, він виявив поетичний хист Тараса Григоровича і енергійно взявся за видання його творів. Безпідставно приписуючи собі честь відкриття Шевченка-поета, П. Мартос не знав 1863 р., що історія зберегла вірогідні дані про те, коли сучасникам стали відомі перші поетичні твори Шевченка та як високо вони були оцінені. Є. Гребінка ще 1838 р. з захопленням відгукувався про твори молодого поета, частину з них він тоді ж відібрав для опублікування в підготовленому ним збірнику. Ініціатива видати твори Шевченка окремою книгою належить саме Є. Гребінці, який залучив до цієї справи П. Мартоса, що був близько знайомий з цензором Корсаковим і до того ж міг дати гроші на видання.
Як тепер встановлено, рукопис «Кобзаря», що мав повну назву «Кобзарь, малороссийские песни и стихотворения», подав до Петербурзького цензурного комітету 7 березня 1840 р. Є. Гребінка. Проте в приватному порядку П. Мартос чи Є. Гребінка, очевидно, раніше домовились про дозвіл на видання «Кобзаря» з цензором П. Корсаковим. Як відомо, в друкованому «Кобзарі» дата цензурного дозволу – 12 лютого 1840 р. Коли ж рукопис офіційно подано до цензурного комітету, П. Корсаков здійснив повторне цензурування. Того ж таки 7 березня 1840 р. рукопис повернуто з цензурного комітету приятелеві Шевченка І. Левченкові, про що останній розписався в реєстрі.
«Кобзар» відкриває нову епоху українського письменства
Квиток на випуск книги підписано Корсаковим 18 квітня 1840 р., отже другу половину квітня і слід вважати часом виходу в світ «Кобзаря». Його видано в міцній картонній обкладинці, на початку книги на окремому аркуші – фронтиспис-гравюра В. Штернберга: старий кобзар грає на кобзі, а біля нього стоїть хлопчик-поводир.
Про те, що у виданні «Кобзаря» брали безпосередню участь друзі й шанувальники поезії Шевченка, свідчить і безцензурний примірник, в якому повністю відновлені цензурні вилучення в поемі «Тарасова ніч» та частково в поезії «До Основ’яненка».
Перше оголошення про те, що «Кобзар» надійшов до продажу, зустрічаємо в петербурзькій «політичній і літературній» (як вона себе іменувала) газеті «Северная пчела» за 4 травня 1840 р. у розділі «Библиографические и разные известия»: «В книжных магазинах В. П. Полякова на Невском проспекте, на углу Михайловской улицы, в доме графини Строгановой, и в Гостином дворе, на Суконной улице в доме № 17, поступили в продажу …«Кобзар» Т. Шевченка. СПБ., 1840 г. Цена 1 рубль сер.». Тут же повідомлялося і про вихід у світ «Героя нашего времени» Лермонтова, байок Крилова тощо.
У «Кобзарі» надруковано вісім поезій: «Думи мої, думи мої», «Перебендя» з присвятою Гребінці, «Катерина» з присвятою В. Жуковському, «Тополя» з присвятою сестрі П. Петровського338 – П. Петровській, «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До Основ’яненка», «Іван Підкова» з присвятою Штернбергу, «Тарасова ніч» з присвятою П. Мартосу.
Суперечки про роль П. І. Мартоса у виданні «Кобзаря»
І. М. Дзюба у своїй монографії справедливо вважає: «П. Мартос дарма приписував собі роль першовідкривача Шевченкового поетичного таланту. Але видання «Кобзаря» (його фінансування) – справді його велика заслуга перед українською літературою…» І далі: «у радянські часи були спроби применшувати цю заслугу з огляду на те, що, мовляв, Мартос – «поміщик-реакціонер» і несхвально відгукувався про пізнішу революційну поезію Шевченка»339. Уточнимо: дещо зневажливе ставлення до П. І. Мартоса спостерігалось ще наприкінці ХІХ ст. «Такий собі Мартос», – характеризував цю особу Чалий340.
У «Київській старовині» надруковано присвячене Петру Івановичу Мартосу ґрунтовне дослідження Оксани Супронюк341.
«Петро Іванович Мартос, – зазначає автор, – фінансував перше видання «Кобзаря», чим передовсім і відомий історикам українського письменства й широкому загалові. 1863 року він надрукував спогади про Шевченка, перейняті недоброзичливим ставленням до демократичного спрямування творчості і всієї діяльності поета. Достовірність спогадів було поставлено під сумнів342, відтак у літературній науці склалося упереджене ставлення до особи П. Мартоса. Публікації, з яких він постає одіозною особою, участь якої у виданні «Кобзаря» була випадковою і обмежується фінансуванням, з’являються дотепер343. Однак, останнім часом друкуються й статті, автори яких, об’єктивно оцінюючи постать Мартоса, пишуть про нього інакше. Так П. Федченко344 відзначає: «Українській культурі з її здебільшого не вельми заможними діячами дуже не вистачало щедрих і безкорисливих меценатів. То чого ж ми так скупо й поблажливо, щоб не сказати – класово зневажливо, згадуємо їх, а серед них і того, чиїми заходами і коштом – за всієї благородної і значимої участі Євгена Гребінки! – все-таки видано було «Кобзар» 1840 року – Петра Івановича Мартоса?
Відставний штаб-ротмістр, якого й самого в молоді роки шмагали різками за вільнодумство, може, тому й виявив увагу до вчорашнього кріпака, – спасибі йому, першим запримітив аркушик – «Червоною гадюкою несе Альта вісті… » – не переступив через нього – а в історії бувало переступали й не через такі аркушики і авторів їх! – підняв той листочок і разом з Гребінкою дав ладу й усім іншим аркушикам і спорядив рукопис… То чого ж нам ще треба від Петра Івановича Мартоса, навіть подальшого життя і року смерті ми не спромоглися дослідити? Мабуть, годиться всенародно уклонитися (йому)»345.
Революційні зрушення в українському письменстві – викликані розгортанням національно-визвольної боротьби українського народу
Поява «Кобзаря» – явище епохальне в українській поезії. «Це була подія величезного значення не тільки в історії української літератури, а й в історії української самосвідомості, а й в історії самосвідомості українського народу, – відзначають знані шевченкознавці Ю. О. Івакін та В. Л. Смілянська346. – Хоча «Кобзар» містив лише вісім творів («Думи мої, думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» – «Нащо мені чорні брови», «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч»), усе ж він засвідчив, що в українське письменство прийшов поет великого обдарування».
Автори цілком справедливо наголошують на цій головній характеристиці, яка кінець кінцем є головною у розкритті вагомості поетичної постаті Тараса Григоровича Шевченка: «Яскравою виявляється неповторна художня індивідуальність поета з тільки йому властивими образним мисленням, стилем, колом улюблених тем, мотивів і образів. Їхній синтез маємо в суто шевченківському різновиді елегії – «Думи мої, думи мої…», написаної як програмовий вірш і ліричний вступ до першого «Кобзаря», де вперше в новій українській поезії взагалі яскравіше постає романтичний образ ліричного героя-поета з автобіографічними моментами власної долі (сирітство, самотність, чужина) і виразно окресленими поетичними темами, що хвилювали Шевченка: ліричною темою кохання й героїчною темою козацької слави, – тобто власною творчою програмою. Ліричний сюжет елегії – пошуки призначення й адресата свого поетичного слова й самоутвердження себе як поета національного.
Такої непідробної природності, широкого ліризму й художньої майстерності українська поезія ще не знала. Пізніше Іван Франко писав: «Поява Шевченкового «Кобзаря» 1840 р. в Петербурзі мусить уважатися епохальною датою в розвою українського письменства, другою після «Енеїди» Котляревського. Ся маленька книжечка відразу відкрила немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої, холодної води, засіяла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову…»347
Попередником відкритої Шевченком нової епохи в українській поезії був романтизм. Реалізм, масштабність, глибоке почуття народності й громадянського обов’язку з’явились, змінивши юнацькі романтичні ілюзії.
Ще одна принципова відмінність: «З українською романтичною поезією зв’язує Шевченка й історична тематика. Але й тут, поруч із спільними рисами, ми бачимо ще більшу відмінність. Теми Шевченкових творів конкретно-історичні, сповнені нового ідейного революційно-демократичного змісту»348.
В останньому (2009 р. видання) курсі історії української літератури тема романтизму в творчості Шевченка розглядається ширше. «Шевченко, – стверджують Ю. О. Івакін та В. Л. Смілянська, – заступив на літературне поле в епоху розквіту слов’янського романтизму, коли в Україні формувався різновид цього напряму, властивий для (тодішніх. – Авт.) недержавних націй (української, білоруської, сербської, словенської та ін.), тісно пов’язаних з національно-визвольними прагненнями нації, її відродженням. Літературний процес ішов бурхливо, прискорено, що спричинялося до співіснування й синкретизму поетичних систем, які в літературах державних народів з «класичним» типом розвитку змінювали одна одну поступово й протягом тривалого часу. Усвідомлення історичної тяглості етнічного процесу й існування власного культурно-психологічного обличчя нації, неповторного національного характеру й мови, потреба національного самовизначення зумовили швидкий розвиток української історіографії, фольклористики, мовознавства, свідому працю над розробкою та збагаченням національної літературної мови.
Широкі міжслов’янські культурні контакти стимулювали активний розвиток цих галузей. Іде пожвавлений обмін культурними цінностями – письменники вивчають історію, етнографію, розробляють «екзотичну» тематику інших народів (такі, наприклад, українська й литовська школи в польській літературі), перекладають та переспівують твори інослов’янських та західноєвропейських літератур. Для українського романтизму найдійовішими були зв’язки з російською, польською та чеською літературами; значною мірою через їх посередництво відбувалося знайомство з літературами західно-європейськими.
Розвиток та особливості українського романтизму в творчості Шевченка
На час виходу першого «Кобзаря» Шевченка український романтизм мав за собою майже два десятиліття, перейшовши етап збирання й публікування фольклору, розгорнувши перекладання поезій авторів-романтиків: польських (А. Міцкевича, Р. Суходольського, С. Гощинського, С. Вітвицького, А. Е. Одинця), російських (О. С. Пушкіна, В. Жуковського, І. Козлова), чеських та словацьких (В. Ганду та Й. Лінду, Ф. Л. Челаковського, Я. Коллара та ін.), німецьких (Уланда, Ф. Матіссона, А. Ю. Кернера, А. Г. Еленшлегера), окремих ліричних поезій В. Шекспіра, Дж. Г. Байрона та ін. Оригінальний доробок українських поетів-романтиків був уже настільки помітним, що надавався до виокремлення в ньому чотирьох тематично-стильових течій – фольклорно-міфологічної, психологічно-особистісної, фольклорно-історичної й громадянської (класификація і стисла характеристика кожної з них запропонована Михайлом Яценком).
Активне прагнення Шевченка зобразити реалії народного життя на противагу асоціальності романтичної поезії
Підґрунтям українського романтизму був фольклоризм – в іпостасі народної міфології та демонології, зрощених із християнською етикою (у фантастичних баладах і віршових новелах) та народної етики й моралі (у побутових баладах). Хоча народнофантастична основа в українській романтичній поезії 1820 – 1840 років у багатьох випадках тісно перепліталася із зображенням реального народного побуту, – зауважив М. Т. Яценко, – художнє відтворення міфологічного мислення не сприяло соціальноісторичному баченню дійсності, творенню самобутніх характерів. Великою мірою ці епічно-пісенні твори в характерології позначені рисами фольклорної імперсональності та стилізації народних пісень. Виразні риси історичного часу й соціальні реалії конкретної суспільної обстановки з’являються, по суті, тільки в романтичних творах Шевченка»349.
Несхожість романтичних образів з літературними героями Шевченка
Подібне слід сказати й стосовно так званої психологічно-особистісної течії, до якої належать пісенні стилізації фольклорної родинно-побутової лірики, напівлітературні, напівфольклорні романси, а також баладна лірика з мотивом нещасливого кохання, де імперсональні персонажі змальовані у стереотипних ситуаціях. Ці твори не так виражають, як змальовують, розповідають про традиційно типові душевні стани героїв (тугу, розпач, захват, замилування тощо), але суто особистісне «я» ліричного героя ніде не виявляється й не заявляє про себе неповторноіндивідуальним характером переживання, – таке «я» з’явиться лише в поезії Шевченка. Замилування романтиків жанрами ліро-епічної балади й баладної лірики свідчить про тяжіння до сюжетності, до розповіді про певний конкретний випадок, епізод; це тяжіння простежується і в жанрі віршового оповідання, новели, образка. Епічний сюжет у таких творах ліризований, зігрітий м’яким співчуттям чи гумором, але ця суб’єктивність не забарвлена індивідуальною інтонацією, вона по-фольклорному загальна; майже ніде автор не втручається в розповідь (вигуком, запитанням, звертанням до героя або читача), ніде не коментує зображуване, не роздумує над ним, не ставить його як паралель до власної долі тощо, – словом, не виявляє власного авторського бачення. Натомість Шевченко робить це вже у своєму найраннішому творі – баладі «Причинна».
В основі творів фольклорно-історичної течії лежать народні думи, історичні пісні, така ж романтична «Історія русів»; їхні героїзовані персонажі по-різному поєднані з інонаціональними фольклорними та літературними типами (оссіанівським, гайдуцьким, ідеалізованим козацьким української школи в польській літературі, байронічним тощо). Не йшлося про художнє дослідження минувшини, а про її міфологізацію – вираження національного духу, створення українського національного міфу – заради пробудження національної самоповаги або хоча б національної туги за минулим. Значним кроком у цьому напрямку були спроби створення історичної поеми, навіть епопеї, без якої не мислилася жодна національна література («Україна», не викінчена повністю Пантелеймоном Кулішем, 1843; поема в стилі народного героїчного епосу «О Наливайку» М. Шашкевича, 1834; поеми російською мовою «Богдан» Є. Гребінки та «Богдан Хмельницький» М. Максимовича; ряд менших форм, де змальовані невеликі епізоди тощо). Предметом зображення в них були героїчні постаті й події рідної історії – постаті романтизовані, часом не без елемента містики в дусі З. Красінського, Ю. Словацького, А. Міцкевича або фольклорно-стилізовані.
Історичний оптимізм поезії Тараса Шевченка
Шевченко не сприймає почуття національної приреченості, властиве А. Метлинському, певною мірою М. Маркевичу, М. Костомарову, ранній прозі Куліша; – героїзм рідної історії сприймався ним як запорука майбутнього відродження України. Знайомство з історією Європи (набуте під час навчання в Академії мистецтв і завдяки бібліотеці Брюллова) й осмислення її в річищі історії України (знанням якої він завдячував гуртку Є. Гребінки та його книгозбірні) підсилювали нестерпне почуття національного сорому, скорботи й пристрасного протесту проти національного і соціального поневолення – почуттів, що породжують провідні мотиви його історичних та історіософсько-політичних творів.
Для Шевченка кожна п’ядь землі України свідчила про минулу славу й трагедію, наслідком якої було нинішнє поневолення народу – не лише політичне й економічне, а й духовне: міцно закорінене почуття національної кривди. Як і народні думи й пісні, Шевченко оспівує двохсотрічну героїчну історію козаччини з її бурхливою енергією, завзяттям, мужністю й саможертовністю, спільністю мети, що єднала всіх у монолітну масу, мети обов’язково шляхетної, справедливої – захисту народу від чужоземних напасників, визволення бранців, український етноконсолідаційний міф. («…Етнос формують не лінії фізичного походження, а чуття неперервності, спільна пам’ять і колективна воля, тобто лінії культурної спорідненості, втілені в самобутніх міфах, спогадах, символах і вартостях, збережених даною культурною одиницею населення».) До такої міфологізації з часом долучається й зворотний процес – деміфологізація: поет диференціює старшину і гетьманів відповідно до їхньої ролі в цій боротьбі – на безсумнівних героїв, таких, як Наливайко, Дорошенко, Палій, Мазепа350, Полуботок тощо – з одного боку, й «варшавське сміття» та «грязь Москви» – таких, як Самойлович, Гнат Галаган, різні «Кочубеї-Ногаї», «Киселі» тощо – з іншого. Цей критерій прикладено й до Богдана Хмельницького, який дістає подвійну оцінку: звеличення за його переможну боротьбу з Річчю Посполитою і гострий осуд за фатальну злуку з Москвою. У ранніх творах завжди наявна – у тексті чи підтексті – опозиція минуле/сучасне, але мажорна тональність зображення минулого, відчутне в усій тканині захоплення ним (а не лише туга за тим, що ніколи не вернеться) породжують у читача суголосний відгук, бажання дії, відчуття перспективи.
За висновками Дмитра Наливайка в його авторському дослідженні, присвяченому фундаментальним рисам українського романтизму, Шевченко «…творив «міф України», свідомий свого історичного завдання і своєї місії, свідомий призначення цього міфу, як етнокультурного, так і суспільно-політичного. Його міфотворчість не знімала історію України, а виростала з неї та концентрувала її в своєрідну мегаісторію і водночас продовжувала її – у формі профетично-візіонерського спрямування в майбутнє до відродження України»351.
Романтизм поезії Шевченка
Шевченко нікого не наслідує. Творчо перетопивши в собі численні історичні, фольклорні, літературні джерела кількох слов’янських літератур, він далеко відривається від попередників міццю поетичного таланту, відчуттям органічної спорідненості з козацтвом і гайдамацтвом, побратимства з ними. Це дає йому змогу відтворити цілу симфонію настроїв, загальний дух Січі. Новими були лаконізм, точність, стислість і милозвучність мови та вірша, «геніальна пластичність», і «сміливість поетичних помислів-образів» (Павло Зайцев), бурхливість співпереживання з тими, кого він зображує.
Між фольклорно-історичною й громадянською течіями в українському романтизмі немає неперехідної межі: почуття національної туги, зумовлене опозицією минуле/сучасне мало ідеологічний характер, заперечуючи сьогодення як занепад нації та протиставляючи особистість ворожому соціально-несправедливому суспільству. Ліричні портрети людей різних станів, тема кобзаря, бандуриста, поета, ліричні образки й ліро-епічні оповідання чи баладні твори ліризували цюхвилинний життєвий матеріал, надаючи йому медіативності, яку поглибив і розвинув Шевченко, розмірковуючи над найвагомішими суспільно-політичними та морально-етичними проблемами»352.
ПРИХИЛЬНИКИ Й ПРОТИВНИКИ ЩОДО ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ПИСЬМЕНСТВА
Різні кола тодішньої суспільності по-різному сприйняли появу «Кобзаря». Одностайність виявилася тільки в тому, що «Кобзар» не був звичайною подією. У всіх опублікованих тоді (п’яти журнальних і двох газетних) рецензіях беззастережно визнано за Шевченком великий поетичний хист.
В оцінці «Кобзаря» виявилися передусім дві протилежні одна одній тенденції у ставленні до української мови, звідси й до самобутнього українського народу та його народної культури. Реакційні журнали «Библиотека для чтения» і особливо «Сын отечества» відверто заявляли, що ніякої української літератури бути не може, оскільки, мовляв, немає якоїсь особливої української мови, а лише відмираюча провінційна говірка, якої не хоче знати читач. Навіть мова Шевченка кваліфікувалася як спотворення російської, як підробка під «хохлацький» лад. На цій підставі «Библиотека для чтения» оголошує, що «Кобзар» не може бути прийнятий російською літературою. «…Малороссийские поэты, как нам кажется, – читаємо в цьому журналі, – не довольно обращают внимания на то, что они часто пишут таким наречием, которого даже не существует в России: они без церемонии переделывают великороссийские слова и фразы на малороссийский манер, создают себе язык небывалый, которого ни одна из всех возможных Россий, – ни великая, ни средняя, ни малая, ни белая, ни чёрная, ни красная, ни новая, ни старая, – не могут признать за свой».
Такі самі погляди висловлено і на сторінках газети «Северная пчела». Рецензент, що підписався ініціалами «Л. Л.», цілком приєднується до тих, хто вважає українську мову вмираючою говіркою. Українська література, говорить він, також повинна рано чи пізно вмерти – така вже доля її. А творів Шевченка шкода, вони чарують глибокою задушевністю, простотою і поетичною грацією, вони могли б прикрасити і російську літературу. Звідси порада поетові «рассказывать свои прекрасные ощущения по-русски: тогда бы цветки его, как называет он стихи свои, были бы роскошнее, душистее, а главное – прочнее».
В. Г. Бєлінський – на захист української народної поезії
У журналі «Отечественные записки», літературним відділом якого завідував Бєлінський, автор анонімної рецензії писав: «Но зачем г. Шевченко пишет на малороссийском, а не на русском языке? Если он имеет поэтическую душу, почему не передаёт её ощущений на русском! – скажут многие. – На это можно отвечать вопросом же: а если г. Шевченко вырос в Малороссии; если его жизнь поставила в такое отношение к языку, на котором мы пишем, что он не может выразить на нём своих чувств? если с младенчества его представления одевались в формы южного наречия, то неужели для этого должно зарывать талант в землю? Неужели должно заглушить в душе святые звуки потому только, что несколько человек в модных фраках не поймёт этих звуков, не поймёт или не захочет понять родного отголоска славянского языка, отголоска, летящего с юга, из колыбели и славы России…»353
У рецензії підкреслюється необхідність писати для народу зрозумілою для нього мовою – тоді книга швидше дійде до його серця, сприйнятнішими будуть її думки. Саме такою мовою, вважав рецензент, написані «Листи до любезних земляків» КвіткиОснов’яненка, «приказки» Гребінки, «Катерина» Шевченка. Критик висловлює різке слово осуду на адресу тих людей, для яких далекими є думи народного поета.
Журнал «Современник» безпосередньо не торкався питання мови, але його відгук перейнятий тією ж думкою, що й рецензія «Отечественных записок». Тут оцінюється твір не за тим, якою мовою він написаний, а за ідейно-художніми якостями. Оцінюючи появу «Кобзаря» разом з творами, які вийшли за останні три місяці, автор зауважує, що це найпомітніше явище. Ось текст цієї стислої рецензії: «Между всеми произведениями поэзии, появлявшимися в эти три месяца, одно последнее достойно внимания. Оно написано по-малороссийски. В нём собрано несколько простонародных лирических излияний души, живых и счастливо переданных автором. Понимающие малороссийский язык прочтут это собрание конечно с удовольствием и благодарностью». Для «Современника» немає сумніву, що в народі існує мова «Кобзаря», що батьківщина з радістю прийме твори Шевченка.
Журнал «Маяк» – знаряддя реакції
Окремо слід зупинитись на позиції реакційного журналу «Маяк». У його рецензії також не заперечується думка про існування української мови, про закономірність розвитку української літератури. Тут навіть зроблено спробу полемізувати зі скептиками та всупереч їм твердити, що українська література вже має свою історію, своїх видатних творців в особі Котляревського, Гулака-Артемовського, Квітки-Основ’яненка, Гребінки.
Автор рецензії заховався під ініціалами «П. К.», за якими легко вгадується Петро Корсаков354. Той самий Корсаков, який на прохання поміщика Мартоса схвалював до друку «Кобзаря» як цензор. Разом з відомим свого часу обскурантом він видавав журнал «Маяк» і всіляко прагнув під виглядом «покровительства» завоювати довір’я українських письменників, щоб мати на них свій вплив. Друкуючи та вихваляючи на своїх сторінках твори консервативних українських письменників О. Корсуна, М. Тихорського, М. Маляровського, С. Александрова та ін., «Маяк» прагнув спрямувати розвиток всієї тогочасної літератури по шляху безідейного побутописання. Навколо нього групувалися ворожі демократичному рухові сили, одверті прихильники й проповідники теорії офіційної «народності».
Від самого початку художньої та поетичної творчості Т. Г. Шевченко наштовхнувся на жорсткі цензури.
Доводилось, про людське око, запевняти цензорів у «благонадійності». Ось що писав поет у березні 1842 р. Г. С. Тарновському: «Я думаю, вы меня хорошенько побранили за Гайдамаки.Быломне с ними горя, насилу выпустил цензурный комитет, возмутительно да и кончено, насилу кое-как я их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились»355. Перші твори Тараса Григоровича одразу ж завоювали визнання і повагу. В листопаді 1844 р. він писав своєму знайомому Я. Г. Кухаренку: «театр, скомпонований у Петербурзькій медицинській академії, розучує мого «Назара Стодолю»356.
На сторінках «Маяка» друкувались і твори таких визначних українських письменників, як Гулак-Артемовський, Квітка-Основ’яненко, Гребінка. Пересилаючи свої твори Шевченкові для надрукування в альманасі «Ластівка», Квітка-Основ’яненко писав, що коли для «Ластівки» буде вже пізно, то можна дати твори для опублікування в «Литературной газете» або в «Маяку». «Там наше приймається», – додавав він. Це певною мірою дезорієнтувало молодого Шевченка. Можна було думати, ніби «Маяк» прагне підтримати розвиток української літератури. З надрукуванням позитивної рецензії на «Кобзаря» це враження посилювалося. Саме тому, очевидно, симпатії Шевченка і схилилися на деякий час до «Маяка». Там були надруковані його «Отрывки из драмы «Никита Гайдай»357 та поему «Бесталанный»358 (1844). Як цензор П. Корсаков схвалював до друку також і друге видання «Кобзаря» («Чигиринский Кобзарь»). Зберігся навіть коротенький лист Шевченка до нього з цього приводу. Форма звернення свідчить про те, що тоді поет уже був близько знайомий з ним: «Пётр Александрович! Потрудитесь подписать на «Кобзаре» позволение для второго издания. Преданный Вам Т. Г. Шевченко»359. Про те саме говорить і той факт, що Шевченко особисто клопотався перед Корсаковим про друкування п’єси Я. Кухаренка «Чорноморський побит». У листі до автора п’єси від 30 вересня 1842 р. він писав: «Чорноморський ваш п о б и т у цензурному комітеті, цензор Корсаков говорить, що нічого не вимараємо, коли хочете, каже, то не читаючи підпишу. Моторний, спасибі йому…»360
У чому не розходились всі ті, хто відгукнувся на вихід «Кобзаря» у світ
Спільною в усіх рецензіях на вихід «Кобзаря» є думка про те, що в літературу прийшов талановитий поет особливої щиросердості й простоти. Навіть журнал «Сын отечества», який найбільш зневажливо відгукувався про українську літературу, зауважував про Шевченка: «У него есть душа, есть чувство, и его русские стихи, вероятно, могли бы прибавить долю хорошего в нашу настоящую русскую поэзию».
«Отечественные записки» вперше звернули увагу на органічний зв’язок творів Шевченка з народною поезією, з народним життям України. В цьому вбачається одна з важливих якостей «Кобзаря». Автор рецензії підкреслює, що навіть формою поетичного вислову Шевченко близький до українського фольклору, бо не прагне до дешевого, пустого оригінальничання, а висловлює думи народу так, як сказав би за себе сам народ. Разом з тим твори поета не ототожнюються з фольклорними зразками. Рецензент тут же застерігає: «А при всём том его стихи оригинальны: это лепет сильной, но поэтической души…»
Заклики «Библиотеки для чтения» і «Северной пчелы» відмовитися від «провинциального наречия» і почати писати російською мовою також продиктовані своєрідним визнанням за Шевченком великого поетичного обдарування. «На каком бы языке он не писал, – он поэт, – читаємо в журналі «Библиотека для чтения». – Он умеет чувствовать и высказать чувство своё ловким стихом: на каждом его произведении лежит печать поэзии, которая идёт прямо к сердцу».
Газета «Северная пчела» не обмежується загальною тезою про високі поетичні якості «Кобзаря». Тут зроблено спробу охарактеризувати основні твори, визначити їх ідейнохудожню специфіку. Найбільше наголошується в рецензії на тому, що поезії Шевченка пройняті щирим ліричним почуттям, овіяні любов’ю до рідного краю. Ці думки підкріплюються аналізом, головним чином, таких творів, як «Думи мої, думи мої», «Перебендя», «Катерина». «Все стихотворения, – підсумовує рецензент, – носят грустный отпечаток болящего сердца, и поэтому несколько однообразны, но поражают своею простотою, грациею и чувством. Если это первые опыты, то мы вправе ожидать весьма многого от таланта г. Шевченки…»
«Маяк» оцінює твори Шевченка ще вище. «Эти стихотворения, – читаємо тут, – принесли бы честь любому имени во всякой литературе… Мы уверены, что не только Украина, но и мать её, великая Россия, примет как детей своих разумных, цветистых деток любезного нашего Кобзаря».
Діаметрально протилежні ставлення до створення української народної літератури
Незабаром «Кобзар» привернув увагу громадськості столиці, викликав не тільки друковані відгуки, а й усні суперечки. Про нього заговорили на літературних вечорах, у приватних розмовах. Можна припустити, що запис у щоденнику М. Маркевича від 23 квітня 1840 р. з приводу нападок Н. Кукольника на Мартоса за видання «Кобзаря» зафіксував тільки одну з багатьох подібних розмов навколо творчості Шевченка. Передаючи стисло суть розмов, Маркевич записав: «А Кукольник уже напал на Мартоса, критиковал Шевченка, уверял, что направление его «Кобзаря» вредно и опасно. Мартос приходит в отчаяние. Нестор добавил, что теперь необходимо запретить языки: польский, малороссийский, а в остзейских губерниях немецкий».
Без урахування подібних суперечок важко зрозуміти і деякі місця з друкованих рецензій. Та прихована полеміка з людьми «в модних фраках», яка міститься в рецензії «Отечественных записок», відбиває передусім тодішню дійсність, якісь конкретні факти, джерелом яких були й усні розмови…
Шевченко мав приятелів, друзів і з ними відвідував вечори, але не з усіма присутніми на тому чи іншому вечорі був у дружніх стосунках. Тим більше, що там збиралися люди різних ідейних переконань. І. І. Панаєв361 свідчив, що деякі «образованные светские литераторы смотрели на Шевченку свысока и недоверчиво, ещё более, чем на Кольцова, и с любопытством, смешанным с иронией, посматривали на него, когда он пел малороссийские песни, весело подплясывал под родные звуки»362. Тут важливо згадати найбільш відомі імена, щоб у якійсь мірі уявити собі характер літературних вечорів, диспутів, зрозуміти, які ідеї та думки міг там чути молодий поет.
В. Бєлінський загалом рідко відвідував подібні зібрання. «Литературных вечеров и чтений он не терпел», – згадував Панаєв. Інколи його можна було бачити лише у белетриста й критика В. Одоєвського, у військового історика О. Михайловського-Данилевського, у Струговщикова та один раз на рік у Гребінки. Ось що розповідає І. І. Панаєв про один з таких вечорів:
Тарас Шевченко на прийомах у Гребінки
«Кроме положенных еженедельных артистически-литературных, великосветски-литературных и просто литературных вечеров, литераторы иногда сходились друг у друга и делали вечера. Самым гостеприимным из литераторов того времени был Е. Гребёнка, постоянно сзывавший к себе своих литературных приятелей при получении из Малороссии сала, варенья или наливок. Гребёнка в то время ещё не был женат…
В этот раз у Гребёнки сошлось многочисленное общество и, между прочим Шевченко, который начинал уже пользоваться большою популярностью между своими соотечественниками…
После ужина все оживились ещё более. Гребёнка начал напевать малороссийские песни, а Шевченко подплясывал под свои родные звуки»363.
Коментуючи спогади І. І. Панаєва про цей вечір, редактори повідомляють: «Описанный вечер, на котором Панаев впервые встретился с Шевченко, упомянут им в фельетоне «Петербургская жизнь» – «Современник», 1861, № 3, отдел «Современное обозрение», с. 154»364.
З ним Шевченко міг зустрічатися на останніх двох. Про одну з таких зустрічей розповідає Струговщиков у спогадах про Глінку. На організованому ним вечорі 27 квітня 1840 р. серед багатьох письменників і художників були також Шевченко і Бєлінський.
Але близько вони не зійшлися. Думаємо, що цьому зокрема завадила й особиста вдача Бєлінського, характер відомого критика. Сучасники в один голос свідчать, що Бєлінський неохоче йшов у товариство, почував себе серед малознайомих скуто, був нерішучим, інколи ніяковів.
Шевченко ж на початку своєї літературної діяльності не міг, звичайно, зважитися на те, щоб самому піти на зближення з прославленим критиком.
О. Струговщиков редагував «Художественную газету» і, природно, підтримував тісні зв’язки з Академією мистецтв, з видатними її представниками, зокрема з Брюлловим. Мабуть, через останнього він і зблизився з Шевченком365. Так, у щоденнику Маркевича366 імена Шевченка й Струговщикова часто зустрічаються поруч.
Ці факти заслуговують на особливу увагу тому, що Струговщиков підтримував дружні стосунки з Бєлінським, був співробітником «Отечественных записок». Він міг ділитися з Бєлінським і своїми думками про автора «Кобзаря», міг бути й ініціатором у надрукуванні рецензіі на «Кобзаря» в «Отечественных записках».
Микола Маркевич – друг молодого поета Шевченка. Розходження в зрілому віці
З М. Маркевичем Шевченка познайомив П. Мартос десь у кінці 1839 р., коли той приїхав до Петербурга. Ще раніше поет, звичайно, знав його як автора «Украинских мелодий», що вийшли в Москві 1831 р. Маркевич був людиною доброю, щирою і, як згадують сучасники, в товаристві був веселим, дотепним співрозмовником. Закінчивши благородний пансіон при Петербурзькому університеті, він деякий час служив у війську, але вже 1824 р. вийшов у відставку. З ранніх років захоплювався поезією. Найбільше в той час його полонила творчість К. Рилєєва, особливо твори з української історичної тематики. В листі до поета-революціонера він писав: «Позвольте мне вам писать, как истинный гражданин своего отечества, как добрый малороссиянин… Итак, могу ли я хладнокровно читать «Войнаровского» и «Наливайку»? Примите мою и всех знакомых моих благодарность… Мы не потеряли ещё из виду деяний великих мужей малороссиян, во многих сердцах не уменьшилась прежняя сила чувств и преданности к отчизне. Вы ещё найдёте живым у нас дух Полуботка… «Исповедь» Наливайки» врезана в сердцах наших и моём также».
Мабуть, під впливом Рилєєва Маркевич почав глибше вивчати історію України, цікавитися історичними пам’ятками. Значною мірою це позначилося уже на його «Украинских мелодиях», в яких знаходимо чимало етнографічних та історичних деталей. Але найбільшим наслідком цього вивчення була п’ятитомна праця «История Малороссии», що вийшла в 1842 – 1843 рр.
Слід думати, що саме на цьому ґрунті виникла дружба Шевченка й Маркевича. В датованій 9 травня 1840 р. (цього дня Шевченко був у нього на вечорі) поезії Шевченка «Н. Маркевичу» найбільш виразно звучить мотив туги за рідним краєм, за тим, що «було колись – минулося, не вернеться знову»:
Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате: Маєш крила, маєш силу, Є коли літати. Тепер летиш в Україну — Тебе виглядають. Полетів би за тобою, Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, І на Україні Я сирота, мій голубе, Як і на чужині. Чого ж серце б’ється, рветься? Я там одинокий. Одинокий… А Украйна! А степи широкі! Там повіє буйнесенький, Як брат, заговорить; Там в широкім полі воля; Там синєє море Виграває, хвалить Бога, Тугу розганяє; Там могили з буйним вітром В степу розмовляють, Розмовляють сумуючи, Отака їх мова: «Було колись – минулося, Не вернеться знову». Полетів би, послухав би, Заплакав би з ними… Та ба, доля приборкала Меж людьми чужими»367.З Маркевичем поет зустрічався не тільки в Петербурзі. Пізніше, подорожуючи по Україні, він часто з ним бачився, заїжджав, очевидно, до нього в Турівку (село біля Прилук). Дружба була досить пам’ятною. «З батьком твоїм, – писав з Новопетрівського укріплення Шевченко до сина М. Маркевича Андрія, – ми були колись великі приятелі і стрічалися з ним не в одній Качанівці. Чи здраствує він тепер? Цілуй його од мене. А матір твою тілько раз бачив у Качанівці, може й тебе тойді бачив, але ти тоді дитя було мале»368. В листі до М. Лазаревського від 22 квітня 1857 р. поет зауважує: «Се буде син того самого Николая Маркевича, що написав Малороссийскую историю. З батьком його ми були колись великі приятелі»369.
Дружба з Маркевичем, проте, тривала не все життя. Надто вже різними були ідейнотворчі позиції поета-революціонера й ліберального історика. В міру зростання Шевченка як поета, в міру його утвердження на позиціях революційного демократа приходило й переконання, що творчість має консервативне спрямування, що не таким шляхом повинен іти розвиток літератури.
На Україні з захопленням знайомляться з «Кобзарем»
В Україну звістка про вихід «Кобзаря» і сам «Кобзар» прийшли пізніше, тоді, коли з’явились відповідні повідомлення в пресі. Спочатку, з цілком зрозумілих причин, читачами «Кобзаря» були одиниці, переважно письменники, вчителі, студенти. Тільки згодом його почали переписувати й поширювати в народі.
Не всім, зрозуміло, прийшовся «Кобзар» до смаку в Україні. Кріпосники, чиновницькі служаки обурювалися шкідливим напрямом поезії Шевченка. Показовим щодо цього є свідчення Квітки-Основ’яненка про клопотання (як не дивно, харків’янина В. Каразіна) заборонити «Кобзар»: «Здесь напал на меня известный Каразин и подал на меня доносы, естественно, мною опроверженные, но всё же потрясшие моё спокойствие. Теперь отыскал «Кобзаря», где есть малороссийские стихи ко мне, разбирает их и хочет доказать, что они вредные, и силится подвергнуть их запрещению».
Але більшість зустріла «Кобзар» із захопленням. Сучасник Шевченка і свідок його успіхів на Україні О. Афанасьєв-Чужбинський писав, що українські твори до появи «Кобзаря» читалися якось мляво, і тільки «Кобзар» в одну мить розігнав апатію і викликав незвичайну зацікавленість рідним письменством.
Цікаві свідчення про перші враження від «Кобзаря» подав український поет-романтик О. Корсун: «Раз идём мы с Николаем Ив-чем (Костомаровим. – Ред.) в Харькове в 1841 г. …в собор на архиерейскую службу и заходим к Апарину в книжную лавку. Спрашиваем: нет ли чего новенького? Апарин подаёт тонкую книжечку – «Кобзарь». Мы присели на лавке, да и просидели не только обедню – и самый обед: всю книжку прочитали…
Это было что-то совсем особенное, новое, оригинальное. «Кобзарь» поразил нас! Не одних нас, а всех своих читателей. Даже величественный, блестящий (жалованный за девичий институт перстнями) генерал удостоил остановить меня на улице и передать своё восхищение Шевченко, который прислал ему свою книжку…»370
Квітка-Основ’яненко, як відомо, довідався про великий поетичний хист Шевченка ще 1838 р. від Гребінки. Незабаром між молодим поетом і відомим письменником зав’язалося дружнє листування…
Шевченко виявляв зацікавленість творами Квітки-Основ’яненка. З його листа 8 грудня 1841 р. довідуємося, що він малював картину на сюжет повісті Квітки-Основ’яненка «Панна сотниковна»371(доля її невідома), трохи раніше ним виконано …малюнок «Знахарь». Серед інших відгуків про популярність «Кобзаря» згадаймо відгук Ф. Ткаченка372, який свідчив, що твори Шевченка поширювались в Україні з блискавичною швидкістю. Їх завчали, переписували в альбоми поруч творів Пушкіна і Лермонтова.
Подібні думки містяться і в листі П. Корольова, який писав Шевченкові 2 травня 1842 р., що «Кобзар» усім прийшовся до серця, його читають, перечитують і начитатись не можуть. Корольов просив надіслати хоч один примірник «Кобзаря»373.
Українські літератори докладають зусиль, щоб ознайомити співвітчизників з творами молодого поета
«Є. Гребінка, – підкреслює один із дослідників шевченківського періоду розвитку української літератури Павло Максимович Федченко, – одним із перших помітив і дружньо підтримав молодого Шевченка, познайомив його з українськими й російськими письменниками, залучив до участі в мистецькому житті. Він виступив ініціатором видання «Кобзаря», а потім високо оцінив літературний дебют великого поета. Очевидно, зовсім невипадково саме Гребінка був довіреним супутником Т. Г. Шевченка під час першої подорожі поета на Україну»374.
Твори Шевченка, передані наприкінці 1838 р. Гребінці для опублікування, не відразу побачили світ. Видання збірника затяглося. В листі до Квітки-Основ’яненка 13 січня 1839 р. Гребінка писав: «Мой сборник до сих пор не двигается, потому что статей мало – Котляревский умер, да так поторопился добрый старик, что даже не успел прислать мне обещанного отрывка из «Энеиды». Ваша Оксана хороша, очень хороша, дай бог Вам здоровья! Ваше предложение отдать в этом году четыре времени года на малороссийском языке превосходное, потому что о нашем предложении насчёт прибавления к «Отечественным запискам» не говорит ни то, ни другое. Все как будто чего-то боятся. Бог с ними! Если хотите, отдадим четыре времени года… У меня здесь есть чудесный помощник – Шевченко, человек удивительный…»
Але намір видати ці чотири збірники не був здійснений. Десь у кінці 1839 – на початку 1840 р. Гребінці пощастило укласти лише альманах «Ластівка». Незважаючи на те, що цензурний дозвіл на нього дано 12 березня 1840 р. (всього через місяць після видання «Кобзаря»), але цього року він не вийшов. «Ластівку» видано аж 1841 р. У ній надруковано п’ять творів Шевченка: «Причинна», «Вітре буйний», «На вічну пам’ять Котляревському», «Тече вода в синє море» і уривок з поеми «Гайдамаки» (розділ «Галайда»). До цієї публікації Гребінка додав таку примітку: «Порадував нас торік Шевченко «Кобзарем», а тепер знов написав поему «Гайдамаки». Гарна штука, дуже гарна, така смашна, мовляв, як у спасівку та у жаркий день після обіда гарний кавун! – І їсти не хочеться – і читаєш і не одірвешся. Оце вам для приміру з неї перва глава. А там дальше усе лучче і лучче. Штука я вам скажу!»
До альманаху «Ластівка» поет подавав і уривок з поеми «Тарасова ніч». Її вилучено вже з коректури, оскільки вона раніше надрукована в «Кобзарі». Це була рання редакція поеми, вона в основному збігається з текстом, надрукованим у женевському виданні «Твори Шевченка, заборонені в Росії»… що має дату «6 листопада 1838 р.».
Роль «Ластівки» у розвитку української поезії
Серед українських збірників «Ластівка» була явищем досить помітним. Крім творів Шевченка, тут уміщено два уривки з «Москалячарівника» І. Котляревського; «Сердешну Оксану» та деякі інші твори Г. І. Квітки-Основ’яненка; дві байки та ліричну поезію «Українська мелодія» Є. Гребінки; «Пісню», «Повіяли вітри буйні» В. Забіли; «Скажи мені правду, мій добрий козаче» О. Афанасьєва-Чужбинського; кілька поезій А. Боровиковського. Були тут і твори виразно консервативного спрямування («Так собі до земляків», «До побачення» Гребінки та ін.).
Драгоманов послідовно відстоює спадщину Шевченка
Одразу ж після смерті Тараса Григоровича в умовах, коли послаблене вимушеним звільненням селянства від оков кріпосницької неволі, розчароване поміщицтво докладало всіх зусиль, щоб у новій обстановці втримати економічні важелі свого панування над абсолютною більшістю населення неосяжної Росії, справжні демократи чітко усвідомлювали необхідність зберегти спадщину народного поета-революціонера. Виняткова роль у цій відповідальній справі належала Михайлу Петровичу Драгоманову (1841 – 1895).
Вихідець з родини, пов’язаної з декабристським рухом, він рано познайомився з творчістю Тараса Григоровича Шевченка: «Я сам, у свій хлоп’ячий вік, у 50-ті роки, надибавсь, наприклад на сліди впливу Капністів, – лібералів і аболюціоністів, – із кружка котрих у перший раз здобув і «Сон», і «Кавказ» Шевченка». Ті Капністи, як і другі подібні їм пани лівобережні були старші і освіченіші, ніж Шевченко. Та й між «мочемордами» були люди, котрі їздили за границю, читали європейські ліберальні книги й газети, і навіть сам П. Скоропадський, щоб «вільнодумствувати в шинку», мусив ще щось знати або хоч чути вільнодумного (Шевченко ставить йому головно в вину те, що він «перебира дівчаток».
Пригадаймо, що й пани й прелати часів Renaissance і в XVIII cт. теж були «ласі до солодкого», як каже запорожець цариці в Гоголя, а все-таки «аристократическими ручками выкормили львёнка революции», як каже Герцен)375.
Геній Шевченка мав дечому навчитись і від таких панів, які бачили світа й знали більше, ніж він. Від себе особисто Шевченко привносив своє мужицтво, свої спомини, хоч се був дуже ковзький елемент, бо скілько мужиків, пройшовши в пани, забували своє мужицтво. (На сором природи людської, до самих останніх часів свідомих демократів було більше з панів, ніж з мужиків.)376 Нарешті Шевченко прибавляв і свою геніальність, і вже з суми всіх цих елементів, а не з однієї геніальності, вийшла національна свідомість і народолюбство Шевченка, котрі справедливо хвалить д. Вартовий377 і котрі дійсно ставлять Шевченка як епохальну прояву в історії громадської думки на Україні».
Віддавши належне Б. Д. Грінченку за його розуміння епохальності Шевченка в розвитку української літератури, М. П. Драгоманов одночасно різко виступив проти його спроб перекрутити принципові напрямки творчості поета. Хибні погляди Грінченка справедливо відзначаються й у «Шевченківському словнику»: «В своїх статтях, зокрема в «Листах з України Наддніпрянської», Грінченко, – пише Надія Калениченко, – надаючи перевагу національному моментові перед соціальним, припускався хибних висновків. Суперечливі погляди Грінченка на творчість Шевченка, часом позначені національною обмеженістю, з різних позицій критикували П. Грабовський (в листах до Грінченка), М. Сумцов378у статті «Літературно-наукова діяльність Б. Грінченка» (1912 р.), С. Васильченко379в статтях «Грінченко про «Кобзар» (з приводу брошури Б. Грінченка «Шевченків «Кобзар» на селі») й «Думки перед ювілеєм» (обидві – 1914 р.)»380.
Принципову роль не лише у з’ясуванні безсмертних сторін багатогранної творчості Т. Г. Шевченка, але й у зламанні глухої стіни, зведеної галицькими народовцями, які, орієнтуючись на Відень і Варшаву, спотворювали творчість українського народного поета, відіграли три статті М. П. Драгоманова до редакціїї львівського журналу «Друг» 381.
Спершу його увагу привернула надрукована тут стаття «Новое направление украинской литературы».
Початок зрушень у думках і настроях західноукраїнської інтелігенції
Звертаючись до редакторів часопису, Драгоманов радів з приводу її публікації: «Стаття, – заявляв він, водночас пояснюючи й підправляючи певні конкретні неточності д. Галичанина, – в усякім разі доказує, що не зовсім пропали зусилля тих українців, котрі старалися усунути численні непорозуміння між галицькими партіями і тим облегшити можність дружньої праці чесних і просвічених людей на користь руського народу. Для осягнення тої самої мети я зважився написати вам оцей лист, а ви, надіюсь, помістите його на сторінках вашого органу з увагами, які вам подобаються.
Добродій Галичанин, автор названої нижче статті, побачив основний напрям української літератури в таких речах, як брошурка «Выдумки «Киевлянина» и польских газет о малорусском патриотизме» і стаття в «Правді» «Література російська, великоруська, українська і галицька», хоч сам далі… мусив завважити, що «в сутности оно и не новое, но сильнейше теперь проявляется». Точніше випадало б сказати: «але тепер стало відомим у Галичині». Де відома партія находила для себе корисним запевняти, що український літературний і громадський рух – се видумка поляків, ворожа Росії, Слов’янщині і пагубна для руського відродження в Галичині. Обмежуюсь тою пригадкою відомих усім і досі повторюваних завин против українського руху й не буду запускатися в розбір того, наскільки деякі українофіли галицькі, зі свого боку, були винуваті в тім, що подібні завини могли пустити коріння.
Для мене було приємною новиною побачити в статті вашої газети дворазове признання згоди з тою тезою, що «література на Україні не розвивалася під польським впливом» і що перші завини проти неї вийшли від польської «поміщицької» партії… Та я ще більше, ніж ваш співробітник, зовсім не можу признати новим того напряму української літератури, який він назвав новим. Новість тут показалася в тім, що українська література не лише не ворожа російській, але і не шкідлиіва в Росії, не противна змаганню галичан ввійти в духовний зв’язок з нашою російською спільністю. А тим часом такі думки висловлювалися в Росії багато разів українцями, в тім числі Костомаровим і Кулішем, в «Основі», як і в «Русской беседе» (епілог до «Чорної ради») і в Галичині д. Русином у листі до д. Стебельського в часі спору Куліша і Головацького в р. 1867. Природно, що різні українці, тримаючись вище вказаних думок, не однаково думають про ступінь самостійності малоруської літератури в київській брошурці «Выдумки…» і в статтях Українця382 в «Правді» занадто тісні й тепер, а особливо здібні розширитися в будущому. Та се їм зовсім не вадить не мати ані тіні тих антивеликоруських та антиросійських змагань, які приписують їм галицькі та немногі наші інсинуатори.
Даремно д. Галичанин не зовсім довіряє щирості заяв того «нового (для нього) напряму в українській літературі» і бачить в них тільки бажання спинити «крики» та «обвинувачення». «Крики» та «обвинувачення» проти української літератури тепер утратили майже весь кредит у Росії, а у кращих людей вони і не мали кредиту, як се можна бачити з тої уваги, яку Тургенєви, Полонські, Плещеєви, Добролюбови, Пипіни і т. ін. звертали на Шевченка, М. Вовчка і ін. А до того тепер зовсім не пора твердити, що перші завини против українофільства, як против хлопоманії, вийшли від польських панів, бо тепер в Росії в ходу дворянсько-консервативний напрям, при котрім польські пани наново починають набирати впливу.
Рішучий захист рівноправності української мови й літератури
Нещирість і таємні цілі бачить ваш співробітник у тім, що люди «нового направленія мимовольно може опустят слово, що і поезія и белетристика на малорусском язиці може без вреда для государства розвиватися». Мимовільно! Та чи можна ж було б і говорити про який-будь напрям в українській літературі, якби заперечено поезію і белетристику, якій не перечать навіть і великороси? Запитайте вчених людей у Росії, чи було б краще, якби ніколи не було Квітки, Шевченка, Вовчка, Стороженка, Нечуя і т. ін? Чи годяться вони відректися тих письменників? Та й ваш «Друг» чи відрікається їх? Такої дурниці, що буцімто великоруська мова різниться від малоруської лише вимовою, що, значить, досить Островського чи Некрасова, а Шевченка і Вовчка не треба, або що вживання малоруського язика в письмі – це ганебне мужицтво, і досить Онєгіна і Рудіна, а не треба Оксани або Панася Крутя, в Росії ніхто не говорив, принаймні із людей хоч трохи освічених. І так коли й ваш співробітник не заперечує педагогічної, народної або, як він говорить трохи по-шляхетськи, «простонародної» малоруської літератури, коли не годиться перечитати і поезії і белетристики на малоруськім язиці, то ось вам уже й немалий терен для малоруської літератури! А далі що? Про се можна сперечатися, але сперечатися чесно, без інсинуацій, за які так часто хапаються публіцисти вашої старої партії (і чим вони сильно підкопують поважання Галичини в Росії і від яких не чужа й ваша молодь, або українська партія). А втім, на мою думку, краще не сперечатися, а зайнятися спільною роботою в безспорному напрямі: просвітою народу, його мовою, зближенням вищих верств з народом, між інчим і при помочі літератури про народ і народною мовою. Розв’язку ж дальшого питання про розмір малоруської літератури полишити життю. У нас в Росії більше або менше так діється. У нас єсть і розвивається українська література, хоча склад життєвих умов (і певно не сам страх цензурний) доводить до того, що Костомаров і Куліш пишуть свої монографії язиком у нас de facto общеруським. Та, певно, якби Костомаров видав свого «Богдана Хмельницького» по-малоруські, то здравомислячі люди поглянули б лише на те, чи досить живою, чистою і народною мовою він написаний. А великороси або постаралися б підучитися, щоб читали його в оригіналі, або переклали б його, як се роблять одне й друге з Шевченком і Вовчком.
Труднощі з українською мовою в Галичині
У вас у Галичині пробували говорити, що «малорусскому вопросу не быть», що в один день можно научиться малорусину по-великорусски», пробували осуджувати всяку різнобарвність у руській літературі, як видумку ворогів Русі. Та скажіть на сумління, ви, що тепер наочно можете зрівняти, приміром, «Слово», або «Друга» з «Вестником Европы», чи не пишете язиком або, краще сказати, язиками, окремими від того, який ви називаєте «русским» або «литературным»? А кожний українець викаже вам у ваших виданнях, крім признаків малоруських і галицьких, ще безодню германізмів і полонізмів і докаже вам, що якби ви писали більше і по-(народно-)галицькому, і по-українському, то вийшло би більше і по-«русски» і навіть більше, по-«великорусски» ніж тепер. Коли хочете, я беруся дати вам цілий аркуш прикладів. Ви говорите про один язик Гоголя, Пушкіна і Тургенєва, а на який язик ви перекладаєте Гоголя («Вій») або Тургенєва, останнього навіть із німецького («Пес»)? І так volens-nolens ви будуєте віддільну від нашої руську літературу, о много дальшу від неї, ніж українська. А тим часом вашому співробітникові видається дивною і обидною моя думка, що через малоруську літературу (точніше слід було б сказати: через малоруських письменників, через малоруський культурний рух загалом) галичани природніше можуть ввійти в органічний зв’язок з нашою общеруською культурою.
Природний потяг галичан до мови й культури великої України
Чи ж не «Енеїда» Котляревського і не «Украинские песни» Максимовича оживили ваших Шашкевича, Головацького, Устиновича і ін.? Чи ж не видно впливу Шевченка, Костомарова, Куліша, «Основи» не тільки в «Вечерницях», «Меті» і ін., але й на «Слові» 1861 – 1864 рр.? Чи ж одинокий ваш талановитий поет і белетрист, якого може читати Росія, Федькович (від перших літ) не йшов у кращих своїх творах просто тою самою дорогою, що й українські письменники? Та гляньте на вашого «Друга»! Чи ж мало місця займають там переробки з Стороженка, Костомарова, а в критичних статтях – і виписки (не без перекручувань) із многогрішного Українця, якого недавно «Слово» шанувало іменем бакунінсько-польського агента в Києві? Додам, що крім того, найбільше запозик зробив «Друг» із журналу, що найсимпатичніше відноситься до українофільства, котрий і тепер найбільше розповсюджений журнал в Росії, – із «Вестника Европы».
Ніхто ніколи не думав намовляти галичан до того, щоб вони виключно годувалися лише українською літературою. Найкрайніші українофіли багато разів заявляли усно і письменно, що нехай уже галичани пишуть просто по-«русски», як «Вестник Европы» або «Московские ведомости», тілько не по-«рутенськи», як «Слово». Тим більше врадується кожний українець, бачучи, що представники дійсної руської літератури Гоголь, Тургенєв, Костомаров, Бєлінський, Пипін і ін. починають безпосередньо доходити до Галичини. Особливо втішиться тим здоровомислячий українофіл. Мабуть, ми всі, російські українофіли, перейшли ту школу – вивчились напам’ять Гоголя, Тургенєва, прочитали з захватом Бєлінського, Костомарова і не лише не перестали бути українофілами, вкріпилися в своїм українофільстві, а інші дійшли й до Шевченка, від Тургенєва і Некрасова (є в нас і такі, що прийшли від Руссо і Віктора Гюго!). Те саме буде зі щирішими і догадливішими із вас. Перейшовши, як належиться, нашу великоруську літературу, вони непримінно дійдуть до хлопоманії, а хлопоманія на малоруськім ґрунті – се і єсть українофільство.
Глибинні інтереси нації, її культури понад усе потребують єдності
Тим більше се повинно статися, що ніяка сила речей не спинить впливу на вас галицького народного ґрунту і традиції, а сей ґрунт і традиції мають найближчих свояків на Україні. Хоч як не відхрещуйся, а тепер від хлопської галицько-української мови не втечеш, живучи в Галичині. Говоріть що хочете, а ви і ваші діти будете слухати казок і пісень українських. У ваших політично-національних суперечках з поляків доведеться частіше згадувати українця Хмельницького, ніж Івана ІІІ Московського. Вам цікавіше буде Костомаров, ніж Соловйов, Шевченко – ніж Некрасов; у самого Гоголя ви швидше кинетесь на «Вечори на хуторі», «Тараса Бульбу, «Вія», ніж на «Ревізора» та «Мертві душі», хоч останні й вищі в артистичнім погляді. А сукупність усіх тих природніх симпатій і називається українофільством. Підривати ті симпатії в Галичині – хіба се не значить підривати коріння народного руського відродження?
Все те гарне, скажете ви, але фонетика, але кулішівка! Ей. Та годі з тим! Чи ж ми розкольники, щоб толкувати про букви? В Росії, принаймні в 1856 р. ніхто не думав плакати на ту кулішівку, а після коли й поплакали два-три з голосу галичан, то й вони швидко заспокоїлись. Чи ж тепер такі часи, аби розходитися задля таких дрібниць?»383
Українщина чи рутенщина?
У другому листі, надрукованому в часописі «Друг», М. П. Драгоманов послідовно розвиває теми, які його глибоко хвилюють. До них додається життєво важлива проблема східнослов’янської єдності. Автор листів відповідає на запитання, поставлені редакторами часопису. «Я только теперь, – пише він, – могу взяться за перо, чтобы отвечать на ваши замечанья на письмо моё, помещенное в 11 числе «Друга» г. 1875. Делаю это в расчёте на то, что вы не забыли ваших слов, помещённых в примечании к моему письму, о пользе «честной и объективной вымены гадок». «Отповедь» в 12 числе показывает, что вы не совсем твёрдо помните эти слова. Что, в самом деле, пользы для уяснения дела в таких выходках, как «апостольский подвиг», «на вид по-приятельски», в этих намёках на каких-то «корифеев, которые публично и тайком вітчині нашой чим скорше последний хотіли бы задати удар». Прилично ли в «объективном» литературном споре употреблять такие слова, как «дурниці»? Честно ли, наконец, уверять, что в сборнике песен Антоновича и Драгоманова «признаки галицкой речи пильно затираются», – тогда как незначительные уклонения от галицкой фонетики в этом сборнике произошли оттого, что правописи, которыми галичане записывают свои народные песни, маскируют звуки до невозможности установить их настоящий характер. Ответы на эти вопросы оставлю другим. Сам я не считаю нужным говорить об этом много. Нет надобности много говорить и об упрёках в том, что «украинцы вмешиваются в галицкие дела», особенно о ссылке вашей на мою статью «Литературное движение в Галиции», где будто бы «с прихвалками порицаются даже усилія о. Наумовича, которому вже галіцкі украинцы давно признали заслуги и которому тяжко, абы где хто на Украині вырівнял».
Драгоманов переконливо з’ясовує застарілість та реакційність поглядів цього віджилого діяча, «идиллически-церковное пристрастие» до всього старого… Неужели-таки всем нам» «россиянам» так и поверить г. Наумовичу, а не глазам нашим, когда он уверяет, что в России нет курных изб, и что чем ближе к Москве, тем хаты краще»? Большая же часть его писаний, как и издания «Просвіти» (кроме одного о лихве), приносит весьма условную пользу, а то и прямо вредны. «Друг», например, расхвалил «Золотую книжочку». Но подумайте, не пора ли найти что-нибудь другое сказать народу, кроме того, что он пьяница да лентяй? Не нам бы, литераторам, чиновникам, священникам, которые пролеживаем больше времени и выбрасываем больше легко заработанных денег, чем народ, укорять народ в лености и пьянстве. Подумали б мы лучше о том, отчего народ пьёт да чем ему заменить корчму, а о том, что хлопы – лежебоки и пьяницы, довольно говорят и шляхтичи! Кормить же народ сказочками, чудотворными легендами да кисло-сладкими моральными сентенциями, или соблазнять народ карьерой советника in spe384, или делать из ничтожного Качковского какого-то нового святого, право, это значит вредить ему, а не просвещать его. Обо этом всём естественно было бы пораздумать молодёжи, а не ограничиваться только пением акафистов хотя бы и заслуженным людям, а иногда и тем, чьи заслуги ещё сомнительны и кто смотрит на патриотизм и политическую карьеру, как на дойную корову…
Вы скажете опять: украинцы вмешиваются в наши дела и хотят произести новые разделения между нами. Я решительно не понимаю, что значит: «украинцы мешаются в наши дела и произвели у нас партии». Хотите вы запретить украинцам писать о галицких делах, когда нельзя запретить, например, галичанам даже писать ложные доносы прямо на лица из украинцев? B XIX в. все вмешиваются в чужие дела, на то и печать существует. Кроме того, люди издавна уже производят влияние на дела других, вовсе даже о том не заботясь.
Так французы произвели влияние на Россию в XVIII в. и поссорили Сумарокова, Новикова и др. с московскими архиереями и помещиками. Так англичане и немцы произвели разделение между нашими литераторами, породив романтиков, которые стали на ножи с классиками, успевшими уже примириться со стариною и церковнословянщиною в литературе. Так и украинцы, прежде всего мимо воли, оказывали и оказывают влияние на ваши дела: Котляревский и Максимович повлияли на М. Шашкевича и поссорили его с Лозинским и ему подобными грамотеями; позже, когда у вас узнали о Шевченке и Марке Вовчке, то, естественно, отдали им предпочтение перед домашними виршеписцами – и если о чём надо жалеть, так это о том, что влияние «украинское» на ваших soi-disant385 украинофилов сказывается до сих пор слабо ещё до того, что они всё ещё могут наполнять «Правду» бессодержательными виршами или русскими повестями, переделанными с немецкого (!!), и допустили до падения такой талант, как Федькович, который обещал на себя основателя реальной народной беллетристике в Галичине. Где вы видели литературу без посторонних влияний, без партий? Их ещё мало у вас: вашим украинофилам предстоит ещё разделение и, может быть, не одно, пока из них выделится действительно свежая народная партия, которая будет в гармонии с лучшими идеями украинского литературного движения. Вашей партии предстоит то же самое, а прежде всего выделение искренней, народолюбивой, европейски просвещённой молодёжи из разнокалиберной массы так называемой «русской» или «старой», или «твёрдой» партии, как хотите зовите, которой вожди и знамёна пахнут гнилью семинарий, консисторий и канцелярий. И это случится как вследствие внутреннего процесса, так и не без влияний и с запада, и с востока, от родных вам Украины и остальной России.
Мы подошли к главному предмету настоящего письма.
«Дайте нам спокій з українщиною і рутенщиною», – восклицаете вы в 12 н-ре. Я не понимаю только, зачем же вы в 17 н-ре сердитесь на «Киевский телеграф» за то, что он заявил по вашим словам, что вы вовсе не «русской» партии, как толкуют постоянно ваши друзья и покровители, а «австро-рутенской»? Зачем поднимать шум из-за того, откуда «Киевский телеграф» взял ваши слова – из «Друга» ли прямо, или из «Правды», если всё равно он передал их верно, если в 17 н-ре вы ещё раз говорите: «на сто разів заклинаемый (?) австро-рутенизм скажем, що тілько едино здорова и можлива партія у нас, до котрои помалу у нас всі теперь клонятся; ани общерусизм, ани украинизм не може мати у нас теперь реальной підстави»?
Если я в письме своём говорил о том, что если б галичане писали больше по-народному, по-украинскому, то их писания были бы больше русские, были бы ближе к великорусскому, если я ударял на то, что через украинское литературное движение галичане могут всего естественнее войти в общение с Россией, то, между прочим, потому, что в тех литературных кругах, с которыми «Друг» находится в приятельско-союзнических отношениях, так много говорено было против украинизма с точки зрения общерусскости, что сам «Друг» предполагает язык «литературный», «общерусский» украинскому.
Говоря об общении с Россией, я имел в виду общение нравственное, а не политическое присоединение, не потому, конечно, чтоб я питал суеверие к границам политическим, проведенным в то время, когда народов об них не спрашивали, а потому, что чисто политические вопросы считаю в настоящее время третьестепенными. Но если вы читаете в наших петербургских, московских и даже киевских газетах корреспонденции галичан, или, например, писания г. Головацкого, например недавно разобранный у нас указатель галицкой церковно-печатной литературы, то для вас не может быть тайной, что многие галичане выражают даже желание, чтоб и страна политически присоединилась к России.
Теперь же, уже не от имени того или иного лица, а от имени редакции вы говорите, что вам вовсе немного залежит на России, что вы совсем не оглядаетесь на Россию», что вы имеете «свой язык», отдельный даже от украинского, а не только от великорусского. Вы обращаете внимание «каждого, что галицкій много сот літ уже розвивается вместе с польским», что у вас долшій час учили також по німецки, а тіи, що ныні пишут, получили своё образованье майже цілком на язиці німецком або польском. Кто ж може заперечити у нас вліяніе тых двох языків на язык рускій? Мы берём також взгляд на исторію нашего языка від принятія нами христіянства, а тым самым и на язык церковный, с которым наш народ занадто тесно связаный, следовательно, у нас язык мусит быти почасти иный, як украинскій, де переважно вплив великорусскій, а межи старшим и новшим періодом литературы – хинскій мур».
Всё это очень важные признания, и вы, конечно, должны быть рады, если им придаёте возможно большее распространение. Нужно, чтоб впредь у нас и у вас, на Украине и в Великоруси, не было тех недоразумений, какие были прежде относительно стремления нашей партии, о которой все думали, со слов самих же галичан, что она имеет в виду слияние вашей литературы с русской-великорусской. А теперь оказывается, что вы потому чувствуете невозможность писать по-украински, что украинский язык подвергся влиянию великорусскому, а ваш польскому, немецкому и церковному, т. е. нерусским. Для тех, как я, больше десяти лет следит за галицкой литературой, нет ничего удивительного и нового в этом признании, кроме самого факта признания. Совершенно то же, что сказано в «Друге» о характере вашего литературного языка, о его рутенизме, я говорил в «Вестнике Европы», в «Петербургских ведомостях», «Неделе», «Правде», «Киевском телеграфе» – и за это получил прозвище «бакунинско-польского агента», известного своей злонамеренностью и т. п. А я только констатировал факты, подтверждая свои выводы из галицких, будто бы общерусских, изданий, разбирая каждое русское и нерусское слово.
Но между тем, что я говорил, и вашим признанием есть и значительная разница: я указывал факт, рутенизм нашей литературы (NB: обеих партий), но считал его болезнью, исторической, застарелой, но всё-таки болезнью, и тем более трудной, чем она старее. Вы считаете эту болезнь нормальным фактом и говоря: «Дайте нам спокой с украинщиной и великорусщиною», намерены не лечить её, а ещё укреплять. А я именно рекомендовал особенно «украинщину», как одно из лекарств против худосочения рутенского.
Отвергая моё лекарство, вы не обратили внимания на самое важное в моих словах. У меня сказано: «если б вы писали по-народно-галицки и по-украински, то вышло бы и больше «по-русски» и даже по-великорусски, нежели теперь». Таким образом, говоря: «дайте спокой с украинщиною и великорусщиною», вы сказали вместе с тем: «дайте спокой и с народно-галицким языком». (Любопытно узнать, как соглашаете вы своё восклицание в №: 13 «Будьте проповедниками великого евангелия Шевченкового?») Что же у вас осталось взамен? Мешанина польско-немецко-церковная! Такими фразами, как та, что будто украинцы навязывают свой язык галичанам, между тем как галичане немогутписатьнизімою, нитільки, нитимпачемрія илиподія, нельзязамарать вопроса. Кто говорит такие фразы, тот не только не понимает украинцев, но, очевидно, не понимает самого себя.
Конечно, между диалектами малорусского языка или наречия – как хотите – в России (украинско-новороссийский, волынско-подольский, полесский) и в Австрии (горские и подольские) есть различия, но такого классификатора, который бы признавал особый галицкий народный язык, особый от «украинского», а тем более от «малорусского», на свете ещё не было, по крайней мере, между людьми сколько-нибудь учёными, как нет такого, который бы признавал отдельный владимирский язык, или даже наречие от московского. Несколько особых форм, известное количество слов, из которых совсем отличны и непонятны без перевода слова технические, большею частью заимствованные, не составляют препятствия к тому, чтобы полтавец и гуцул понимали друг друга, как люди, говорящие одним языком.
В литературе же принципом «украинщины» вовсе не становится то, чтобы галичане копировали мелкие особенности украинского диалекта и отрекались от своих, а только то, чтоб галичане писали по-своему, по-народному, аоноужсамо собой выйдет в главном и по-украински. Если бы паче чаяния и не вышло последнего, то украинские «хлопомани» будут удовлетворены тем, что галичане пишут по-своему, по-народному.
Тут нечего прятаться за фразу, что «по-хлопски нельзя всего выразить». Если мы не хотим отделить образованные классы в особую касту, а вместе с тем и осудить их деятельность и литературу на мертвенность и отсутствие оригинальности, то мы должны отделить образованные классы в особую касту, а вместе с тем и осудить их деятельность и литературу на мертвенность и отсутствие оригинальности, то мы должны, елико возможно, стараться выражать наши мысли готовым языком «хлопов»… Как видите, тут ставится вопрос не об одном только языке, а о целом направлении культуры и деятельности образованных слоёв. «Украинщина» – это не только литература на народном языке, т. е. на языке большинства, это передача ему результатов мировой цивилизации, преимущественно, если не всецело посвящение интеллигенции, которая могла воспитаться только потому, что народ работает, обливаясь потом, на службу этому народу – нравственную, политическую, социально-экономическую – с целью удалить от народа невежество, бесправие, эксплуатацию. Что же такое рутенщина? Интересно было бы получить прямой и обстоятельный ответ на этот вопрос.
Пока ответом на этот вопрос может служить сам «Друг» и его признания и рекламы. Вы, правда говорите, что «цілью вашей газеты єсть розбудити народное чувство межи нашою молодежію», «что нам повинно ходити найбільше о тое, абы розбудити народное чувствомежи нашою молодежію», – но спустя несколько строк заявляете, «что нам повинно ходити найбільше о тое, абы розбудити духа нашои публики до читаня свого письма и заохотити здібнійших до писаня», и только «где инде абы подати темному народови найпотребнійшии відомості, так политичныи, як науковыи.
Вы говорите, что «средством до того повинен служити такій язик, якій народ наш найліпше розуміе». И тут же вы начинаете защищать «рутенский» язык с его польскими, немецкими и церковными наслоениями. Но ведь это не народный язык, а язык вашей публики и её литературы. Народный язык в Галичине, конечно, заимствовал известное количество чужих слов, но чистоты своей не утратил и рутенским не стал. Очевидно, что при своём желании стоять на народной точке зрения, вы на ней удержаться не можете и, заговорив о народе, сейчас сойдёте на иерейско-чиновническую публику, которая вам и представляется настоящим галицким народом, как мешаный, рутенский язык её – народным языком. Очевидно, вы гораздо вернее выразили свои понятия о задачах вашего журнала, когда говорите, что вы хотите дать вашей публике, особливо красавицам, «занятную» лектуру».
Имея в виду только давать «лектуру» по вкусу уже готовой вашей публике, вы, отказываясь вместе с тем и от того, чтобы «давати лекціи старшим повагам» и даже от того, чтоб «слідити за ходом общественных діл отечества, а тым меньше, щоб підвергати їх суду хотя й бы й самой лёгкой и бессторонной критики». Последнее представляет образ кротости, поистине единственный среди молодёжи на земном шаре в наш испорченный век, когда есть даже «Молодая Турция» и «Япония». Но в общем принижения себя до готовой публики есть преобладающая черта галицких литературных органов, от которой хотели б отстать немногие в 1862 – 1863 гг. А происходит это оттого, что в Галичине не хотят знать о народе и его нуждах и не знают или умышленно закрывают себе уши и очи на то передовое меньшинство, которое уже с сотню лет работает по всей Европе для освобождения ума и воли народа от средневекового рабства, – меньшинство, которое развило свежие народные литературы для себя и для масс народа.
Невисокий літературний та інформаційний рівень «рутенського» часопису
Целью литературной работы в Галичине служит почти исключительно выработанная печальной историей рутенская публика, иереи, трепещущие консистории, урядники, держащиеся за свои «посады», давно позабывшие свои семинарские и университетские тетрадки и не думающие следить за ходом европейской мысли, едва-едва поддерживающие свой аппетит к литературе польскими и немецкими газетами и журналами в кофейных, да «красавицы», в которых в Галичине, по немецкому образцу, видят кухарок или, по-шляхетско-польскому, наложниц и салонных болтуний, «красавицы», которые не читали ничего, кроме молитвенника да польских «Розмаитосцей».
И литературные идеи и вкусы этой публики становятся законодателями ваших литераторов.
Понятно, отчего такою ветошью несёт от ваших литературных журналов, отчего так много в них одописного пустозвонства, отчего так кукольны ваши Серафы и Натали, отчего у вас в ходу такие безобразия, как переделки немецких повестей в русские, отчего ваши литераторы переводят такие пошлости, как «Ветка бозу» и т. п., а не возьмутся за Диккенса, Ауэрбаха, Шпильгагена, Золя, Флобера, Эркман-Шатриана, отчего из Тургенева вы кинетесь прежде всего на «Собаку», из Лермонтова – на «Повесть без имени», из В. Коллинза – на анекдот в «шулерне», отчего ваши сведения о России так детски-польско-немецко наивны, что вы в состоянии были напечатать рассказ «Тайная рука», где есть такие лица, как «графиня Новгорода», и т. д. и т. д. Понятно, отчего ваша смесь наполняется известиями «о носе берлинского депутата», а учёная часть – схоластическими хриями386, а за двадцать лет у вас не было ни одной статьти о народе, его быте, нужде и горе, ни даже повести о народной жизни, отчего у вас не была популяризована ни одна передовая европейская идея – научная, политическая, социальная. Понятно, наконец, что вам не только не противен мешаный австро-рутенский язык, но вы даже считаете его нормальным явлением, которое достойно дальнейшего развития, отчего в вашем журнале не видно даже того, что обыкновенно замечается во всех обществах, где если ещё не доросли до понимания, чтонациональное возрождние пойдёт всего успешнее при служении народу в духе современной цивилизации, то всё-таки считают необходимым изучать хоть форму народности, народный язык в пословицах, песнях и сказках народных. (Приводя подобные примеры, я имею в виду преимущественно «Друг» и ему подобные органы в прошлом и настоящем, но всё сказанное в доброй доле относится и к «Правде» и ей подобным.)
М. П. Драгоманов про ницість громадського Куда в жизни ведёт такая литература, об этом життя в Галичині та сподівання на молодь можно судить по той политике прислужничества, какой держатся галицкие депутаты, а в лучшем случае к таким картинам, каких я был свидетелем на псевдонародном митинге Общества Крачковского в Галиче, где в центре воссели «отцы Руси и их красавицы», а народ поставлен был бордюром вокруг, где иереи вообразили себя настоящим народом, а их ораторы по целым часам занимали собрание речами на непонятном народу языке о мелочных и формальных сюжетах, произнесёнными с неестественной декламацией, где народ не услышал ни одного живого слова, а тем более мысли. И между тем, как поляк, жид, немец, венгр налегает всё более густой тучей на ваш народ и народность, вы, галицкая интеллигенция, думаете устроить какой-то униатский Парагвай, какую-то иерейско-чиновническую аристократию, как уже устроили австро-рутенский литературный язык. Неужели же галицкая молодёжь остановится на этом «рутенском» идеале?»
У третьому листі до «Друга» Михайло Петрович Драгоманов змушений був спершу коротко зупинитись на неспроможності редакторів журналу заперечити не тільки положення, викладені в перших двох своїх листах, а й посилаючись на його попередні праці. Він указав на методи його опонентів, які кропали свої заперечення, «вырывая слова в одном месте, переставляя их в другое с другим смыслом и т. п. При таком методе едва ли не две трети написанного против меня в № 6 – 8 «Друга» совсем ко мне не относится: в одном месте я, напр., употреблял слова «простой народ», «простонародная литература» как термин, чужими высказанный, или как объяснительный, причём говорил, что именно писать «простонародную литературу» и есть дело самое почтенное, особенно на Украине и в Галичине; в другом я указывал на шляхетское презрение других к «простому народу», а мне говорят, что ведь и я шляхетские слова употребляю. Или: я говорил, что галичанам не следует спорить из-за мелочей, а меня упрекают в противоречии с этим, когда я говорю, что галицкая молодёжь должна выделить из себя партию с чисто народными идеями и т. п.».
Редактори раптом звернулися й до написаного Драгомановим п’ятьма роками раніше, та діяли такими ж шулерськими методами і знову були спіймані за руку. І в цьому останньому листі Михайло Петрович рішуче відстоював свої позиції, викладені в перших двох.
Історичний зміст праці Драгоманова, присвяченої Шевченку
Ширше йдеться про особливості його творчості у передмові до видання творів М. П. Драгоманова «Літературно-публіцистичні праці». Її автор – шевченкознавець І. С. Романченко387 починає її змістовною характеристикою епохи, в якій жив і працював М. П. Драгоманов: «У 80-ті роки над Драгомановим нависла тяжка хмара прикрих неприємностей. Серед них особливо допікала матеріальна скрута: київська Стара громада в особі її керівників перестала висилати гроші на видання збірників і журналу «Громада». Старогромадівці звинувачували Драгоманова в тому, що він надто далеко відходив вліво від запланованої програми, надміру, на їх думку, підносив передову російську літературу, яку дехто із старогромадівців (наприклад, В. Антонович) називав літературою денервуючою, «развратной и развращающей».
Націоналістично-клерикальні кола Галичини також оголосили Драгоманову бойкот, писали на нього прямі і замасковані доноси, всіляко принижували і часто обмежували його виступи в пресі. Внаслідок цього занепала і видавнича діяльність. З 1880 по 1897 р. Драгоманову пощастило видати лише «Марію» Шевченка російською та українською мовами в латинській транскрипції зі своїми вступними зауваженнями, в яких розвінчувався християнський догмат про непорочність Марії. Цією працею Драгоманов завдав відчутного удару по «оглупляючому» клерикалізму і в той же час подав першу спробу матеріалістичного розуміння Шевченкової поеми. В ці ж роки Драгоманов надрукував ряд статей у польській пресі з різних питань літератури і фольклору.
У наступний період, будучи професором університету в Софії, Драгоманов написав чимало літературно-критичних статей і надрукував їх, головним чином у журналі «Народ». Він публікує нові матеріали про арешт Шевченка 1859 р., пише замітку про новий переклад французькою мовою поеми «Катерина», рецензує повість І. Нечуй-Левицького «Над Чорним морем» (1891), подає гостро-критичний відгук на книжку В. Чайченка (Б. Грінченка) про Квітку-Основ’яненка під заголовком «Неправда – не просвіта», друкує рецензію на повість В. Чайченка «Сонячний промінь» (1893). Поява львівського видання «Кобзаря» в двох частинах за редакцією Ом. Огоновського викликала у Драгоманова справедливу критику у статті «Шевченко у другій хаті його імені» (1893). На схилі віку Драгоманов випускає в світ «Листи на Наддніпрянську Україну» (1894).
Провідним у виступах Драгоманова останнього періоду є подальше викриття реакційних ворожих сил, які гальмували розвиток української літератури, викривлено тлумачили поетичну спадщину Шевченка.
«Новоерівська» політика прислужників Австро-Угорщини
У 1890-х роках уряд Австро-Угорщини, користуючись підтримкою польських і українських буржуазних кіл, розгорнув новий наступ на революційний робітничий рух. З трибуни австрійського парламенту український націоналіст Юліан Романчук оголосив «новий курс» політики, яка полягала в консолідації української і польської буржуазії для наступу на життєві інтереси народу. Ю. Романчук виклав програму так званої «нової ери», яка зводилася до вірності престолу і греко-католицькій церкві. Для годиться йшлося, правда, і про «національні інтереси» українського народу, які, одначе, зводились до права, як зауважив з гірким сарказом Франко, підписувати українською мовою поштові картки.
Активізація новоерівців викликала опір з боку прогресивних сіл. Періодичні органи галицької радикальної партії – «Народ» і «Хлібороб», – натхненниками і керівниками яких були І. Франко і М. Павлик, гостро розвінчували політику новоерівців як зрадницьку щодо інтересів трудящих мас. Активно включився в боротьбу проти новоерівців і М. Драгоманов. Його статті «Неполітична політика» (1890), «Довгі вуха новішої ери» (1893) нищівно викривають «нову еру» як політичне знаряддя зради національних мас, спрямоване на обдурювання трудящих. Новоерівці на догоду правлячим урядовим колам і польсько-шляхетським шовіністам офіційно заявили про відмову від будь-якої політики, маючи намір дбати лише про піднесення культурної і національної свідомості народу. М. Драгоманов гостро висміяв таку «неполітичну політику» української буржуазії. Не пощадив він і Б. Вартового (Б. Грінченка), коли той виступив з порадою галичанам не дратувати уряд гострою критикою, утримуватися від політики, щоб, мовляв, мати можливість підносити культурний рівень народу для майбутньої «культурної автономії». У відповідь на це Драгоманов заявив: «Без політичної самостійності чи автономії не може бути автономії національної»388.
Не заперечуючи прав українського народу на політичну автономію, Драгоманов був у той же час принциповим противником сепаратизму України від Росії. Про це він писав не один раз у різних виданнях. У журналі «Народ» він недвозначно заявив, що «українців хіба всесвітній катаклізм може політично відірвати від великорусів»389. Інакше кажучи, М. Драгоманов тримався думки, що український народ зможе вибороти собі політичну незалежність тільки в єднанні з братнім російським народом, у спільній боротьбі з ним проти царату.
У декларації новоерівців твердилось, що українці повинні зберегти вірність грекокатолицькій церкві. Непримиренний ворог будь-якої релігії, Драгоманов і тут сказав своє авторитетне слово, багато зробив для розвінчання клерикалізму в Галичині та його ідеологів Пелеша, Качали, Наумовича, Огоновського та інших.
Надзвичайно дражливою для українських буржуазно-націоналістичних кіл була праця Драгоманова «Чудацькі думки про українську національну справу» (1891 – 1892), що частково друкувалася в журналі «Народ» і вийшла ще за життя автора окремим виданням. Після її появи на Драгоманова посилилися доноси, осуди, протести, зміст яких зводився до того, що автор «Чудацьких думок» нібито паплюжить національне чуття українця. Протилежної думки щодо цього були І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький, А. Кримський, Леся Українка, В. Стефаник та їхні однодумці.
Принципова й непримиренна до неправди діяльність Драгоманова
Насправді Драгоманов нічийого національного чуття не принижував, а лише виклав своє розуміння національного питання в умовах загострення класової боротьби. У згаданій праці він чітко заявив, що «національна ідея» сама по собі, без соціально-політичної боротьби не придатна до того, щоб можна було повести народ на повалення гнобителів. Любов до своєї вітчизни, до рідного народу, писав Драгоманов, священна і благородна, прагнення народу бути вільним і незалежним зумовлено історично. Саме така любов виключає будь-яку ворожнечу до інших націй, зумовлює єднання і братерську дружбу між народами. Інша справа, коли так звана «любов» до своєї нації супроводжується заявами про зверхність, її перевагу над іншими націями, пов’язана з пропагандою ворожнечі, відчуженості, неприязні між народами. Це вже не патріотизм, а людиноненависницький націоналізм, отрутою якого затуманюються недостатньо свідомі люди, паралізується активна участь їх у національно-визвольному русі, затушовується соціальна нерівність у середовищі нації.
Проти культивування націоналістичних почуттів, ідеології «національних святощів» Драгоманов виступав часто і непримиренно. Вогонь свого таланту публіциста і літературного критика він спрямував на розвінчання самої ідеї «національних святощів» та викриття їх апологетів: Барвінського, Огоновського, Романчука, Качали та інших.
Адже саме вони писали, що кожний «свідомий українець» неодмінно мусить сам дотримуватися й інших заохочувати берегти «національні святощі», шанувати, культивувати їх як «обов’язковий націоналізм». Конкретно, кожний «свідомий українець», твердили вони, повинен пам’ятати, що українська нація начебто має властивий тільки їй «національний дух», зовсім відмінний від «національного духу» інших націй, що українці повинні дотримуватися юліанського календаря, який нібито відповідає українській «національній релігії».
На схилі літ Драгоманов випускає в світ «Листи на Наддніпрянську Україну» (1894).
«Тілько ж даремне д. Вартовий підклада Шевченку усі свої думки, котрі проявились в українолюбців уже після Шевченка. Шевченко, наприклад, ще не мав думки непримінно виробляти осібно окрему літературу українську, бо він писав свої повісті по-московському, також писав навіть свій «Дневник», сценарій до «Стодолі» і т. ін. Видимо, Шевченко вибирав собі мову, в кождому разі для нього легшу і відповіднішу, а не думав непримінно виробляти осібну, самостоячу літературу й мову, як деякі пізніші українолюбці. Уп’ять історику треба розличати часи.
Вже зо сказаного зараз виходить, що між Шевченком, з одного боку, й Костомаровим і Кулішем, з другого, не така велика ріжниця, як виставля д. Вартовий, у которого виходило, що мовбито Костомаров і Куліш понизили національну самосвідомість українську, підняту так високо Шевченком. Добродій Вартовий має на оці, що Костомаров налягав на те, щоб українські писателі писали більше про простий народ і для нього, згоджуючись навіть на літературу «для домашнего обиходу». Він навіть, видимо, ставить у вину Костомарову те, що він списав томи на московській мові, а мало писав на українській. В тих поглядах, які викладав Костомаров на українську літературу в книзі Гербеля390 «Поезия славян» і в «Вестнике Европы», звісно, є певна доля опортунізму («Москаля одурити»), але в його бажанню, щоб українські писателі звернули свою головну увагу на «простий народ», писали про нього і для нього – багато щирості й багато вірного. Костомаров писав таке ще в «Основі», закликаючи земляків до писання і видання популярних книг. Добродій Вартовий даремно так легковажить цю річ, кажучи, що вона не може збудити ентузіазму, так як ціль витворити цілком самостійну українську літературу.
Дійсний ход речей показав, що наша громада не проявила ентузіазму ні в напрямку Костомарова, ні в напрямку д. Вартового, і винна тут зовсім не теорія української літератури «для домашнього обиходу», а «всероссийская вялость». Тільки ж думка витворити літературу для простого народу і про нього, котра б змалювала нам всі боки життя мільйонів і давала б тим мільйонам всесвітню історичну поступову просвіту (не 20 книжок, як каже згорда д. Вартовий!), може збудити ентузіазм у правдолюбців не так млявих, як наші земляки. До того ж така література зробила б величезний ґрунт і для широкої національної самостоячої літератури і дала б їй живість, зберегла б її від схоластики, котрою часто хибує новіша, як іноді кажуть і в українських кружках, «українофільська, а не українська література».
Щодо того, що Костомаров списав томи по-московську, то як його за це покарати українцеві, коли все-таки Костомаров писав переважно про Україну, а до того, виходячи з українства, перевернув зовсім історію і Північної Русі, Московщини, і виробив в усій Україні підстави для думок федеральних. (Далі ми побачимо, що сам д. Вартовий, бажаючи провести свою програму в діло, показується не так-то байдужим до «російської інтелігенції».) Очевидно, Костомарову було важче писати свої наукові праці по-українському. Це фатальні обставини, і не знаємо, хто б виграв з того, якби 15 – 20 томів праць зостались «мишам на снідання» або не були написані. Адже ж все рівно ніхто другий, ні з таких патріотів, як д. Вартовий, не написав і не напечатав нічого й здалека подібного науковим творам Костомарова, і все, що появила українська історіографія розумного на українській мові в остатні часи, були переклади частини Костомарова ж, іноді не дуже зручні і котрі в додаток не дуже-то розходяться і без припадкових меценатів не могли б печататись. (В Галичині ті переклади розходяться мало, а в Росії вони заборонені, там, де видають оригінали, не стануть читати перекладів. Видавець д. Ол. Барвінський мусив прохати підмоги в сойму і слухати нотацій польських історичних патріотів з приводу праць Костомарова.) Нічого ж нам ганьбити Костомарова, навіть коли б ми пішли далі його в наших національних думках.
Замітки д. Вартового про Костомарова мають один спеціальний інтерес для австрійських русинів. Добродій Вартовий виявля, що Костомаров був не такий-то вже відрубник української національності, як наприклад, галицькі народовці, а в добрій мірі «общеросс», як говорять в Галичині. Коли я говорив подібне, то «Правда» завдавала мені злостну брехню, бо їй непремінно хотілось виставити «батька Костомарова» в усім солідарним з нею. Тепер д. Вартовий, видимо, хоче зняти з Костомарова навіть титло «батька», і д. Вартовому, певно, ні один галицький народовець уже не посміє завдати брехні, як мені, бідному.
Я не стану ні боронити думок Костомарова, ні споритися з ними. Для мене досить того, щоб у австрійській Русі точно їх знали, і це може вменшити там дуже великий запал партійності. Ні один серйозний націоналіст український не може відректи Костомарову заслуг для українства. Нехай же народовці не дуже поспішаються з анахтемами на тих, хто, подібно Костомарову, не ділить усіх їхніх думок про відносини України до Московщини, а з другого боку, нехай же й австрійські «общероссы» зроблять хоч 1/10 долю для українства того, що зробив Костомаров. На перший раз буде досить і таких результатів знакомства австрійських русинів з Костомаровим.
Мені тепер треба сказати ще про спеціальну точку, про те, що говорить д. Вартовий з поводу деяких моїх заміток про Костомарова. Добродій Вартовий каже, буцімто я закидав Костомарову сервілізм. А в мене й думки такої не було! Я тілько вказував на не зовсім достойний, а до того і незручний сервілізм Костомарова («примирить з нами правительство», як писав мені Костомаров у 1878 р.) і на його відсталість в соціальних і релігійних справах, котра, між іншим, довела його до того, що він писав про те, як можна українським євангелієм «викорінити штунду» і т. ін.
Добродій Вартовий навіть і не попробував показати, в чім я тут помилявся, а вдарив на мене зовсім з іншого боку. Я, видимо, маю недолю чимсь особливо не подобатись д. Вартовому. Може, ніс мій йому не подобався, або, може, яка-небудь «дама, приятная во всех отношениях», донесла йому, що я вбачаю «несовершенства» в його прекрасних очах. Я можу довести до відомості д. Вартового, що я його очей ніколи не бачив і готовий вірити в їх «совершенства», аби тільки вспокоїти його і говорити про ріжні спорні між нами громадські і літературні справи, як слід поважним людям, а не як гоголівські герої.
Я вже в «Буковині» сказав дещо про те, як вільно препарував мої літературні думки д. Вартовий, котрий дійшов до того, що приписав мені поклони російським сільським жандармам, «урядникам», в чому я ще менше винен, ніж Чичиков в заміру украсти губернаторську дочку. Тепер вкажу на такі фрази, як, наприклад, «Шевченко був народоволець більше, ніж десять Драгоманових». Що це за коефіцієнт? Громадські справи – не алгебра! Добродій Вартовий може бути сам в 10 раз більший народолюбець, ніж Шевченко, в 1000 раз більший, ніж Перерепенко (внук Гоголевого), а в іншому ділі Перерепенко може мати більше рації, ніж Шевченко й сам д. Вартовий.
Говоримо про такі способи полеміки д. Вартового, як про ознаку тої літературної невоспитанності й сектярської завзятості, котра в останні роки досить себе проявля в певних українських кружках, і котрої треба позбутись, інакше адепти її будуть бити самі себе по лобам своїми полемічними канчуками.
Ми мусимо спинитись над тим, що говорить про нас д. Вартовий з поводу приписаного нам закиду Костомарова в сервілізмі не через те, щоб для нас було інтересно поправляти полемічні закиди автора, а через те, що це нам дасть пригоду ще раз звернути увагу на політичні підстави для української національної справи в Росії, без котрого вона ніколи не вийде за границі літературного дилетантства».
Для чого Вартовий зв’язує у своїй критиці Костомарова й Драгоманова
Власне, Б. Д. Грінченко поєднав погляди Костомарова й Драгоманова в цьому життєво важливому для майбуття українського народу питанні: «Добродій Вартовий, – зазначає М. П. Драгоманов, – відповідаючи на ним самим видуманий за нас закид Костомарову в сервілізмі, каже, що «даремно Драгоманов нападав за сервілізм у Костомарова», бо погляди Драгоманова однакові з костомаровськими, що обоє ми думаємо «обмоскалити» наш народ.
Нехай ми й справді думаємо тілько «обмоскалити» українців, але при чому тут сервілізм? Але ж це термін з круга політічного, тобто «зовсім з другої опери»! Ми, наприклад, показали в «Чудацьких думках», як французький Конвент хотів пофранцизувати всіх провінціалів Франції, але ж досі люди бачили в членів Конвенту всякі гріхи, окрім сервілізму. Ми ж сорок раз заявляли нашу незгоду з Конвентом у тому, що ми вважаємо за безперемінну умову політичної волі автономію громад, повітів і країн. Це мусили ж сказати д. Вартовому і гоголівські дами, коли він сам не бачив нічого писаного нами. Отже допустимо, що хоч половина з нашого політичного ідеалу виповниться в Росії, то тоді смерть нашому «обрусительству», хоч би воно було ще більше, ніж видає д. Вартовий. Бо тоді шановний противник наш не тільки матиме право печатати свої думки над Дніпром, а не в Чернівцях, а може намовити земство миргородське заложити в себе український університет (єсть же в Швейцарії кантональні університети!) і викладати там своєю прекрасною мовою хоч історію, аби хто хотів його слухати. Якого ж ще більшого реализму хочеться від нас д. Вартовому?
Добродій Вартовий милостивіший до д. Куліша, ніж до Костомарова. Він хоч і недовольний москвофільством «Истории воссоединения России», та прощає її ради того, що д. Куліш написав у «Крашанці русинам та полякам», почасти через потребу згоди між обоми народами, – по думці д. Вартового, проти спільного ворога, москаля, та за те, що Куліш переклав на українську мову «Новий завіт», Шекспіра і т. ін. Ми не будемо говорити багато про д. Куліша почасти через те, що самі де в чому згоджуємось з замітками д. Вартового про «Историю воссоединения», почасти через те, що докладна про погляди д. Куліша завела б нас далеко, а суть наших думок про це ми сказали в «Чудацьких думках». Ми вкажемо тілько, що д. Куліш, як видно з недавнього його листа до редакції «Народа», не такий-то вже український «відрубник», як показується д. Вартовому, бо він не тілько багато писав і пише по-московському (так пише він всі свої наукові праці, тако ж само, як і Костомаров), а ще вважа і москалів за «русів» – за «новорусів», вважаючи українців «старорусами». А про спілку українців з поляками, якими поляками, – а в тім-то й уся сила.
Коли з польськими панами або взагалі з патріотами історичної Польщі, то д. Куліш вже сам спробував цю спілку, як про те він же розказав у листі до редакції «Народа», і з тої проби виявилось, що ця спілка неможлива. Те ж саме виявилось і перед галицькими народовцями в недавню нову еру. Коли ж українці мусять увійти в спілку з польським народом, що живе в Польщі етнографічній, то це друге діло, – та й тоді треба б точніше виявити, чи навіть з національного боку Польща має одного тілько ворога на сході, чи уряд московський, чи й увесь народ, а також чи можуть українці й поляки побороти уряд московський без помочі самого народу московського? Тілько ясні відповіді на ці питання дають плоть і кров справі про спільність українців з поляками, а без того вся розмова про неї буде пустою балаканиною або навіть взаємною містифікацією.
Добродій Вартовий навіть не ставить цих питань, а через те й нам нема рації говорити тут про них, тим паче, що ми не раз говорили об тім деінде.
По словам д. Вартового, погляди Костомарова, Куліша й мої «спантеличили» земляків, затемнили національну свідомість українців і задержали зріст українців, між іншим, і літератури. Чудна ця скарга! Скрізь на світі дискусія живить, а у нас вона затемнює! Такі скарги тілько показують нетерпимість і значить, необразованість певних наших патріотичних кругів. Вони нагадують одного белетриста нашого, котрий, прочитавши досить умірковану критику на свої твори, писав, що після таких критик ніхто не схоче писати! На заклик до чесної дискусії справи ми вміємо тілько мовчати або кричати: зрада!
Нарешті єретичні погляди Костомарова і т. ін. зовсім не спинили нікогісінько. По моїм поглядам, виложеним в статтях «Література російська, великоруська, українська і галицька», українським писателям радилась певна система праці: «знизу в гору» (від літератури простої до високої) , але зразу ж відводилось дуже широке поле навіть для простонародної літератури. І я можу сказати, що дехто й почав працювати: наприклад, Старицький почав перекладати сербські пісні, «Гамлета»391. Я сам передав у Галичину переклади Руданського, радив перекласти всього Гомера, «Антігону» Софокла, твори Данте, «Вільгельма Телля» й «Орлеанську діву» Шіллера і т. д. Почасти це й сповнилось. Проб зовсім не спиняли (я й не думав про яку регламентацію), і навіть костомарівських рад ніхто не слухавсь: Олена Пчілка перекладала високі твори, писала романи з життя вищих класів, котрі в Росії не говорять по-українському; те ж робили Кониський, Нечуй, Чайченко і т. ін. Сам Куліш переклав «Дон-Жуана» Байрона, звісно, більш далекого від нашого простого народу, ніж «Гамлет», «Отелло» і др. подібні твори Шекспіра… Словом, хто хотів працювати чи знизу вгору, чи згори вниз, той працював. Коли вийшла яка задержка в праці українолюбців, і певна темнота думок (зрештою не так національних, а політичних, соціальних і культурних), і далі упадок української літератури в 80-ті роки, то зовсім не від тих думок, котрі, між іншим, викладав і я, а від чогось іншого: від необразованості, а далі реакційності, котра прикривалась націоналізмом на манір галицьких народовців і почасти під їх впливом.
В 70-ті роки, коли в Росії серед українських кружків зменшилась національна виключність, коли почали висуватись на перший план інтереси об’єктивної науки, а в белетристиці – цілі соціально-психологічного аналізу, а не формально-націоналістичні, – українська наука і література стояли зовсім не низько. Я мушу нагадати д. Вартовому елементарні речі, котрі чудно забувати.
В 70-ті роки українська етнографія видала величезну збірку матеріалів Чубинського (при котрих, замічу, сам Чубинський з Михальчуком виголошували до того вже москвофільські думки, що я сам мусив полемізувати з ними в «Вестнике Европы»), «Чумацькі пісні» Рудченка, «Історичні пісні українського народу» Антоновича й мої, мій звод українських казок і легенд, «Думи Вересая», «Буковинсько-руські пісні» (здобуті мною й упорядковані по плану, вироблені Антоновичем і мною), праці Київського географічного товариства і т. ін. Сміло скажу, що в 80-ті роки українська етнографія пішла назад, а не вперед після тих усіх видань навіть матеріально, а всякий розсудний чоловік легко може побачити, чи ті видання 70-х років могли служити для української свідомості й знаття мови народної, без котрого неможлива жива національна культура.
По часті поезії 70-ті роки дали повне видання Шевченка. Про праці перекладу європейських поетів я вже сказав.
По часті белетристики в 70-ті роки явився роман Білика й Мирного «Хіба ревуть воли», котрий «аз худый» видав у Женеві. Це безспорно найвище з того, що появила українська белетристика. Роман узятий з життя простонародного – в ньому нема ні одної націоналістичної фрази, але увесь він своїм соціально-психологічним матеріалом національний і навіть автономічний. Роман той мало розширився через те, що глупі викрики галицьких народовців проти всього «женевського» довели до того, що він заборонений в Австрії, хоч там нема й слова нецензурного, і хоч він був навіть цензурою російською дозволений перед законом юзефовичівським. Відповідно соціальному напрямку українства під кінець 70-тих років і Нечуй, після своєї спроби написати «високий» роман український («Хмари»), проби невдачної і з літературного, і з ідейного боку (Радюк просто смішний дурень!), написав соціальні романи з життя народного: «Кайдашева сім’я», «Бурлачка», «Микола Джеря», – безспорно вкупі з «Двома московками», – найліпші його твори («Микола Джеря» напечатаний в 1883 р., але цифр наших 70-ті і 80-ті роки нічого брати буквально, а приблизно).
Додати треба, що паралельно робляться проби внести в популярну літературу європейські поступові ідеї – збудити в народі розуміння політичних і соціальних справ, біжучої політики, котра доторка й народ (брошури «Про козаків, татар та турків», «Запорожці», віденські й женевські соціалістичні брошури). Робляться також спроби видавати утилітарні популярні брошури, наскільки пуска їх російська цензура.
У ті ж часи, переважно заходами явних соціалістів українських, українці російські вступають у тісніші зв’язки з австрійськими, проходять в Буковину і Угорську Русь, де раніш не було ноги українолюбця, закладаються українські бібліотеки в Відні (при «Січі»), в Чернівцях (при «Союзі»), заносяться численні книги українські в Угорську Русь, де їх доти ніхто не бачив. (У своїх «Австро-руських споминах» я розказав і такий кумедний факт, що я був перший, хто привіз в Угорську Русь навіть видання галицької «Просвіти»! Потім ще кілько моїх молодих приятелів перевезли туди кілька з тих видань!).
Поряд з тим розмова про українську справу виноситься перед європейську публіку, де справа та ставиться в зв’язку з великими всесвітніми справами політичними, соціальними й культурними. Появляються статті про Україну в журналах італьянських, французьких, англійських, іспанських, переклади на сербську, польську, статті українців (Драгоманова, Подолинського, Павлика), далі – чужинців по матеріалам, даним українцями (Рембо, Ральстона, Морфілла, Ан. Леруа-Юольє і др.), причому ці вчені-чужинці замітили, наприклад, і те, як у київських виданнях збираються докупи «disjecta membra»392 української національності.
А націонал д. Вартовий цього всього не замітив! Він побачив тільки «спантеличення» в усій досить складній і систематичній роботі!
Хай вибачать нам, що нам прийшлось згадувати й свою працю. Зроблено це навіть не prod omosua393, хоч д. Вартовий і дає до цього привід своїми нападами, а просто через те, що з бібліографії імен не викидають.
У 80-ті роки формальний націоналізм запанував в українських кружках над космополітичним науково-соціальним напрямком. Сталось це зовсім паралельно зросту московського «самобытничества», а нарешті й петербурзького побєдоносництва і почасти під їх косим упливом. Почалось з того, що видано було безполітичне «культурництво», а далі політика, вигнана в двері, таки влізла в вікно в формі похвал галицьким народовцям і самому єпископу Пелешу навіть у кореспонденціях у російські ліберальні журнали, а нарешті завершилось усе поновленою «Правдою» (з поновленою духінщиною) і «новою ерою» взагалі.
Погляньмо, як ці нові вітри вплинули на літературу і науку нашу.
У відповідь на заборону публікувати поезії Шевченка Драгоманов видає «Кобзар» у Швейцарії
Дійшло діло до такої чудасії, що мені з України писано, щоб не видавати навіть матеріалів народних у «Політичних піснях українського народу XVIII – ХІХ ст.», ні поезій Шевченка394, заборонених у Росії, бо все політичне тепер шкодливе для України. (Звісно, я не послухав такої мудрої ради і тільки через те вийшло, що мої видання були єдиними збірками в 80-ті рр., а також і те, що женевське видання Шевченка примусило і львівських народовців видати, нарешті, повного «Кобзаря», хоч по страшенно дорогій ціні, недоступній для маси.)»
ПЕРШЕ ПОВЕРНЕННЯ ШЕВЧЕНКА НА БАТЬКІВЩИНУ
У 1843 р. Тарас Шевченко живе в Яготині, у маєтку брата декабриста Сергія Волконського, куди його привозить син знаного російського поета, нащадка декабристів.
Маєток на р. Супої належав колись гетьманові К. Розумовському (В. Рєпніна була внучкою Розумовського). Микола Григорович Рєпнін був видатним державним діячем за часів Олександра І, учасником Вітчизняної війни 1812 р., віце-королем Саксонії, генерал-губернатором Малоросії (Чернігівщина і Полтавщина). Вийшовши у відставку, деякий час жив за кордоном, але змушений був повернутися на батьківщину, бо Бенкендорф загрожував конфіскувати його маєтки.
Рідним братом М. Рєпніна був Сергій Григорович Волконський. Оскільки старовинний рід Рєпніних не мав нащадків по чоловічій лінії, з наказу Олександра І старшому з братів Волконських Миколі дозволено змінити прізвище батька на прізвище матері – з дому Рєпніних. С. Волконський був видатним діячем декабристського руху, керівником Кам’янської управи, одного з центрів Південного товариства. Після поразки повстання був заарештований і засланий на каторгу в Сибір.
М. Г. Рєпнін підтримував зв’язки з засланим братом. Коли дружині С. Волконського, оспіваній згодом Некрасовим у поемі «Русские женщины», та яка поїхала за своїм чоловіком, не дозволяли взяти з собою сина Миколу, М. Рєпнін взяв небожа на своє виховання.
Оскільки Рєпніни листувалися з Волконськими, підтримували їх, вся атмосфера в Яготинському маєтку була, так би мовити, наснажена духом декабризму.
Показові риси світогляду Варвари Миколаївни Рєпніної
Особливо співчувала декабристам дочка М. Г. Рєпніна – Варвара Миколаївна. Ось що записала вона до свого щоденника після одержання звістки про поразку повстання: «Накануне моего дня рождения 1826 года, 19 июля, когда совершилось мне 18 лет, получили мы печальное известие, касающееся дядюшки Сергея Григорьевича Волконского. Увы, как страждет сердце моё. Как пожелала бы соединиться с ним в печальном пристанище его… Если бы я была дочь князя С. Г. Волконского, то меня бы здесь не было! О боже мой, научи меня, как достигнуть мне цели моих желаний, как соединиться мне с злополучным Сергеем Григорьевичем. Я хочу быть его дочерью, его Антигоною».
До щоденника переписано копію листа К. Рилєєва до дружини, написаного напередодні страти, що є свідченням широких вільнолюбних симпатій В. Рєпніної.
Ясна річ, що цією декабристською атмосферою не міг не надихнутися й Шевченко. Саме в цій атмосфері зародилася «Тризна» («Бесталанный») і той пієтет до декабристів, який зберігав поет до кінця свого життя.
Десь з кінця жовтня 1843 р. Шевченко на довший час спинився в Яготині, працюючи над копіями портрета М. Г. Рєпніна. З цього часу між поетом і Варварою Миколаївною Рєпніною зав’язалися особливо дружні відносини. Було їй тоді 35 років, (на 6 років старша за Шевченка). Після невдалого кохання до Л. Баратинського (брата відомого поета) вона почувала себе самотньою і полюбила Шевченка. Не соромлячись свого почуття, Варвара Рєпніна докладно, з усіма подробицями описала зародження його й розвиток у листі до Ш. Ейнара 27 січня 1844 р. (французькою мовою). Це, власне, не звичайний лист, а ціла повість, де надзвичайно щиро й відверто передала вона свої взаємини з поетом: «зовуть його Шевченком» 395.
Ось що розповідає про початок знайомства зі своїм надалі незмінним другом Варвара Миколаївна Рєпніна396: «Однажды… в июле я вышла в сад с мамою… я не глядела кругом, так что мы не замечали, что делалось на небе. Мы не прошли и ста шагов, как встретили Капниста397 с каким-то незнакомым мне человеком. Капнист говорит нам: «Ведь собирается сильная гроза, взгляните на небо». Действительно, большие чёрные тучи, казалось, были готовы разразиться над нашей головою. Однако мама не сдавалась: может, мы ещё успеем обойти лужок – лужками в русских садах называются сенокосные луга. Пока шли эти переговоры, гроза надвинулась и разразилась, пошёл крупный дождь. Капнист схватил мамину руку и побежал, я храбро следовала за ними шагом, а незнакомец остался… Когда мы пришли домой, Капнист вернулся в сад за своим знакомым; я вышла на мамин балкон и скоро увидела, как они возвращались, мокрые насквозь. Капнист, поселившийся у нас на часть лета ради своего больного сына, попросил разрешения привести своего знакомого, художника, в гостиную, чтобы показать ему картины; разрешение, конечно, было дано, и в ту минуту я узнала только, что это художник-живописец и поэт, причём даже больше поэт, нежели живописец, и что зовут его Шевченко. Запомните это имя, дорогой учитель, оно принадлежит к моему звёздному небу. Вечером Капнист один пришёл к чаю, и с тем очаровательным выражением, которое делает его красавцем, наперекор его уродству, принялся рассказывать нам о Шевченко, об его оригинальности, о том, что он поэт даже в своих ухватках…
…Он стал человеком для других; по существу человеком он был давно, пройдя через горнило невиданных страданий. Он сделался художником по совету одного человека, принимавшего в нём участие, и потому, что родился им.
Всё это и многое другое я узнала в подробностях уже после того, как познакомилась с ним. Затем я уехала с родителями в Седнев. В наше отсутствие Шевченко снова побывал в Яготине, у моего брата и моей невестки, чтобы посмотреть портрет папы, писанный Горнунгом, так как ему заказали две копии этого портрета. Уезжая, он обещал ещё раз приехать на две недели. Затем мы вернулись; и однажды вечером, в октябре, входит мой брат с господином, которого он тут же представляет моим родителям, это был он. Потом брат говорит: «Вот моя сестра».
Я напомнила ему нашу первую встречу под дождём несколько месяцев назад, и мы разговорились. Он показался мне простым и непритязательным. Он сразу стал у нас своим человеком. Одним из тех, которые так удобны в деревне, кого приятно видеть в гостиной и кого можно оставлять одного, не боясь, что он щепетильно обидится. Глафира398 по-видимому, очаровала Шевченко; он не влюблён, но мог влюбиться при первом удобном случае.
Тут приехала моя сестра. Спустя несколько дней… я заболела той невралгией, о которой писала вам; дней восемь я не выходила из моей комнаты. В течение этого времени Шевченко прочитал одну из своих поэм, и все дамы были в восхищении. Я снова появляюсь на горизонте – он с участием справляется о моём нездоровье; я опять вижу его ежедневно – он мне нравится – но спокойно, именно как это могло и должно было быть.
Глафира по-прежнему его солнце, а она держится просто и с тактом. Однажды вечером он предлагает прочитать нам другую свою поэму, под заглавием «Слепая». Сестра осталась с мамой; мы не хотели, чтобы в её присутствии читалась вещь, которая напомнила бы ей о состоянии её глаз. И вот он начинает читать.
О, если бы я могла передать вам всё, что я пережила во время этого чтения! Какие чувства, какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль! Моё лицо было всё мокро от слёз, и это было счастьем, – потому что я должна была кричать, если бы моё волнение не нашло себе другого выхода; я чувствовала мучительную боль в груди. После чтения я ничего не сказала; вы знаете, что при всей моей болтливости я от волнения теряю способность речи. И какая мягкая, чарующая манера читать! Это была пленительная музыка, певшая мелодически на нашем красивом и выразительном языке.
Позднее, когда я смогла говорить, я сказала ему: «Когда Глафира продаст свою первую картину и отдаст мне эти деньги, как она обещала, я закажу на них золотое перо и подарю его вам». Перед сном я так горячо молилась, я так страстно любила весь мир, я была так добра, – боюсь добрее, чем я на самом деле.
Шевченко занял место в моём сердце, я часто думала о нём, я желала ему добра и желала сама сделать ему добро, притом – по моей горячности – сейчас и как можно больше. Я, втайне и даже не сознавая того, чувствовала ревность из-за предпочтения, которое он оказывал Глафире. Моя радость, может быть, слишком добра, грусть начинала становиться недоброй.
Один вечер он дурачился, болтал вздор и глупости. Видевши его один раз великим, я хотела всегда видеть его великим; я хотела, чтобы он был неизменно свят и лучезарен, чтобы он распространял истину силою своего несравненного таланта, – и хотела, чтобы всё это делалось через меня. О, хитрость и коварство «я», этого ненасытного «я», которое не хочет умереть и которого я не в силах смело убить! Я говорю ему: «Возможно ли, чтобы вам, которому дано было быть столь благим, доставляло удовольствие стать тем, что вы теперь? В тот день, когда вы нам читали «Слепую», я так горячо молилась за вас!» Тут он вскочил, схватил мою руку и поцеловал её; нечего вам говорить, доставило ли это мне удовольствие. Это был лишний парус, чтобы ускорить быстрый бег моего челна.
Проходит ещё несколько дней, и я узнаю от мамы, которая уже не покидала своей комнаты, что на одной свадебной вечеринке (я уже говорила вам, что нигде так не любят веселиться, как у нас) Шевченко имел слабость выпить больше, чем следовало. Словно острый нож пронзил мне сердце. Надо попенять ему за это, – но как? Перед тем я взялась переписать ему стихи; и вот я воспользовалась этим и прибавила там несколько аллегорических строк, которые хочу переписать вам.
На одной стороне листа было написано: «Немногим даны в удел лира и свирель, но имеющие сердце любят вслушиваться в бряцание певцов восторженных или жалобно вопиющих, и в ответ на их золото есть и у них для обладателей высокого таинственная молитва и искреннее желание, и они (имеющие сердца), чающие в будущем прекрасного, воскликнут: бедная Оксана (это имя героини поэмы)! Люди тебя погубили, и твой поэт забывает тебя!»
На другой стороне листа было написано: «Ангел-хранитель поэта уныло летает над головой его, отягчённой грешным сном. Он остановил полёт свой, взор его полон болезненной любви. Он осеняет его крылами – и молитва, какую только могут сложить небожители, постигающие вполне, что есть созерцание божеств, – вырывается из уст его за вверенный сосуд, в который создатель влил столько прекрасного! Грех и соблазн стараются пошатнуть сосуд, и чистая, золотая струя готова выкатиться из него и быть поглощённой грязью разврата… Горячая слеза упадает из очей ангела на сердце поэта – она его прожгла и обновила: он не погиб – нет! И раскаяние облекается в белую одежду, как невинность».
Это – плохой перевод того, что я написала Шевченко по-русски; но вам ведь нужен не мой стиль, а мои мысли, – о них перевод даст вам представление. Итак, когда он пришёл к обеду, я отдала ему копию его стихов и сказала, что в ней есть ещё кое-что, писанное мною. Он поблагодарил меня. Вечером, сверх всякого ожидания, мама вышла к чаю в гостиную; это меня радостно взволновало. Я принялась за чулок, который вяжу для вас; он начал подсмеиваться над моим непоэтическим занятием; потом он стал говорить о разных вещах; речь зашла о слепом поэте Козлове, Глафира принесла его произведения. И он прочитал нам оттуда несколько отрывков так задушевно, с таким искренним восхищением, что даже мама была очарована им.
В ту минуту, когда надо было идти спать, я на мгновение задержалась в гостиной после всех, как будто для того, чтобы взять кое-какие книги, и спросила его, сердится ли он на меня; он ответил: нет, и поблагодарил меня, но таким тоном, который меня не убедил.
На следующий день он не явился; так прошло четыре дня, – ему всё носили обед в его комнату; я мучилась, думала, что оскорбила его, хотела делать что-нибудь для него и, боясь писать ему, так как это, по-видимому, совсем не удалось, принялась вязать для него шерстяной шарф; шерсть дала мне мама. Наконец, моя невестка, у которой он завтракал (летом и осенью она занимает у нас флигель, не примыкающий к большому дому), сказала ему, что я думаю, что он на меня сердится. Он ответил, что напротив, и вечером пришёл к нам.
Не было никого, кроме Глафиры, Тани, меня и его, потому что m-lle Рекордон в счёт не идёт, особенно когда говорят по-русски. Я поздоровалась с ним, отдала ему шарф и сказала, что боялась, не сердится ли он на меня.
Когда убрали чай, m-lle Рекордон ушла, и мы остались вчетвером; он стал болтать вздор, и я сказала ему: как жаль, что он оставил своё уединение, потому что он говорит столько глупостей; после этого водворилось полное молчание, никто не проронил ни слова. «Тихий ангел пролетел», – сказал Шевченко; эта русская поговорка, означающая общее молчание. «Вы умеете разговаривать с ангелами, – сказала я, – расскажите же нам, что они вам говорят».
Он вскочил с места, побежал за чернильницей, схватил лист бумаги, лежавший на столе, и стал писать, потом подал мне эту бумагу, говоря, что это – посвящение к одному произведению, которое он вручит мне позже. На листе было написано следующее, в красивых и мелодичных стихах по-русски, а это значит – пленительно и сладко: – В память 9 ноября (в этот день я написала ему тот выговор).
Душе с прекрасным назначеньем Должно любить, терпеть, страдать, И дар Господний – вдохновенье, Должно слезами поливать. Для вас понятно это слово… Для вас я радостно сложил Свои житейские оковы, Священнодействовал я снова И слёзы в звуки перелил. Ваш добрый ангел осенил Меня бессмертными крылами И тихостройными речами Мечты о рае пробудил.Он передал мне лист, я прочла; чистая и сладкая радость наполнила моё сердце, и если бы я поддалась обуревавшему меня чувству, я бросилась бы ему на шею.
Но я сказала себе: надо подумать; чтобы выиграть время, я вторично перечитала стихи, потом вскочила с места, – он в это время ходил по комнате; я сказала ему: «Дайте мне ваш лоб», – и поцеловала его чистым поцелуем, потому что это было сделано в присутствии Тани и Глафиры. Вечер, начавшийся так неприятно, кончился восхитительно. На следующий день я рассказала маме всё, исключая поцелуй.
Дальше дни потекли мирно, он всё время был со мною открыт, но без всякого фатовства или ухаживанья, без всякой чувствительности; мы даже не подавали друг другу руки здороваясь. Он уехал с моим братом в Андреевку, и накануне его отъезда я дала ему молитву, в которой выражалось то, что я желала бы для него.
Он вернулся через десять дней, в течение которых я много думала о нём , и всё порусски; я не могла тогда писать ни на одном другом языке, я не могла разобрать, что во мне происходило, – вот почему я вам не писала. Наконец они вернулись. Мы сидели за чаем, когда он вошёл в комнату; Капнист был у нас; увидав его, я вскочила во весь рост, но, заметив, что он обращает ко мне общий поклон, я села на своё место с очень неприятным чувством.
Он и мой брат говорили всё глупости, наконец после одной нестерпимой глупости брата я вскочила на диван, прошла за спиной Капниста, потому что я была заперта с обеих сторон, спрыгнула на пол и пошла к маме, которой я сказала, что Базиль и Шевченко болтают такой вздор, что я больше не могу выдержать.
Много позднее, когда папа уже лёг, Базиль пришёл к маме, и моя невестка позвала меня назад в гостиную, так как Шевченко будет читать свою новую поэму – ту, которую он посвятил мне. Я была так недовольна им, что не хотела идти; она мне сказала: «Иди же, ведь это для тебя». Я пошла. В гостиной были только поэт, Капнист, Лиза, Таня и Глафира, – больше никого. Капнист спросил меня: «Что с вами?» Я сказала, что я дурно настроена. «Надо стараться превозмогать себя».
Шевченко начал; я была в таком расположении духа, что мне хотелось всё находить дурным; но я снова была побеждена. О, какой чудесный дар ему дан! Я не могла сдержать рыдания. Капнист молчал. Лиза тоже. Таня была почти растрогана, Глафира окаменела, у меня блестели глаза, лицо горело. Капнист подозвал к себе Шевченко, который остановился было предо мною, – и тут этот милый Капнист, который весь – сердце, начал расчленять и обсуждать поэму, хотел высказать себя холодным, рассудочным, положительным, – но ему это не удалось.
Шевченко отдал мне тетрадь, всю писанную его рукою, и сказал, что к этой рукописи принадлежит ещё портрет автора, который он и вручит мне завтра. Я поблагодарила его очень сдержанно; всё происходило как бы вне меня; я сказала, что дам ему кое-что.
На следующий день приехала графиня Кейкуатова, а так как гостя – у нас, она не желает видеть никого из посторонних, то мне пришлось на всё время взять её на себя. Я кончила переписывать моё писанье, которого не могу вам перевести здесь, так как это было бы слишком длинно; меня что-то толкало писать эту вещь, я не могла дать себе отчёта – что. Она озаглавлена «Девочка». Это почти точная копия моего сердца, разделённая на четыре эпохи: 12 лет, 18, 25 и 35, и в заключение – одинокая могила.
Когда настал вечер, я послала своё писание Шевченко в гостиную. На следующий день я его не видела из-за графини Кейкуатовой, но невестка и Глафира сказали мне, что он был мрачен и очень странен и что он ушёл тотчас после чая. Я была у мамы вместе с княгиней Кейкуатовой; тут мне принесли записку, она была от него. Я не могу послать вам её перевод, потому что у меня её выпросил Капнист, который всё это время был для меня вашей тенью.
Я не хотела читать эту записку при Лизе Кейкуатовой; разговор зашёл о том, что я написала: дело в том, что я имела глупость прочитать это Лизе Кейкуатовой. Мама сказала мне: «Я ревную: мне одной ты не читаешь своих писаний». И хотя маме я меньше всего хотела бы прочитать написанное мною, но так как я предпочитаю очертя голову бросаться в сечу, нежели выжидать и рассчитывать, то я пошла за своей черновой и прочитала это несчастное писание наскоро и так скверно, как m-lle Рекордон. Мама похвалила слог и больше ничего; но на её лицо нашла та тень, которую я так хорошо знала и которая всегда сжимает мне сердце.
На следующий день мама ничего не сказала, но её лицо сохраняло то же выражение. Она страстно желает, чтобы с нею были откровенны, а сама замкнута в высшей степени. Зная это, чтобы рассеять её неприятное чувство, прочитаю ей записку Шевченко. Это вовсе не было любовное письмо, но записка, где поэтически высказывалось благоговение перед моей душевной болью и горечь сознания, что его талант слишком слаб, чтобы выразить чувства, обуревавшие его после чтения моей рукописи.
Я читала эту записку, как дура, и была очень рада, когда кончила. Что я предвидела, то и случилось. Мама была всецело занята этим, но хотела, чтобы разговор начала я. Она мне сказала много верного и хорошего о том, что я слишком легко пускаюсь в сердечные излияния; я храбро отвечала ей, что Шевченко для меня не чужой, что я очень люблю его и вполне ему доверяю. На это она мне сказала, что говорить то, что я говорила, – бесстыдство. О боже! У неё есть слова, которые жгут и выворачивают сердце! Я, так любящая истину, будто бы изменила истине, распространяясь о страданиях, которых я большую часть и вовсе не испытывала! Не ужасно ли, что мама так меня мало знает! Есть вечно возобновляющиеся страдания, которых моё перо никогда не могло бы изобразить даже вам.
Слёзы текли по моему лицу, но Господь был со мной, и я воззвала к нему. Я вспомнила, как однажды, когда я плакала из-за какой-то несправедливости, вы сказали мне, что я должна смотреть на унижение, не заслуженное мною в данном случае, как на законную кару за многие мои грехи, оставшиеся мне неизвестными. Эта мысль сильно поддержала меня. Мама, вероятно, заметив, какое усилие я делаю над собой, попросила меня прочитать ей Евангелие.
Мне пришлось читать две главы из ап. Павла; они так хорошо подходили к моему положению, что я сочла это новою милостью Господа и утешилась.
И вот я снова увиделась с Шевченко; он ничего не говорит мне о моём писании и вообще не разговорчив и не прост со мною, он, видимо, избегает меня. Моя невестка с удивлением спрашивает меня, что это значит, я отвечаю ей, что сама не понимаю.
Положение было страшно до смешного: мы имели вид двух влюблённых, которые поссорились. Я решила положить конец этому недоразумению, и раз вечером, когда мы с ним были вдвоём в гостиной, и он с мрачным видом шагал по комнате, я минуту помедлила, а потом сказала ему: «Почему вы не разговариваете со мною?» – «Не могу, не могу», – отвечал он; затем он овладел собою, остановился у рояля, о который я опиралась, и сказал, что никогда не переживал того, что испытывает с тех пор, как прочитал моё послание.
Не помню, что мы говорили дальше, но помню, что я уверяла его в моей дружбе к нему и просила его смотреть на меня как на сестру. Я прибавила ещё, что, если он интересуется мною, я могу его уверить, что с тех пор, как я приобрела веру, я спокойна и счастлива. Потом я сказала, что мне надо идти к маме; он подал мне руку и сказал: «Прощайте, сестра». Припоминаю, что, говоря о моём сочинении, он сказал: «Да, это поэзия, страшная поэзия!»
На следующий день у него был счастливый вид, со мною он держался сердечно и открыто; я, с своей стороны, с радостью вошла в это настроение взаимного доверия. Но скоро он опять стал молчалив и холоден, хотя всё ещё кроток, когда я заговаривала с ним. Я сделала для него несколько переводов. Весь день мне приходилось быть возле мамы, но как только я оставалась одна в своей комнате, я могла писать только по-русски, и мои молитвы, в которых он занимал большое место, превратились в конце концов почти в один непрерывный ряд рассеяний.
Я была точно в лихорадке; меня мучило его своенравие, а также – не скрою – и его несчастная слабость выпивать иной раз лишний стакан вина, – слабость, которая меня огорчала, от которой я хотела исцелить его; и это лихорадочное состояние сделало меня вялой и наконец ввергло меня в окаменелость, которая испугала меня; под влиянием этого чувства я и написала вам моё последнее письмо.
Я хотела вслед за ним послать вам это, но весь январь и часть февраля я прохворала, затем, когда я ещё не совсем оправилась, заболел папа, и я через ночь дежурила при нём;
это крайне утомило меня; потом оказалось, что я так хорошо спрятала первые три листа этого письма, что никак не могла их найти; наконец вчера вечером я их нашла в груде писем, и сейчас, хотя уже почти одиннадцать часов ночи, сажусь писать, чтобы если не окончить, то по крайней мере продолжить его.
Я дала Шевченко мою Библию, и она доставила ему большое удовольствие. Под конец он стал так молчалив и так холоден со мной, что я от этого не только впала в уныние, но заболела. Восемь дней я почти ничего не могла есть; я так изменилась, что моя невестка и Глафира поражались, а он, вероятно, и не заметил этого. Так продолжалось до 4 декабря, моего и мамина дня ангела.
В России празднуют именины. Утром мы отправились в церковь; после обедни Шевченко подошёл ко мне и поцеловал мне руку с такой любовью и чистосердием, что я снова ощутила радость в сердце. Ещё до обеда приехали г. и г-жа Капнист. Я как раз выходила из маминой гостиной, когда в неё вошёл Капнист; он сердечно поздоровался со мной, спросил, как моё здоровье; я ответила, что я была больна, а теперь поправилась, – и мы разошлись в противоположные стороны.
Вечером Капнист попросил, чтобы я показала его жене стихи, которые посвятил мне Шевченко. Капнист знал, что я писала Шевченко аллегории с целью исправить его и что вывязала ему шарф. Он заговорил со мною о нём, и я очень оживлённо отвечала ему. Он сказал, что опасается, как бы я не сделала вреда Шевченко, так как эти изъявления участия и интереса могут ему вскружить голову: «И неужели вы думаете, что этого достаточно, чтобы исправить его?» Я ответила, что поможет милость Божия. «Милость Божия строга (или взыскательна), – возразил он торжественно, – а вы поступали эгоистически, так как вы делали то, что доставляло вам удовольствие, не думая о последствиях, каких это может иметь для него».
Этот упрёк Капниста, который никогда не говорил со мной в интимном тоне и пред которым я всегда чувствовала некоторое смущение, поразил меня. Он протянул мне руку, прося извинения за то, что позволил себе так говорить со мною; я отвечала, что искренне благодарю его. Эту ночь я почти не спала.
На следующий день невестка спросила меня, как я себя чувствую; я отвечала, что по милости Капниста провела бессонную ночь; он спросил – почему, и я обещала сказать это ему наедине. После обеда мы остались одни, и я сказала, что много думала о его словах, что я считаю его укор справедливым, но думаю, что в тридцать пять лет могу позволить себе многое, чего в юности не сделала бы, и что хочу быть только другом, сестрою Шевченко.
Он отвечал мне умно и сердечно, говорил о вас, подкреплял свои увещания ссылкою на ваши взгляды, которые, по его мнению, наверно, совпали бы с его взглядами, что мне отнюдь не следует полагаться на свои тридцать пять лет, что возраст ничего не доказывает; что когда женщина и молодой мужчина называют друг друга сестрою и братом, в этом всегда есть опасность, что Шевченко, может быть, влюблён в меня, и это было бы несчастием для него; или же его самолюбию льстит моё внимание, – и в таком случае я, по его мнению, должна быть очень осторожна.
Словом, вывод из всего сказанного им был тот, что Шевченко надо уехать и что он берётся увезти его к себе, добиться его доверия, заставить его высказаться и дать ему понять, что ему больше нельзя жить в Яготине. От этого решения у меня сжалось сердце; я до такой степени пала духом, что Капнист сказал мне: «Если бы я знал, что это так серьёзно, я не решился бы говорить с вами так, как говорил».
С этого дня милый Капнист, сказавший мне, что был поражён моим видом, относился ко мне как нельзя лучше. У нас было много народу; это, естественно, освободило меня от обязанности неотлучно находиться в маминой комнате и дало мне гораздо больше свободы.
Он ухитрялся ежедневно по нескольку раз говорить со мною с глазу на глаз; он укреплял и утешал меня, советовал мне написать вам, говоря, что это облегчит меня и поможет мне, – но это мне было ещё не под силу; он говорил ещё, что хотел бы, чтобы вы были возле меня, чтобы молиться вместе со мною, и жалел, что сам лишён дара молитвы; словом, не могу вам передать, как добр и нежен он был ко мне.
Наконец, пробыв четыре или пять дней, он увёз с собою Шевченко. За два дня до их отъезда я умоляла Шевченко довериться Капнисту, сделать его своим другом, следовать его советам; он отвечал, что сам желает этого, но что каждый раз что-нибудь становилось между ними.
В минуту отъезда Шевченко вручил мне какую-то бумагу со словами: «По праву брата». Я прочитала; это была записка, писанная сначала на «вы», потом исправленная им на «ты», – письмо брата, где он как брат увещевал меня хранить в себе богатства, которые Бог вложил в прекраснейшее из своих созданий. Я не могу послать вам перевод этого письма, потому что гадкий Капнист забрал у меня все письма Шевченко399 с тем, чтобы показать мне их через год.
Часто во время моих бесед с Шевченко он уверял меня, что в этом мире невозможно высказать всю свою мысль, изъяснить свои убеждения, с чем я никогда не считалась ни в теории, ни на практике, и он не раз был свидетелем моих резких выпадов.
Итак, они уехали. Некоторое время спустя Капнист опять приехал, но один. Он сказал мне, что доволен Шевченко, но заметил, что он не вполне откровенен с ним; он уверился, что Шевченко убеждён в том, что я сильно люблю его. Я показала ему то письмо, оно ему не понравилось, и он сказал, что предоставляет мне на выбор, вернуться ли Шевченко, но только на несколько дней, чтобы кончить начатые им картины, или совсем не вернуться. Я хотела вполне подчиниться решению Капниста, но он решил заодно со мною, что неприезд Шевченко удивит всех домашних и что поэтому надо, чтобы он вернулся, но только на несколько дней. И вот недели через две после своего отъезда он вернулся в Яготин. У нас были гости; он искренне обрадовался свиданию со мною. В тот же вечер он уехал по делу, но только на один день: когда он вернулся, мой брат с женою уехали в Петербург.
Я много говорила с ним, откровенно говорила о чувствах, которые питаю к нему, – самых бескорыстных, которые во мне есть, – что могла бы искренне любить его жену, если бы он женился, что я хотела бы, чтобы он был добр, чист и велик. Часто я была очень довольна им, в другие же разы он по-прежнему был холоден, молчалив, безучастен400.
Наконец, однажды он был сильно огорчён: человек, которого он считал своим другом и братом, оскорбил его грубо, низко, подло401, попрекнув его происхождением. Раз вечером, после чая, он сказал мне, что хотел бы поговорить со мною наедине. Я пошла с ним в большую гостиную, и тут мой милый Шевченко, такой добрый и сердечный, что, казалось бы, никто не решился бы причинить ему боль, рассказал мне ужасную обиду, которую нанесло ему письмо этого ложного друга, и, рассказывая, плакал от боли.
Видеть мужчину плачущим, особенно если горячо любишь его, чувствовать, что его унизили, – это очень больно; я не знала, что сказать, что сделать, чтобы утешить его; я прижала его голову к моей груди, обняла его, поцеловала его руку, целовала бы его ноги. Я хотела ему доказать, что если нашёлся негодяй, который вместо того, чтобы скорбеть о таком ужасном положении вещей и радоваться, гордиться и чувствовать себя счастливым, видя, что гениальный сын его родной страны избавился от этого позора, ставит ему его в вину, то есть существо, ставящее благородные чувства и священный огонь выше случайностей рождения.
Мне удалось успокоить его. Он развеселился и оживился, с удивительной лёгкостью перейдя от грусти к весёлости».
Варвара Миколаївна і Тарас Григорович згадують близьку їм подію
Те, що відбулося між двома душевно близькими людьми, – можна краще зрозуміти, з’ясувавши й ставлення другого учасника подій. Отже, слово Тарасові Шевченку. Лист Тараса Григоровича Варварі Миколаївні з заслання, з Орської фортеці, – відповідь на звістку, отриману з батьківщини. Лист писано п’ять днів – з 25 по 29 лютого 1848 року.
Утім, лист Рєпніної Шевченко читав і перечитував: «Тринадцатый день уже читаю ваше письмо, наизусть выучил, а сегодня только нашёл время и место (в казармах) ответить вам, добрейшая и благороднейшая Варвара Николаевна. Я как бы ото сна тяжёлого проснуся, когда получу письмо от кого-нибудь не отрёкшегося меня, а ваше письмо перенесло меня из мрачных казарм на мою родину – и в ваш прекрасный Яготин, – какое чудное наслаждение воображать тех, которые вспоминают обо мне! Хотя их очень мало; счастлив тот, кто малым доволен, и в настоящее время я принадлежу к самым счастливым, я, беседуя с вами, праздную 25 февраля. Не шумно, как это было прежде! но тихо, тихо, и так весело, как никогда не праздновал. И за эту великую радость я обязан вам и Глафире Ивановне. Да осенит вас благодать Божия, пишите ко мне так часто, как вам время позволяет. Молитва и ваши искренние письма более всего помогут мне нести крест свой. Евангелие я имею, а книги, о которых я просил вас, пришлите, это для меня хотя малое, но всё же будет развлечение.
26 февраля. Вчера я не мог кончить письма, потому что товарищи и солдаты кончили учения, начались рассказы, кого били, кого обещали бить, крик, шум, крик, балалайка, выгнали меня из казарм, я пошёл на квартиру к офицеру (меня, спасибо им, все принимают как товарища) и только расположился кончить письмо, и вообразите мою муку, хуже казарм, а эти люди (да простит им Бог) с большой претензией на образованность и знание приличий, потому из них присланы из западной России, Боже мой! неужели и мне суждено быть таким? Страшно! Пишите ко мне и присылайте книги.
27 февраля. Только сегодня, и то может быть, кончу давно начатое мною письмо. Что делать!
Шевченко спалює свій щоденник
Теперь самое тихое и удобное время – одиннадцатый час ночи, всё спит, казармы освещены одной свечкой, о которой только я один сижу и кончаю нескладное письмо моё, – не правда ли, картина во вкусе Рембрандта? – Но и величайший гений поэзии не найдёт ничего утешительного для человечества. Со дня прибытия во крепость Орскую я пишу дневник свой, сегодня развернул тетрадь и думал сообщить вам хоть одну страницу, – и что же! Так однообразно-грустно, что я сам испугался – и сжёг мой дневник на догорающей свече. Я дурно сделал, мне после жаль было сжигать моего дневника, как матери своего дитяти, хотя и урода.
28 февраля. Вчера я просидел до утра, и не мог собраться с мыслями, чтобы кончить письмо; какое-то безотчётное состояние овладело мною (прийдите все труждающиися и обременённые и аз успокою вы)… Предстоит весною поход в степь, на берега Аральского моря, для построения новой крепости…
29 февраля високос (ного). Читая и перечитывая ваше письмо, я только сегодня заметил слова – вы меня вспомнили в далёкой стороне. Не вспомнил, добрая, благородная Варвара Николаевна, а помнил, со дня или вечера, когда я жаловался на соседа вашего Платона Лукашевича (да простит ему Господь), и буду помнить вас, пока угодно будет Богу оставить во мне хоть искру чувства доброго…»402
Повернемось до спогадів В. М. Рєпніної: «На следующий день он уехал, пробыл в отсутствии два с половиною дня и вернулся, хотя, кроме меня, никто не ждал, что он так скоро вернётся. Я разговаривала с ним несколько раз, причём моё влечение обнаруживалось всё более и более; он отвечал мне иногда тёплым чувством, но страстным никогда.
Глафира со своими двумя братьями уехала навестить своих тёток, сестёр, её отца, живущих близ Полтавы; она пробыла в отсутствии больше месяца. Я была расстроена её отъездом; Шевченко, бывший при её отъезде и видевший мою грусть, остался, по-видимому, совершенно безучастным; Капнист на его месте сказал бы мне дружеское слово. Два дня он был молчалив и холоден, хотя я проводила с ним почти весь день, потому что он работал в мастерской Глафиры над портретами детей моего брата, а я занимала их, чтобы они сидели смирно; но последние три дня его пребывания он был сердечен, братски нежен и добр.
Наконец наступил день и час его отъезда. Я со слезами бросилась ему на шею, перекрестила ему лоб, и он выбежал из комнаты. С тех пор я имела от него одно письмо, которое привело Капниста в бешенство, но которое я понимаю иначе: это – не любовное письмо; в этом письме он называет меня сестрою, и, правда, говорит мне «ты», но это письмо нельзя оценивать так, как если бы его написал мне какой-нибудь кавалер. Шевченко – дитя природы и не имеет никакого представления о приличиях; но у него много такта, доброты и почтения ко всему святому, оттого он со всеми учтив, почтителен к старшим, и все его любят. Даже мама, так мало знающая его, очень расположена к нему, а папа его даже любит.
Он уехал от нас 10 января. После того он ещё целый месяц пробыл в наших местах, но к нам больше не заезжал; легкомыслие ли это или деликатность, я не знаю. Теперь он в Петербурге в Академии художеств.
Такова моя история. Теперь я должна вам сказать, что Капнист убеждён, что я люблю его и что я потеряла голову. Я же очень привязана к нему и не отрицаю, что если бы я видела с его стороны любовь, я, может быть, ответила бы ему страстью; но так как я ни одной минуты не могла заблуждаться на этот счёт, то я тотчас отвела этому чувству место среди тех, которые очищаются отречением, и мне нисколько не пришлось бы упрекать себя за него, если бы я не должна была сознаться, что оно слишком захватило меня, так что я забыла мою Библию, стала вяла и неисправна в молитвах и гораздо менее строга в моём чтении, а потому холодна и одно время так убийственно настроена, что мне казалось – я утратила веру»403.
Ще про перебування Шевченка в Яготині
М. К. Чалий у своїй основній праці про життя і творчість Т. Г. Шевченка зупинився на цьому примітному епізодові в житті поета, розширюючи наші знання про його перебування в Яготині та взаємини між ним і Варварою Миколаївною Рєпніною. Розповідаючи про його відразу до колишних «колег» по минулому «мочемордію»404, автор зазначає: «Але Тарас Григорович скоро розчарувався в деяких з українських панів і відвідував небагатьох, попри гостинні запрошення. Кріпосне ярмо, що гнітило тоді народ, – ось що відштовхнуло поета і затруювало найкращі хвилини його життя. Святкова атмосфера панських домів не могла засліпити таку людину, як Тарас, що з власного досвіду знав, яким має бути залаштункове життя цих гостинних господарів і чого коштувало багате частування сотень гостей їхнім кріпакам…»
Чужбинський оповідає дуже характерний епізод з приводу відвідування Шевченком одного пана405 в місті Лубнах. «Ми прийшли, – каже він, – обідати досить рано. У передпокої служник дрімав на лаві. На його нещастя, господар визирнув у двері й, побачивши заснулого служника, розбудив його власноручно, по-своєму, не соромлячись нашої присутності. Тарас Григорович почервонів, насунув шапку й пішов додому». В його уяві живо постала достеменно така ж розправа з ним самим у Вільні 15 років тому.
Не менш характерним є вчинок Шевченка стосовно іншого пана, що показав, як глибоко ненавидів він кріпацтво і як сильно обурювався будь-яким проявом панської сваволі.
Тарас Григорович був добре знайомий з відомим збирачем малоруських пісень – Лукашевичем і часто бував у його маєтку. Вважаючи його паном добрим і гуманним, поет, за свідченням Варфоломія Шевченка, приїздив до нього із своїм братом-кріпаком, якого (нібито) було прийнято гостинно, як рівного. Одного разу, суворої зими, цей-таки Лукашевич присилає пішки власного кріпака в Яготин до Шевченка (за 30 верст) у якійсь дрібній справі й суворо наказує йому принести відповідь того ж дня. Дізнавшися про такий нелюдський наказ слузі, Тарас Григорович не хотів йняти почутому; та факт був поза сумнівом, і йому довелося гірко розчаруватися у своїй думці про людину, яку він вважав стосовно селян великим лібералом. Не маючи права затримати посланця до наступного дня, він написав його панові листа, повного жовчі й обурення, сповіщаючи його, що він припиняє своє з ним знайомство назавжди. Кріпосник Лукашевич однак не вгамувався і відповів Тарасу Григоровичу листом, у якому все оберталося навколо того, що він має 300 душ таких йолопів, як Шевченко. Розповідаючи під свіжим враженням княжні Рєпніній про цей випадок, Шевченко ридав, як дитина. Не можна не дивуватися тому, як у душі Шевченка могли уживатися високі ідеали поезії з ницістю довколишнього оточення. Що спільного міг мати автор «Катерини» і «Гайдамаків» із відставним гусароммочемордою Закревським? Або що спільного було між Шевченком і якимось Свічкою, якого знали в Малоросії лише через те, що він звав себе лише недогарком великої свічки, тобто що він був сином Свічки, який утяв штуку, закупивши на київських контрактах усе шампанське, щоби допекти польським панам? Що змусило поета три дні поспіль ковтати пилюку й валятися в наметі цього недогарка під час Іллінського ярмарку в Ромнах? І скільки змарнував він дорогоцінного часу на непотрібні знайомства, перекочовуючи від одного пана до іншого!
Більшість нових знайомих Тараса Григоровича не були відзначені особливими моральними чеснотами, ані палкою любов’ю до рідної мови, ані прихильністю до рідної старовини. Гостинні пани, які кохалися в розвагах, приймали й пригощали уславленого вже тоді українського поета як дивовижу, більше з марнославства й завдяки моді. Та серед пустелі «мертвих душ», ніби привітні оази, вирізнялися деякі родини іншого штибу, гуманні й освічені. До них належала й родина пам’ятного для Малоросії українського генерал-губернатора князя Рєпніна, з яким поет познайомився першого свого приїзду в Малоросію 1843 року завдяки наступній обставині.
Князь Микола Григорович Рєпнін, дізнавшися про мистецький талант новоприбулого до Малоросії Шевченка, запросив його до себе в село Яготин, щоб той зробив копію його портрета. І коли копія вдалася, то Шевченка запросили залишитися в домі на триваліший час, і поет прожив тут усю зиму 1843/44 року, щиро прихилившися до культурної та гостинної родини Рєпніних; а перед розумною, освіченою, тоді 33-річною княжною Варварою Миколаївною особливо схилявся. Любов і повага до шанованого старшого Рєпніна виявилася поміж іншим і в тому, що він якось напередодні Нового року, коли князь, ладнаючися спати, зазирнув попрощатися з донькою та іншими панянками й поздоровити їх з Новим роком, то Шевченко кинувся обіймати старого, зворушливо поцілував йому руку, а по відході князя звернувся до товариства панянок зі словами: «Отаких старих я дуже люблю!»
Княжна Варвара Миколаївна, людина високоосвічена, невичерпної душевної доброти, з висоти свого стану спустилася до дружніх, чисто братських відносин з плебеєм Шевченком. Завдяки суто жіночому інстинкту вона одразу оцінила вагу Кобзаря для Малоросії та своїми високоморальними й глибоко релігійними посланнями прагнула спрямувати його на добру путь, з якої його часто збивали полтавські й чернігівські бешкетники. Шевченко благоговів перед цією незвичайною жінкою, такою несхожою на інших світських паній, ім’я же їм легіон. Свої почуття до неї Шевченко виразив у посвяті до поеми «Тризна», написаної ним 1843 року загальноруською мовою, про яку ми вже згадували.
За свідченням самої княжни посвята ця написана дещо пізніше за «Тризну» експромтом, на клаптику паперу, в присутності великого товариства, й була викликана фразою, сказаною Варварою Миколаївною з приводу загальної мовчанки, яка раптом запала в товаристві: «Тихий ангел пролетел!» Думка посвяти, за словами княжни, та, що поет повірив у перебування ангелів на землі лише відтоді, як побачив її. За доказ цього править лист поета до авторки повісті «Дівчинка», що належить перу княжни: «Я як митець вивчений не лихом, а чимось ще страшнішим, розповідаю себе людям; та розповісти це почуття, яким я нині живу, все моє горе, – майстерність безсила і нездала. Я страждав, відкривався людям як братам і благав уклінно хоча б однієї холодної сльози за море сліз кривавих – і ніхто не зронив жодної цілющої росинки на смажні вуста. Я застогнав ніби в кільцях удава – «він дуже добре стогне», сказали вони —
И свет погас в душе разбитой!»…«Тризна» Шевченка, поза тими недоліками, що властиві його іншим творам великоруською мовою, має значення поетичної сповіді княжни, може частково ознайомити нас із його настроями у цей період його творчої діяльності. Живучи в Яготині, Шевченко написав кілька поезій і читав їх у родинному колі; та позаяк вона мало тямила по-малоруськи, то поет, бажаючи справити їй приємність, написав для неї цю поему, вміщену спершу в «Маяку», а тоді надруковану окремою брошурою. Часом перебування Шевченка в родині кн. Рєпніна датуються два малюнки …портрет (фототипія), намальований ним самим, і малюнок хати, де він народився, доданий до біографічного начерку Маслова.
Обидва ці малюнки були подаровані княжні на пам’ять разом із «Тризною».
Після від’їзду Шевченка з Яготина розпочалося його дружнє листування з Варварою Миколаївною, що протривало до самого заслання і навіть у перші роки перебування поета в оренбурзьких степах. На превеликий жаль, листи Шевченка до княжни безповоротно загинули406; збереглися лише ті, що поет одержав від неї, та й то не всі. Уривки з цих листів, з дозволу авторки, ми тут і вміщуємо407.
Листи княжни В. М. Рєпніної до Шевченка
1. Від 17 травня 1844 року
«Із душевною приємністю я прочитала, що ви з успіхом займаєтесь живописом. Сподіваюся, що й перо не лежить у вас бездіяльним. Це було б жахливим злочином. Вашим же слівцем я висловлюю вам добру пораду: не погашай своє світило!»
Наведеним тут рядком княжна нагадує поетові один із фрагментів його «Тризни»:
Не погасай, моё светило! Туман душевный разгоняй, Живи меня своею силой, И путь терновый, пусть унылый, Небесным светом озаряй!2. Від 9 червня 1844 року
«Мосівка408 нагадує мені ті сумні хвилини, в які щира моя до вас прихильність давала мені й бажання і навіть право говорити вам правду – що я, одначе, не здійснювала тому, що ви мені в ті самі хвилини здавалися нещирим і не налаштованим на мій лад, а радше робили вигляд, що я вам набридла, гірше від гіркої редьки, і що роль совісті вашої, яку я собі привласнила, видавалася вам недозволеним загарбанням, чи й просто привласнила. І скільки разів свята істина, що її я ніяк не можу назвати суворою, хоча б і була вона дуже строгою, – скільки разів ця істина рвалася мені на вуста, прагнучи, сподіваючись інколи, що дійде до вашої душі, що буде сприйнята, як найліпший доказ сестринського піклування про вас, і ви з молитвою в серці, і з твердою волею, візьметесь за перевиховання своє, поліпшивши, освітивши, за допомогою благодаті Господньої, все прекрасне, все святе, все високе, що подароване вам так щедро, – і викоренивши згубну ваду, що гне вас додолу! О, не кажіть, що на вас нападають: тут не заздрісники, не негідники – ваші звинувателі; я, я – сестра ваша, ваш найщиріший друг – ваша обвинувачка. Не суджу про вас із чужих вуст, я не осуджую вас, але я з відвагою, яку повинна була б мати значно раніше, бо ви давно вже серед моїх друзів, – кажу вам як братові, – що не раз, що надто часто я вас бачила таким, яким не бажала би бачити ніколи, – даруйте мою щирість, мою прискіпливість, – і зрозумійте безкорисливе почуття, що водить моїм пером. Сподіваюсь, що цей лист буде прийнятий з почуттям братської приязні».
Завдяки шані й повазі з боку дворянства Полтавської та Чернігівської губерній княжна мала змогу брати на комісію твори Тараса Григоровича – не лише такі, як «Кобзар» і «Живописная Украйна», а й такі як «Тризна», не одну сотню якої по полтині за примірник вона спромоглася роздати своїм знайомим. У Полтаві, Харкові, Одесі й Києві – скрізь вона мала комісіонерів.
3. (Без позначення дати) {cерпень 1844, Яготин}
«Потрібно обов’язково надіслати мені дві програми вашої «Живописной Украйны», щоб можна було провести передплату під час виборів у Полтаві та Чернігові. О, як щиро я бажаю вам успіху заради вашої святої справи! Не вдавайтеся в тугу і трудіться, докладіть всіх зусиль, а ми тут дбатимемо, аби якомога допомогти вам. Від Закревських нічого не одержувала. На нещастя, ви зв’язалися з цими пустими людьми. Куди б краще для духовної вашої людини зблизитися з Галаганом, з Капністом і його дружиною, з Бурковським409, В. Лукашевичем, так щедро обдарованими і розумом, і душею. Чи не можна сприйняти вислів: вино веселить серце – у духовному сенсі? О, так, легкодухість – це жахливе нещастя, та й того вже досить, що ви самі себе знаєте. Лишається не плекати визнану слабкість, а озброїтися проти неї. Засоби: віра, корисні заняття, товариство чисте, святе, вишукане. Чому ви завжди згадуєте Мосівку? Скажіть, чи не підказує вам сумління ще й інші місця, де ви захоплювалися негідним і негідними? Нехай сяє в душі вашій світло, дароване з вишніх. Амінь».
І під час перебування в Яготині Шевченко іноді любив бенкети та веселощі, але зажди десь там, у якійсь віддаленій селянській хаті, і ніколи не повертався до княжого дому напідпитку. І назагал він, за словами княжни, тримався в їхній господі дуже тактовно. Але згодом, потрапивши в коло мочеморд, втратив усяке самовладання, навіть вплив княжни не завжди був спроможний стримати його від пиятик і нехлюйства. Така поведінка людини, яку високо цінували за її незвичайний талант, глибоко засмучувала Варвару Миколаївну, яка все ж не полишала спроб будити в ньому своїми сердечними листами найшляхетніші інстинкти, придушені «негідним і негідними».
4. У листі від 19 липня княжна співчутливо і з глибоким сумом сприймає похмурий настрій поета через бідування його рідних, яким він не був спроможний суттєво допомогти, полегшити їхню гірку долю.
«Від сумного вашого листа410 мені набігли сльози. О, дайте звістку мені, коли будете цілковито заспокоєні щодо братів ваших! Я не зважилась прямо запитати про них – слова застигали на устах».
Лист поета, про який згадує княжна, був одержаний нею, ймовірно, по поверненні його з поїздки на батьківщину. Пробувши кілька день у Кирилівці в брата Микити, поет повернувся за Дніпро зовсім прибитий. Про його душевний стан цієї пори ми можемо частково дізнатися з одного уривка «Тризны»:
Когда при тысяче огней Мелькали мраморные плечи — О чём-то тихо он вздыхал И думой мрачною летал В стране родной, в стране прекрасной, Там, где никто его не ждал, Никто о нем не вспоминал, Ни о судьбе его неясной. И думал он: «Зачем я тут? И что мне делать между ними? Они все пляшут и поют, Они родня между родными, Они все равны меж собой — А я!..»… Везде один… тоска, томленье!..5. 22 вересня 1844 року
«Кілька днів тому я одержала від Закревських через М. Д. Селецьку три гравюри: честь і слава, добрий трудівниче! Хай благословить Господь ваш подвиг! Сьогодні одержала невеличкого вашого листа. Боляче мені, що люди так часто чинять замах на вашу віру в добре та святе… Прощавайте, добрий поете! Не полишайте ні пера, ні пензля – йдіть чистою, святою стезею і нехай укриє вас благодать Господня!»
6. 20 грудня 1844 року
«Я так раділа вашому злету: та от, ви вже знову згорнули крильця й впали всією вагою вашої легкодухості на землю! Облиште злих, нерозумних, бридких. Якщо у вас чимало недоброзичливців у Петербурзі, а можливо, й тут, то все ж ви можете вважати себе щасливим, що багато чесних і теплих душ бажають вам добра. Зрештою, і мета ваша має живити вас! Я з прикрістю почула від брата, що днями був у нього В. Закревський і хвалився, що одержав вашого листа. Я сподівалася, що ви вже не листуєтесь з ним. Я цього знайомства дуже боялася для вас. Любіть скільки завгодно Капніста, Бурковського, Галагана, Вол. Лукашевича: з ними все гарне, шляхетне, властиве вам розів’ється дедалі більше. Який жаль, що ви не знайомі з А. Лизогубом: з яким теплом сприймає він ваші поеми і як шкодує, що не знає вас особисто!»
7. 7 січня 1845 року
«Мій добрий і сумний співцю! Виплачте пісню у пам’ять людини, яку ви так уміли шанувати і любити. Мого доброго батька вже немає між нами! Після тривалої і тяжкої хвороби, змучений жахливими стражданнями, він віддав Богові душу 7 січня. Ви збагнете порожнечу Яготина. Я почала була писати з дороги на Прилуки, куди ми повезли священні останки його, тобто в Густинський монастир. Таким було його бажання. О Тарасе Григоровичу! Мій добрий друже! Як передати Вам усі ці вікопомні хвилини, через які ми пройшли у ці дні!»
Продовжуючи цей лист, В. М. Рєпніна з почуттям гіркого болю розповіла саме про ці дні…
Востаннє перед засланням княжна бачилася з поетом у Києві в Дуніних-Борковських. Тарас Григорович прийшов відвідати чоловіка Глафіри Іванівни, який умирав від сухот, і виявив запопадливу турботу про хворого…
До щиросердих листів своїх до поета княжна долучала іноді власні переклади з інших мов, добираючи такі вірші, що мали аналогію з душевнохворим, яким часом їй видавався Тарас Григорович…411
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ПОЕТА
Перші творчі здобутки народної поезії Т. Г. Шевченка
На культурологічній мапі України, а головне, на її літературному напрямку в середині позаминулого сторіччя (точніше – на зламі 30 – 40-х рр. ХІХ ст.) відбулися епохальні зміни – з’явився народний Кобзар Тарас Григорович Шевченко. Саме він став засновником народної української літератури, саме його літературна творчість і діяння зробили українця Шевченка першим революційним демократом всієї Росії.
Писати вірші Тарас Григорович Шевченко почав ще бувши кріпаком – у 1837 році. Такий тодішній літературний авторитет, як Євген Павлович Гребінка, якого І. М. Сошенко познайомив з першими пробами пера Тараса Шевченка, одразу відчув, що українська поезія виходить на нову, незвідану ще сходинку.
Своє незбориме покликання до поетичної творчості Шевченко з особливою силою відчув одразу по визволенню від кріпацького рабства. Ось як пише про це він сам: «Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века. Самому теперь не верится, а действительно так было. Я из грязного чердака, я, ничтожный замарашка, на крыльях перелетел в волшебные залы Академии художеств. Но чем же я хвалюся? Чем я доказал, что пользовался наставлениями и дружеской доверенностью величайшего художника в мире? Совершенно ничем. До его неуместной женитьбы и после уместного развода я жил у него на квартире, или, лучше сказать, в его мастерской. И что я делал? Чем занимался я в этом светильнике?
Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своём сердце своего слепого Кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой степи надднепровской, передо мной мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалася степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красоте своей. И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание, и ничего больше.
Странное однако ж это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить её глубокие таинства, и ещё под руководством такого учителя, каким был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я всё-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивых, тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание»412.
Шевченко – виразник прагнень народу
«Першим відомим нам твором Шевченка, – відзначається в «Нарисі історії української літератури», – є балада «Причинна». Пізніше з’являються балади «Тополя» (1839) і «Утоплена» (1841). Жанр балади… був поширений в українській романтичній поезії. Шевченкові балади відмінні від своїх попередниць соціальними мотивами, в яких розкривається тяжка доля дівчини; проте вони залишаються романтичними творами. В них чимало фантастики: русалки, відьми, дівчина обертається на тополю, їм характерні й інші, властиві романтичним баладам елементи.
З українською демократичною поезією пов’язує Шевченка й історична тематика. Але й тут, поруч із спільними рисами, ми бачимо ще більшу відмінність. Теми Шевченкових творів конкретно-історичні, сповнені нового ідейного, революційно-демократичного змісту…
Перше видання творів Шевченка – невмирущий «Кобзар»
Поруч з розробкою історичних тем Шевченко пише твори з сучасного життя: «Катерина», «Слепая» (російською мовою). Поема «Катерина» (1838) є одним з найвизначніших творів поета.
У розробці подібної фабули – нещаслива доля дівчини, скривдженої паном – у Шевченка були попередники: Карамзін («Бедная Лиза»), Баратинський («Эдда»). Одночасно з «Катериною» написана «Сердешна Оксана» Квітки. Але ніхто з такою правдивістю, глибокою, величезною художньою силою не зображував горе зневаженої паном дівчинипокритки, матері, як Шевченко. Про горе Катерини він пише кров’ю свого серця, ніби про своє власне горе. Із глибини душі хвилюють читача ліричні звертання поета:
Катерино, серце моє! Лишенько з тобою! Де ти в світі подінешся З малим сиротою?Трохи пізніше Шевченко намалював на цей сюжет картину «Катерина». На сюжет «Катерини» композитор Аркас написав згодом оперу.
Лірика першого «Кобзаря» надзвичайно щира, емоційна. Книжечка починалась поезією «Думи мої» (1839). Сумні думи поета – це його вірші, які надруковані в «Кобзарі». Поет посилає їх на Україну:
Там найдете щире серце І слово ласкаве. Там найдете щиру правду А ще, може, й славу…Образність, поетика вірша нагадує народну пісню, думу, нагадує звучання кобзи. Цю рису поезії «Думи мої» дуже влучно підмітив композитор М. Лисенко, поклавши її на музику. Пісня ця виконується в супроводі кобзи.
Образ натхненного народного співця-кобзаря створює Шевченко в ліро-епічній поезії «Перебендя» (1839).
Особиста лірика Шевченка петербурзького періоду має інтимно-зворушливий характер. Для всієї ранньої творчості поета характерне поєднання романтики й реалізму. Тут нема нічого дивного. Про це писав згодом Горький: «У великих художників реалізм і романтизм завжди ніби об’єднані»413. («О литературе», 1936.)
Блискучу характеристику раннього Шевченка дає пізніше Франко: «…это живой человек с богатым духовным содержанием, живая энергичная натура, для которой поэзия не игрушка, не рисовка, но естественное и простое выражение чувства, как пение для птицы. Гамма его тонов широкая: он тоскует, падает духом и поднимается, способен к гневу и угрозам и вместе с тем к самым мягким и нежным чувствам; он мечтатель и вместе с тем очень чуток к запросам действительности, он весел, но совсем без юмористической жилки, патетичен, но без тени театральности; он везде прост и искренен. Неудивительно, что его поэзия сразу поразила его земляков, как какое-то откровение, тем более, что внешняя форма её была вполне национальна, а язык, при всей своей неизысканности – образный, мелодический и колоритный, блестел всеми красотами родной речи»414.
Як поет і мислитель Шевченко формувався передусім під безпосереднім впливом тодішньої дійсності. А дійсність була для нього немилосердно суворою. Все, що він пережив сам, усе, що бачив навкруги, запалювало в ньому ненависть до кріпосницького ладу, до панства, розвивало глибоке співчуття до долі скривдженого люду. Замислюючись над життям, над змістом тужливих народних пісень і переказів про давнину, поет переймався бажанням не тільки зрозуміти зло, а й шукати причини цього зла. Глибока зацікавленість долею рідного народу все свідоме життя настійно наснажували його, будили творчу думку.
Широкою сповіддю виливаються такі роздуми уже в перших творах Шевченка. Мабуть, невипадково з написаних ним 1838 р. шести творів чотири мають назву «Думка».
Майстри тодішнього українського письменства високо оцінюють творчість раннього Шевченка
У листі до Г. Квітки-Основ’яненка 18 листопада 1838 р. Є. Гребінка писав: «А ще тут є у мене один земляк Шевченко, о, що то за завзятий писати вірші… Як що напише, тільки цмокни, та вдар руками об поли! Він мені дав гарних стихів на збірник».
Що то за вірші, в листі не сказано. Але відомо, що мова йде про збірник «Ластівка», який вийшов у 1841 р. і в якому опубліковано поезії «Причинна», «Вітре буйний», «На вічну пам’ять Котляревському», «Тече вода в синє море», уривок з поеми «Гайдамаки». Отже, до 18 листопада 1838 р., слід гадати, всі ці поезії, за винятком поеми «Гайдамаки», які, очевидно, додано пізніше, було вже написано.
У листі до редактора «Народного чтения» Тарас Григорович також почав з розповіді про свої літературні пристрасті: «О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Летнем саду в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращённого жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах; но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только одна баллада «Причинна». Как и когда писались последовавшие за ней стихотворения – об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать правду, обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет потерянных! Сколько цветов увядших. И что я купил у судьбы своими – усилиями – не погибнуть? Едва ли одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сёстры, о которых мне тяжело было вспоминать в своём рассказе – крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!»
Поява Шевченкових поезій була гаряче, з захопленням зустрінута літературною громадськістю всієї Росії. Осип Іванович Сенковський (Барон Брамбеус), який після співробітництва в «Полярной звезде» К. Ф. Рилєєва став дуже законослухняним, все ж високо оцінив появу Шевченкового першодруку. Він відзначив: «Лишь только Пушкин умер, все мудрые мужи приложили палец ко лбу и задали себе вопрос: есть ли на Руси поэт? Долго думали они, много истратили времени, желчи и чернил, и наконец решили: «А. не поэт, – пишет кудряво; Б. не поэт, – пишет гладко; В. не поэт, – не у нас печатает», и так далее. А есть поэты: по временам доходят до нашего слуха прекрасные песни, отрадные явления, носящие на себе отпечаток несомненного дарования. К таким явлениям принадлежит «Кобзарь» господина Шевченко…
На каком бы языке он не писал – он поэт. Он умеет чувствовать и высказать чувство своё ловким стихом; на каждом произведении его лежит печать поэзии, которая идёт прямо к сердцу»415.
Друг О. С. Пушкіна, поет і видавець «Современника» Петро Олександрович Плетньов писав: «Между всеми произведениями поэзии, появлявшимися в эти три месяца, одно последнее достойно внимания. Оно писано по-малороссийски. В нём собрано несколько простонародных лирических излияний души, живых и счастливо переданных автором. Понимающие малороссийский язык прочтут это собрание, конечно, с удовольствием и благодарностью»416.
Шлях Тараса Шевченка до вершин народної поезії
«З справжньої темряви, – писав І. Франко, – виринув геніальний поет, збагативши не лише рідну українську, а й світову літературу». Розвідку свою він присвячує висвітленню перших вражаючих кроків Тараса Григоровича Шевченка в поезії. Вимогливо ставлячись до творчості свого великого попередника, І. Я. Франко в цитованій статті, на нашу думку, подеколи перебільшує з критичними зауваженнями на адресу поета. В подальших дослідженнях це правомірно відпадає. Але вже в цій ґрунтовній статті Іван Якович показав не тільки становлення геніального поета в умовах задушливого «темного царства», а й його місце й значення для становлення й розвитку сил, здатних подолати царизм у Росії.
Характерні риси громадського життя в Петербурзі 1840-х років
«Початок сорокових років, – починає свою статтю І. Я. Франко, – був дуже важною добою для поетичної творчості Шевченка, – добою великого перелому в його думках. Уже в розборі «Гайдамаків» я старався зазначити той перелом, що хоч не корисно вплинув на цілість і стійкість тої поеми, зате був важніший як для поета самого особисто, так і для стійкості його пізніших творів.
Аби докладно зважити, який був сей перелом, треба нагадати, що Шевченко жив тоді в Петербурзі, обертався серед високоосвічених кружків, свобідний і люблений своїми земляками та чужими. Треба нагадати, яка то пора була в російській літературі в початку сорокових років і які думки носилися тоді в головах передових російських людей і висловлювалися в передовій російській печаті. Три великі російські письменники, Пушкін, Грибоєдов і Лермонтов, усі передчасно посходили вже в могилу, але твори їх, що могли вважатися останнім словом кожного з них («Горе от ума» Грибоєдова, «Евгений Онегин» Пушкіна, «Герой нашего времени» Лермонтова) жили серед читаючої громади і робили великий вплив на думки та переконання, тим більше, що сміле, гаряче слово Бєлінського додавало їм ясності та ширини. Четвертий великий поет і геніальний письменник російський Гоголь, саме тоді стояв у найкращім розквіті своєї поетичної творчості, писав або задумував писати тоді свої найкращі твори – «Ревизор» и «Мёртвые души». І сам Бєлінський у невтомній роботі над розвитком своїх думок починає покидати становище естетичної критики, починає добачати ціль усієї культурної праці людськості в тім, аби ущасливити всіх людей, дати всім можливість всестороннього розвитку всіх вроджених сил, а спеціально ціль штуки в тім, аби показувати правдиво дійсність з її хибами та задатками ліпшої будущини, будити в людей охоту до поправи тих хиб і віру в можність поправи. До довершення того переходу в Бєлінськім, ба й до зміни поглядів усієї інтелігентної російської громади, чимало причинилися й вільнодумні та радикальні діячі-письменники Герцен і Бакунін, що за границею, в Німеччині та Франції, пильно слідили за духовним розвитком рідного краю і вдержували живі зносини з передовими людьми в Росії.
Початки «громадянської весни» в Європі
Та й узагалі в цілій Західній Європі йшов тоді великий поступовий рух. Французька романтична школа від радикалізму чисто естетичного переходила до радикалізму політичного (Віктор Гюго) та релігійного (Ляменне); побіч романтиків, хоч під їх впливом, поставали нові напрямки. Жорж Занд уже почала гарячим словом проповідь рівності та свободи жіноцтва; вона ж і многочитаний Ежен Сю… були найвидатнішими представниками сенсімонізму у французькій літературі. А рівночасно вже Бальзак, і перед ним Стендаль, клали підвалини нової, реалістичної школи. Такий самий поворот до реалізму та до порушування суспільних питань у літературі доконували в Англії Діккенс («Різдвяні повісті») і Теккерей, у Німеччині Ауербах, не згадуючи вже про Генріха Гейне, який одночасно з Шевченковим «Сном» своєю поемою «Deutschland, ein Wintermärchen», формою та напрямом багато в чім подібною до Шевченкового «Сну», сильно та дотепно вдарив на передрухлявий політичний лад Німеччини.
Твори тих європейських письменників, а особливо Жорж Занда, Бальзака, Сю, Діккенса, перекладалися та читалися многими в Росії і мусили показати також немалий вплив.
Та не тільки в надобній літературі, але також у філософії та інших науках із початком сорокових років завважуємо загальне змагання до реалізму, до опирання загальних висновків на фактах, на досвіді, на статистиці. Рівнобіжно зі зростом реалізму в штуці й науці іде зріст демократизму, республіканізму та соціалізму в питаннях політичних і суспільних.
Вплив російських класиків на творчість Шевченка
Ся велика хвиля європейського духовного руху захапує також чільних людей у Росії, будить їх до нового життя. Перед тим уже Пушкін у «Онєгіні» та Лермонтов у «Герої нашого часу» в ярких картинах показали були цілу духовну та моральну нікчемність пануючої верстви в Росії. Ті твори разом із Гоголевими сатирами розбили сліпе самозадоволення російської інтелігентної громади, збудили глибшу застанову над собою і над існуючим ладом. Швидко появляються на світ «Мертві душі» Гоголя, а за ними підуть «Записки охотника» Тургенєва – перший прилюдний удар на велику, наболілу раду російської суспільності, на кріпацтво. Неможлива річ, аби Шевченко, живучи під той час у Петербурзі, не мав також захопитися тою великою хвилею поступового руху, аби його гаряча, молода душа не повернулася також у новім напрямі, тим більше, що й власні його мужицькі симпатії віддавна тягнули його у той бік. Тому не диво, що супроти тих нових ідей давніші його старокозацькі ідеали бліднуть, що його вузький український націоналізм звільна перетворюється сам у собі, перероджується у любов до всіх слов’ян, тиснених чужими, а далі в любов до всіх людей, тиснених путами суспільної нерівності, неправди й неволі. Від початку сорокових років Шевченко чимраз виразніше та сміливіше вступає на нову дорогу. Майже кожний новий його твір – се крок наперед по тій дорозі. Велике нещастя, що, мов грім, ударило в нього в хвилі найкращого розквіту його поетичної сили (його арештування та засудження до смерті на службу в солдатах 1847 р.), не тільки не могло змінити того напряму, але, навпаки, утвердило в нім поета: по увільненню з десятилітньої страшної неволі він творить свої безсмертні поеми «Царі», «Неофіти» та «Марію», в яких, покинувши рамки українського націоналізму, на загальнолюдській канві рисує картини тиранства та боротьби за правду, рисує високий, аж до наших днів ледве достижимий ідеал жінки-матері».
Передмова Шевченка до нездійсненого видання «Кобзаря»
Воскреснем ли когда от чужевластья мод? Чтоб умный, добрый наш народ Хотя по языку нас не считал за немцев. А. Грибоедов«Випускаю оце в люде другого «Кобзаря» свого, а щоб не з порожніми торбами, то наділяю його предісловієм. До вас слово моє, о братія моя українськая возлюбленная.
Шевченко про необхідність справжнього українофільства в Росії
Великая туга осіла мою душу. Чую, а іноді і читаю: ляхи дрюкують, чехи, серби, болгаре, чорногори, москалі – всі дрюкують, а в нас анітелень, неначе всім заціпило. Чого се ви так, братія моя? Може злякались іноплеменних журналістів? Не бійтесь, собака лає, а вітер несе. Вони кричать, чом ми по-московській не пишемо? А чом москалі не пишуть по-своєму, а тілько переводять, та й чорт зна по якому. Натовкмачать якихсь індивідуалізмів тощо, так що аж язик отерпне, поки вимовиш. Кричать о братстві, а гризуться, мов скажені собаки. Кричать о єдиной славянской литературе, а не хотять і заглянуть, що робиться у слов’ян!
Чи розібрали вони хоч одну книжку польську, чеську, сербську або хоч і нашу? Бо і ми таки, слава Богу, не німці! Не розібрали. Чом? Тим, що не тямлять. Наша книжка не попадається їм в руки, то вони не репетують та хвалять те, що найпоганіше. А наші патріоти й собі за ними. Преочаровательно в чарах тих ось що: жиди, шинки, свині і п’яні баби. Може це по їх утонченій манері і справді добре. А на наші мужицькі очі, то дуже погано. Воно то й правда, що ми самі винні. Бо ми не бачили нашого народу – так, як його Бог сотворив. У шинку і наш, і москаль, і навіть німець – всі похожі на свиню, а на панщині, то ще поганіше. У хату прийти до його або до себе покликать по-братерські не можна, бо він злякається, та, може, ще й те, що він пізнає дурня у жупані.
Прочитали собі по складах «Енеїду» та потинялись коло шинку, та й думають, що от коли вже ми розпізнали своїх мужиків. Е ні, братики, прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони співають, як вони говорять між собою, шапок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують старовину і як вони плачуть, неначе справді в турецькій неволі або у польського магнатства кайдани волочать, – то тойді і скажете, що «Енеїда» добра, а все-таки сміховина на московський шталт.
Отак-то, братія моя возлюбленная. Щоб знать людей, то треба пожить з ними. А шоб їх списувать, то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем чорнила і паперу. Отойді пишіть і дрюкуйте, і труд ваш буде трудом чесним.
А на москалів не вважайте, що вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди. Вони здаються на Гоголя, що він пише не по-своєму, а по-московському, або на Вальтер Скотта, що й той не по-своєму писав. Гоголь виріс в Ніжині, не в Малоросії – і свого язика не знає; а Вальтер Скотт в Эдемборге, а не в Шотландії – а може, і ще було що-небудь, що вони себе одцурались. А Борнц417 усе-таки поет народний і великий. І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з плину латинь, а потім московщина.
Покойний Основ’яненко дуже добре приглядався на народ, та не прислухався до язика, бо може його не чув у колисці од матері, а Гулак-Артемовський хоч і чув, так забув, бо в пани постригся. Горе нам! Безуміє нас обуяло отим мерзенним і богупротивним панством. Нехай би вже оті Карпигнучкошиєнки сутяги – їх Бог, за тяжкіє гріхи наші, ще до зачатія в утробі матерній, осудив киснуть і гнить в чорнилі, а то мужі мудрі, учені. Проміняли свою добру рідну матір – на п’яницю непотребную, а в придаток ще і -въ додали.
Чому В. С. Караджич, Шафарик і інниє не постриглися у німці (їм би це зручніше було), а остались слов’янами, щирими синами матерей своїх, і славу добрую стяжали? Горе нам! Но, братія, не вдавайтесь в тугу, а молітесь Богу і работайте разумно, во ім’я матері нашої України безталанної. Амінь.
А щоб ви знали, що труд ваш не мимо іде – і щоб не дуже чванилась московська братія своєю Ростопчиною – то от вам «Свячена вода»; написано панночкою, та ще й хорошою, тільки не скажу якою, бо воно ще молоде, боязливе.
А переверніть пудові журнали та пошукайте, чи нема там чого-небудь такого, як «Свячена вода», – і не турбуйтесь, бо єй-богу, не найдете».
«Сон» і «Кавказ». З «Темного царства» у визнані класики світової поезії
«Дуже цікава річ, – ділиться Франко щирим і непідробним натхненням дослідника й вірного послідовника Т. Г. Шевченка, – слідити крок за кроком розвиток нашого поета в тій, другій добі його поетичної творчості. Задумавши зробити се в своїх «Причинках», я певний, що тільки таким способом, роздивляючи уважно кожний крок, не закриваючи хиб і не прибільшуючи заслуг (такого перебільшення Шевченко зовсім не потребує), ми матимемо змогу відповідно зрозуміти значення творів нашого геніального Кобзаря, а також зрозуміти той напрям думок, що завів його в неволю, розширити та прояснити ті ідеї, за які він терпів, і причинитися до осущення тих ідеалів, які йому, хоч, може, ще в невиразних нарисах, показувалися в хвилях натхнення».
Шляхом духовної й поетичної зрілості
«В «Гайдамаках», написаних у р. 1841, – пише Іван Франко, – я показав перший, несмілий і майже несвідомий крок нашого поета на тій новій дорозі. Правда, козацький патріотизм переважає ще, але з невиразного закінчення, з частих вибухів чисто людського, національними рамками не затісненого чуття, з непевності і несміливості в рисуванні страшних картин різні та війни, які поет то сяк, то так старався залагодити, немов прозірчастим серпанком закинути, з усього того видно було, що вузький націоналізм, шукання ідеалу в минувщині доспівує тут останню свою пісню, і що відтепер підуть у поета інші пісні. Воно так і сталося. Вже в передмові, писаній по скінченню поеми («По мові передмова»), поет зовсім недвозначно прощається з давнім козацько-патріотичним напрямом, з давніми героями-войовниками. «Весело послухать сліпого кобзаря, як він заспіває думу про те, що давно діялось, як боролися ляхи з козаками. Весело, а все-таки скажеш: «с лава богу, що минуло!» – а надто як згадаєш, що ми одній матері діти, що ми всі слов’яни. Серце болить, а розказувати треба. Нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову зі своїми ворогами, нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навік од моря і до моря слов’янськая земля». Як бачимо, поет виразно й недвозначно вказує, що йому противні всі ті війни та різанини, в яких він колись бачив славу України, що всі ті криваві події він уважає великою помилкою предків, а не боротьбою за правду. І хоч іще пізніше (1845 р.) в поемі «Холодний Яр» він боронить гайдамаків від закиду, буцімто «Гайдамаки – не воїни, – розбійники, вори», – то все-таки, поминувши те, що такий закид із історичного становища зовсім пустий та неважний, Шевченкова оборона дуже слаба та безосновна, «За святую правду-волю розбійник не стане», – каже він, хоч сам уперед назвав гайдамаччину помилкою. «Не заріже (розбійник) лукавого сина, не розіб’є живе серце за свою Вкраїну». Тут поперед усього Шевченко боронить гайдамаччину не історичну, а ту, яку він списав у своїй поемі, а його доказ про те, що Гонта вбив своїх власних синів, історично нестійний, бо ніяких своїх синів Гонта направду не зарізав, а вбивство синів за те тільки, що вони були католиками, не можна назвати ділом патріотичним. Такі вчинки родить тільки фанатичне засліплення. І не треба бути героєм на те, аби «розбити живе серце». В часах великого фанатичного засліплення людей бачимо багато таких випадків, від котрих здригається серце потомних поколінь, а котрі, проте, ніхто не зачислював до діл геройських. Героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці здобуває або окуплює добро цілого народу, цілої людськості.
Зростання поетичної майстерності й ідейності
«Гайдамаки» показуються нам, немов широкий ставок на скруті степової ріки. Вода, бачиться, та сама, що виплила до нього, та й випливає: тільки по смаку чуєш, по її свіжості міркуєш, що вона не зовсім та сама, що змінилася, освіжилася невидимими підземними норами. Та й випливає вона вже в іншім напрямі, ніж вплила, випливає бистрішими, дужчими хвилями. З «Гайдамаків» виплили дві такі струї, що породили найкращі Шевченкові твори. Здається, немов складники, змішані ще в «Гайдамаках», дедалі розкладаються, діляться та очищуються. З одного боку, український націоналізм, позбувшися старокозацької закраски, розширяється та поглиблюється в правдивий український патріотизм, у правдиву «гражданську скорбь» над теперішньою сумною долею України, в могутній гнів на її гнобителів. Але се вже не той формальний патріотизм, який ми бачили в перший період Шевченкової творчості. Сей новий патріотизм нашого поета не полягає вже на споминах «славної бувальщини», гетьманських булав, жупанів та війн. Він основується свідомо та твердо на бажанні загальнолюдського братерства, на прихильності до всіх пригноблених і покривджених, між котрими перша і найближча серцю поета його рідна Україна. Той високий патріотизм вилився огненим словом у поемах «Сон» (1844) і «Кавказ» (1845), котрих розборові я і присвячую оцю статтю. А друга струя, що вилилася з того спільного збірника і йшла рівнобіжно з першою, а також рівнобіжно з загальним у Європі зворотом до реалізму, се було змагання вказати в правдивих картинах життя українського люду та його кривди. Ся струя породила такі прегарні перли нашої літератури, як «Катерину», «Наймичку, «Марину», «Петруся» та «Княжну». Але в обох тих струях течія спільна і дно спільне: протест проти погані сучасного ладу, опертий сильним та незасліпленим почуттям гуманності.
Глибинна сутність і призначення творчості Шевченка
Статті, присвяченій розборові «Сну» та «Кавказу», я дав наголовок «Темне царство». Цей наголовок випливає з самої суті діла. Бо й справді в тих двох поемах списав поет картину великого царства – російського, того царства тьми, що давить Україну, що абсолютизмом і самоволею царства та чиновників давить і путає не тільки діла, але навіть думки та змагання кожної вільної одиниці. Читачам, знакомим із російською літературою, відома була стаття Добролюбова під тим самим наголовком, присвячена розборові побутових драм Островського. Приймаючи такий самий наголовок для сеї статті, я зовсім не хочу йти в супір з найкращою працею найбільшого російського критика. Така думка, поминаючи нерівність сил, тим дальша від мене, що й предмет обох статей принципіально різний. Бо коли Добролюбов темного царства змалював велику неправду і погань не цілого суспільного ладу, а головно родинного життя одної верстви великоросійського народу, купецтва, – я хочу на основі Шевченкових поем відмалювати погань і неправду, що лежить переважно в політичнім устрої російської держави, розуміється, не без екскурсій і на суспільне поле. Але чи складається з цих двох поем така цілість, аби можно було розглядати їх разом, не мішаючи з собою різнорідного. Адже писані вони не в один час, то чи ж нема між ними різниць щодо настроїв і поглядів поета? Розуміється, різниці видно, але, на мою думку, різниці ті поверхові, не тикають самого основного погляду поета на представлене ним «темне царство». Ось чим, на мою думку, відрізняється «Сон» від «Кавказу». В «Сні» Шевченко стоїть іще більше на українськім ґрунті (поема написана вчасніше). Україна нагадується йому все і всюди: її горем наболіла вся його душа; тих, хто катує і катував її, він проклинає з цілим жаром болючого серця. «Сон» – се велике оскарження «темного царства» за всі теперішні й минувші кривди У країни, оскарження,піднесення збільше, хоч не виключно партикулярного становища – українства. Натомість «Кавказ» побудований уже на ширшій, можна сказати, загальнолюдській основі. Всяка боротьба за волю, всяке змагання проти «темного царства» знаходить прихильника в нашім поеті; «Кавказ» – се огниста інвектива проти «темного царства» зі становища загальнолюдського, се, може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого щиролюдського почуття нашого поета. Кожний побачить після сього, що вказана тут різниця між обома поемами не то що не спиняє нас складати їх в одну цілість, але навпаки спонукує до того. Але власне задля того відмінного становища в освітленні одної речі обі поеми взаїмно доповнюють себе.
Ще менше важна різниця, яка заходить між обома поемами щодо артистичного оброблення. З того погляду «Сон» – один з найслабших творів Шевченка. Сама основа поеми, – поет у сні перелітає Росію, а особливо Петербург, і описує картина за картиною так, що вони насуваються йому на вид, – грішить недостачею внутрішнього логічного зв’язку, так як узагалі кожний опис подорожі, де картини припадково чергуються та міняються, нічим або мало чим в’яжучися з собою. Певна річ, у Шевченка, так само як і в аналогічній поемі Генріха Гейне, де описана дійсна подорож поета з Парижа до Гамбурга, під тим припадковим чергуванням картин лежить у основі глибший ідейний зв’язок, і се вповні вирішує недостачу композиції. Натомість «Кавказ», що являється немов один величезний вибух чуття, також щодо форми мусимо вважати одним з найкращих творів Шевченка. Та, як кажу, різниця у виконанні тут мало важна. Одну й другу треба вважати творами ліричними та оцінювати їх значення не мірою більш або менше реального змісту, але мірою вилитого в них високогуманного чуття. Те могутнє чуття поета, мов блискавка, розсвічує густий, віковий суморок «темного царства», пише огняним пальцем таємні слова над розкошуючими тиранами, а діло критики – обняти в цілості й показати ясно той образ, відчитати та витолкувати ці слова».
Політична поезія у «темному царстві»
Переходячи до розкриття місця і значення суспільно-політичних мотивів у поезії Шевченка, Франко виявляє: бійцівську пристрасть, громадянське чуття, глибоку відразу до царату. «Політикою в Росії, – констатує Великий Каменяр, – займатися не вільно, коли під словами «займатися політикою» схочемо розуміти свобідний обсуд ділань і розпоряджень уряду, свобідну критику державного устрою та публічного життя. В абсолютній державі, де воля царя – закон, і де тим самим закон уґрунтований не на якихось, для кожного ясних і зрозумілих принципах, а на волі одної, всевладної одиниці, нема ніякої підстави для можності – критикувати закони, критикувати будову та хід державної машини. Коли правда та, що сказав Щедрін про російську свободу слова взагалі, що в Росії вільно тільки «молоть пустяки», то подвійно правдивий буде такий суд про критику політичного устрою та ділань власті, а особливо єдиної, всемогущої власті – царя. А де нема свободи слова, там ніщо і говорити про політичну поезію,ніщойговорити про свобідний вислов почувань, які будяться в серці вільного та мислячого чоловіка під тиском політичної самоволі. Тож і досі великоруська література не має того, що називається політичною поезією, окрім двох-трьох невеличких ніби історичних поем Рилєєва: хіба хто хотів назвати тим іменем шумні, в основі царофільські та панславістичні вигуки поетичні слов’янофілів вроді Хомякова… З усіх тих російських ніби політичних поезій, крім Рилєєвих, так і віє глухим петербурзько-московським централізмом, котрий не знає ніяких прав вільної людини, крім права фізичної сили, котрий і чути нічого не хоче про природне право кожної народності до свобідного розвою і вважає братні слов’янські землі не більш як теперішніми або будущими провінціями Росії, обов’язаними якнайшвидше позбутися своєї народної індивідуальності та розплистися у «руськім морі». Перший Шевченко, син одної з таких провінцій – України, в своїх поемах «Сон» і «Кавказ» показав у Росії образці політичної поезії, показав також для всіх будущих поетів політичну дорогу, якою слід ступати на тім полі, та основу, з якої треба виходити.
Знав наш поет, що виливаючи на папір своє наболіле чуття, свої політичні погляди та бажання, він не тільки не верне тим волі України —
Не жди сподіваної волі! Вона заснула, цар Микола Її приспав —але навіть не зможе сказати того свого слова прилюдно, в печаті, і що його поеми в найліпшім разі можуть дійти до громади тільки в рукописних відписах. Бо він знав і те, що за само написання подібних поезій, за сам прояв подібних «благонамеренных» почувань жде його така сама доля, як майже всіх передових поетів та письменників Росії, як того вільнодумця, котрого він такими гарячими та страшними словами описав у своїм «Сні»:
Онде злодій штемпований Кайдани волочить, Он розбійник катований Зубами скрегоче, Недобитка товариша Зарізати хоче! А між ними, запеклими, В кайдани убра΄ний, Цар всесвітній, цар волі, цар, Штемпом увінчаний! В муці, в каторзі – не просить, Не плаче, не стогне! Раз добром нагріте серце Вік не прохолоне!Що чекає поета в «темному царстві»
Бачив ясно поет, яка доля жде його, – вона його й справді не минула, – а таки захотів мовчати і «присипляти в собі» свої думи, не захотів коритися перед самоволею, підлягати «темному царству», і не тільки сам кидав на нього громами своїх дум («Лети ж моя думо, моя люта муко!»), але й інших зазивав до боротьби з ним. «А де ж твої думи, рожевії квіти?» – говорить він до катованого вільнодумця. «Ой, не ховай, брате, – розсип їх, розкидай!»
Погляньмо ж тепер, що повернуло думку поетову до написання тих поем? Який внутрішній процес – окрім побічних впливів – виробив у нім той гарячий протест проти «темного царства»?.. Сей змалку вщеплений і в довгих роках неволі скріплюваний дух опозиційний дає нам заразом вказівку, для чого той процес вилився у Шевченка з такою, безпримірною в Росії, силою. А з другого боку, його прихильність до мужиків, до покривджених і обідраних веліла йому поставити діло просто на загальнолюдське становище, піднімати протест не зі становища виключного українства, а зі становища покривдженої людськості. А тодішні обставини в Росії ще й дужче перли поета на таке становище. «Од молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить!» – говорить досадно поет, висказуючи тими словами, що не тільки Україна в Росії пригнетена, і що він бажає волі та вільного слова не тільки для України, але також для всіх народів, глушених сліпою царською самоволею. Ся глуха, мертва мовчанка – не з благоденства, як іронічно додає поет, а з мусу – се перша і головна признака «мертвого царства». Аби з усіх людей поробити «холопів» та «лакеїв», або бездушні робучі та покорні машини, – бо тільки ті два роди творців земних мають місце в «темнім царстві», – треба поперед усього не дати людям мислити по-людськи та обмінюватися тими думками, треба не дати їм висловлюватися свобідно, а радше – треба заставити їх «молоть пустяки». А особливо треба не допустити до голосу людей, що кличуть іншим: «Схаменіться, будьте люди!»
А серед тої мовчанки, серед того загального отупіння людського чуття – що ж діяти чоловікові, в якого чуття гаряче й серце повне любові? Що діяти поетові, живому серед мерців? Нудьга і розпука бере його. Сидячи в Петербурзі, в самому осередку політичного гніту і політичної темноти, око в око з тою політичною машиною, що давить Україну і всю Росію, поет силкується, як каже сам про себе, заглушити в собі біль, забути про своє і людське горе. «Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень», звісно, аби не чути людського стогону, «А вам нудно, жалуєтесь? Їй-богу, не чую. І не кричіть!» Він знає, що таким робом не втишить болю в серці, а навпаки, такою силуваною мовчанкою, таким самооглушенням сам у собі з’їдається, сам п’є свою кров. Але нехай і так! він гордиться хоч тим, що «я свою п’ю, а не кров людськую», коли про більшість окружаючих його людей та про ціле «темне царство» треба би сказати якраз навпаки.
Страшно стає, коли вдуматися в значенні тих немногих слів у заспіві «Сну», де поет, кинувши загальний погляд на змагання та порядки «темного царства», виткнувши коротко й досадно головні його болячки, показує нам своє власне нутро, розкриває психологічні причини, для яких він береться співати пісню про «темне царство». «Кругом неправда і неволя, народ катований мовчить». Немногі чесні та смілі борці вільного слова або страждають між злодіями з клеймом на чолі, або п’ють свою кров, нидіючи та гризучися в силуваній мовчанці. Вернули та віджили в повній силі часи Нерона, про які писав Тацит: «Часи, котрі ми переживаєм, такі самі нікчемно жорстокі, що наші потомки не схотять повірити, аби жили колись люди, що могли пережити їх». Але дарма, що «щодень Нерона розпинають, морозять, шкварять на огні»; дарма, Прометеєві, людськості орел-тиранство «щодень божий дробить ребра, серце розбиває». «Розбиває, та не вип’є живущої крові, не скує душі живої і слова живого». Воно мусить вирватися на волю, хоч у сні висказати себе, проламати кригу силуваної мовчанки.
В такім настрої душі наш поет лягає спати підпилий, ледве доплентавшися до своєї хатини. А в хатині, звісно, «божа благодать» – се значить, пусто, тихо, мертво. Нема ні жінки, ні діток, нема кому розважити і розрадити, нема друга щирого, і ні з ким поділити накипіле в серці горе.
Висхідна точка Шевченкової політичної поезії
Та скоро заснув поет, скоро дух його увільнився з пут гнітючого суму й забуття, він зараз рветься летіти геть, рветься з землі і, прощаючися з нею, кидає їй у очі всіми муками, якими вона кормила його. Жаль йому тільки рідної неньки – України, вдови безталанної, котру лишає без потіхи і поради. Але ж і він не може помогти їй, а може тільки з нею сумувати та додавати їй надії, що настане колись і для неї день правди, що її малі діти доростуть і стануть на ворога, аби вибороти їй волю та самостійний розвиток.
Ось висхідна точка Шевченкової політичної поезії, і нею він різко відзначується з-поміж інших поетів Росії, що виступали на тім полі. Праведний гнів проти «темного царства», якого погань відома йому в цілій повноті, довго здержуване почуття, що насильно рветься на волю, хоч поет ясно знає, що жде його за се, – з того становища і в таких обставинах виспівана політична пісня стає вже не естетичною або якоюсьбудь іншою забавкою, але поважним горожанським ділом, смілим маніфестом вільного серця проти «темного царства». Я не знаю ні в одній європейській літературі подібної поезії, написаної в подібних обставинах. Адже «Німеччина» Гейне писана в Парижі, 1844, та «Бичування» (Les chàtiments) Віктора Гюго, писані в Брюсселі, 1853, постали – перша під впливом свобідного паризького повітря, а друга на вигнанні, у вільнім краю, коли поетам самим не грозило нічого з боку тих властей, на які вони кидали свої громи.
Он глянь… Латану свитину з каліки знімають, З шкурою знімають, бо нічим обуть Княжат недорослих. А он розпинають Вдову за подушне, а сина кують, Єдиного сина, єдину дитину, Єдину надію! в військо оддають! Бо його, бач, трохи!.. А онде під тином Опухла дитина голодная мре, А мати пшеницю на панщині жне. А он… покритка попідтинню З байстрям шкандибає; Батько й мати одцурались, Й чужі не приймають! Старці навіть цураються! А панич не знає, З двадцятою, недолюдок, Душі пропиває!І сниться поетові його рідна Україна, уквітчана садами, обмита росою, сияючи непорочною красою. Жаль йому покидати неньку, але тут насуваються йому на вид страшенні картини життя українського народу.
Страшна глибинна сутність «темного царства»
«Темне царство» – се паразит, що живе соками й кров’ю народу. Аби піддержати своє існування, мусить воно здирати останнє з бідного робочого люду, мусить розпинати за подушне, мусить для своєї оборони кувати дітей людських і навчати їх убивати людей, проливати кров. «Нагодовані, обуті і кайданами окуті», вони «муштруються» – привчаються до сліпого послуху, аби тим легше могли статися бездушним і могутнім знаряддям гніту і притиску, аби могли статися величезною шрубою, що по волі царя-самодержця та його підручників-блюдолизів давить і чужих і своїх.
Але на тім не кінчиться тиск. Рука темного царства простигається ще далі над народом. Воно, приспавши кров’ю здобуту волю українського народу, віддало його з землею на власність нікчемним панам-недолюдкам, котрі знущаються над ним, «землею всім даною і сердешним людом» торгують, «продають або у карти програють людей – не негрів, таки хрещених, не простих», котрі висисають його працю, затоптують у болото його найсвятіші чуття. Дитина мре під плотом із голоду, а мати, сердешна, не сміє й поглянути на неї, бо жне пшеницю на панщині. Не тільки земля, «всім дана», не тільки праця й зароблене добро, але також особа і честь людини віддані у безмежну власність навіжених панів. Вони програють людей в карти, без сорому беруть найкращих дівчат для задоволення своїх звірячих жадоб, а потім насміхаються над обезчещеними. Все віддано на самоволю панів! Воно й зовсім природно, бо самоволя найвищої голови того «темного царства», царя, що ж інше може породити, як не самоволю його підвладних, його блюдолизів, «княжат недорослих», котрі по слову поета, «з калік останню свитину з шкурою знімають», аби мати в що обутися.
Уступ з Шевченкової програми, наведений у епіграфі цього розділу, а також пізніші поеми, де поет ширше розвиває ту саму тему («Відьма», «Марина», «Княжна»), се безперечний в Росії сміливий і прямий удар на гниль і неправду к ріпацтва. В політичних, а також у названих тут епічних поемах, виступаючи проти кріпацтва, поет старався досадним словом показати і досадними, хоч, може, подекуди і виїмковими, а не типовими фактами ствердити, що всяка неволя робить шкідний, деморалізуючий і вбивчий вплив не тільки на пригнетених, але також і то навіть у далеко більшій мірі на гнобителів. Російські пани-кріпосники змальовані в поемах Шевченка в найогиднішій постаті, як нелюди, тирани та п’яниці, і коли порівняємо його описи з дійсністю, наскільки вона відома нам із інших, не поетичних джерел, то переконаємося, що поет справді небагато пересадив, малюючи їх такими барвами, а схибив хіба тим, що малював випадки виїмкові, збиткування поодиноких недолюдків, а не щоденний, пересічний, та зате ненастанний нагніт, для маси народу далеко тяжчий і згубніший від тих одиничних, надзвичайних вибриків звірства та самоволі. Правда, в тім часі, коли Шевченко писав свої поеми, поняття реалізму в поезії не було ще так утвердилося, аби поет міг би узятися представляти віршами щоденне життя з його на вид дрібними та малозначущими пригодами, які не поодиноко, але в загальній сумі складаються на ту невдиржиму наготу, під котрою стогне робучий люд. Таке представлення бачимо аж геть пізніше в майстерських картинах Марка Вовчка («Інститутка», «Ледащиця»).
Ті страшні картини народної недолі та політичного тиску знов доводять поета до розпуки. Він рад би «упитися отрутою», заснути в кризі, аби позбутися тих страшних дум. Тому летить далі, летить у пустиню, в сніги та гори, аби заховатися від людей. Та дарма! Серед снігів і болот загули кайдани, і в нутрі поета знов будиться люта дума, знов перед ним око в око стає нова погань «темного царства». «Забиті в кайдани люди виносять із нор золото, аби залити пельку неситому…» Се каторжні! Се злодії та розбійники, котрих суспільство гнітом своєї нерівності, своїх внутрішніх суперечностей витрутило з простої, чесної дороги: котрих вона сама поставила проти себе, а потім сама за те ж супротивлення страшенно покарала. Се каторжні! Між злодіями і розбійниками в кайданах і муках також смілі борці за свободу, невтомні сіячі широких, ясних дум найзавзятіші, природні вороги проти «темного царства». Жертви неправди суспільної і неправди політичної поруч себе, сковані одним залізом, втоптані в безодню недолі одною важкою ногою самоволі та тиранства.
Хто вони? Як жили? Що кохали? І яка лиха доля зараз Тут їх пхнула в сніжнії завали? Годі звать! Пута всіх порівняли, Порівняв «височайший указ».А коли поет долітає до великого города московського (Петербурга), то й тут його очам поперед усього показуються картини гніту і неправди. «Мов журавлі», муштруються солдати перед городом. Рано, коли поет оглядає город, йому найперш усього показуються «вбогі, поспішаючи на труд», показуються «заспані дівчата», що йдуть додому, а не з дому: бач, «посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти». Шістнадцять літ пізніше, в падолисті 1860 р., поет так само ходив по Петербурзі вночі, кашляючи, надламаний довголітньою неволею, визнавши на собі весь страшний тиск «темного царства», і знов йому показався той самий образ:
Дивлюсь; неначе ті ягнята, Ідуть задрипані дівчата, А дід, сердешний інвалід, За ними гнеться, шкандибає, Мов у кошару заганяє Чужу худобу.Всі головні неправди «темного царства»: опутання думок і слова, висисання робучого люду податками, солдатчиною, самовільними судами і каторгою, кріпацтво, бідність і проституція, – все те безконечною, важкою хмарою переходить перед душею поета, збільшуючи його біль і душевну муку. А в додатку до всього того треба ж іще, аби поет, літаючи понад Петербургом, зупинився перед величезною статуєю Петра Великого, де все, сама мосяжова статуя, і твердиня та церква (Петропавловська) насупроти на острові, і гранитом мощені береги Неви, – все нагадує поетові: скільки то горя людського, скільки мук і крові коштували всі ці цяцьки та блискучки, скільки то кісток українських лягло тут, у тім болоті, поки на їх підвалині не здвигнулися ті церкви та палати. І пригадується йому, як Петро Великий слав тисячі українських козаків копати ті канали та сушити ті болота, як він замучив голодом у тюрмі останнього українського гетьмана Полуботька; пригадується йому, як то і «Вторая» (Катерина) доконала свободу України, зруйнувавши Січ Запорозьку та закріпивши український люд – і в ім’я тої сумної минувшини, в ім’я тих тисячів вільних людей, закатованих тиранами, в ім’я всіх нужд і терпінь українського народу він кидає страшне прокляття на тих розпинателів народних, на тих катів-людоїдів, на тих чистокровних представників, а в значній частині й творців «темного царства».
Храми, каплиці і ікони, І ставники, і мірри дим, І перед образом твоїм Неутомленнії поклони За кражу, за війну, за кров… Щоб братню кров пролити, просить А потім в дар тобі приносить З пожару вкрадений покров.Прислужники «темного царства»
Та що ж се за машина така, котра може виконувати на многомільйонну масу народу такий страшенний гніт? Певна річ, та маса безвладна, оглушена й опутана, не свідома своєї сили, безоружна та роз’єднана, значиться, давити її невелика штука. Та все ж таки цікаво побачити, як змалював Шевченко того сторукого поліпа, що кормиться соками, кров’ю й потом тої маси, як змалював те «чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй», – підпори і діячів «темного царства»? Які їх бажання? Яка їх сила? А знаючи це, ми чей же зможемо хоч у приближенню відповісти на питання: «Чи довго ще на сім світі катам панувати?»
Зачнімо від найменших колісців тої великої машини і пробираймося чимраз далі догори, до найвищої та всевладної пружини. Її найменші колісця – то «братія», дрібні чиновники та писарі, що «виснуть у чорнилі», не знаючи нічого, крім московської мови, та проклинають батьків, що їх не вчили замолоду «цвенькати по-німецьки». Вони давно забули про те, що, «може, батько останню корову жидам продав, поки вивчив московської мови», – забули, чиї вони діти і чий хліб їх годував і годує, забули, що вони більше не дрібні колісця в машині, що вони «рабів раби». Все забулося – скоро їм вільні руки – драти останнє добро з бідного народу. Перед вищими вони звикли гнутися аж до землі, маліти в порошиночку, зате проти нижчих вони всевладні пани, вони надуваються вище слона. «Мы, брат, просвещённы», – тичуть вони, тичуть вони гордо в очі всякому нижчому своє зарозуміле неуцтво, і розуміється, на конто того, що ми просвіщені, – «не поскупись полтинкою!» Се ті дрібні п’явки, з котрих кожна, бачиться, й не багато крові людської потребує, аби наповнитися, але яких тисячі живо виссуть кров навіть із велетня.
Поет з обридженням згадує про них, як вони вранці йдуть «у сенат писати та підписувать, та драти із батька та брата»». Але він не забуває, що й ті нужденні п’явки – такі ж невільники «темного царства» та його недобровільні витвори. Він не проклинає їх, але оплакує. Сльози жалю стають в його гнівнім оці, особливо тоді, коли між тою чередою бачить земляків-українців. «Плач, Вкраїно, бездітна вдовице! – зітхає він. – Твої діти, квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою!» Не будь тої «блекоти», того одурюючого та отупляючого вару, то й вони не були би тим, чим стали, не були б п’явками, а вийшли би на чесних, трудящих і корисних для громади людей. Високе, чисте, гуманне чуття Шевченка і тут ясно, мов зірка, виблискує серед пітьми «темного царства».
Над тою верствою дрібних п’явок і хробаччя тяготить друга верства п’явок, «превосходительних» і «високоблагородних». «У сріблі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті», вони ходять довкола царя, «аж потіють, та товпляться, щоб ближче стати коло с а м и х».
Те саме становище, що й усподі: лакейство та самоуниження перед вищими – високомірна гордість щодо нижчих: фальш і облуда супроти рівних. «Отечество» у кожного раз у раз на язиці, – та тільки ж під отечеством вони розуміють «нові петлиці та муштри ще новіші», а з люду сердешного точать кров, як воду. А «дрібна» братія не хоче та й не сміє навіть заборонити їм се, – мовчки собі, витріщивши очі, – ягнята… «Нехай, – каже, – може, так і треба!» Воно й конечно. «Змея, – як каже Некрасов, – родит змеёнышей», – неволя й самоволя родить до себе подібні діти. Де найвища власть, найвищий законодавець топче під ноги всяке право, а властиво становить права тільки для інших, а не для себе, там і інші, менші панки, «княжата недорослі», зуміють кожний в своїм ширшим чи тіснішім окрузі поставити й себе вище закону. Відоме східне оповідання, здається, про перського царя Хозроя Новшірвана, який самовільно велів у бідного взяти яйце, а слуги похапали всі кури, а коли велів зірвати одне яблуко, слуги зрубали й яблуньку.
Та щоби наглядно показати сліпу самоволю найвищої голови «темного царства», Шевченко веде нас на «парад» у царську палату. Окружений блюдолизами, облитими золотом, цар походжає та цвенькає, розуміється, «об отечестві», а блюдолизи-холопи товпляться довкола нього, аж потіють. Всі знають, який буде кінець тої паради, а царську пощочину, царську «дулю» (штовшок у ніс) уважають найбільшою ласкою для себе. «Може, вдарить або дулю дати благоволить, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під саму пику!» Досадніше не можна було схарактеризувати та осміяти те «правдиве московське» холопство, котрого прадіди навчилися у татар, і яке не забули і внуки, невважаючи на Петрову реформу та прорубане буцім-то вікно в Європу. І ось «цар підходить до найстаршого, та в пику його як затопить! Облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло! А той собі ще меншого туза межи плечі. Той менший малого».
Вимушене визнання П. Куліша
Попри притаманній справді великій людині скромності й певній соромливості, його внесок в історію, передусім свого народу, не можуть обійти навіть ті його сучасники, хто не сповідував його ідеалів. Нагадаємо, що визнавав далеко не його однодумець – П. О. Куліш, говорячи про становлення народної української літератури. Цей, зрозуміло, не безталанний, літератор-пристосованець і в останній рік життя поета-революціонера Т. Г. Шевченка – у 1860 р. не міг збагнути, що рідна народна мова важлива не сама по собі. Її правдивим призначенням є боротьба за гідність нації, корінні народні інтереси, за визволення від повсякденного царського гноблення.
Пишучи про, мабуть, найбільшу перед великим «Кобзарем» постать – Григорія Федоровича Квітку, – Куліш мав відзначити: «Той чистий сільський крин, той високий поетичний образ нашої юності, люблячої, здавався… як то кажуть, тривіальним, бо про Квітку задзвонено тільки в сільські дзвони; городам і журналам було про нього байдуже.
А проте знайшлися люди, которі просту селючку Марію до серця пригорнули, і сам Шевченко, об’явившись мирові Кобзарем своїм, напечатав до Квітки (Основ’яненка) величну, голосну оду.
Чи так, батьку отамане? Чи правду співаю? —питався в його наш Кобзар, і перве місце оддав перед себе Марусі, заохочуючи його до нових творів:
Утни, батьку, щоб нехотя На ввесь світ почули!В його повістях-поемах знаходив наш Кобзар на чужій стороні Україну зо всіми її вічними дивами.
Утни, батьку, орле сизий! Нехай я заплачу, Нехай свою Україну Я ще раз побачу! Нехай ще раз послухаю, Як те море грає, Як дівчина під вербою Гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться Серце на чужині, Поки ляже в чужу землю, В чужій домовині.Се так до того писателя обізвавсь молодою, гарячою душею молодий Шевченко, которого з його Марусею пани одіслали розганяти по прихожих нудьгу лакейську. Отже, й справді не один ліврейний хлопець обливсь гіркими, взявшись до Квітчиної книжки, і не знарошне вийшло воно з Квіткою так, як іноді засадять у острог чоловіка з душею ясною і люблячою, – засадять, і наче засвітить каганчик бідним невольникам в темній темниці.
Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли; у нас нема Зерна неправди за собою.Тут же дома одні плачуть, а другі глузують над повістями Квітки, а тим часом у столицях підіймають на сміх його поетичну мову по-письменськи. Найрозумнішим головам журнальним і не снилось тоді, щоб з того, як вони мовляють гакання да гекання, вийшло коли що путне. Повернули в жарт і самі сльози щириї, котрі пролились і в старого і в малого над Марусею. Глузували журналісти не згірше й над Шевченком, і виривали з його серця не один стих гарячий, болячий, кров’ю закипілий. А не погнувся, як твердий дуб, Тарас Шевченко; встояв на своїх ногах до кінця – щирим, нехибким українцем. Тепер сміється він із своєї щербатої долі й величається її щербиною більш, ніж який інший поет пам’ятником нерукотворним, «Я, – каже, – пам’ятник воздвиг собі нерукотворний…»418 А наш поет, насміявшись із свого безталання, привітав свою щербату долю таким словом, на которе не всякий має право.
Оттак видержи пробу, коли справді твоє рідне слово – святиня непорочна і дорожче воно тобі од усякої мамони!
Позираючи на свого Кобзаря, і всякий правдивий український писатель повинен видержувати пробу, на свою щербату долю не нарікаючи. Видержуйте, небожата, і йдіть до самого конця, не лукавлячи рідним словом… Вмовчана правда краща від голосної брехні, хоть нехай би хто вигравав брехню на золотих гуслях. Се дарма, панове браття, що ми вряди-годи появимо невеличку книжку, як отся Хата, аби були в їй щира правда народна. Аби ми своє діло щирим серцем зробили, а вже наше слово «дасть плод свій во врем’я своє»419.
ШЕВЧЕНКО – МИТЕЦЬ СВІТОВОГО РІВНЯ, ТВОРЕЦЬ РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Світова велич Шевченкового «Кобзаря»
Звернімось до ґрунтовного і разом з тим яскравого й глибокого наукового дослідження Павла Григоровича Тичини – «Сила «Кобзаря», спеціально підготовленого для колективного збірника «Шевченко и мировая культура». На превеликий жаль, цей яскравий твір не увійшов до виданого українською мовою двотомника Т. Г. Шевченка.
Щоправда, у згаданому виданні вміщено кілька присвячених Шевченкові поетичних творів самого П. Тичини. Наведемо один з них, написаний у 1920 р. до роковин народження Тараса Григоровича:
Там на горі за Дніпром радо кричать прапори: честь йому, слава, хвала! Грають оркестри лункі, в квітах вітають портрет — там на горі за Дніпром. Котиться спів у степи, йде від села до села: честь йому, слава, хвала! Встанемо ж, менші брати, стрінем пророка свого. Там на горі за Дніпром честь йому, слава, хвала!420«Кобзарь» – небольшая по размеру и количеству произведений книга, – зазначає у своєму дослідженні П. Г. Тичина, – зато по внутреннему содержанию своему безмерно богатая. Книги, как и вообще все творения человеческого духа, имеют разную судьбу. Одни из них, будто листочек, упавший с вербы на воду: покружился, покружился, и вот уже нет его. Это произведения эстетов и всякого рода пустоцветов литературных. Другие же – будто водоросль бледная, стремящаяся остановить мощный ход реки: пальцы её всегда скользкие, вытянутые по течению. Это произведения чрезмерных чистюль, святош и мистиков непоправимых, которые отстав от жизни, намереваются, однако, остановить величестввенный ход истории. Но напрасно! Их намерения один лишь смех у народа вызывают, смех и жалость. И вот, наконец, есть ещё один вид произведений. Они, словно каменная глыба, глыба скалы вековой, надтреснутой, высокой, что над рекою висит и думу свою молча передумывает над гулом. Ветры со всех родных сторон несут ей вести, что там и там, где они только что были, такое же неровное дно реки и что глубокие воды тоже и там тревожно пенятся, рыдают, захлёбываются у препон. И глыба слушает ветры, сама же всматривается в кипенье, брызги и пену внизу, под ногами, стремясь угадать: а где же там самая глубокая выбоина подводная, чтобы броситься туда и сразу этим выровнять дно, а реке уж дать новое направление? И вдруг глыба, от скалы отколовшись, падает вниз! И криком кричат тут берега вокруг, от неожиданности в страхе задрожав! И со дна протест старого водяным столбом подпрыгнул… Но протест старого уже ей к чему теперь, он бессилен: ибо ведь река, разлившись, разбившись на дельты, протекла другой дорогой, и уже новые берега, новые просторы зовут её вперёд, всё время привлекая цветами душистыми да травами зелёными…
Этот образ скалы каменной я и хочу приложить к появлению «Кобзаря» в литературе. Ах, сила названной книги – насколько она была велика! Искренний, народный, правдивый тон её – так непохож на тон других книг! А вокруг сколько ещё было водорослей в литературе и пустоцветов, которые упрямо держались за старую, гнилую жизнь и мёртвую! Никак не удивительно, что и самоё появление «Кобзаря» ещё при жизни Шевченко воспринято было буквально как обвал! Не обошлось тогда и без высмеиваний, без шума, без крика. Но невзирая на весь крик этот и шум, небольшая книжка под названием «Кобзарь» своим появлением произвела в литературе огромный сдвиг. И литература лицом своим решительно повернулась в сторону народа, к берегам реальной жизни, и в частности – литература украинская. И в ней засияло новое, до того времени ещё неизвестное величественное и одновременно простое – имя революционера-демократа Тараса Шевченко.
Что же обусловило такой грандиозный сдвиг в литературе? И могла ли та каменная надколотая глыба ещё какую-то половину столетия, не обрываясь, висеть над водой? Возможно, причиной её обвала был один только приход в жизнь идей новых? Или, может, взгляды людей, которые стали кардинально отличными от взглядов предыдущих поколений? Всё это, конечно, имело значение…
Понятно, что эти толчки не могли не отразиться в первую очередь на такой чуткой области творческой деятельности человека, как литература. Если, допустим, не открытым революционным выступлением, то хотя бы строгим напоминанием, что старый строй давно уже разлагается и скверно пахнет. Такими напоминаниями полна на протяжении первых десятилетий XIX в. вся литература – как русская, так и литература народов, населявших царскую Россию.
В 1818 г. в Харькове Гулак-Артемовский напечатал басню «Пан та собака», которая начинается такими вот хмурыми строчками:
На землю злізла ніч … ніде ані шиширхне, Хіба подекуди крізь сон що-небудь пирхне.Хмурость эта, возможно, кое-кому и не очень нравилась, но она была правдива. Действительно, ночь спустилась тогда на всё пространство России. И эта ночь, как увидим дальше, длилась долго-долго! У несчастных крепостных, которых безжалостно мучили паны, не раз вырывался крик, мольба, как у Рябка из басни: «За что издеваетесь?» Но мольбы эти заглушались новыми ударами, новыми истязаниями. И вот у крепостных медленно начиналось пробуждаться сознание, чувство человеческого достоинства, они вместо мольбы в душе своей твёрдо решили не покоряться панам, и это решение чудесно зазвучало в упомянутой басне Гулака-Артемовского: «Той дурень, хто дурним іде панам служити».
Но не так-то легко было с панами расквитаться. Все бунты и восстания, которые поднимали крестьяне, жестоко подавлялись войсками, и ночи аракчеевской, казалось, не будет ни конца ни края. А паны, развлекаясь, бесились с жиру, паны из скуки спорили друг с другом из-за пустяков, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в повести Гоголя. «Скучно на этом свете, господа!» – вырвалось у правдивого писателя Гоголя, и Белинский, разбирая его повести, с каким-то особенным ударением на словах «жизнь наша» заявил: «И такие вот все его повести: сначала смешно, потом грустно». О том, что жизнь того времени была грустна, и о том, что русскую действительность панская скука разъедает, сказал приблизительно лет за десять до восклицания Гоголя и Александр Пушкин. «Мне скучно, бес», – говорит Фауст Мефистофелю… А Мефистофель резонно его утешает:
Что делать, Фауст! Таков нам положен предел, Его ж никто не преступает. Вся тварь разумная скучает: Иной от лени, тот от дел; Кто верит, кто утратил веру; Тот насладиться не успел, Тот насладился через меру, И всяк зевает да живёт — И всех нас гроб зевая ждёт. Зевай и ты.Фауст
Сухая штука! Найди мне способ как-нибудь Рассеяться.Этого пушкинского Фауста Виссарион Белинский назвал «гулякой, которому уже ничто в горло не идёт». Здесь надо принять во внимание то, что сцена эта была написана в 1825 г., в том страшном году, когда царизм – злобный, прожорливый – схватил в свои звериные лапы праведных вестников свободы – декабристов. Следовательно, в этом году царизм, говоря словами Пушкина, действительно уже «насладился через меру» и искал нового способа как-нибудь развлечься. Но как именно развлечься? И чем? Торговыми поставками за границу? Но ведь результатом крепостнических отношений была низкая производительность труда в сельском хозяйстве. Барышами на внутреннем рынке? Но не могла у помещиков развиться по-настоящему и промышленность, потому что этому мешал крепостной строй, которого царизм никак не хотел разрушать, наоборот – оберегал его. И даже так оберегал, что даже по два раза вешал одного и того же человека, например, как то было с Рылеевым. Это противоречие сейчас же отразилось и в литературе. Писатели разделились: одни из них звали общество назад, в допетровскую Русь; а другие, как, например, Лермонтов, – наоборот, боевой клич провозгласили: «надо действовать», чтобы идти вперёд (стихотворение «1831-го июля 11 дня»). Этот же клич (но в иной форме) звучал и у Белинского, который, увидев, куда его могла завести абсолютная идея Гегеля, понемногу начал уже освобождаться от неё, о чём он позже и сам писал: «Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, потому что чувствую, что был верен ему (в ощущении), примиряясь с “русской действительностью”». Этот клич повторил спустя некоторое время и молодой Герцен. Теперь уже Белинский совсем перестал мириться с российской действительностью и вместе с другими смело отправился проламывать в ней двери. Но как же так получалось, что Россия со слабо развитою промышленностью уже начинала тогда оформлять собственную философию? На это мы можем найти ответ у Энгельса, который говорит, что «страны, экономически отсталые, могут играть в философии руководящую роль: Франция в XVIII веке по отношению к Англии, на философию которой французы опирались, а затем Германия по отношению к первым двум»421. Проламывание дверей самодержавия в крепостнической России со временем приобретало всё более и более конкретные формы. Какую, например, борьбу и против кого именно имел в виду Лермонтов, это ярко видно нам из его стихотворения 1830 г. «Предсказание»:
Настанет год… Когда царей корона упадёт.Стихотворение это, понятно, не могло быть напечатано в год его написания, но нам важно здесь подчеркнуть то, что оно в себе, как в слитке золота, вместило все лучшие мысли передовых людей того времени. Передовые люди не боялись иногда делать прозрачные намёки и на самого царя. Царизм и далее продолжал искать себе жестоких развлечений.
В 1835 г. рукой польского шляхтича он убил народного протестанта против крепостничества, борца за правду и свободу Устима Кармелюка. В 1837 г. подлою наёмною рукою убил он солнце русской поэзии Александра Пушкина. А в следующем 1838 г. в солдатском лазарете – одиноким, от чахотки – заставил умереть поэта Полежаева.
Словно в бездну, падали борцы за счастье человечества, а царизм требовал всё новых и новых жертв. Крепостнической России все передовые люди того времени пытались противопоставить новую силу – силу, которая до основания сломала бы прогнившие устои старого. Необходимо было крепостнической России противопоставить новую силу – силу народную. И недаром писатели того времени так часто останавливались на образе бури, на образе бездны морской, победить которую можно было только навсегда попрощавшись с обывательским гнилым покоем.
– Прощай, мой покой, в море пускаюсь! – заявляет Евген Гребёнка в своём известном стихотворении «Чёлн».
«Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней», заявляет в своём стихотворении «Пловец» Языков. И даже такой кроткий поэт, как Кольцов, с настойчивостью начинает разрабатывать образ «тучи-бури» мимолётной в стихотворении «Лес», посвящённом памяти Пушкина. Кольцов под видом обращения к лесу в действительности обращается к народу – с вызовом, скрытым призывом к возмущению, с подсказыванием того, что давно уже «надо действовать». Он спрашивает:
Где теперь твоя Мочь зелёная?И вот в то время, когда всем приходилось жить в атмосфере тучи-бури, когда горе лютое ходило по домам, вышла в свет книжка Тараса Шевченко. И в этой книжке, в первых же словах её, сказано было такое:
Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами!И царское правительство с дворянами сразу же навострило ухо, сразу насторожилось. Лихо? Горе? А может быть, у поэта вырвалось это слово случайно? И начало оно пристально вчитываться в нового поэта.
А Шевченко в своём «Кобзаре», обращаясь к думам своим, продолжает и дальше твердить своё:
Чом вас лихо не приспало, Як свою дитину?И тут же снова, в третий раз:
Бо вас лихо на світ на сміх породило.Как это, действительно, не похоже было на вздорный лепет тогдашних рифмоплётов, сухих эстетов и всякого рода чиновников от литературы! Возьмём хотя бы одного из них, Бенедиктова, автора стихотворения «Смерть розы», который видел назначение поэта в том, чтобы «расточать бесплодные мечты», а певцу земному советовал песням неба научиться. Бенедиктов, не видя трагедии в жизни, искал её на небе и во всём небесном.
Умерла роза —
А плачущий ангел порхал безутешен Над сирым кустом.И это, конечно, «услаждало» царизм и успокаивало его, потому что авторы подобных стихотворений уж никак не собирались подкапываться под царский строй. Да и зачем им было подкапываться, если на людей они смотрели казёнными глазами? А тут вдруг в «Кобзаре» Шевченко зазвучало совершенно противоположное – трагедия простой сельской девушки:
Катерино, серце моє, Лишенько з тобою!Эти слова у Шевченко вырывались оттого, что он на человека учил смотреть «душою». Сам же Тарас Григорьевич столько насмотрелся в жизни горя человеческого, что у него один лишь стон из души вырывался – стон! И надо сказать, Шевченко в этом отношении не был одиноким. Азербайджанский писатель Мирза Фатали Ахундов в своём плаче «На смерть Пушкина» заявлял: «Кавказ отвечает на песни твои стоном…» Стоном преисполнена лирика грузинского поэта Николоза Бараташвили. Правда, подчас стон этот у некоторых переходил в глухой придушенный крик, а именно – тогда, когда после лютых пыток и преследований царских в империи на некоторое время наступала жуткая тишина. Удачно это передал в своём стихотворении «Гулянка» Амвросий Метлинский:
Ні, крик – то ще не крик, який учуло ухо, І до якого мир привик. Отто страшніший крик, як тихо, глухо, Замовк язик, бо в серці крик…Но Шевченко не из тех был, кто крик носит в сердце. Наоборот, не таясь, открыто, во весь свой голос, прямо в глаза царю бросал он свой грозный вопрос:
Чия правда, чия кривда, І чиї ми діти?Понятно, что такая книжка, которая осмеливалась на первое место поставить горе народное, поставить вопрос о социальной несправедливости, не могла быть не замеченной царизмом. И чёрная стая помещиков с царём во главе, естественно, сейчас же заметила её, но заметила по-своему. «Что такое! – завопила чёрная стая. – Кто-то осмеливается про народные страдания говорить? Не понимаем, не понимаем его, вот и всё!» Такое, по крайней мере, было содержание казённой рецензии на «Кобзарь», рецензии, появившейся в журнале «Сын отечества».
Да и как мог иначе встретить дерзновенную книжку украинского поэта царизм жестокий, если Шевченко думы свои посылал не на небо, как Бенедиктов, а к людям, посылал не бесплодно в облаках разгуливать, а действовать, и действовать именно на Украине, на той Украине, которую ни царь и ни помещики не признавали и признавать не хотели? Во тьме народ держать, держать его в беспросветной тьме – это было главнейшей задачей крепостников, но именно эту задачу да вдруг и разбивал им Шевченко.
В самом деле: что ещё более, ещё сильнее могло общественную мысль тревожить, как не слова:
Чия правда, чия кривда, І чиї ми діти?В противоположность всем писателям, которые, примирившись с гнусной действительностью, бежали от реальной жизни, прятались от правды, – Шевченко не только не бежал от жизни, а наоборот, в самую глубину её опускался, и с неправдою никак не мог примириться.
Что же давало Шевченко право именно таким тоном разговаривать с царизмом? В чём сила маленькой книжки, которая называется «Кобзарь»? Чем эту силу можно объяснить?
Да прежде всего тем, что Шевченко, который сам недавно был крепостным и сам хорошо знал, какова на вкус горькая судьба обездоленного люда, не мог отделять поэзию от жизни, а наоборот, брал их в неразрывном взаимодействии. Это взаимодействие охватывал он острым своим глазом поэтическим так метко и безошибочно, как будто перед ним всё время стояло увеличительное стекло, и он в это стекло смотрел…
А тогда ведь многое могло интересовать такого глубокого человека, как Шевченко: восстания в Польше (я беру целое десятилетие до выхода «Кобзаря»); холерные бунты; фальшивая теория «официальной народности», при помощи которой ещё больше во имя «батюшки-царя» душили всё передовое, революционное; философические письма Чаадаева и оглашение автора этих писем сумасшедшим… Народ бежал от плетей, от ненавистных помещиков. Беглецами тогда вся родная земля была переполнена. Достаточно было Шевченко развернуть «Киевские губернские ведомости», чтобы с болью сказать: ад в этом мире! Вот, например, одна выписка из № 2 «Ведомостей» за 12 января 1840 г., т. е. за несколько месяцев до выхода в свет «Кобзаря». В разделе «О бродягах» читаем: «Среди примет такие: Александр Филиппов Соколов… на левой стороне верхней губы и на щеке в нижней губе шрам, 17 лет. Илья Степанов… На левой стороне носа небольшой рубец, на правой стороне между щекой и ухом, а также на левой руке выше локтя шрамы, 40 лет». И такое встречаем в каждом номере «Ведомостей». И везде в них, как документы, следы нечеловеческих пыток: шрам на щеке, рубец на носу, шрам выше локтя… Шевченко спустя некоторое время в своём автобиографическом письме редакции «Народного чтения» говорил, что у него «украинская строгая муза». Да как же она и могла быть не строгой, если в жизни тогда такое делалось? Этим можно объяснить и то, что Шевченко, в отличие от эстетов, рисовавших женщину обязательно эфемерной, ангелоподобной, неземной, портрет обманутой несчастной Катерины своей изобразил простыми, земными, реальными красками. Строгость музы не позволяла Шевченко впасть в печаль, не позволила ему из всего того, что он знал о жизни, сделать неправильный вывод.
Журбою Не накличу собі долі, Коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні — Я їх заховаю, Заховаю змію люту Коло свого серця…Лютой змеёй вокруг сердца Тараса обвилась мысль о том, что миллионы крепостных всё ещё влекут на себе ненавистное иго, наложенное панами! Лютой змеёй вокруг сердца Тараса обвилась ранящая мысль о том, что родные сёстры и братья его бесславно погибают в неволе. Какой-то там шут, какой-то картёжник и развратник имеет право променять родную сестру его на собаку! Или же на цепь её, как зверя, посадить, или убить совсем! Что же делать? Куда девать эти думы свои? В какую сторону направить их – правды поискать? В конце первого стихотворения «Кобзаря» Шевченко сам себе на все эти вопросы отвечает:
А що робить! Журба не поможе… В Україну ідіть, діти! В нашу Україну… Там найдете щиру правду, А ще, може, й славу…Собственно говоря, у Шевченко были и другие – ещё более решительные строки:
Смійся, лютий враже! Та не дуже, бо все гине…Но царская цензура эти строки вычеркнула.
Эта решительность, эта смелость, это непрерывное искание правды, путей к освобождению от рабства к свободе сразу же дошли, на крыльях долетели ко всем сердцам прямым и честным, к сердцам, ненавидевшим царскую российскую действительность.
С какой нежностью отозвался в письме своём к Шевченко старый Квитка-Основьяненко! Так только мог старый Державин юного Пушкина на экзамене приветствовать. А Костомаров и Корсун – в Харькове на улице с «Кобзарём» в руке – они так там было зачитались, что ни улицы, ни народа вокруг себя не замечали, ни движения. Буквально бурею повеяло на них от маленькой книжки Шевченко! С какой гордостью пишет о «Кобзаре» Александр Чужбинский! В своей песне говорил он, что кобза Шевченко – «бурею бушует». И каждый спешит ему написать что-нибудь. И каждый спешит высказать восхищение своё «Кобзарём» необыкновенным. И здесь особенно интересно отметить, что в числе увлечённых талантом Шевченко было много русских, и в частности, русских писателей. Не буду анализировать всех рецензий, появившихся в русской печати почти одновременно с рецензией в «Сыне отечества», скажу только: большинство их – благожелательные. И интересно, что все они как бы дополняют друг друга. Потому что если первая из них говорит, что те, кто понимает украинский язык, прочитают «Кобзарь» с наслаждением и благодарностью, то вторая ещё и добавляет к этому: «Думы Т. Шевченко не только на Украине найдут искреннее сердце, приветливое слово, искреннюю правду и славу, а и среди тех русских, которым не чужд язык русской Италии». А третья рецензия, авторство которой приписывают Белинскому, как бы давая ответ на чёрную рецензию в «Сыне отечества» под заголовком «Не понимаем», берёт автора «Кобзаря» под защиту и утверждает, что «Катерина» Шевченко написана совершенно доступным, понятным языком. Ещё одно: почти каждый из авторов рецензий сейчас же после своей оценки начинает уговаривать Шевченко писать и на русском языке. Потому что, вопреки скептическому вопросу «мудрых» мужей: «Есть ли на Руси поэты после Пушкина?» – один из рецензентов ответил: «Есть поэты», и указал на Шевченко.
Вот все те обстоятельства, в силу которых родился гениальный певец свободы. Вот те соки подземные, которые, напоив корень деревца, дали ему возможность вырасти в ветвистое дерево, родное всем, большое. Имя певца гениального – Тарас Шевченко, а дерево ветвистое – «Кобзарь» его.
Судьбы книг, как я уже сказал вначале, не одинаковы. И это мы ясно видим сегодня на блестящем примере необыкновенного распространения «Кобзаря», который в одно мгновение после выхода в свет за свою силу действенную буквально был расхватан, миллионами рук прижат к сердцу. «Кобзарь» пошёл и дальше, в массы народные, чтобы жить среди людей. И вот, много раз переизданный пришёл он сегодня и к нам. И с нами действует он сегодня против наших врагов – не хуже, чем настоящее острейшее оружие.
Гнев Тараса Шевченко зародился ещё тогда, в кровавое царствование Николая І, когда поэт, будучи сам крепостным, на себе испытал все пытки и страдания своих закрепощённых братьев-крестьян. Гнев этот огнём высекался – и в известной беседе с грузинским поэтом, тогда ещё молодым Акакием Церетели, и в подписании протеста против антисемитского выступления журнала «Иллюстрация». Гнев этот ещё ярче разгорался и мужественнее становился в ссылке – в Оренбурге, среди угнетённых царским правительством башкиров и казахов, в Кос-Арале среди казахов и киргизов. «Караюсь, мучусь, но не каюсь», – вот что ответил Шевченко на хитрый вопрос тирана: а не прочь ли он покаяться? И Шевченко, куда бы его не забросила судьба, всегда был верен своему девизу: не каяться, не сгибаться перед царями; всегда прислушивался он к языку угнетённых народов, изучал их поэзию, фольклор и поднимал людей на протест, на противодействие.
Есть свидетельства, что в списках распространился «Кобзарь» на Кавказе. В списках доходил он и до тюремных камер заключённых при царизме революционеров. По словам агента полиции Антонелли, Буташевич-Петрашевский в 1849 г. заявлял: «Произведения Шевченко разошлись в том краю (на Украине. – П. Т.) в большом количестве и были причиною большого волнения умов». В русской литературе силу «Кобзаря» испытал на себе не один писатель. Например, Алексей Кольцов под его влиянием даже написал несколько стихотворений на украинском языке.
Влияние «Кобзаря» заметно также и на творчестве Некрасова, Сурикова, Дрожжина, Максима Горького. Что же касается украинских писателей, то здесь просто трудно сказать, кто из них не встрепенулся от глубочайшей правдивости «Кобзаря». Панас Мирный в стихотворении своём, опубликованном 28 января 1948 г. в газете «Комуніст», говорит о той помощи, которую он получил от шевченковской музы:
А як хлопець піднявсь на ноги, І знялась в голові його думка: Що робити йому одинокому в світі, Де себе подіти? Ти знову на поміч прийшла, З «Кобзарем» прилетіла до мене … «Читай і учись!» ти сказала …Степан Васильченко в своих автобиографических записках рассказывает, как он в Бахмутской тюрьме учил грамоте осетина Алексея Хостнаева, который через некоторое время уже и сам мог читать «Кобзаря» Шевченко.
А какое большое место занимал «Кобзарь» в биографиях Ивана Франко, Павла Грабовского, Архипа Тесленко и многих современных советских писателей! А мог ли быть без «Кобзаря» украинским Бояном Микола Лысенко? Могли ли быть такими известными художниками де Бальмен, Башилов, Сластион, если бы они не дали к «Кобзарю» своих иллюстраций? И, наконец, мог ли быть Номис подлинным филологом, если бы он не воспользовался силою нашего украинского гения? «Из незабываемого «Кобзаря», – пишет Номис в предисловии к своим «Приказкам» (1864), – я повыбирал не только подлинные поговорки, у народа им взятые, а и стихи, которые наш грамотный люд, а некоторые даже и народ, уже употребляют вместо поговорок».
То есть песни «Кобзаря», взятые Шевченко у народа, опять к народу и возвратились. И это нам, писателям, как и всем творцам вообще, должно служить примером великим, лучшим путевым указателем: писать так, творить так, чтобы думы твои сливались с народными.
Большой след оставил Шевченко и в других странах мира. Выдающиеся западноевропейские критики и поэты высоко ценили творчество Шевченко – да и понятно почему.
После смерти Генриха Гейне, ненавидевшего псевдопатриотизм «тевтономанов», после смерти Беранже, на фоне безнадёжного нытья поэтов-плакальщиков, проповедовавших отвращение к борьбе, гневное слово Тараса особенно созвучно было простому люду, беднякам. За эту созвучность народ горячо любил песни Тараса Шевченко и считал их своими, родными. В Болгарии, например, произведения Тараса Шевченко, переведенные на болгарский язык, настолько глубоко проникли в народ, настолько там в народных массах тысячу раз перешлифовывались, изменялись, что их впоследствии болгарские учёные записывали уже из уст народа не как песни украинского гения, а как свой болгарский фольклор.
В 1878 г. в Париже состоялся конгресс писателей, проводимый Виктором Гюго. В повестку конгресса был включён доклад «Литература Украины, находящаяся под запретом в царской России». Этот доклад, напечатанный в том же году отдельной книжкой (Женева), читал Карл Маркс. Читал он его с большим вниманием, делал в нём свои подчёркивания и пометки. А в докладе этом больше всего, как нам известно, говорилось о произведениях Тараса Шевченко.
Как грандиозно продвинулся Шевченко на своём пути от крепостного до пламенного борца с царизмом, идя плечом к плечу с лучшими сынами русского народа, и прежде всего с русскими революционными демократами 60-х годов, от вынужденного молчания в казахских степях – до широкого звучания во всём мире, настолько широкого, что и Карл Маркс стал читателем его произведений!
Какими грандиозными шагами идёт Шевченко и теперь – по республикам Советского Союза, по всей нашей славной Отчизне, когда о влиянии его поэзии на свою говорят русские поэты, белорусские, армянские, чувашские, грузинские, еврейские, таджикские, башкирские, казахские… Он у нас первый и воистину народный поэт, как сказал А. М. Горький.
Сегодня думы Шевченко неотделимы от дум нашего народа. И поэтому народ так часто, так охотно обращается к своему поэту. Гуманизм Шевченко, его отношение к человеку, его постоянная забота об угнетённых – как это созвучно нашему времени! Интернациональное единство, укрепление дружбы народов – как это нам сегодня нужно!
Наш народ в настоящее время переживает небывалый творческий подъём. Вместе с Советским Союзом идут другие народы, которые хотят жить по-новому. Советский Союз стоит во главе всего просвещённого человечества, охотно помогает всем народам.
Наша ненависть к врагам единения народов должна быть беспощадной, как беспощадной была она у Шевченко. Националистическим извращениям творчества Шевченко, как и недооценке его со стороны великодержавных шовинистов, у нас не может быть места. От Шевченко мы должны взять то, без чего мы, писатели, поэты, дышать не можем, а именно – и политическую поэзию, и лирику, и сатиру, и антирелигиозные мотивы, и многое-многое другое.
Будем же ценить наследство Шевченко!
Будем учиться у него!»422
У цьому ж збірнику, складеному разом з видатними діячами літератури інших країн, вміщено ще дослідження М. Рильського423, В. Касіяна424, І. Білодіда 425, Ф. Прийми426, Є. Кирилюка427.
Як була зустрінута поява «Кобзаря» громадянськими верствами тодішнього суспільства
Уже перша поетична публікація Т. Г. Шевченка «Кобзар» обезсмертила ім’я його автора. Не слід думати, що ця знакова подія, яка провістила становлення народного українського письменства, дістала однакову оцінку в літературних колах тодішньої Росії. Чи не найавторитетніший шевченкознавець, головний редактор повного зібрання творів поета Євген Прохорович Кирилюк, говорячи про відгуки на появу «Кобзаря», відзначав, що вони були вкрай суперечливими428.
Розглядаючи ситуацію, що склалася навколо виходу в світ «Кобзаря», Є. С. Шабліовський пише: «Негативну рецензію на ранні твори Шевченка дав реакційний журнал «Сын отечества», яким керували тоді М. Греч429 та М. Польовий. Вважаючи українську літературу «шалостью» и «прихотью», цей журнал висловив лицемірне «співчуття» молодому поетові: «Шкода бачити п. Шевченка, коли він нівечить думку і російську мову, підробляючись під хохлацький лад. У нього є душа, є почуття, і його російські вірші, напевне, могли б додати частку хорошого в нашу сучасну російську поезію».
Журнал О. І. Сенковського «Библиотека для чтения» хоч і визнавав талант Шевченка, проте принципово заперечував українську літературу, а відтак і цінність творів Шевченка.
На противагу ворожим голосам «Сына отечества», «Библиотеки для чтения», «Северной пчелы» передові на той час органи російської преси «Отечественные записки» і «Литературная газета» дали на «Кобзар» 1840 р. досить глибоку і схвальну оцінку. В рецензії «Отечественных записок» на першу книжку Шевченка зазначалось: «Ім’я п. Шевченка, якщо не помиляємося, ще вперше з’являється в російській літературі, і нам тим приємніше зустріти його на книзі, що повністю заслуговує схвалення критики». Як позитивне явище журнал відзначав близькість поезій Шевченка до усної народної творчості: «Вірші п. Шевченка найближче підходять до так званих народних співів. Вони такі безпосередні, що ви їх легко приймете за народні пісні і легенди малоросіян; це одне вже говорить на їх користь».
«Отечественные записки» активно обстоювали право українських письменників, зокрема Шевченка, писати рідною мовою…
Тепло привітала «Кобзар» і «Литературная газета». Як відомо, в цей час вона своїм напрямком була близька до «Отечественных записок»; у ній брали участь В. Г. Бєлінський і молодий М. О. Некрасов. У непідписаній рецензії на «Кобзар» підкреслювалася народність творчості українського поета, реалістичність зображення, високі художні достоїнства: «У віршах п. Шевченка багато вогню, багато почуття глибокого, скрізь дихає в них гаряча любов до вітчизни. Його картини у згоді з натурою і виблискують яскравими живими барвами». Рецензент висловлював упевненість, що поезії Шевченка «не тільки на Україні знайдуть щире серце, ласкаве слово, щиру правду, але й між тими з москалів, яким не є чужою мова російської Італії».
Отже, як бачимо, у відгуках критики на «Кобзар» 1840 р. переважала позитивна оцінка творчості Шевченка. Що ж до улесливої «поради» реакційної критики відмовитись писати рідною мовою, то молодий український поет уже незабаром дав на неї гнівну відповідь у вступі до поеми «Гайдамаки»:
Спасибі за раду. Теплий кожух, тілько шкода — Не на мене шитий, А розумне ваше слово Брехнею підбите. Вибачайте… кричіть собі, Я слухать не буду Та й до себе не покличу: Ви розумні люди — А я дурень; один собі У моїй хатині Заспіваю, заридаю, Як мала дитина430.Місце «Гайдамаків» в історичній спадщині Шевченка
Історичній поезії Шевченка присвятив свою змістовну працю «Народ і слово Шевченка» Є. С. Шабліовський. Тут є свідчення вихідця з України відомого російського письменника Г. П. Данилевського – автора популярних тоді історичних романів «Княжна Тараканова» та «Сожжённая Москва» – про високу оцінку М. В. Гоголем уже перших історичних творів Тараса Григоровича Шевченка: «Г. П. Данилевський, згадуючи літературне життя початку 40-х років ХІХ ст., зазначав: «Безсмертний Гоголь писав «Бульбу» й «Старосвітських поміщиків» по-російськи, але й він в той же час був зачарований поетичними піснями «Кобзаря» і «Гайдамаків» Шевченка». Так, уже на першому етапі творчість Шевченка викликала захоплення корифея російської літератури М. В. Гоголя, представників передової громадської і художньої думки Росії».
Шевченко на батьківщині
Перший приїзд Тараса Григоровича Шевченка з Петербурга на батьківщину мав для поета винятково важливе значення. Представники української громадськості, безпосередньо познайомившись з Шевченком та його творами, відчули величезну притягальну силу його особистості, прагнення допомогти своїй батьківщині позбутись кайданів царського гноблення. Спілкування з поетом розширювало обрії людського мислення, примушувало глибше замислюватись над витоками героїчного історичного минулого народу, його потребами й прагненнями.
Зокрема під час цього перебування на батьківщині відбулося знайомство Тараса Григоровича з відомим українським та російським літератором й етнографом О. С. Афанасьєвим-Чужбинським431. «Как материал для биографии Шевченко, – писав довголітній приятель Шевченка в 1861 р. – я представляю эпизод моего с ним знакомства в то время, когда он был ещё молод, кипел вдохновением, стремился к самообразованию и несмотря на грусть, постоянно щемившую его сердце наедине с собою, увлекался ещё порой и весёлым обществом, и сочувствием, которые вызывал симпатичной своей личностью.
Появление «Кобзаря» мигом разбудило апатию и вызвало любовь к родному слову, изгнанному из употребления не только в обществе высшего сословия, но и в разговоре с крестьянами, которые старались, и, конечно, смешно, выражаться по-великорусски. Смело могу сказать, что после появления «Кобзаря» большинство принялось за повести Квитки. В 1843 году Шевченко уже знали украинские паны; для простолюдинов поэт и до сих пор остаётся неизвестным, хотя все произведения его доступны крестьянину и доставили бы ему большое наслаждение.
К этому же году относится и первая моя встреча с Шевченко в Полтавской губернии. Был июнь (1843 г.) на исходе. На Петра и Павла в одном старинном доме у Т. Г. В(олхов)ской съезжались помещики не только из Полтавской, но из Черниговской и даже из Киевской губерний, и празднество продолжалось несколько дней.
Общество собралось многочисленное. По протекции одного приятеля я имел комнатку, не уютную, но отдельную, так что, несмотря на неудобства, всё-таки я был помещён лучше многих. Помню, что после шумного завтрака я отправился к себе покурить и почитать. Проходя мимо главного подъезда, я услышал голоса «Гребёнка! Гребёнка!» – и остановился. Е. П. (Гребёнка) подъезжал к крыльцу в сопровождении незнакомца. Они вышли. Спутник был среднего роста, плотный; на первый взгляд лицо его казалось обыкновенным, но глаза светились таким умным и выразительным светом, что невольно я обратил на него внимание. Гребёнка тотчас же поздоровался со мною, взял за плечи, и толкнув на своего спутника, познакомил нас. Это был Т. Г. Шевченко.
Последний знал меня по стихотворному посланию к нему, напечатанному в «Молодике», и крепко обнялся со мною. Дорожным надо было умыться и привести в порядок костюмы. Я пригласил их в свою комнату. Гребёнка скоро ушёл вниз, а Тарас Григорьевич остался со мною. Я упомянул о своём стихотворении не из самолюбия, – напротив, я считал его слабым, – но потому, что это было первое печатное заявление сочувствия и уважения украинца к народному поэту, и Шевченко несколько раз произнёс своё искреннее «спасибі», которое, как известно, всем знавшим его близко, имело особенную прелесть в устах славного Кобзаря. Но недолго мы разговаривали.
Весть о приезде Шевченко мигом разлилась по всему дому, и квартира моя вскоре наполнилась почитателями, приходившими познакомиться с родным поэтом. Пришёл Гребёнка, и мы отправились в залу. Все гости толпились у входа, и даже чопорные барышни, которые иначе не говорили, как по-французски, и те с любопытством ожидали появления Шевченко. Поэт, видимо, был тронут блистательным приёмом и после обычного представления хозяйке, которая решительно не понимала, кого ей представляли, Шевченко уселся в кругу дам в обществе С. А. З(акревск)ой.
Целый день он был предметом всеобщего внимания, за исключением двух-трёх личностей, которые не признавали не только украинской, но и русской поэзии и бредили только Гюго и Ламартином. Скоро Шевченко сделался как свой со всеми и был точно дома. Многие хорошенькие особы читали ему наизусть отрывки из его сочинений, и он в особенности хвалил чистоту полтавского наречия. Влияние этой чистой речи отразилось на его последних произведениях, а в первых заметно преобладание заднепровского говора. После ужина одна весёлая мужская компания увлекла Шевченко в свои комнаты, куда услужливый буфетчик отпустил приличное количество увеселительных напитков. Среди шумных тостов и приветствий Тарас подсел ко мне и сказал, что он не надеялся встретить такого радушия от помещиков и что ему очень понравились иные «молодиці і дівчата». Вообще он был в духе и не говорил иначе как по-украински.
Здесь надо сказать о небольшом кружке, который овладел Шевченко. Тесный кружок умных и благородных людей, преимущественно гуманных и пользовавшихся всеобщим расположением, принадлежал к числу тех собутыльников, которые не находя ли деятельности в тогдашней среде, не успев ли отрешиться от юной разгульной жизни, находили единственным наслаждением удовольствие похмелья. Кружок этот носил название «Общества мочемордия».
Два дня пробыли мы с Шевченко в Мосевке, и, – продовжує Чужбинський, – расставаясь, дали слово друг другу повидаться при первой возможности, указав разные местности, где предполагали быть в известное время приблизительно. Заезжал он потом ко мне, провожал я его к общим знакомым, и в эти-то поездки я успел поближе всмотреться в эту интересную личность, о которой ещё до появления в Малороссии ходили разноречивые слухи. Осторожный ли от природы или вследствие гнетущих обстоятельств молодости, сложившихся такой тяжёлой долей, Шевченко, при всей видимой откровенности, не любил однако же высказываться. Мне как-то удалось сразу подметить эту черту, и я никогда не беспокоил его никакими вопросами, пока он сам не начинал говорить»432.
ПРОБЛЕМА НАРОДНОСТІ В ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Великий спадкоємець Шевченка і дослідник його творчості І. Я. Франко
Перші твори Т. Г. Шевченка одразу й міцно привернули увагу його найближчого у часі спадкоємця І. Я. Франка.
Вище мова йшла про новаторську оцінку Франком політичних поезій поета-революціонера.
«Франко, маючи всі підстави, – стверджує М. Д. Бернштейн, – був першим дослідником, якого проблема народності цікавила з різних поглядів – суспільного, естетичного, історико-літературного. З часу виходу у світ «Кобзаря» 1840 року і «Гайдамаків» стала реальною поява поета справді народного…»
Про народність Шевченка писалося, а ще більш говорилося досить часто, особливо інтенсивно в останні роки життя поета і після його смерті. Зосереджувалися на трьох витоках народності Шевченка: походженні, змісті поезій, природно, мові (у зв’язку з фольклором). Усе це було правильним, але однобічним, поверховим тлумаченням народності в творчості Шевченка та її зв’язків з фольклорною традицією.
У 1860 – 1861 роках з’явилося кілька статей і рецензій про творчість Шевченка. У виступах, серед інших, порушувалося й питання народності поета і, що показово, висвітлювалося воно з різних позицій. Першим був відгук Добролюбова на «Кобзар» Шевченка 1860 року, опублікований у журналі «Современник». Наступного 1861 року в журналі «Основа» надруковано статті П. Куліша «Чого стоїть Шевченко, яко поет народній» та М. Костомарова «Воспоминание о двух малярах».
Стаття П. Куліша: «Чого стоїть Шевченко, яко поет народній»
Стаття П. Куліша, на перший погляд, містить ряд справедливих положень, та вони не визначали змісту та призначення творчості поета. «Тоді, коли була написана ця стаття, – пояснює Бернштейн, – Куліш, звичайно знав про ненадруковані твори поета, які нелегально поширювались у Росії. (Про деякі з них від самого Шевченка.) Але автор статті характеризує творчість Кобзаря так, ніби не існувало ні таких поем гостро соціального змісту, як «Сон» і «Кавказ», чи «Неофіти» і «Марія».
Відповідаючи на порушене питання про те, чого вартий Шевченко «яко поет народній», Куліш не враховує найважливішої ідейної тенденції творчості поета, власне, свідомо ігнорує її. І це не дивно. Класові позиції буржуазного письменника Куліша докорінно відрізнялися від політичних ідеалів Шевченка.
Основу народності Шевченка, її суспільно-етичного змісту Куліш волів бачити в ідеї національно-релігійної спільності українства, у відображенні усталеностей побуту, звичаїв, традиційних спрямувань уснопоетичної творчості. Понад усе зверталася увага на ранні твори Шевченка, окрім поеми «Гайдамаки», до якої Куліш ставився негативно.
Суперечності статті Костомарова «Воспоминание о двух малярах»
Стаття Костомарова справляє досить суперечливе враження. З одного боку – наявність цінних матеріалів щодо життєвої долі Шевченка, шанобливе ставлення до спадщини поета, його світлої пам’яті. З другого – та ж стаття свідчить, що на деяких оцінках творчості поета відбилися ліберальні ілюзії Костомарова, його політичні позиції, сформовані ще за часів Кирило-Мефодіївського товариства, одним з ідеологів якого, точніше – його поміркованого крила, був автор статті «Воспоминание о двух малярах». У своїх статтях історик з певними натяками говорить про революційні твори поета, але вони його, схоже, лякають. Подібні тенденції відбились на оцінці деяких творів Шевченка та його громадянської позиції і не могли не позначитися на трактовці джерел народності поета. Загалом Костомаров глибше, об’єктивніше трактував питання народності Шевченка, ніж Куліш. Він докладніше характеризував специфіку поезії Шевченка, прагнув збагнути таємницю творчого генія Шевченка, підкреслював органічний зв’язок поезії Кобзаря з духом народного життя, з народним світоглядом. Однак і йому були чужими, неприйнятними революційні ідеї Шевченка у самій їх соціально-політичній основі.
Добролюбов розкриває народний характер творчості поета
Невелика за обсягом рецензія М. Добролюбова на «Кобзар» 1860 року цікава тим, що висувала ряд актуальних для свого часу і згодом питань щодо народності творчості Шевченка. Критик, наприклад, звертає увагу на біографію Шевченка, його походження, життєвий шлях. Звичайно, не все міг сказати тоді Добролюбов про особисту долю українського поета, що кількома роками раніше повернувся з тяжкої царської солдатчини.
Аналізуючи життєвий шлях українського поета, критик наголошував на тому, що Шевченко вийшов з народу, багатьма кревними узами був пов’язаний з ним. Викладаючи основний зміст «Кобзаря», він пропонував читачам звернути, зокрема, увагу на поеми «Катерина», «Гайдамаки», «Наймичка» (зауважимо, що сатиричні й політичні поеми й поезії Шевченка тоді не могли бути надрукованими).
У «Катерині» і в «Гайдамаках» Добролюбов відзначив відображення не тільки національних рис побуту українського народу в дусі фольклорно-етнографічних традицій, а передусім самий підхід поета до осмислення і показу народного життя, витоків народних характерів.
У «Гайдамаках» Добролюбов підкреслює соціально-визвольну спрямованість, роль народних мас в історичних подіях. Критик підкреслював одну з головних ідей «Гайдамаків» – заклик поета не занедбувати історичний досвід народу, адже він актуальний і для сучасності. Отже, М. Добролюбов засвідчив, що народність Шевченка визначається не тільки життєвим досвідом поета, його глибоким знанням народного життя, народністю мови, а й, і це найприкметніше, відображенням дум і прагнень народу, його волі до боротьби. Свою думку Добролюбову доводилось висловлювати в дуже складних умовах, зважаючи на «недремне око» царської цензури. А втім, тогочасний читач навчився читати і те, що було сховано між рядками.
У підсумку Добролюбов відзначив: «він (Шевченко. – М. Б.) поет цілком народний, такий, якого ми не можемо вказати у себе…»
У цьому руслі свою думку про Шевченка висловлювали й інші російські революціонери-демократи, насамперед М. Чернишевський, О. Герцен, М. Некрасов, О. Плещеєв, М. Михайлов.
І. Я. Франко – класик наукового шевченкознавства
А все ж фронтальне, всебічне дослідження проблеми народності геніального поета було здійснене пізніше – в наступні десятиліття, і пов’язане воно з іменем Івана Франка – класика наукового шевченкознавства. Солідаризуючись з поглядами російських революційних демократів на літературну і громадську діяльність Шевченка, з їх оцінкою історичних заслуг поета, вчений пішов далі, розробивши в численних своїх працях ряд корінних проблем життя, творчості, світогляду Шевченка, обґрунтував досить цілісну концепцію народності його творчості.
На цю тему Франко не писав спеціальних досліджень і, можливо, не в тім головне. Примітним є те, що різні аспекти народності Шевченка у всій різноманітності проблеми І. Франко розглядає постійно, послідовно, майже в кожній шевченкознавчій праці, а також у багатьох інших історико-літературних і теоретико-естетичних розвідках і статтях, розглядає не самодостатньо, а на широкому тлі та у зв’язку з іншими завданнями суспільно-літературного процесу. Від того концепція вимальовується не в застиглому вигляді, як то часто буває, а в конкретно-історичному розрізі, хоч і дещо сумарно.
При тому треба враховувати суспільно-культурні й літературні умови, в яких вона розвивалась, яким можливим впливам підлягала.
Франкова концепція народності Кобзаря перейшла стадії обґрунтування і синтетичного осмислення не в тиші кабінетного закутку, відгородженого глухою стіною від навколишньої дійсності, її конфліктів і змагань, а в атмосфері різносторонніх громадських і літературних інтересів ученого.
У час, коли на літературну й суспільну арену виступив Франко, коли з’явились, зокрема, перші його праці про Шевченка, в Галичині панували досить обмежені традиційні уявлення про поета. Вони поширювалися часом несвідомо (через недостатню обізнаність з усією спадщиною поета), а найчастіше навмисно культивувалися буржуазно-консервативною критикою й публіцистикою, правими лідерами народовців і москвофілів. У тих колах, у періодичних виданнях, що їм належала провідна роль (наприклад, у львівському журналі «Правда», в газеті «Діло» та ін.), панував однобічний, а отже – й тенденційний погляд на творчість Шевченка, його політичні ідеали, їх значення в національному житті. За основу характеристики Шевченка бралась його рання творчість. Що ж до періоду розквіту його революційної поезії, то вона або свідомо замовчувалась, або перетлумачувалась відповідно до завдань новочасної ретроградної політики.
Ідеологи народовців намагались утвердити уявлення про Шевченка як про поборника консервативної традиційності, релігійної моралі. Таким чином створювався націоналістичний культ Шевченка, чужий духу його поезії, його політичним ідеалам.
Спроба створити уявлення про Шевченка як затятого націоналіста
Вже у праці О. Партицького «Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка» (1872) – першій праці в Галичині, та й взагалі в українській критиці на подібну тему, проілюстровано один із «варіантів» суб’єктивістського трактування творчості поета. Попри окремі слушні думки у «Провідних ідеях…» переважає прагнення автора обійти мовчанкою революційний зміст політичних поезій Шевченка, а в деяких випадках – і гостру критику в них російського самодержавства, намагання витлумачити її як виступ проти Росії загалом, проти російського народу. Що ж до українських поміщиків, то Шевченко начебто закликав їх до національного «братання» з народом, до соціального примирення.
Спроба трактувати «провідні ідеї»» Шевченка в аспекті міжнаціональних противенств і замовчати при тім справді провідне – порушення соціально-класових проблем – одна із провідних тенденцій буржуазного шевченкознавства. З того й випливає антинаукова концепція народності Шевченка.
Ще яскравіше ми це бачимо на прикладі ряду виступів народовських критиків Є. Згарського та О. Огоновського на сторінках буржуазно-консервативного журналу «Правда» в кінці 1870-х років з приводу поеми «Неофіти», які запропонували читачеві свою безплідну версію щодо ідеї цього твору. На їх думку, давньоісторичний сюжет поеми має вузьконаціональний зміст. Однак відомо, що таке тлумачення не випливає з її задуму, в основі якого – конфлікт соціально-політичний. Зміст поеми спрямований на викриття царизму, російського самодержавства і його політики соціального і національного гноблення, проти якого боролись усі народи царської Росії, серед них – український і російський.
Пізніше Огоновський писав про те саме і про поему «Марія». Франко розглядав поему «Марія, як і поему «Неофіти» в значно ширшому аспекті – і філософському, і політичному, розкриваючи національне і загальнолюдське значення провідної ідеї цих творів.
Під певним кутом зору поему Шевченка «І мертвим, і живим…», обминаючи її соціально-викривальні мотиви, Огоновський трактує в плані публіцистичного втілення Шевченкової національної політичної проблеми, характерної, мовляв, для творчості поета в цілому.
У другій половині 1880-х років майже одночасно вийшли друком брошура Ф. Свистуна «Чем есть для нас Шевченко» (Львів, 1885) та книга польського літератора і публіциста М. Здзєховського (псевдонім Урсин) «Очерки из психологии славянского племени. Славянофилы» (С. – Петербург, 1887), в якій значну частину одного з розділів присвячено Шевченкові. Для повноти картини в цьому зв’язку слід згадати ще статтю В. Щурата «Шевченко і Єремія» (1904).
Позиції згаданих авторів у суспільних, національно-політичних питаннях різні, часом полярні. Далеко не тотожні їх інтереси, як і підхід до висвітлення спадщини Шевченка. Але є й спільне у висвітленні деяких основ творчості, світосприймання поета. Усі три виступи разом є немовби конгломератом «версій» національно-психологічної природи поезії Шевченка, кожна з яких, як на нашу думку, однаково хибна.
Ф. Свистун, наприклад, писав: «У душі Шевченка схований зародок міцного почуття релігійного, й усвідомлення залежності людини від вищої істоти, що управляє світом, проступає в усіх його творах. Священне писання… залишило незворушні сліди як у його думках, так і в способі викладу почувань». Проте Ф. Свистун змушений визнати, що йому не до душі твори Шевченка, які проповідують, за його висловом, «соціальний переворот», позначені впливом «французького позитивізму» і «руського нигілізму». Загалом же автор тлумачить Шевченка – поета, революційного демократа – як співця «християнства й головного засновника науки Христа»: «любові, смирення… братолюбства».
Згодом, як уже зазначалося, зі спробою віднайти «секрети» сутності національного, народного змісту творчості Шевченка виступив Урсин. У своїх судженнях про Шевченка він прагне обґрунтувати свою думку науковоподібними розмислами ідеалістичного характеру, скажімо, про «племінну психологію» слов’ян, про риси спільності й відмінності в «національно-племінній» психіці росіян, українців, поляків.
Торкаючись, наприклад, поеми «Неофіти» Шевченка і загалом всієї його творчості, Урсин робить висновок: «…вражає перш за все… пасивне ставлення до умов суспільного життя… заглиблення в самого себе з метою досягнення християнської досконалості…».
Франко спростовує хибні тлумачення про Шевченка
Не дивно, що міркування Урсина викликали гостру критику з боку Франка. У статті «Т. Шевченко у висвітленні пана Урсина» (1888) він писав, що «наукові» відкриття автора нічого спільного не мають з поглядами і настроями Шевченка, що той не був ані песимістом, ані містиком… Все було навпаки», – підкреслював Франко. Критикуючи хибні надумані висновки автора, Франко писав: «…Вся поезія Шевченка подана неправильно: ані слов’янофільство, ані віра в народ не були у Шевченка містичними». Спроба з таких засад з’ясувати ознаки народності, національної природи творчості Шевченка, як це здійснив Урсин, не витримувала жодної критики.
Так само різкою і дієвою була відповідь Франка на публікацію В. Щурата «Шевченко і Єремія». Відомо, що Щурат є автором змістовних праць про Шевченка, деякі з них були написані ще за життя Франка, і він їх схвально оцінював (як-от студію про поему Шевченка «Чернець»). Але принципова, глибоко наукова позиція Франка не визнавала компромісів, зокрема в питаннях, що стосувалися характеристики національних, народних основ творчості геніального поета.
Віднаходити спільні риси між Шевченком і давньоєврейським пророком Єремією щодо їх взаємин з народом, вбачати в життєвій долі Єремії, його трагічній відірваності від народу історичну долю геніального поета України – такі порівняльно-філософічні розмірковування свідчать про обмеженість і відсутність чіткості в розумінні історичного значення Шевченка. Франко різко реагував на статтю В. Щурата: «Додайте до того ще, що вся проповідь Єремії має тло не етичне, а національно-жидівське, що основна нота його промов – глибокий песимізм, який іноді доходить до розпуки, то й зрозумієте, як мало відповідне було порівняння д-ра Щурата».
Рішучу критику з боку Франка тоді ж викликала і стаття В. Щурата «Святе письмо в Шевченковій поезії» (1904). Критичний відгук і на цей раз викликаний викривленим тлумаченням ідейного змісту спадщини Шевченка. Автор статті старанно визбирує всі згадки поета про Біблію, біблійних пророків, реєструє найрізноманітніші деталі із сфери художньої стилістики і з того робить висновок, що Шевченко був «біблійцем», людиною глибоко релігійною і взагалі поетом, що повністю лишався у сфері християнської моралі. Франко вказує на те, що автор приписав Шевченкові настрої і переконання, не властиві йому, і підкреслює, що одна справа – самостійне, оригінальне використання тих чи інших стародавніх мотивів, сюжетів, а інша – світоглядна позиція поета, його суспільні наміри та їх художнє втілення.
Коментуючи слова Щурата про Шевченка як «народного священнослужителя», Франко розкриває тенденційний підхід автора статті до тлумачення фактів і навіть до їх відбору. Щодо цього Франко зауважує: «Вертаючи до «впливів», зазначуємо, що автор виключив із-під них отсі чотири поеми (які знов не підходять під його тенденцію!): «Саул», «Царі», «Во Іудеї, во дні они» і «Марія», тому, «що в них Шевченко лиш формально оперся на Св. письмі…» Боротьба за спадщину Кобзаря часто велася як проти перекручення її суспільної сутності, так і проти ворожих нападок на поета клерикалів-реакціонерів. Тут варто згадати ще один виступ Франка з яскраво політичним спрямуванням, а саме його статтю «Мистифікація чи ідіотизм» (1905).
Як це не може здаватись дивним, а втім, можна стверджувати, й закономірним – суперечки довкола тлумаченя поетичного, ідеологічного обличчя Шевченка не припиняються й у наш час. Звернімось до виступу Григорія Грабовича (це професор Гарвардського університету і головний редактор видання місячника «Критика»), себто статті «Націоналізований Шевченко»433.
«Чільне місце Шевченка в українському культурному житті й формуванні української національної свідомості, – починає Г. Грабович, – зумовило те, що його рецепція (якщо вилучимо популярні та культові її прояви) відбиває також основні фази та центральні питання модерної української інтелектуальної історії. Висвітлення цих позицій і фаз протягом двох минулих століть не було симетричним: рецепція ХІХ століття, починаючи від перших відгуків на «Кобзар» 1840 року, хоч і коротша, зате набагато вагоміша. Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла Драгоманова та Івана Франка можна вважати не тільки основними представниками й речниками дедалі потужнішого українського національного руху, а також і постатями, які, кожен у свій спосіб, були батькамизасновниками цього руху, визначивши його риси, цінності та форми самоусвідомлення. Важливо також, що кожен з них займався постаттю Шевченка не лише як інтелектуал і критик, і в тому ракурсі як ідеолог, але також і як науковець, часто беручися за впорядкування та публікації Шевченкових творів… Найбільше вражає тут домінування ідеології у рецепції Шевченка…
Інтерпретація творчості й діяльності Шевченка Маланюком і Донцовим
Що Шевченко посідає центральне місце в текстах Маланюка, не повинно дивувати. Поет, який проголосив своїми сутнісними чеснотами патріотизм і відданість нації й уважав себе не лише представником, а й речником, покликаним вести, спрямовувати і викорінювати її вади та прогріхи, не міг не звертатися до Шевченка, національного поета, того, – пояснює Грабович, – хто став уособленням цієї настанови, особливо ж у межах націоналістичної ідеології…
Хоча Шевченко присутній також у поезії Маланюка, і комплексне дослідження передбачає увагу й до цього аспекту, осердя його рецепції Шевченка міститься в есеях та літературознавчих дослідженнях…
Ці есеї, зокрема найраніші, мали здебільша програмову ідеологічну орієнтацію. Настанова, яку обирає собі Маланюк, не є позицією нейтрального спостерігача або академічного дослідника, хоча певний нахил до академічного тону також помітно, принаймні, увидатнюється сенс історії («історіософічність») і те, що ми назвали би тепер культурологічною перспективою, проте він не є літературознавцем ані за освітою, ані за темпераментом. І переважно з більшою чи меншою наполегливістю. Маланюк артикулює нову націоналістичну ідеологію Дмитра Донцова та його часопису…
Історію взаємин Маланюка з Донцовим ще не вивчено, зокрема потребує дослідження обширне й досі не опубліковане листування. Наприкінці їхніх життів, тобто у 1960-х, вони розійшлися у поглядах… Але у вирішальний міжвоєнний період Маланюк перебував цілком у таборі Донцова. Сенс того впливу, що Донцов на нього мав, його відданість справі видно у статті, що її Маланюк написав до 75-річчя Донцова, де він – із вірою і патосом щирого адепта – простежує роль, яку «доктор» (як його називали послідовники) відіграв для України і для нього особисто. Стаття – по суті панегірик, сконструйований із есенціялістських і маніхейських топосів донцовської візії української історії: темна ніч українського безсилля, безладу і браку волі, що позначали кінець ХІХ століття і були втіленням раціоналізму і федералізму, а також нібито русоцентризму Драгоманова, героїчні визвольні змагання і згодом поразка української війни за незалежність, а потім відповідь на причини поразки – і разом з тим візія відновлення та справжнього звільнення від психологічного стану облоги. Таким звільненим постає Донцов і «Літературно-науковий вісник», який почав виходити 1922 року, коли багато хто ще дослівно переживав травму війни…
Ідеологічну спрямованість Маланюкових есеїв про Шевченка можна представити кількома основними топосами або рубриками, які мають низку відгалужень і нюансів:
1. У центрі цієї критики є об’єднувальна, фундаментальна і апріорна віра, чітко орієнтована на концепцію (насправді це радше аксіома) Донцова, що мовляв, Шевченко артикулює у своїй поезії як політичну, так і національну візію України. Така позиція вповні співзвучна із загальною рецепцією початку ХХ століття; в самій же поезії, особливо в так званих «політичних поемах» («Сон», «Кавказ», «Посланіє», «Розрита могила» та інших), є, річ ясна, формулювання, які водночас передбачають політично забарвлене прочитання і спираються на колективні почуття, які є протонаціональними, і водночас, посутньо, стають стимулом і засобом для формування національної свідомости. Проте сама собою Шевченкова візія України та його відчуття авдиторії, до якої він звертається, позначені символічними, мітичними і мілетарними моментами, а також постійним децентруванням і, понад усе, присутністю сакрального. Все це окремо і сукупно принципово упосередковує ті політичні та національні виміри, які тут народжуються. Маланюк, спираючись на Донцова, ті упосередкування, чи пак нюанси, ігнорує або попросту не сприймає. Його аргументація є принципово есенціялістська й апріорна: Шевченко ео ipso є національним пророком і національним генієм, тож завдання критика – не перевіряти цей постулат, а утверджувати його й використовувати для розбудови більшої справи. Реальність літературного твору та потреба його висвітлити, його апотезувати є взаємнопов’язаними: пропедевтика, завдання конструювати національність і свідомість, до якого критик – справжній критик! – має прагнути, вповні віддзеркалюються в характері, риторичних прийомах і полемічному тоні Маланюкових есеїв. Тому-то немає шевченкознавства як такого, або рецепції Шевченка як такої: є тільки боротьба «за справжнього Шевченка» (ідея вже добре засвоєна із совєтського боку)…
2. Домінування ідеї нації і її основні прояви («національна перспектива», «національна справа», «національний геній», «національний підхід до національного генія» тощо) накладають чітку телеологію, навіть детермінізм на Шевченків поетичний світ, на його значення і його вагомість. Читаємо далі…
Жадних ідеологічних «борсань», жадних «спалювань ідеалів» і жадних «матеріалістичних» (отже й «соціалістичних») звужувань виднокругу ані в Шевченковій творчості, ані в Шевченковій свідомості – не було. Був безупинний ріст. І свідомість його, і його творчість являють рідкий в історії культури приклад органічного, суцільного зростання особистости й її світогляду – вверх (…) цієї монолітної суцільности Шевченка і дотичного зростання його особистости не бачить, тому – поза «Реве та стогне» або «Садок вишневий» – головна суть, взірець його творчості й його історично-національного значення зостануться невідомі. «Ранній Шевченко»).
Тут особливо промовистим є співіснування в одному пасажі двох суперечних тропів – «органічного» та «монолітичного», що їх тут було застосовано до того самого явища. Окрім питання риторичної невизначености, цей момент показує, як своєрідно Маланюк приймає донцівську перспективу і водночас відхиляється від неї. Ідея монолітичности («монолітної суспільности») Шевченка напевно похідна від донцівської догми, в кожному разі суголосна з нею, однак органічність є тим моментом, що його фундаментально статичний, номіналістський, поверхневий і переважно ілюстративний метод Донцова не сприймає. І все ж таки аргумент щодо визначальної, органічної єдности в Шевченковій поезії є, звичайно, і валідним, і продуктивним – однак, він також вимагає окреслення, які саме моменти і структури утворюють цю єдність (тобто, інші, крім есенціялістського поняття «нації»). Проте вихід Маланюка на ці питання заслуговує подальшої уваги…
3. Як продовження обох попередніх рис, націоцентричної і телеологічної, погляди на Шевченка і Донцова і Маланюка відображають радикальний і глибоко самосвідомий історичний перелом. Вочевидь, такий стан речей знаменує будь-яку фазу чи етап у рецепції Шевченка, тобто у раніших текстах Куліша, Драгоманова або Франка (Костомаров тут в упривілейованому становищі, бо він був першим, а тому переймався наголошуванням своєї першости): кожен, більшою або меншою мірою, ставить себе окремо і представляє себе родоначальником нового підходу. Водночас, це відчуття винятковости й нового початку супроводжує фактично будь-який програмовий і полемічний підхід… В цьому випадку, однак, є якісне розходження: перерва або цезура в даному випадку є ідеологічною і в її повному охопленні (тобто із Донцовим) стає тотальною… для них справжнє, тобто національне – йдеться тут, звісно, про тавтологію – розуміння починається лише від них: перед ними існувало (переважно, а то й винятково) тільки псевдошевченкознавство. Маланюк, щоправда, допускає певні нюанси. У пізнішій статті (рецензія на біографію Шевченка Павла Зайцева) він перелічує письменників, які «відбронзували» канонічного «Кобзаря» Тараса і відновлювали справжнього, живого Шевченка. Список є досить осяжним, хоч виразно обмежується до виразно антисовєтських критиків, тобто в його порядку Степана Смаль-Стоцького, Дмитра Донцова, Дмитра Чижевського, Дмитра Антоновича, Олександра Дорошкевича («Шевченко в житті»). Єдиний, хто не пов’язаний з цими академічними науковцями, це публіцист-ідеолог Дмитро Донцов, і його присутність тут знову відбиває Маланюкову залежність і пієтет. Одначе 1917 року, напередодні війни, коли насувалися нові потрясіння, його судження категоричніші та, як завжди, емоційні: «Ані великою помилкою, ані химерним парадоксом не буде твердження, що Тараса Шевченка – живого і несмертельного – уздріли ми допіру по історичній провесні 1917 року. Із того часу вдивляємося все напруженіш і уважніш в його невпинно зростаючу постать.
Потрібно було аж тектонічне зрушення історії, потрібен був аж пламінь вогню, щоб в нім «її окраденую збудять», потрібні були аж «мартівські» іди України, щоб в димові і пожежах революції, з першими судорожними відрухами поволі притомніючого Лазаря, побачили ми, здавалося б, знайоме, але яке ж відмінне обличчя, і відчули тисячократно спотужнілий палючий і спалюючий дух» («До справжнього Шевченка»).
Тут можна звернути увагу на дві особливості. Перше, що цей текст виголошено на студентській «академії» у Варшаві, і його високий патос відповідає жанрові публічних зборів. Із погляду рецепції загалом, це той жанр, який великою мірою зумовлює гіперболізм та емоційність різних виплесків емоцій навколо Шевченка. Варто також звернути увагу на те, що цей публічний, «народний» контекст є базовою рушійною силою в більшості як націоналістичних, так і совєтських інтерпретацій Шевченка – і ця уявна трибуна також великою мірою характеризує ранні коментарі. Та за всієї емоційности й патетичности Маланюкові міркування мають своє зерно правди, як наголошував Еліот, кожний вік не лише бачить минуле і його канонічні тексти по-різному, а й змушений так робити; кожне покоління має право наполягати на своїй перспективі. Основна відмінність тут у тому, що для Маланюка це право сформульовано не в естетичних чи культурних термінах, а як політичне прозріння і розширення прав і можливостей – як просто-таки народження нації, що в цьому народженні також відкриває свого духовного батька. Ба, більше, це знання, наголошує він перед своєю студентською авдиторією, не передається всім: це особлива, насправді унікальна спадщина нового покоління, яке творило історію (бувши свідками «березневих ід»), а нині – шляхом компенсації за свої випробування – є імпліцитно обране бути провідником нації. Ця настанова на формуванні вибраних, як це часто наголошував Донцов, не партії, а «ордену», тих, хто можуть і є покликані поза (і понад) суспільством, стає базою патосу націоналістичного дискурсу, а разом із тим – його ексклюзивного «права на Шевченка».
У своїй рецепції Шевченка центральним завданням, із яким стикається критик і його авдиторія, рецепції, що стисло втілює всі три ідеологічні конструкти – національне, телеологічне та історичне – є відчути і потім діяти до фундаментального зсуву чи переходу парадигми, який оприявнюється в цій рецепції, тобто переходу від народницького до волюнтаристсько-націоналістичного Шевченка. У тому самому виступі перед студентами Маланюк представляє обидва полюси стисло і з притаманною йому жвавістю. Перший, «минулий» полюс, це народницький-і-драгоманівський погляд на Шевченка – на Шевченка, баченого у вигляді «ікони» та «реліквії»:
…тут говоримо не про винятки, а про загал суспільства, про те просвітянсько-драгоманівське тло, якого нездоланні рештки бачимо й досі…
(Полеміка довкола народницької ікони, Шевченка в «шапці й кожусі», триває, щоправда, й досі, у незалежній вже Україні, і віддзеркалює багатолітнє совєтське замороження вільного дискурсу.)434
З другого боку, Шевченко «грядучий» – є не селянином, а козаком, «паном», народженим, аби бути провідником, аби випрямити спини своїм співвітчизникам, перетворити їх у націю…
…можна побачити квінтесенцію Маланюка, який бомбардує (цілком у дусі Донцова) слухача/читача цитатами (деякі з яких є позаконстектованими), проєктуючи центральну ідеологічну настанову, вправно заплітаючи її основні топоси – «чину», «аристократії духу», провінціялізму («плебейства», як любив це називати Донцов) старого устрою і старої «Громади», а разом із тим уявлення про Шевченка як про отамана, а про його поезію, як про ту, яка формує «полум’яні накази» і все це врешті кульмінується основною цінністю – Нацією, а з нею – поверненням до славних цінностей предків. І все це формується риторикою, яка буцімто спирається на самому поетичному тексті. Сама її пристрасність, як і самі цитати, приховують її вибірковість та упущення.
І хоча Маланюкова рецепція Шевченка надзвичайно закорінена в ідеології, вона все одно значно відрізняється від рецепції його редактора, видавця і гуру. Переважно кожна з цих відмінностей діє на користь Маланюка, ослаблюючи категоричність і жорстку заідеологізованість Донцова.
Маланюк зазвичай урівноваженіший, нюансованіший і не такий відверто доктринальний і пропагандистський, як Донцов. Це особливо видно в його судженнях про осіб із Шевченкового оточення, а потім про різних його коментаторів».
У чому насправді полягала народність поета Шевченка
Стисла характеристика найбільш показових виступів буржуазно-консервативної критики про Шевченка з питань народності його творчості обумовлює важливий висновок. Творчість Шевченка ніколи не розглядалася адептами тієї критики у всьому її обширі, масштабності, багатстві ідей і проблем, порушуваних у ній, а, коли можна так сказати, вибірково, на підставі головно ранньої творчості Кобзаря, до того ж не раз витлумаченої однобічно.
Соціально-класовий розріз у відображенні Шевченком явищ і процесів, що відбувалися, зокрема всередині української нації, замовчувався або тенденційно «переосмислювався». Визначальною ідеєю Шевченка, на погляд таких критиків, була ідея примирення українських кріпаків зі своїм «рідним» панством в ім’я, мовляв, спільної національної мети. Національний ідеал Шевченка трактувався обмежено, а то й в одвертому націоналістичному дусі. «Відкриття» з національної психології Шевченка, на зразок тих, що ми знаходимо в уже згадуваних працях, по суті, підігравали загальній хибній інтерпретації проблеми національної сутності, народності творчості Шевченка. До цього слід додати досить часто поширювану серед діячів буржуазно-консервативної критики «теорію» про неосвіченість Шевченка, брак «широкого розумового кругозору», як висловлювався Урсин. Вже на схилі літ, коли назріла потреба узагальнити оцінки історичного значення Шевченка, не без іронічного натяку на сумнозвісні твердження Урсина та йому подібних, І. Франко – видатний учений зі світовим ім’ям – писав про поета: «Він був сином мужика, і став велетнем у царстві людської культури. Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим…»435 Але розумування Огоновського і В. Барвінського, Свистуна й Урсина та інших саме й видавалися за джерела і вірогідні ознаки творчості Шевченка як народного поета.
«Ідейна основа» подібних поглядів, відзначав Франко, була фальшивою, антинауковою. Щоразу, коли висвітлюємо погляди Франка на проблему народної творчості Шевченка, слід зважити на те, що формувалися вони як двоєдиний процес, принаймні на двох висновках – на послідовному викритті буржуазно-націоналістичних «теорій» (подібно до тих, про які йшлося вище) і водночас на суворо науковому дослідженні фактів, даних, на ідейному змісті спадщини поета у всій різнобічності її політичного й естетичного змісту, багатстві форм, специфіки стилю, мови. Тут не було чіткої межі – полемічна спрямованість була тим дійовішою, чим більше спиралась на наукові доведення, на глибокий аналіз і синтез, а спеціальні дослідницькі розробки (в цілісності й в окремих елементах) у світлі певних полемічних завдань здобували нові можливості суспільного впливу, а крім того, засоби додаткової аргументації. З цього випливає ще один фактор формування Франкової конценції народності Шевченка, її функціонального пріоритету.
Відомо, що Франко жив і працював в умовах Галичини, яка входила тоді до складу Австро-Угорщини. Звичайно, він зазнавав впливу тих процесів суспільних і літературних, які тоді відбувалися, що позначилися на шевченкознавчій практиці вченого. Але це не послаблює аргументованості дослідницьких висновків, а, навпаки, збагачує їх конкретністю відчуття часу. Могутній дослідницький талант Франка-шевченкознавця, його яскравий розум, досвід, спеціальні і різнобічні знання утворюють цілий ряд аналітичних і синтетичних культур, що мають не тільки локальне звучання, а й загальноукраїнське і світове значення.
Здійснюючи багатопланове, об’ємне дослідження спадщини Шевченка, його політичних, літературних ідей, Франко водночас розв’язував і ряд інших завдань – він прагнув популяризувати серед широких читацьких кіл поезію Кобзаря, донести її в найповнішому вигляді, розкрити все багатство її змісту, її художню красу. Франко був непримиренним до будь-яких спроб збіднити спадщину Шевченка, надати їй однобічної оцінки.
Ще раз про наукове розкриття І. Франком сутності народної творчості Шевченка
З особливою силою розкрилося значення дослідницької діяльності Франка в галузі шевченкознавства, зокрема, у висвітленні комплексу проблем, що складають суть народності Шевченка в плані вироблення стрункої ідейно-естетичної концепції. Отже, на яких саме аспектах і питаннях зосереджував свою увагу Франко?
Проблему народності Шевченка вчений висвітлює під різними кутами зору. Вона досліджується не лише в плані художньо-естетичному, а й у філософському, соціально-політичному, національно-культурному, морально-етичному. Виходячи з цього, проблема народності розробляється Франком завжди конкретно-історично, на основі проникливого аналізу творів поета, цілісного і в частковостях, у системі і локально. Хоча Франко не надавав біографічному фактору вирішального значення в ідейно-художньому розвитку особистості письменника, поета, проте він у своїх аналітичних розробках неодмінно рахувався з даними, що стосувались своєрідності життєвого шляху поета і тою чи іншою мірою віддзеркалювались у його творчому процесі. У принципі й щодо Шевченка у Франка був той же підхід. І все ж соціальне походження поета, винятковість умов і обставин, за яких йому довелося жити, діяти, творити, – це те, поза чим не можна вповні збагнути й осмислити джерелові основи його спадщини, не тільки її ідейно-тематичні обрії, а й художньо-стильове багатство.
Франко керувався свідченнями самого Шевченка, який говорив, що історія його життя є частиною життя народного, що він є «по плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу». В цьому плані вченого цікавила кожна деталь, кожен факт із життя Кобзаря – і тоді, коли йшлося конкретно про певний твір, історію його виникнення, втілення задуму, і тоді, коли дослідник шукав відповіді на ширші питання його творчості. Про виняткову роль і місце біографічного фактору в творчості Шевченка, формуванні його світогляду і в зв’язку з цим про необхідність активізації дослідницької роботи в цьому напрямі Франко писав: «Походження Шевченка з простої мужичої сім’ї і молодий вік, пережитий у кріпацтві, мали величезний вплив на весь склад його думок і поглядів, на весь напрям і характер його поетичної творчості. Вплив сей досі ще не вияснений вповні наукою – не виказано, що виніс Шевченко з-під батьківської стріхи із кріпацького життя, хоча в усіх його творах багато указок до сієї речі, – і хоча критики та біографи (Драгоманов, Чалий, Петров і Дашкевич) у загальних зарисах і намагались схарактеризувати той вплив… але робили се тільки мимохідь, не систематично»436.
«Кобзар» 1840 року вперше в світовій літературі змальовує правдиві постаті з народу
Треба сказати, що сам Франко наполегливо працював як шевченкознавець у цьому напрямі, прагнучи видобути з першоджерел нові факти з життєпису поета і разом з тим визначити їх реальний, предметний зв’язок з творчістю Кобзаря, її психологічними основами. У 1891 році, з нагоди 50-ліття з часу появи видання «Кобзаря» 1840 року, Франко звернув увагу на той факт, що до того в жодній літературі не було таких живих, правдивих постатей з народу, і що почали вони з’являтися здебільшого з другої половини 1840-х років, особливо в російському письменстві.
Унікальний зміст творів, що увійшли до «Кобзаря» 1840 року, їх глибоконародний характер Франко пояснює багатьма причинами, і серед них походженням автора, маючи на увазі не чисто формальний момент, а внутрішній, природний зв’язок з народом, органічну залежність від його традицій.
Мужик, зазначав Франко, заявив про себе в літературі і як об’єкт зображення, і як автор-митець, творець безсмертних образів. Автору не доводилось перевтілюватись, бо ж він, розповідаючи про своїх героїв, мовив водночас і про себе, про свою долю.
Єдність народного і національного в поезії Шевченка
Народне і національне виступає в творах Шевченка в органічній цілісності. Герої творів поета, розкриваючись у всій своїй безпосередності, ніби відсвічують неповторний образ автора, думи і помисли якого, виростаючи з джерел народних, формуються як високогуманний ідеал всіх тих, кому присвячено слово поета, з ким воно живе нероздільним життям. «…В році 1840, – писав Франко, – випливає наверх явище зовсім майже (виключаючи шотландця Бернса437) нове в літературі світовій – мужик, що більш як 20 літ життя двигав ярмо кріпацької неволі. Виступає він уже не як герой повісті або поеми, але як живий діяч, як робітник і борець за потоптані людські права всього поневоленого мужицтва, всього обідраного і скривдженого довговіковою історією українського народу, як защитник усіх кривджених, гноблених і переслідуваних. І що найцікавіше: зараз від першого появлення в друку його творів той мужик, недавній невольник, загальною опінією своїх земляків зістає признаним провідником, перворядним світилом української літератури»438.
Все, що було пов’язане з походженням Шевченка, з його дитинством, юністю, долею його особистості, не могло не позначитись на засобах і формах зображення народного життя, на самому підході поета до художнього осмислення народних характерів і типів. Зображуючи народ, Шевченко зображував себе, безмежно розкривався емоційно, психологічно. Відстань, звичайно, була, але не кардинальна. Була єдність органічна і в той же час цілеспрямована.
Усе це дуже важливий фактор, але, як підкреслює Франко, вирішальним для розкриття внутрішньої суті проблеми народності Шевченка є не тільки сам факт уваги поета до народного життя, а й те, з яких позицій показано народні образи, з національного і соціального погляду, так би сказати, не ззовні, а зсередини, на підставі яких політичних і морально-етичних засад.
Давня література, писав Франко, власне, «мужика не знала і життя його не ставила ніколи предметом для творів поетичних», у найширшому художньому осягненні. Шевченко був першим митцем, у творах якого народні образи показані з усією глибиною правди, безпосередності, щирості, піднесені на рівень високого благородства. Ніби продовжуючи свою думку і узагальнюючи її на підставі цілого ряду своїх попередніх спеціальних досліджень, Франко значно пізніше писав: «Як поет Шевченко так само своєрідний, можна сказати, винятково своєрідний, як і його доля. Він народний поет у найповнішому і найкращому розумінні цього слова»439.
У зв’язку з цим стисло зупинимося на двох застереженнях Франка, досить принципових. Народність Шевченка усією своєю сутністю протистоїть і протидіє будь-якому примітивізму, поверховості, спрощеності. Народність Шевченка є виявом духовності і найвищої художньої простоти. Невичерпні багатства народної мови, вироблені і утверджені віками, демонструють у Шевченкових творах свою красу і велич не способом стилізації, а художньо-естетичного осмислення, не раз і переосмислення, способом дальшого розвитку – насамперед, функціонального.
Відомо, що однією з джерелових основ творчості Шевченка, її народності є національний фольклор. І. Франко був, мабуть, першим дослідником, що в аналітичному плані розкрив зв’язки поезії Шевченка з уснопоетичною творчістю народу, розглянув найрізноманітніші шляхи, якими прямував процес використання поетом національних фольклорних надбань. Однак, головне полягало в тому, що Шевченко не копіював фольклорні зразки, елементи, а творчо, вищою мірою оригінально їх використовував, перетоплював у горнилі своєї геніальної творчості, жодним проявом не відступаючи від духу народного досвіду – історичного, художнього.
Навіть у тих випадках, коли Шевченко брав безпосередньо фольклорний зразок, поет лишався самим собою і змушував жити новим яскравим життям взірцеве художнє явище, утворене народом. У цьому виявляється одна з найістотніших тенденцій народності Шевченка. В одній із шевченкознавчих розробок 1889 року Франко писав: «Всі оригінальні прикмети його поезії: сердечна щирість, простота і заразом пластичність вислову, чудово чиста мова, увесь той, так сказати, сік українських пісень народних, з меланхолійною основою і відтінками делікатного юмору, перетворений у кипучу кров самого Шевченка, закріплений сильно його індивідуальністю»440.
Цю ж думку Франко розвивав і в наступних своїх працях про Шевченка. В одній із них на початку 1900-х років, наприклад читаємо: «Ні в одному місці не можна у нього помітити, що він намагається наслідувати мелодію; усяке наслідування, штучність і прикраса – для нього зовсім чужі. Його поезія відзначається найвищою простотою форми і змісту, композиції і вислову, – простотою, безпосередністю і природністю, що їх надибуємо в найкращих народних піснях. А при цьому не знайдемо у нього ні сліду тієї примітивної безособовості, якою відзначаються справжні народні пісні, навпаки, вся його поетична творчість у дуже великій мірі має суб’єктивне забарвлення, вона є безпосреднім виявом його сильної і благородної індивідуальності»441.
Народність творчості Шевченка розкривається якнайглибше і в найширшому образі в еволюції. На різних етапах ідейно-художнього розвитку народний зміст його творчості збагачується новою якістю, розгалужуючись під кутом зору певної специфіки. Саме Франкові, що підходив до кожної складної, об’ємної проблеми діалектично, конкретно-історично, вдалося так багато зробити у плані висвітлення основ народності Шевченка. У ранній поезії Кобзаря Франко бачив принципово новий тип романтичної творчості. Насамперед вона наснажувалася національно-романтичним світосприйманням у дусі уявлень і настроїв народу, світосприйманням, позбавленим через те національного егоїзму.
Народність ранніх історичних творів Шевченка визначалась тим, що в центрі їх були герої з народу, і тим, що їх вчинки, вдача, характер цілком відповідали ідеалу, виробленому трудящими впродовж віків. Тому попри окремі (слушні і, можливо, випадкові) спостереження у Шевченкових творах з минулого України, Франко відзначав одну властивість першорядної ваги, а саме те, що в них історичні події, історичні постаті, вся атмосфера минувшини відображені у відповідності з поглядами, його оцінкою навколишніх явищ і водночас, і це винятково промовисто, у світлі усвідомленої позиції автора. У тому розумінні Франко говорив, що Шевченко в романтичному баченні минулого, володіючи історичним чуттям, рішуче віддаляється від патентованих істориків України, які мало уваги приділяли висвітленню ролі народних мас в історичному процесі. Зазначимо, до речі, що погляд, відповідно з яким у ранніх історико-романтичних творах Шевченка повноголосно звучать мотиви ідеалізації минулого України, Гетьманщини, видається надто категоричним.
Не можна заперечувати, що елементи такої ідеалізації в окремих ранніх творах поета справді зустрічаємо, і вони, по суті, закономірні. Однак, їх не слід перебільшувати. Таке застереження наявне в ряді праць Франка. Відзначаючи досить виразний струмінь некритичного ставлення Шевченка до минулої історії України, Франко все ж вважав цю тенденцію значною мірою побіжною, невдовзі подоланою поетом.
У статті «Українці» (1906), знову повернувшись до ранніх творів поета з історичної тематики, але тепер на тлі загальнішої оцінки його спадщини, вчений висловив цікаву думку. Він писав: «Ідеалом Шевченка є не автономія козацької України, а вільна Україна «без раба і пана»; і битви козаків з поляками він оспівує не для прославлення кровопролиття:
«нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилились, нехай знову братаються з своїми ворогами». В його величних словах жила мрія про волю, і це відчували на Україні»442.
ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО Й РОСІЙСЬКОГО НАРОДІВ ТА ВИТОКИ ЇХ ВІКОВІЧНОЇ ДРУЖБИ
Тарас Григорович Шевченко був заарештований та засланий, бо царизм побачив у ньому найнебезпечнішого революціонера, послідовного борця за співробітництво та єднання з прогресивними представниками братнього російського народу в боротьбі за свободу України.
«…Ми маєм право, – стверджував, висвітлюючи життєвого значення проблему взаємодії й співпраці українського та російського народів Михайло Петрович Драгоманов, – і тепер називати не тільки киян, але і галичан росіянами, не думаючи тим самим признати їх великоросами; на лихо таки, що так у Росії ніхто себе, та й нікого не зве, і це слово після київських книжників XVII i московсько-петербурзьких XVIII в. стало уживатись тільки у сміхотворно-високому стилю. Коли це його обновили польські самозванці-учені, як п. Духінський і Ко – пішло воно гуляти по світу у новому смислі!.. (Ми будемо в нашій статті уживати терміна росіяни для того тільки, що в Галичині звикли до цього терміна; але ми будемо розуміти під цим усіх слов’яно-руських жителів Росії, як білорусів, малорусів і великорусів.)
Може, скаже хто, що діло не в іменах. Як не назви, а усе-таки ріжниця між тим, що у Галичині звуть «Русь» і що – «Росія», себто між Україною і Галичиною, з одного боку, а Московщиною – з другого – є. На це кажу, що, звісно, є, але коли вже обидва краї назвались однаковим іменем, то й це мусить що-небудь теж значити. Здавна одна історія, котра потім одірвала тільки Галичину у осібний політичний союз; одна віра, котра має таку силу у очах народу, – усе не могло ж остатися без послідків. Було б чудо, якби було інакше! Чи погано то було, чи ні – друге діло, але історія народу руського йшла попереду так, що весь край від Карпат до Волги був у живих федеративних взаєминах, а потім став централізуватись у два тіла політичні, з котрих одно, західне, прийняло у себе не тільки малоруське, але і білоруське плем’я, близьке до малоруського, але і до великоруського, у котрого формації воно прийняло немалу долю; мало того, ця Західна Русь, Литовська, почала явно йти к тому, щоб притягти до себе і політично Русь Всхідну, – і з цієї дороги звернула тільки через союз з Польщею, котра теж – чудне діло! – не могла відректись від того, щоб не завладіти усією Руссю, західною і всхідною.
Початок і наслідки боротьби Київської Русі й Московської держави з Заходом
Але з того часу як, за причиною попереду релігійною, а потім соціальною, Київська Русь начала боротьбу з Польщею, роля централізатора Русі перейшла од Києва, Вільна, Луцька, Варшави до Москви і історія так пішла, що увесь край, де жив і тепер живе малоруський народ, не тільки не мав собі самостійності і центру, але навіть і забрав собі укупу тільки через централізаторський процес Московського царства, а особливо Петербурзької імперії – та ще й не зовсім, бо Галичина одійшла у другу державу, а значить, і у другі соціальні і культурні обставини. Надармо ми хотіли б одшукати для малоруського народу що-небудь похоже на права історичні, на Rechtscontinuitat корони св[ятого] Стефана, св[ятого] Вацлава і т. д., про що так дбають у Австрії. Ми бачимо, що, напр., Харківщина з Курщиною та Воронежщиною завсігди були землями Московського государства. Чернігівщина, оддана своїми князями Московському государству, була у йому до 1610 р., і нівідкіля не видно, щоб вона тим була недовольна з національного погляду. Тою ж дорогою йшла у XVI в. з Глинськими і Дм. Вишневецьким наповнявшася тогді людом земля Лубенсько-Полтавська. Так званий «смутний час» у Московській державі одірвав Лівобережну Україну від Москви, але не надовго. Уже сам Петро Сагайдачний, котрий ходив війною і на Москву, був готовий піти тією дорогою, що пішов опісля Хмельницький. Цей послідній обернувся до Москви, як до землі руської і православної, і хотів привернути до неї увесь руський люд, аж до Любліна і до Карпатів. Якби те удалось, то може б, Мала Русь (котра, замітим, назвала себе ще у XIV в. Малою, як думаємо, з поводу переходу митрополита Петра у Владимир і Москву) – може, Мала Русь уся і получила б що-небудь похоже на історичне право і мала б силу більш задержати свою політичну і національну індивідуальність. Але сталося не так і сталося не тілько через «хитрість сусідів» – бо в історії завжди причини осередні мають більше сили, ніж причини побічні, – сталося так, що тільки те, що тепер зветься Чернігівською та Полтавською губернією з Києвом та Запорожжя, осталось у союзі з Московським государством під назвиськом Мала Русь, або Гетьманщина.
Катерина ІІ встановлює кріпосне право на Подніпров’ї та прилучає до імперії Волинь і Поділля
На лихо, ця Гетьманщина і Запорожжя мали більш воєнну, ніж гражданську конституцію, котра хоть мала у собі зерна добрі, але у цілому не могла годитись для життя у XVIII в., у которому удобавок козаччина стала так явно вироджатись у панщину, що Катерині ІІ зосталось тільки (як то видно з дуже цінної книжки Ал. Лазаревського о малорос[ійських] крестьянах у XVII – XVIII в.) приложити послідню печать, щоб ствердити потроху складавшуся кріпаччину. Коли Катерина ІІ знищила Гетьманщину, народові, котрий отрікся од Гетьманщини ще за Мазепи, нічого було за нею плакати, а старшина була задоволена правами великоруських дворян. Про Січ Запорозьку теж мало хто думав, та, прочитавши безсторонньо народні пісні про руйнування Січі, побачимо, що у самих запорожців не тільки руки, а й язик не піднімавсь так енергічно против «москаля» і особливо проти «цариці-матері», як колись проти «ляшківпанків». А народ так і досі співа, що самі «запорожці край веселий, степ широкий занапастили»! І за тієї самої Катерини, котра знищила останки автономії Малоросії, досягнута давня ціль руського люду ще од часів Владимирових, – себто степи Новоросії до Чорного моря одкрились для руської колонізації. Натурально, малоруський народ посунувсь туди, але вже зовсім на другім праві, ніж у колишній Гетьманщині, та ще і перемішавшись з другими племенами од великоросів до греків і німців. За тієї ж Катерини і оп’ять на особім праві, особенними обставинами соціально-культурними, прилучилась до братів і правобічна Україна з Подоллю і Волинню. Далі уже за Александра І укупі з Варшавою прилучилась до Росії Холмщина з Підляссям. Так після віків розділу, по шматках зобравсь докупи майже увесь малоруський народ, але без права власного, навіть без одного общого імені (дивись «Записки о Южной Руси», І т.), без ясного почуття своєї національної самостійності, хоть і з немалою долею славних діл у минувшину, з немалим числом індивідуальних одмін, з явно доказаними примірами потреби волі і самоуправу.
Удобавок зійшовсь докупи малоруський народ під державою, зложеною племенем, братнім по мові, по вірі, племенем енергічним і колонізаторським, – і має общність і взаємини сучасно тільки на основі того права, того строю, котрий общий усій Російській імперії.
Взаємовпливи української та російської історії й культури в добу Середньовіччя
Серед таких-то обставин складалась історія, література і культура Малої Русі. Кажу вп’ять, що, кому угодно, може плакати на цю історію, може хотіти мати нову, але поперед усього треба признати і зрозуміти факти, треба знати, при яких обставинах починати і вести далі цю історію. До половини ХІІ в. культури й літератури у Московській Русі майже не було, окрім Новгорода, котрий після татарського погрому був майже єдиним містом на всій Русі, де світилось моральне життя. З XVI в. центром культури руської стоїть то Київ, то Вільно, то Острог і Львів, то вп’ять Київ. Але тоді не знали принципу народності, бо не дбали про маси народу – з моральних ідей ясно чули тільки віру… Живучи серед то білорусів, то малорусів, маючи взаємини з поляками, мова літератури руської набиралась полонізмів, білорусизмів, малорусизмів, але так мало удалялось од спільного всім трьом Русям церковного язика, так мало зближалась з народною, що москвич Курбський міг без перепони переписуватись з Кост. Острозьким, що патріарх Філарет читав вільно Біблію руську Скорини, а Димитрію Ростовському не треба було дуже перемінити свою мову, щоб представляти у Ростові ті комедії і драми, котрі він було понаписував для київських бурсаків. Літературна мова западноруська стала общою руською, що і облегшило потім перехід культури і літератури у Велику Русь у XVII – XVIII в. З XVIII в. став народжуватись патріотизм світський замість виключно церковного: але і цей патріотизм зразу не міг стати чисто народним – він був тільки державним. А як центр держави, до котрої по шматках прилучавсь народ малоруський, лежав у Великій Русі, то зближення літератури і культури руської з крайовими елементами потяглось до елемента великоруського; це робилось так потроху, що малороси майже і не запримічали того, а як стали запримічати, то попереду не знайшли в ньому нічого ненатурального. Так заложен був той фонд тій руській літературі і культурі у Росії, кажу у Росії, т. є. у Російській імперії, я виключаю Галичину з усього того, що буду говорити тут, бо Галичина, не попавши у XVII в. у союз з Москвою, а у XVIII в. не попавши у Росію, а одійшовши зовсім у друге політично-культурне тіло, не могла узяти долі у тому соціальному і культурному процесі, у котрий вступила Великоросія, Малоросія і Білорусія. Ця література de facto стала общою усій руській Росії і там, у нас, зоветься просто руською. І її-то у вас звуть російською, а це б ще нічого, а то й великоруською, хоть у ній взяли долю і малоруси, давши, окрім маси мілких робітників, Дмитрія Ростовського (первого у Московщині живого писателя з духовних), Феофана Прокоповича (первого там же світського оратора і публіциста з духовних), Богдановича (автора первої повісті, котору прочитала публіка у Росії з занятностю), Гнєдича (первого, хто показав у Росії правдивий класицизм і перевод всесвітнього генія – Гомера), Гоголя – батька реалізму і живої народності у літературі російській, Остроградського, первого з руських учених, заробившего собі європейську репутацію, Костомарова, первого після Карамзіна історика, которого, окрім учених, чита з інтересом і публіка, писателя, у которого небувалим досі у Росії робом ску΄пивсь не тільки учений, публіцист і артист, але патріот, і космополіт, і федераліст у двойному смислі цього слова (союз і автономія). Правда, що цей процес у Росії усе більш одтягував її од мови малоруської, тоді як вліяння мови великоруської усе більш росло і росте по мірі того, як росте почуття народності, – але я не думаю, щоб ті великі імена, котрі я виписав вище, не занесли з собою у літературу російську і духу, а часом і слова українського – це було б противунатурально. Та в усякому разі той процес, яким ішла література в Росії, затяг з собою у обще моральне життя з великоруською освіченою громадою і малоруську – до того, що мова літератури російської стала не книжною, як для галичан, але живою, матерньою мовою для освічених шарів громади малоруської, як і великоруської. Ця живость для нас, українців, мови літератури російської піддержується тим неперестанним обміном колонізації між Великою і Малою Руссю, которий не перестає з XVIII в. і переміняється так, що колись-то, як Малоросія була вище культурною, ніж Великоросія, то і ремісники (навіть судострої, пильщики і селітровари, которих Петро Великий визивав з Малоросії), духовні (од Петра до Єлізавети не було ні одного архиєрея з великоросів у Великій Русі), співці і музиканти, живописці, чиновники, велика доля професорів (самостійна руська медицинська школа у Москві з научним напрямком у контраст старій петербурзькій німецько-практикантській була заложена малоросами Іноземцевим і Миклашевським) і т. д. їхали з Малоросії у Велику Русь; а тепер це усе навиворот і йтиме так до більшого розвиття полуденного руського краю, котре не замедлить наступити після нових залізниць і которому українці мусять допомогти працею науковою і артистичною. А найбільш чим піддержується живость мови російсько-літературної і для українців, це те, що література російська у найбільшій долі своїй одвічає на моральні жадання громади усієї Росії, так що українець, которий би заказав собі читати те, що у нас звуть чужою для України, сусідньою літературою, скоро став би глухий, сліпий і німий не тільки в тому, чим живе вся Росія, що має силу над політичним, економічним і моральним життям і України, але і к тому, що діється на усьому освіченому мирові…
Я знаю, що прийшов тепер до тої точки, про котору у Галичині, у народній партії, установились кріпко погляди, з котрими мені боротись буде рисковано. Погляди ці більш або менш зрезюмовані, напр., у деяких місцях «Послання до земляків» Шевченкового, а особливо коментованого так, як коментував його шановний п. Огоновський, або у тих місцях «Причепи» п. Нечуя, де він говорить про «московські» університети на Україні. Погляди, про которі йде річ, такі: література російська, як і вся культура на Україні з XVIII в., є буцімто діло урядового деспотизму, тілько одбивала українців о д своєї мудрості, робила перевертнів, а перевертні – це пани, п’явки народу, експлуататори, мучителі і т. д. Я знаю, що з такими поглядами мені споритись трудненько, тим більше що, справді, панство зробило немало пакості народові українському з XVIII в., а це панство між іншими одмінами од народу на Україні мало і ту, що говорило російським язиком і гляділо на українську народну мову, як на низьку. Не буду я спорити і проти того, що чим більша у якому краю ріжниця мови класу культурних од простонародної, тим трудніше поступа той процес злучення між ріжними класами народу, котрий процес так настійно викликується сучасним прогресом демократичних ідей. Одначе «трудно» ще не значить «не можна».
Що таке патріотизм, його різновиди
З тим патріотизмом, которий світить у словах послання Шевченка против німецької і за свою мудрість і т. д., я спорить вважаю зовсім лишнім, бо це той самий квасний патріотизм московських слов’янофілів, ті ж самі старопольські ідеї Міцкевича і т. д., приложені до України. Я попробую тільки виступити в обороні ролі російської літератури і культури на Україні, поставивши тези: що мова російська, хоч і далека у звісній мірі од народної української, але була і єсть не тільки органом п’явок народних, а і органом тих ідей, которі зробили нас, українців, людьми, демократами і самими українофілами, коротко – народолюбцями, народовцями. Ідейцих, якбиминесилувались, ніяк не можемо вмістити в ідеали ні Гетьманщини XVII в., ні Січі Запорозької, як ніяк не можемо помістити тепер ідеї освіченого французького демократа у рамки Паризької комуни XIV в., хоть і в Гетьманщині, і у Січі, і у цій комуні були зерна, котрі приятель волі і народоправства не може не шанувати, яко прояви здорового і твердого розуму народного, виходячого з практичних інтересів народу крізь хміль старосвітських релігійних і політичних ідей – хміль, котрий, на нещастя, сидів і у головах народних, через що і здорові початки не дійшли до панування і мусили заховатись до луччих часів, часів науки, відкіля б і як би вони не прийшли.
Підвалини «українофільської ортодоксії»
Песимистичний погляд українофільської ортодоксії на ролю російської культури на Україні виходить на добру долю з крайностей парціального патріотизму, до котрих далеко не причастні усі щирі народолюбці на Україні; а песимістичний погляд галичан виходить найбільш з незнання російської культури і з переношення на неї поглядів, виведених з знайомства з польською культурою, котра з 1830 р. живе зовсім у болізненому стані і досі не вирвалась з романтизму і аристократизму. Обернемось лучче всього до короткого перегляду осереднього составу російської літератури з кінця XVIII в. Натурально, ця література ділиться на теоретично-наукову і на образно-поетичну, на переводну і оригінальну. Щоб стати зразу на більш безсторонню основу, я обернуся попереду до теоретичної і до переводної літератури в Росії. Тут ми бачимо, що у кінці XVIII в. і початку ХІХ, саме тоді, як рішавсь перелом життя після знищення Гетьманщини на тій мові, з котрої виробилась сучасна російсько-літературна, стали являтись переводи Тацита, Вольтера, Руссо, Беккарії, Адама Сміта, Бентама і т. д. Хай хто загляне по старим бібліотекам на Україні або перегляне по старим книгам списки передплатників, то побачить, що книги ці дуже ширились по Україні з кінця XVIII в., так само як багато українських імен бачимо ми у первому європейсько-ліберальному кружку в Росії в дружескому обществі Новикова, од румуно-українця Хераскова до чистого українця Гамалії. Реакційний вік Миколи Павловича трохи задержав це усвоєння російською літературою луччих всесвітніх голов, але зовсім він не міг їх удержати, і мало-помалу, чим дальше усе швидше ця література усвоює собі ідеї і твори Гізо, Тьеррі, Прескота, Маколея, Шлоссера, Гервінуса, Мілля, Боклля, Літтре, Луї Блана, Прудона, Лайєля, Дарвіна і т. д.; і тепер ми бачимо, що іноді знамениті європейські писателі Боннмер, Мілль, Дарвін (з романістів Лео, Ауербах, Шпільгаген) пишуть по заказу російських редакцій статті і монографії (як напр., Боннмерова о крестянах у Франції) для російських журналів або дають росіянам переводить з рукописів і коректур свої твори, роблячи епохи у історії мислі. Я спитаю тепер усякого безстороннього чоловіка: звідки може навчитись більш українець – з своєї мудрості, з переказів Січі або з Мілля чи Дарвіна? У наші часи пориву до рівності і до крайової автономії; не дуже-то жалують панство, централізацію і такі великі держави, як Росія, котру навіть єсть охотники рівняти до держав Чінгісхана, Тамерлана і т. д. Одрікати законність демократичних і автономічних ідей, звісно, я не стану. Я тільки нагадаю про те, що й Боккль признавав культурну неізбіжность аристократичних періодів, навіть і таких, як брамінство. Державна централізація багато несе зла і мусить уступити колись місце другим, луччим формам громадського строю, але для таких бідних і одсталих країн, як ті, з которих складувалась Росія, в которих у деяких ще 80 – 90 літ назад гуляли татари, централізація була неізбіжною формою громадської організації і дала можливість внести і земський спокій, і дороги, і університети. Надіюсь, і сам п. Нечуй згодиться з нами, що хотя і не в дуже блискучих російських університетах, можна було і за самого Николая І навчитись дечому, хоть би і самого народолюбства, більш, ніж у Київській академії XVII в. Судять дерева по плодам, а щоб не називати як тільки імен, приятних народовцям українським, нагадаю, що на тій «московській» літературі, котора дала освіченому українцеві можливість познайомитися з філософічними, лінгвістичними, історичними, політичними ідеями луччих голів всесвітніх, що з тієї держави, котора дала то службою, то літературою, то наслідством нашим народолюбцям об’їздити Европу, – ми маємо Максимовича, Костомарова, Куліша, Марка Вовчка, самого п. Нечая, ми маємо тих невідомих, але достойних шанування людей, которі готовили громаду до ідеї емансипації крестян і которі ще немало прислужать народові українському більш на те годним робом, ніж колишні Дорошенки та Палії, а особливо Мазепи. Скажу у кінці, що ми, українці, знайшли наш народ і саму народну мову, тільки перейшовши через європейську школу, у чому найбільш усього помогла нам російська література і сила російської держави. Хай, хто хоче, плаче, чому не случилось інше, – але того, що случилось і що є, дорікати не можна: тільки струсі ховають очі од того, що перед ним стоїть.
Взаємовпливи та співробітництво в галузі науки й культури
Те, що ми сказали про важність для української громади європейських науково-політичних ідей, перейшовших через російську літературу і школу, треба сказати і про літературу образно-поетичну. Трудами великорусів чи українців, з XVIII в. зробило, що чим дальше усе більше стали появлятися в Росії люди, которі могли йти за передовими поводирями європейської науки і мислі, але дещо робити зовсім самостійно і прикладувати свій могучий голос до общого хору передових умів європейських, як математик Остроградський, хірург Пирогов, фізіолог Сєченов, клініціст Боткін, публіцист Герцен, не щитаючи тих, котрі трудяться наукою про Росію по тим же ідеям, по яким європейці трудяться над наукою про свої землі, котрим, як напр. Костомарову, тільки незнакомство європейців з руським язиком шкодить, що їх імена не поставлені рядом з іменами Тьєрі, Маколея і т. д. Так само знакомство з поетичною літературою і естетичними ідеями передових народів Європи зробило те, що у Росії появились такі творці поетичні, як Грибоєдов, Крилов, Пушкін, Гоголь, Тургенєв (я тепер про тих, що писали по-українському, не говорю), которих чим дальше, тим більше уся Європа бере в пантеон всесвітніх геніїв. Я мушу зостановитись надовше над образно-поетичною натурою літератури російської для того, що література поетична мала в Росії особливу силу, тогді як наукова і політична була зупинена реакцією; а ще для того, що розбор поетичної літератури російської дасть нам факти для того, щоб точніше розрішити питання, що таке російська, або руська література у Росії, а що таке великоруськаі у яких вони відносинах стоять до української.
Ми бачили, що російська література теоретично-наукова, т. є. те, що писалось з XVIII в. мовою, котру у Галичині зовуть російською, або великоруською, і котора справді по составу своєму близька до великоруського наріччя, було і є тою скарбницею, з которої і великорус, і малорус брав і бере знання і ідеї общеєвропейські, з котрої він може познавати й те, що робилось і робиться на його землі. Так само більшість того, що писалось у ХІХ в., а особливо од Пушкіна, у поетичній літературі російській, висказало думи і змалювало образи життя культурного шару громадського – як передового, здорового, так і одсталого і паразитного – по усій Росії, на північ, як і на полудне. Пушкін, Рилєєв, Грибоєдов, Лермонтов у своїх ліричних п’єсах і поетичних монологах висказали ті думи, що і почуття, которі були у головах і серцях не тільки москвичів, новгородців, але і полтавців, киян, катеринославців і т. д. Змальований Пушкіним Онєгін і Ленський, Грибоєдовим Чацький, цей прототип декабристів, жили по всій Росії, говорили скрізь однією мовою – і назвати Пушкіна, Рилєєва, Грибоєдова (хоть у посліднього є кілька не стільки великоруських, скільки спеціально московських типів) великоруськими тільки писателями, буде гріх проти правди реальної. Те саме треба сказати про Лермонтова, виключаючи хіба його «Песнь о Калашникове», про Герцена з його романом «Кто виноват», в которому намалював прототип російського ліберала 40-х годів (Бельтов), а далі про романи Тургенєва, особливо ті, у которих малюються типи передових людей російської громади ідеалістів Рудіна (1857), Лаврецького («Дворянское гнездо», 1859), юмористів (як скульптор Шубін у «Накануне», 1860), нігілістів (Базаров в «Отцы и дети», 1862), про половину стихів Некрасова (не ту, у которій він малює життя народу великоруського, як у другій половині, а у которій він розказує ті думи і про ті типи, которими повні були передові кружки російської громади у 50 – 60 годи н[ашого] віку), про роман Чернишевського «Что делать?» (1864), роман, у которому хоть і не все можна назвати правдо-поетичним, але которий намалював кілька образів з передової російської молодіжі 1860 р. Конкретно для галичанина, як не для росіянина, можна сказати так: молодші українці (і українофіли) усе-таки більше або менше підходять під типи Шубіна або Базарова Тургенєва, Рахметова, Лопухова і Кірсанова, Чернишевського, старійші більш або менш підходять під пом’януті вище типи Герцена і Тургенєва, що зовуться у Росії «люди сороковых годов», або не без іронії, «сороковисти», – так що галичанину, напр., которий хоче у типі зрозуміти своїх українських знайомих, треба б конечно прочитати романи Герцена, Тургенєва і Чернишевського. Правда, українська передова громада мала завсігди деякі одиниці свої, свої мотиви тих общих тем, которі займали голови російської передової громади. Так у старинному харківському українофільстві і слов’янофільстві буде щось одмінне од лібералізму і слов’янофільства столичних декабристів, але мало обсліджено цей бік культури на полудні Росії, хоть може б, якби хто з українського погляду розібрав хоть би життя і писання Каразіна, которого столітній юбілей цей рік настав, то, може б, і вловив деякі оригінальні одміни духу української громади часів Чацького і декабристів. Та й сказати, що Каразін, цей наш «маркіз Поза», як його звали при дворі Олександра І, цей настоящий основатель першого університету на Україні і слов’янофільства у Росії, і говорив і писав мовою російською. А з другого боку, Рилєєв, которий, якщо не помиляюсь, був родом з Чернігівської губернії і первий (другий Пушкін – «Полтава», третій Гоголь, четвертий – Шевченко) пробував увести у поезію освіченої громади української традиції історичні і звести їх з ліберальними ідеями передових людей (поеми «Наливайко», «Войнаровський»), обертавсь не тілько до українсько-козацьких, но й до старокиївських, і новгородських, і московських земських традицій, вибираючи по усій Русі теми, пригодні у всеросійського народного патріотизму і лібералізму, і викладаючи їх на мові, общій тогді усій передовій громаді у Росії».
Драгоманов про перебування Шевченка в Україні
Між тим, щодо перебування Шевченка в Україні – першого після життя в Петербурзі – найавторитетніший після Франка дослідник життя й творчості Т. Г. Шевченка Михайло Петрович Драгоманов висловлює досить спірні міркування. Найбільший український вчений кінця ХІХ століття, посилаючись на свідоцтва окремих осіб та занадто покладаючись на них, або іноді по-своєму трактуючи ці спогади, часом досить нерівно зображує цей період життя й творчої діяльності Тараса Григоровича.
Утім замовчувати подібні міркування М. П. Драгоманова – означало б, напевно, певний відхід від історичної правди. «Чужбинський, – наприклад, пише Драгоманов, – малює нам життя Шевченка в Полтавщині, і Чернігівщині, в Києві, в той час, коли, як він каже, «наш поэт кипел вдохновением, стремился к самообразованию». Він каже, що Шевченко в нього в селі і в Києві було, лежачи найбільш «в ненастную погоду», читав журнали або потрібні йому історичні книги. Жаль, що Афанасьєв не сказав які. Він тільки згадує, що в нього Шевченко читав польські книги й журнали, а в Києві, каже Шевченко, він прочитав «все источники о гуситах и эпохе, им предшествовавшей, какие только можно достать, а чтобы не наделать промахов против народности, не оставлял в покое ни одного чеха, встречавшегося в Киеве или в других местах, у которых расспрашивал топографические и этнографические подробности».
Лихо тільки, що тоді в Росії майже нічого було «достать» про Гуса і т. ін., бо майже нічого не було писаного, а од забрідних чехів, музик або пивоварів не дуже-то багато можна було навчитись. Та й узагалі на відомих йому мовах, московській і польській, не дуже-то багато міг вичитати Шевченко, особливо коли викинути й «Отеч[ественные] записки», які в українців зостались нерозрізані і яких Шевченко не любив за те, що там його не високо ставили. Чужбинський каже, що Шевченко почав було вчитись по-французькому, та покинув. Не знаємо, звідки прийшла йому охота до французької мови, може, для того, щоб стати салонним чоловіком, бо й із «Жизні Куліша» і з «Воспоминаний» Чужбинського видно, що приятелі Шевченка дуже звертали увагу на те, як держить себе Шевченко в салонах. Тільки ясно, що Шевченко або не давав великої ціни науці французької мови, або не звик що-небудь систематично робити, або, швидше, те й друге».
З якою б повагою не ставитись до справді неоціненного внеску М. П. Драгоманова в шевченкознавство, на наш погляд, мабуть, не слід абсолютизувати всього, що він писав про українського генія, втім, як і до окремих спогадів і свідчень його сучасників.
«Життя Шевченка на Україні, – далі пише Драгоманов, – яке малює нам Чужбинський у 1843 – 1847 рр., виглядає доволі безцільним полупанським байдикуванням серед сільського панства за рюмкою з чоловіками, в танцях і коло музики з дамами, на балах в Чернігові з писанням карикатур на провінціальних баришень у клубах, із студентами в Ніжині і т. д., а часами то, по слову самого Шевченка, «кабануванням» цілий день на постелі. На цьому ґрунті піднімається тільки читання лежачи книг, більш які попадуться під руку, та мрії й думки про те, щоб «поехать по Днепру на дубе на Запорожье, потом до Лимана, поискать остатков старины», змалювать яку-небудь церкву і т. д. Звісно, як набіжить муза, то напишеться добрий вірш; трапиться нагода – скажеться добре слово і серед приятелів, і серед мужиків (напр., що слід гасити пожар і жидівський), а не то поет щиро пограється з дітьми. Але ніякого плану праці й життя не бачимо ми в тому, що розказують нам близькі приятелі Шевченка про ліпшу пору його віку, бо не було в нього ніякого систематичного погляду на життя й працю, який дає систематична ж наука.
А її та й не було в нашого Кобзаря. Кругом нього було дві компанії: спеціалістислов’янщики й так звані світські люди. Кожні й учились і знали, що їм треба. А Шевченкові треба було образовання чоловіка взагалі й письменника зокрема. Ні того, ні другого не вміли йому дати його приятелі в часи середні443. А потім тюрма, Арал, а потім та картина нашого «избранника украинского народа», яку намалював д. Микешин: «Читать он, кажется, никогда не читал при мне книг, как и вообще ничего, не собирал. Валялись у него и по полу, и по столу растерзанные книжки «Современника» да Мицкевича на польском языке… Российскую общую историю Тарас Григорьевич знал очень поверхностно; общих выводов из неё делать не мог; многие ясные и общеизвестные факты или отрицал, или не желал принимать во внимание: этим и оберегалась его исключительность и непосредственность отношения ко всему малорусскому».
Не знаємо, чи треба було неуцтва, щоб задержати в Шевченка «непосредственность» до України. Не думаємо! Тільки ж у всякім разі не неуцтво пошкодило дуже Шевченкові і як письменникові, і як громадянинові, який так і зоставсь нахапаною наукою маляра про Нептунів, Беатріче Ченчі (Шевченко писав Ченчіо) і т. д., наукою, яку він виніс із академії, та з «Біблією», яку товк у дяка й яку підновили йому приятелі київські, та з історією України найбільш по «Истории русов».
Тільки незвичайна врода (талант) поета та його мужицтво виводили його на просту дорогу з того туману, в якому його держала така наука.
Врода ж, звісно, діло велике, як і «свій розум», та тільки ж врода росте як слід, і «свій розум» іде, куди треба, коли їм помагає спільний розум найліпших людей часу в усьому образованному світі. Інакше й велика врода, й міцний розум і при такій долі, яка судилась Шевченкові після 1847 р., не дадуть чоловікові зробити того, що він міг би зробити.
Багато б треба написати нам, щоб доповнити нашу думку. Ми мусили б перебрати й усе життя Шевченка, й усе написане їм. Ми того не зробимо, а зачепимо тільки найголовніші речі, найбільше затим, щоб кинути хоч трохи переваги проти тих абсолютних і похвальних поглядів на Шевченка, до яких треба прилучити й статтю д. С[ір]ка444… Ми мусимо все ж таки сказати, що стаття та не раз сходила на вірну історичну дорогу, та тільки адвокатські заміри конечно доказати, що Шевченко «наш», на кожному кроці збивали автора з тієї дороги на стару, сказать би, богословську.
Шевченко вийшов у д. С[ір]ка «правдивим народним кобзарем, писателем мужичим», та до того таким, який мав і «ту широту й освіту, які могли дати його думці наука й життя між освіченими людьми», а почастно раціоналістом, соціалістом і революціонером».
Сумнівні теоритизування ускладнюють розуміння історичних подій
Перший великий український учений М. П. Драгоманов, закликаючи до «зовсім об’єктивного й історичного перегляду писань Шевченка», вдаючись до суб’єктивних роздумів, на наш погляд, недооцінює головного в житті й діяльності Тараса Григоровича Шевченка:
«Перш усього, – заявляє М. П. Драгоманов, – ми думаємо, що треба б узагалі пересудити те, що зветься завше «народний письменник», «избранник всего народа», «у которого вилився увесь мужицький український світогляд, усі народні інтереси» і т. д.
Наука ще не вміє показати, що таке справді дух якої-небудь породи людської, і поки що ознакою породи служать більше зверхні одміни її, напр. мова, ніж внутрішні, т[ак] наз[ваний] «світогляд». Цей «світогляд» складається з різних речей, між іншим, із віри й науки, які все переходять од породи до породи. Окрім того, цей «світогляд» міняється в міру того, як одна порода переходить із одного історичного ступеня на другий. Далі й у тому, що ми звемо частіше всього народом, у мужицтві, у якому люди подібніші один до одного, є все-таки одміни у світогляді. От через те треба бути обережнішим з такими словами, як світогляд народний. А ще обережнішим треба бути з такими словами, як «співець за ввесь народ», «письменник народний, мужичий» і т. д.
Перш усього спитаємо – що то значить письменник мужичий? Чи той, хто пише за мужиків, чи про мужиків, чи для мужиків, чи те й друге, й третє вкупі? Перше про Шевченка говорить д. Костомаров («Восп[оминание] о двух малярах»), а все останнє, здається, говорить д. С[ір]ко та інші хвалителі Шевченка.
Та ми думаємо, що не може бути, щоб хто-небудь міг сказати за мільйони, навіть сказати так, як говорять мільйони. Так, напр., навіть по формі своїй пісні «народні» Шевченка, Кольцова і т. ін., не зовсім однакові з піснями мужицькими, які складались сотні років мільйонами людей. Прибавимо, що й ці мужичі пісні мають іноді такі одміни (варіанти), що виходять зовсім не подібні одна до одної. А то ж то писана за раз, одним чоловіком пісня! Далі, кожний чоловік пише найбільш усього для себе й для рівних собі, окрім тих, які навмисне пишуть книги початкової науки для дітей чи для менше знаючих. А коли тепер мужики не рівні з письменниками, то письменників справді мужицьких тепер і бути не може, окрім письменників-учителів. Правда, в останні десятки років скрізь з’явилась цікавість знати про мужицьке життя, а до того скрізь письменницька школа стала скрізь високо цінити простий спосіб писання, який може бути більш приступний і мужицтву. От через що появилась скрізь школа письменників, найбільше поетів і піснярів, яких можна згодитись назвати мужичими по матеріалу й прочастно по формі їхнього писання. Тільки ж чи зовсім вони мужичі? Думаємо, що ні!
Так для нашої речі важніше спитати, чи Шевченко ж належав до тієї ж школи письменників простих і через те мужичих? Ми всмілюємось сказати, що ні, так само ми кажемо ні, коли хто спитає, чи Шевченко писав для мужиків, як пишуть учителі. Що Шевченко не був учителем, тут нема й про що говорити, бо всякий буває тим, до чого здібен од природи. Ми тільки мусим завважити, що навіть думки написати що-небудь наукове для мужицтва не видно в Шевченка, як і в усіх українолюбців аж до 1857 – 1860 рр. По всьому видно, що вони тільки ледь-ледве почали задумуватися про такі речі якраз перед тим, коли їх було похапано в 1847 р. Доти тільки ворог «українських Пушкіних» Бєлінський говорив, що їм ліпше було б повернути працю їхню на наукові книги для мужиків. Шевченко написав «Букварь» тільки в 1850 р. і звісно, ніхто не стане вихваляти той буквар і ставити його між великими ділами Шевченка. Та кажемо знов, про це нічого багато й говорити. Друге діло, справа про те, чи писав Шевченко свої вірші для мужиків, або ще ліпше: чи писав він навмисне так просто, щоб їх могли розуміти й мужики?
Хто перечитає найлюбиміші вірші Шевченка, власне ті, де він виступає письменником із думками громадськими, той побачить, що він усього менше думав писати їх для мужиків (?? – Авт.). Інакше навіщо б він наносив туди не тільки «конфедератів», а й аполлонів, ченчиїв, есеїв, колізеїв, яких іноді він так безбожно переплутав, так мало знаючи й історію, й саму міфологію, якої нахапавсь в академії. В добрій половині того, що найгарячіше писав Шевченко, він показується менше всього письменником для мужиків. Попробуйте, напр., почитати мужикові хоч «Посланіє до земляків», яке дехто вважає за самий сік із Шевченка! І тут нема нічого дивного. Коли люди розійшлись по своїй освіті так, як теперішнє панство й мужицтво, то не може бути, щоб письменник і, власне той, хто хоче мати сили над громадою, писав так, щоб його розуміли однаково й мужики, й пани. Правда, й повістяра може нахиляти сама школа письменницька так, щоб писати якнайпростіше. Так власне письменницька школа Шевченкова вела його не до простого способу, а од простого. Добродії Микешин і Прахов… кажуть про Шевченка як про маляра, що «немало було потрачено Шевченком часу на те, щоб перейти від брюлловсько-академічного класицизму до натурального й рідного йому реалізму». Те ж саме треба сказати й про Шевченка як про письменника, який вивчивсь писати на Жуковському та на Міцкевичеві. Картини Шевченка, окрім явного «жанру», показують, що йому ніколи не довелось зовсім вибитись із «класицизму», а довелось іноді тільки перемішати класицизм із реалізмом на спосіб «французького з ніжегородським», як напр. в картині русалок… Те ж саме треба сказати й про багато його писань із пізніших часів, напр. про «Неофіти».
Говорячи про це, ми зовсім не думаємо сказати, щоб у Шевченка не було зовсім «неманірних», простих картин і в слові, іноді таких простих, що справді їх може розуміти найпростіший, неписьменний чоловік. Така, напр., більша частина його неполітичних стихів і поем. Тільки про їх треба сказати, що вони вийшли простими більше ненароком, ніж нароком, більше через натуру поезії (яка все тягне до простого), ніж через школу поета, яка була всього менше проста.
Те ж саме треба сказати й про речі поезії Шевченка.
Кобзар наш почав писати як романтик, а романтики зовсім не старались перш усього розбирати для поезії речі звичайні і вже через них типічні. Вже й у ті часи, коли починав писати Шевченко, письменництво російське майже розпрощалось із романтизмом Жуковського, Козлова і т. ін. Повалив романтизм у Росії Гоголь, а останні сліди його розвіяла та справді «соціальна белетристика» першої половини 40-х років, яка стала між Гоголем і Тургенєвим, Островським і т. ін., і критика Бєлінського, критика «натуральної», а потім «соціальної школи». Натуральна школа підбивала письменників малювати людей такими, які вони є, і людей звичайних, ніж вибраних. А соціальна школа примушувала письменників навіть і тоді, коли він хотів показати нам яке-небудь громадське зло, показувати його на звичайних людях, усього ліпше не на злих, а ще на доволі добрих, і тим вона не тільки показувалась правдивішою, а ще більше вражала громаду, підбивала її проти порядків, а не проти незвичайних злочинців. Такі, напр., картини кріпацтва й панства в Тургенєва в «Двух помещиках», «Муму» і т. ін. Кому звісно повістярство російське 40-х років (Нестроєв-Кудрявцев, Сто Один, Іскандер, Достоєвський і т. ін), ті знають, що з європейських соціалістичних думок найбільше запала їм думка Роб[ерта] Оуена, що людина цілком не винна в тому, чим вона стала й що робить, бо вона стає такою чи іншою дякуючи тому ґрунту, на якому зросла, й тим порядкам, при яких живе. Оця-то думка й зробила «соціальну» школу нових російських повістярів такою, як ми зараз її показали.
Шевченкові ця нова думка була зовсім невідома. Він усе по-старому судив та карав людей і навіть усе хотів «перелякати пекло та здивувати Данта старого нашими магнатами й полупанками». До думок натуральної й соціальної школи ніколи не вибивсь Шевченко сам по собі, а української критики, подібної Бєлінському, тоді (та й тепер) нема. Почастно ж Бєлінського не любили в українських кружках як через те, що такі ще українці, які повернулись силою історії в провінціалів, тобто поневолі в задніх, не підросли до нього, так і через те, що й Бєлінський, збитий московською казьонщиною й гегелівською державністю, не хотів знати «письменства провінціальної породи». В раніших своїх поемах Шевченко виступає зовсім романтиком («Причинна», «Тополя», «Утоплена»). Далі він стає більш реальним, та все-таки збивається на мелодраму, напр. у «Катерині» («Сидить батько в кінець стола» і т. д., та й сама сцена Катерини з чумаками й москалями) і в самих «Гайдамаках» (як Гонта ховає дітей), в «Відьмі» (смерть батька) і навіть у «Наймичці», найпростішій і найреальнішій із усіх його поем (смерть наймички). Вибирав для своїх поем Шевченко до останніх часів іноді речі зовсім не дійсні, сходив на противну поезії алегорію (напр., «Великий льох»), на темні слова (напр., «Радуйся, ниво» і т. д.). Часами аж жалко дивитись, як поет по-дитячому не вміє справитись між живими людьми й картинами дійсного життя (напр., в «Сотнику» або в «Сні»: хоч би картина царського двору, особливо в тім місці, яке приводить д. С[iр]ко, як цар «підходить до найстаршого… та в пику»445 і т. д., або як «Ірод лиже в диктатора халяву та просить півдинара, щоб випити», і т. ін. Думаючи показати огидним панство, Шевченко все вибирав незвичайні злочинства панські (напр., «Княжна», «Варнак») і надалі більше всього сходив на «гріх прелюбодійний», минаючи інші, не менші гріхи не так панів, як панства, і гріхи звичайні, які тим тяжчі, що робляться купами й не самими злочинцями.
Загалом вірні висновки Драгоманова
Знов-таки скажемо, що, поминувши все те, Шевченко дав нам найживіші картини щоденного життя (доволі буде показати напр., на діда, бабу й хлопця в «Наймичці», на «Садок», «Тече вода» і т. д.), начеркнув образи чиновництва, панства, солдатчини, москалів, українців, дівчат (дві породи – Катерина, Наймичка і ін., і Настя в «Сотнику», вона ж в «Якби мені черевики», «Якби мені, мамо, намисто»). Немало показав він і звичайного горя від теперішніх порядків, горя соціального, горя солдатчини («Пустка» і ін.), наймів («Якби мені черевики» і ін.), і показав найпростішим, найреальнішим способом. Та зновтаки подарунок натури поета, а трошки, звісно, й часу, од духа якого не міг уже утекти й наш поет, – та не з тієї школи, з якої він вийшов і з якої не вміли вивести його земляки, громада, критика. Ми бачили, що громада українська не здоліла дати Шевченкові потрібної для його часу науки взагалі. Не помогла вона йому й літературною критикою почастно. В ті часи, коли складавсь поет наш, чужа критика сміялась над ним, а земляки вміли тільки кланятись йому, як кланяються й досі. Ті перли, які дав нам Шевченко як поет, він дав нам сам од себе, більш наперекір своїй школі й своїм письменним землякам, ніж дякуючи їм. Ми ж сказали вже, що сам по собі інший чоловік може зробити чимало, та не стільки б міг і скільки треба б було.
Коли це правда про поета, то більше мусить бути правдою і про громадського чоловіка».
На заваді визволення від рабства – церква й попівство
Далі послідовний атеїст М. П. Драгоманов ставить питання, від якого, так чи інакше, за тодішнього часу найбільше залежало визнання громадськістю рівня поетичної творчості: «Громадський чоловік, коли почне роздумуватись про добро й зло, яке є в громаді, то перш усього наткнеться на віру й церкву. Віра була першою думкою громадською, яка впорядковувалась; попівство й церква були першими порядками громадськими, які заснувались на думці людській; попівство було першою, білою, панською працею, яка виділилась із спільного мужицтва. Віра й попівство потім причіплялись до всього доброго й злого в громаді. Проти віри й попівства перш усього піднялась скрізь і вільна думка: не дурно ж у Європі реформація і вільнодумство XVIII ст. були раніше противудержавних революцій і соціалізму.
Перед вірою стали й наші перші українолюбці. Багато було б розбирати, через що й як, а тільки сталось так, що перші українолюбці ХІХ ст. не пристали до противного вірі духу, який із XVIII ст. став вкорінятись і в Росії, і зостались на боці християнства і «благочестія» XVII cт. Правда, українське благочестіє було м’якше й вільніше, ніж московське, та тим міцніше воно могло держатись і в поєвропеїзованих українцях ХІХ ст., тим більше воно могло притягати українців до таких таборів у російському письменстві, які явно тягли назад, до царсько-попівської Московщини XVII ст. Ниткою, яка в’язала нове українське письменство з петербурзько-московськими назадівцями, був Квітка, в якого не виходив з голови той дух, що затяг був його в монастир. У ті роки, коли Шевченко починає писати, осередком таких благочестивих назадівців у петербурзькому письменстві був «Маяк» Бурачка, який сам, здається, був українець. Із ним водились петербурзькі українці й усі тодішні українські письменники, і сам Шевченко. Знов кажемо, що перша доба писательства Шевченка нам доволі темна, а далеко од Росії ми не можемо перебрати навіть печатні матеріали до того, напр., тодішні журнали. Тільки в усякім разі в перших своїх писаннях Шевченко показується таким же благочестивим, як і Квітка, і нічим не показує, щоб йому не було миле «маяківство». Слов’янський кружок у Києві затяг його ще більше в «святе письмо», яке положило на ньому свою печать навіки.
Правда, Шевченко далі став більш «євангельцем», ніж благочестивим «візантійцем», і в Біблії став шукати духа народолюбивого пророкування, проповіді суду Божого над несправедливими. Ми не дуже помилимось, коли порівняємо віру Шевченка в середній вік його з вірою якого-небудь пуританця-індепендента XVII cт., додавши до того, що Шевченко як поет, маляр і православний не міг викинути з своєї думки навіть Божу матір і навіть Божу службу. Таким «біблійцем» в основі зоставсь Шевченко і до смерті, як це видно, напр., із стихів «Радуйся, ниво неполитая», писаних у 1859 р., або «В Іудеї во дні они», де вони кінчаються викликом до Христа: «Спаси ти нас, младенче праведний, великий!» Навіть у «Марії», в якій Шевченко найдальше відступив од Євангелія, він написав слова, які дають дд. Желехівським повід говорити, що Шевченко не переставав бути християнином:
Все упованіє моє На тебе, мій пресвітлий раю, На милосердіє твоє Все упованіє моє На тебе, мати, возлагаю. Святая сило всіх святих! Пренепорочная, благая!Таких слів не міг написати постійний раціоналіст. Таким раціоналістом, яким хоче показати Шевченка наш товариш, він ніколи не був і не міг бути, бо для того треба було іншої школи, ніж та, яку він пройшов, іншої компанії, ніж та, в якій він державсь. Ті всі противухристиянські й навіть безбожні слова й картини, на які показує наш товариш, – то тільки або виклик досади гарячого чоловіка, який не бачить обіцяної Богом правди на землі, або вільнодумне кощунство, або смілі замахи поета. То все початки раціоналізму, які ми бачимо й у наших мужицьких казках і піснях, які не шкодять мужику ходити у церкву й до попа на раду, а ще не раціоналізм, бо так ми мусимо».
Далі М. П. Драгоманов ставить питання, якого вже торкався раніше446. З тих уривків його творів, які наводились вище, випливає, що Драгоманов недвозначно заперечував реакційні політичні акції українського, конкретно – західноукраїнського попівства та його друкованих органів. Та чи міг він в умовах другої половини ХІХ ст. і тодішнього повсякденного життя суспільства розгорнуто виступити проти церкви, сталих тисячолітніх устоїв християнства?
Адже й сьогодні антирелігійна боротьба не ведеться послідовно в пострадянських країнах навіть тими політичними силами, які кілька десятиліть тому виступали безкомпромісними опонентами релігії та її офіційних службовців і поводирів.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ – ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕМОКРАТИЧНО-ВИЗВОЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Займаючись інтенсивною творчою діяльністю, Т. Г. Шевченко не міг не бути активним учасником громадянського життя тодішньої Росії. З листа М. І. Костомарову від 1 лютого 1847 р. дізнаємось, що він вже поринув у справи київського антикріпосницького і антицаристського Кирило-Мефодіївського товариства.
Пишучи листа, Тарас Григорович перебував у непевному стані й непокоївся, прагнучи дістати постійну роботу: «Я оце й досі в Борзні, – писав він, – і не роблю нічогісінько, лежу собі та й годі. У Київ страх їхать не хочеться, а треба. Коли б то ви були такі трудящі і добрі, щоб розпитали в Університеті, хоч у Глушановського447 (він усі діла знає), чи я утверждённый при університеті, чи ні, та й напишіть мені у славний город Борзну на імя Виктора Николаевича Забелы з передачею мені. Та ще ось що, пошліть Хому до мого товариша, нехай він візьме у його портфель, ящик або скриньку з красками і Шекспіра та ще й брилі, і все сіє сохраните у себе, бо товариш мій хоче їхати з Києва.
Як побачите Юзефовича448, то поклоніться од мене. О братстве не пишу, бо нічого й писать. Як зійдемось, то поплачем. Куліш блаженствує, а Василь Білозір поїхав у Полтаву одказуваться од учительства. А я і кругом мене діється ні зле, ні добре.
Подвізаюсь потроху то коло чарочки тощо. Коли б то Бог дав мені притулитися коло університета, дуже добре було б, напишіть, будьте ласкаві, як що добре почуєте. Свої композиції з грішми або сам привезу, або пришлю із Чернігова»449.
Зв’язок Шевченка з Кирило-Мефодіївським товариством, ставлення до цього товариства – одне з важливих джерел дослідження ідейних прагнень, творчої та революційної спрямованості геніального поета – з одного боку, та причин жорстокого вироку, винесеного поетові царською владою – з другого.
Сімнадцятим березня 1847 р. датоване перше з відомих повідомлень до жандармерії про існування й діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Того дня попечитель Київського учбового округу доповів київському військовому губернатору, подільському та волинському генерал-губернатору Бібікову: «3-го числа нынешнего марта месяца своекоштный студент университета Св. Владимира Петров явился ко мне и объявил, что он открыл существование здесь, в Киеве, тайного общества, основанного с злонамеренною политическою целию чиновником Гулаком, чему в доказательство представил мне и устав того общества.
Выслушав Петрова и сделав ему предварительно словесный допрос, я нашёл донесение его довольно важным, чтоб обратить на него полное внимание; а потому я тотчас же, пригласив к себе помощника моего г. Юзефовича, вместе с ним отобрал с Петрова письменное показание, дополнив его несколькими пояснительными вопросами, особо ему данными.
Не приступая ни к каким открытым действиям, потому, что все причастные к тому лица теперь в Киеве не находятся, и сохраняя весь ход этого дела в совершенной тайне между мною и помощником моим, я поспешаю представить при сём вашему высокопревосходительству в подлинниках как снятые с Петрова показания, так и доставленный им устав основанного Гулаком общества, ожидая для дальнейших действий ваших приказаний. Впрочем я принял все нужные меры для продолжения секретных разысканий, особенно по возвращению сюда Марковича. По всем соображениям и сведениям, какие можно было собрать в это короткое время, я имею основание надеяться, что замыслы Гулака не проникли среди студентов, исключая поименованных Петровым Марковича и Навроцкого, из которых первый как земляк, а второй как двоюродный брат Гулака были с ним в давних и близких связях. Оба они дворяне Полтавской губернии и вышли из университета в прошлом году. Сам Гулак есть воспитанник Дерптского университета, сын помещика Полтавской губернии, Золотоношского уезда, служил здесь в канцелярии генерал-губернатора и в Археографической комиссии и отправился в С. – Петербург. Я не имею причины подозревать в участии с ним профессора Костомарова, его частные сношения с Гулаком происходили от общих с ним занятий работами для Археографической комиссии, и из показаний Петрова не видно, чтобы он был одного образа мыслей с Гулаком. Упомянутый в показаниях Петрова Савич есть помещик Полтавской губернии, Гадячского уезда. Он был здесь проездом за границу и отправился, по словам Петрова, в Париж. Другой чиновник, живущий и доныне в доме протоиерея Завадского и служащий в канцелярии вашего высокопревосходительства, есть Бодилевский, из окончивших в 1845 году курс наук в здешнем университете, казённокоштных воспитанников юридического факультета. Он уроженец Черниговской губернии, Конотопского уезда, из мещан города Батурина. Все сведения, о нём имеющиеся, заставляют предполагать, что он участником в умысле Гулака не был. Шевченко же, о стихах коего говорит в показании своём студент Петров, также родом из Малороссии, воспитанник Академии художеств, жил здесь некоторое время для снятия видов и отправился в С. – Петербург.
Студент Петров из дворян Черниговской губернии, находится в университете с 1845 года, поведения очень хорошего»450.
Перший «кваліфікований» рапорт про українське демократично-визвольне товариство
Далі на поліцейській сцені з’являється «цивільний» співробітник жандармів, керуючий канцелярією губернатора Бібікова камергер та дійсний статський радник М. Писарев. За його рапортом загроза нависала над Шевченком та його, не можна говорити спільниками, – скоріше в більшості – добрими знайомими: «Ганка – есть известный поборник славянского движения в Богемии. Он, кажется, профессор в тамошнем университете…
Кулиш, недоучившись в Киевском университете и не получив степени учёной, занялся писанием разных малороссийских повестей и романов в народном духе. Был учителем уездного училища и учителем С. – П(етер) – б(ургской) 5-й гимназии и, наконец, в конце прошедшего года проехал через Киев за границу, куда он послан министерством народного просвещения для изучения славянских наречий.
О Посяденке, Андрузском и Тулубе – ничего не знаю, но они, кажется, по письмам должны быть в Киеве.
Костомаров преподаёт в Киевском университете историю; он мог быть в соотношениях с Гулаком потому, что Гулак занимался переводами древних бумаг под его руководством.
О Белозерском ничего не знаю.
Тарас Григорьевич есть тот самый художник Шевченко, стихи которого читал, как показывает Петров, Навроцкий.
О Миросевиче также ничего не знаю…
В показании Петрова упоминается о Миркевиче (Марковиче). Кажется, он есть товарищ мнений Гулака и его направления.
Казалось бы полезным тех лиц, кои оказываются в переписке с Гулаком, немедленно обыскать, и если что найдётся подозрительное, то арестовать с доставлением их в С. – Петербург; бумаги же их во всяком случае должны быть сюда доставлены. О Кулише можно бы сделать такое же распоряжение, как и о Савиче; но им обоим было бы полезно снестись с министром внутренних дел, чтобы паспортов не продолжать и в местах их там пребывания, если возможно, иметь за ними надзор.
Следовало бы приказать арестовать в Полтаве Белозерского, которого письмо показывает значительное участие его в славянском направлении, и со всеми бумагами доставить в С. – Петербург. Кроме сего приказать обыскать Шевченку, если он находится в Черниговской губ., как показал Гулак…»451
Ще до публікації тритомника документів Кирило-Мефодіївського товариства452 питання участі Шевченка в цій першій українській політичній організації привертало увагу дослідників. Майже два десятиліття (певно, виключаючи роки Великої Вітчизняної війни) працював над нею відомий знавець історії ХІХ століття П. А. Зайончковський453. В Україні значною популярністю користувалися книги Г. Я. Сергієнка, присвячені проблематиці революційно-демократичної діяльності попередників кирило-мефодіївців – декабристів454, а також безпосередній участі Т. Г. Шевченка у першій політичній організації ХІХ ст. в Україні455.
Тарас Григорович займав у Кирило-Мефодіївському товаристві виразно антимонархічну позицію, згуртовуючи навколо себе радикально налаштованих його членів – М. І. Гулака456, І. Я. Посяду (Посяденка)457, М. І. Савича458.
У публікації П. А. Зайончковського впадає в очі ґрунтовний аналіз архівних документів та ретельний огляд праць попередників автора. Автор класифікує джерела дослідження:
«Источники по истории Кирилло-Мефодиевского общества можно подразделить на четыре группы:
1) программные документы Общества, 2) следственные материалы, 3) различного рода мемуары, весьма разнообразные по форме. Иногда эти мемуары носят характер автобиографий, в других случаях приобретают форму литературных произведений. К четвёртой группе источников относятся публицистические произведения, принадлежащие перу тех или иных членов Общества».
Далі визначаються програмні документи товариства. Зайончковський вважає, що вони «представлены так называемым «Законом божим», запиской Белозерского, являющейся, по сути, то ли объяснением к уставу, как его называли в III oтделении, то ли черновым наброском основных положений Общества и, наконец, уставом Общества св. Кирилла и Мефодия».
Жандармська верхівка знаходить «витоки» програмного документа Товариства
Автор розглядає чотири варіанти тексту цього «Закону…» та аналізує позицію слідства щодо того, який воно вважало головним. На списку, знайденому в паперах М. Гулака, жандарми зробили помітку «Его Величество изволил читать 29 марта 1847 года. г. л. Дубельт». Озаглавлена копия следующим образом: «Вот правила, которые они называют «Законом божим».
Шеф жандармов гр. Орлов во всеподданнейшем докладе царю Николаю I от 26 мая 1847 г. так характеризует происхождение этого документа: «Закон божий» есть ничто иное, как переделка книги Мицкевича; переделка же в том состоит, что в «Пилигриме» всё приноровлено к Польше, а в «Законе божием» к Малороссии».
В докладе гр. Орлов называет эту рукопись так же и «Поднестрянкой», причём говорит, что она существовала с 1833 г.
Не разрешая здесь вопроса об авторстве «Закона божиего», попытаемся установить правильность выставленного гр. Орловым положения, что «Закон божий» является переделкой сочинения Адама Мицкевича «Книга народа польского и пилигримства польского», вышедшего в Париже в декабре 1832 г.
Сопоставление двух этих произведений даёт нам возможность установить, что «Закон божий» отнюдь не является переделкой указанной книги Мицкевича.
Однако наряду с этим надо признать большое влияние этого произведения на автора «Закона божиего». Это влияние сказывается и в заимствовании литературной формы, и в идейном отношении. Так, основная схема исторического процесса одинакова в обоих сочинениях: Бог создал людей свободными – не было ни рабов, ни господ;
но люди отреклись от единого истинного бога и создали себе различных кумиров, что и привело народов к порабощению. Несмотря на приход в мир Христа, справедливость не восстановилась. В роли мессии, долженствующего провозгласить на земле царство свободы и справедливости, в первом произведении выступает польский народ, во втором – украинский.
Наряду с заимствованием основной идеи, которая в тот период отнюдь не являлась индивидуальной для Мицкевича, в «Законе божием» мы находим ряд положений, либо отсутствующих у Мицкевича, либо прямо противоречащих его концепции».
П. А. Зайончковський тричі співставляє положення книги А. Міцкевича й «Закона божиего». В перших двох випадках показує їх схожість, в третьому – принципову різницю459. Далі автор продовжує копітке порівняння:
«В «Законе божием» подробно излагается, как извратили цари и господа учение Христа: «воздадите убо кесарева кесареви» отнюдь не означало признание христианством необходимости царской власти. Наоборот, «кесарь, принявший веру, должен отказаться от своего кесарства, ибо он, будучи первым, должен быть всем слугою, и тогда б не было кесаря, и был бы единый царь, господь Иисус Христос (40).
Народний демократизм «Закона божия»
Также опровергаются и апостольские слова о том, что единая власть от Бога. «И хотя апостол сказал: всякая власть от бога, но это не означает, что каждый, присвоивший себе власть, был бы сам от Бога. Начальство и устройство и правительство должны существовать на земле, и эта власть, и власть эта от Бога, но начальник и правитель обязаны подчиняться закону и народному собранию» (41).
Таким образом, автор «Закона божия» стремится доказать несовместимость монархического образа правления с идеалами христианства. Подобная концепция отнюдь не разделяется Мицкевичем.
В «Книге народа польского…» идеализируются крестовые походы как «войны с язычниками, на защиту христиан братских, на битву за гроб Господень». Превращение христианства в господствующую религию рассматривается Мицкевичем как водворение на земле царства свободы и справедливости. «И мало-помалу, но беспрерывно и стройно свобода ширилась, воцаряясь в Европе. От королей шла свобода к высокой знати. И знать, становясь свободной, простирала свободу на дворянство, от дворян изливалась вольность городам и вот уже сходила к народу, и всё христианство должно было стать свободным, и все христиане равными, как братья» (стр. 12).
Но увидев рост вольности и богатство народов, короли извратили учение Христа и стали сеять вражду между ними, ведя непрерывные войны. Однако, по мнению Мицкевича, не все короли таковы: польский король продолжает стоять на защите веры христовой. Далее оценка деятельности королей, извративших учение Христа, одинакова.
При этом Мицкевич даёт убийственную характеристику трём новым королям.
«Последнее время были в языческой Европе новые три короля: имя первому Фридрих, другое королевское имя Екатерина, и третье имя – Марии Терезы Австрийской…
А…460 в переводе с греческого значит чистая, но была она самой распутной из женщин… И эта…461 …созвала совет для составления нового уложения, что было посмеянием всякому законодательству, ибо все законы близких своих она упразднила». Такова характеристика Мицкевичем Екатерины II.
Что касается Великой французской буржуазной революции, то в «Книге народа польского…» о ней вовсе не упоминается, а в «Законе божием» даётся резко отрицательная характеристика этому событию: «…взбунтовались французы и сказали: не хотим, чтобы были у нас короли и господа, а хотим быть равными и вольными. Но этого не могло быть, ибо только там свобода, где дух Господень, а дух Божий давно уже изгнали из Франции короли, маркизы и философы. И французы убили короля своего и прогнали господ, а сами начали резаться и дорезались до того, что впали в горшую неволю» (54 – 56).
Обидва джерела звертаються до історії свого народу
Наконец, оба автора переходят к истории народа-мессии: «Книга народа польского…» – к истории польского народа, «Закон божий» – украинского. В обоих произведениях довольно последовательно излагается история этих народов, однако и здесь мы находим ряд принципиально различных положений… Так в «Книге народа польского…» идеализируются польские короли и дворянство. «И польские короли шли на защиту христиан в далёкие земли… Но никогда короли и мужи-рыцари не захватывали насилием соседних земель, но принимали народы в своё братство, связывали их между собой благотворящими узами веры и вольности» (стр. 19 – 20).
В «Законе божием» мы встречаем, наоборот, резко отрицательное отношение к царской власти и идеализацию славян и Украины как своеобразных «республик равных». «Племя славянское ещё до принятия веры христовой не имело ни царей, ни господ, и все были равны…» (61). И далее: «Не любила Украина ни царя, ни пана и составила у себя казацтво, т. е. братство, куда каждый вступая был братом других, был ли он прежде господином или рабом, лишь бы он был христианин; и были казаки между собой все равны, а старшины выбирались на собраниях и должны были служить всем по слову Христову…» (76).
Кроме того, в «Законе божием» проводится идея объединения славян, отсутствующая в «Книге народа польского…».
В заключение оба документа выражают надежду, что народ – мессия, освободившись от ига порабощения, снова водворит на земле царство справедливости…
Попытаемся резюмировать наши выводы. Несмотря на то, что «Книга народа польского…» оказала сильное влияние на автора «Закона божия», что сказывается в заимствовании литературной формы, несмотря на общность отдельных идейных положений и даже общность взглядов на исторический процесс в целом, где демиургом истории выступает Господь Бог, перед нами два различных документа, отражающих две различные идеологии: идеологию польского революционного шляхетства и идеологию зарождавшейся украинской буржуазии.
Отсюда в одном произведении известная идеализация польской королевской власти и польского дворянства – рыцарства, в другом – идеи демократизма, идеи всеобщего равенства. Таким образом, «Закон божий» отнюдь не является простой переделкой «Книги народа польского…» Мицкевича применительно к Украине.
Тогда возникает следующий вопрос: кто всё же является автором «Закона божия»?
Гр. Орлов в своём докладе Николаю от 26 мая 1847 г. говорит, что эта рукопись была известна с 1833 г. под названием некоей «Поднестрянки». К подобному утверждению гр. Орлова надо отнестись весьма критически. Во-первых, как видно из предшествующего изложения, гр. Орлов ранее утверждал, что «Закон божий» является чуть ли не переводом «Книги народа польского…». Во-вторых, «Закон божий» содержит в себе ряд положений, характерных для кирилло-мефодиевцев, и, наконец, в третьих, доклад гр. Орлова крайне тенденциозен: желая представить Общество как «учёный бред трёх молодых людей», что соответствовало интересам правительства, он мог умышленно сослаться на «Поднестрянку» (никогда, по-видимому, не существовавшую), тем самым отрицая значение «Закона божия» как программного документа.
Вместе с тем, мы вовсе не отрицаем возможности появления на Украине документов, сходных по своей форме и идейному содержанию с «Законом божиим», и даже того, что эти документы могли быть использованы автором «Закона божия».
В действительности «Закон божий», являвшийся программным документом Общества, если и не написан, то по меньшей мере авторизован кем-либо из членов КириллоМефодиевского общества. Возникает вопрос: кем же именно?
Костомаров на допросе его в ІІІ Отделении 15 апреля 1847 г. на вопрос, с какой целью перевёл он с польского эту рукопись, отвечает: «А сочинения я не переводил с польского в собственном смысле слова, ибо оно написано было по-малороссийски, и только часть его была по-польски, и я перевёл его с польского, что было на этом языке». И далее на вопрос, кто же является автором этой рукописи, отвечает: «Приписывали его какому-то с иностранной фамилиею, если не изменяет мне память, де Бальменю».
Через два дня в дополнительных показаниях, снова называя автором де Бальмена, Костомаров, однако, излагает это несколько иначе:
«…рукописное сочинение в духе самой противозаконной украиномании сочинено, как я подозреваю по названию в других списках: «Закон божий» де Бальменом».
Следовательно, согласно утверждению Костомарова на первых допросах, автором «Закона божия» является по всем данным граф Яков Петрович де Бальмен, сын полтавского помещика, друг Шевченко.
Попытаемся выяснить, так ли было в действительности.
Прежде всего на первом допросе Костомаров говорит о де Бальмене, как о каком-то совершенно незнакомом ему человеке, на втором же выясняется, что де Бальмен – автор хорошо, как видно, ему знакомый, так как Костомаров определяет его авторство «по названию и других списках».
Таким образом, здесь явное противоречие. Далее, крайне трудно объяснить, зачем понадобилось де Бальмену писать по-польски? Правда, надо полагать, что де Бальмен знал польский язык, так как некоторое время служил в Белгородском уланском полку, стоявшем недалеко от Люблина, в г. Красноставе, но всё же неясно, зачем потребовалось ему писать не на родном языке, да ещё именно вторую половину рукописи, в которой особенно подчёркивается мессианская роль украинского народа?
Всё это приводит нас к убеждению, что де Бальмен не являлся автором «Закона божия». Ссылка же на него во время допроса была очень удобна: де Бальмен в 1845 г. был убит на Кавказе во время Даргинской операции.
В дальнейшем и Костомаров перестал ссылаться на де Бальмена.
В своём последнем показании от 7 мая Костомаров заявил, что «Закон божий» списал он давно у офицера Кавказского корпуса Хмельницкого, жившего с ним на квартире в Харькове. Хмельницкий, надо полагать, был лицом вымышленным, так как отделение наводило справки и установило, что офицер Хмельницкий никогда не служил в Кавказском корпусе.
По нашему мнению, автором «Закона божия» является Костомаров. Подтверждением этого положения служит следующее – в «Автобиографии», продиктованной Костомаровым своей жене Алине Леонтьевне, он говорит: «Около этого же времени (конец 1846 г. – П. З.) я написал небольшое сочинение о славянской федерации, старался усвоить по слогу библейский тон». Это подтверждается анализом рукописи «Закона божьего»: анализируя список, находящийся в деле Костомарова, написанный его рукой и представляющий собою черновик с множеством перечёркиваний и поправок, мы приходим к заключению, что характер этих поправок свидетельствует о том, что они произведены самим автором сочинения.
Кроме этого, можно привести ряд индивидуальных для Костомарова черт и положений, обнаруживаемых в «Законе божием». Значимость каждой из них в отдельности невелик, однако в совокупности они подтверждают правильность высказываемой точки зрения. Так в «Законе божием» мы находим и присущую Костомарову идеализацию прошлого Украины, и употребление древнеславянской терминологии, столь характерное для него, и, наконец, неоднократные ссылки на летописца, что даёт основание предполагать в авторе историка. Таким образом, мы полагаем, что автором «Закона божия» является Костомаров. Однако, предполагая авторство за Костомаровым, мы высказываем предположение, что в идейном направлении книги не могли не принимать участия и другие организаторы Общества: Гулак и Белозерский. Трудно предполагать, что Гулак и Белозерский в этом отношении не оказали никакого влияния на Костомарова.
Записка Білозерського та її відбиток у статуті Товариства
Перейдём к рассмотрению записки Белозерского.
Записка Белозерского, находящаяся в его следственном деле, названная в ІІІ отделении объяснением к уставу, представляет собой написанную начерно рукопись с большим количеством поправок стилистического характера, сделанных рукой Белозерского. «Религия Христова дала миру новый нравственный дух», – так начинает свою записку В. М. Белозерский. Ниже говорится, что этот нравственный дух вследствие противодействия властей не мог осуществить на земле царства любви и свободы. Народы по-прежнему томятся в неволе, и в наиболее тяжёлом положении находится Украина.
Украина, продолжает автор, может получить свободу только в результате соединения славянских племён, так как самостоятельное её существование невозможно. Для осуществления этой идеи должно быть организовано Общество. Далее Белозерский излагает основные положения этого предполагаемого Общества. Эти положения в более полной и конкретизируемой форме мы находим в уставе Общества за исключением следующего пункта:
«Подкапывать всеми средствами несправедливые права аристократии и говорить больше о тех лицах, которые к ней не принадлежали, или же действовали сообразно демократическим правилам».
Таким образом, эта записка содержит в себе основные социально-политические положения Общества. То, что автором её является Белозерский, не вызывает сомнения. Устав Общества Кирилла и Мефодия представлен в следственном деле в двух экземплярах: один – в первой части следственного дела, переписанный рукой Петрова с экземпляра, находившегося у Гулака, и приложенный Петровым к доносу, и второй экземпляр – в деле Гулака, написанный рукою Белозерского. Оба экземпляра при текстуальной сверке оказываются тождественными.
Как мы уже выяснили несколько выше, почти все положения, изложенные в записке Белозерского, нашли своё отражение и в уставе, однако в более полной и конкретизированной форме.
«Устав Общества св. Кирилла и Мефодия» подразделяется на две части: в первой содержатся «Главные идеи», заключающиеся в шести пунктах и излагавшие политический идеал Общества, и «Главные правила Общества», состоявшие из 11 пунктов и освещающие вопросы организационного характера, а также основные тактические позиции Общества.
Кто же является автором устава?
На следствии и Белозерский и Гулак приняли авторство на себя. Костомаров же в своей «Автобиографии» называет автором устава также себя. Очевидно, устав явился плодом коллективного авторства Костомарова, Гулака и Белозерского. Подтверждением этого может служить следующее. Как указывает Костомаров, он составил устав, когда жил у Гулака, и у него вместе с ним возникали мысли о создании Общества. Естественно, что и в разработке устава не мог не принимать участия Гулак. Объяснение к уставу написано Белозерским. Это в свою очередь даёт основание предполагать, что и он принимал участие в составлении устава.
Такова характеристика основных программных положений Общества», – наголошує П. Зайончковський, детально характеризуючи першу групу джерел.
Протилежна за походженням група джерел та її значення для нас
Вторую группу исторических источников представляют следственные материалы. Переходя к характеристике отдельных следственных дел, – П. Зайончковський має на увазі архівні документи, – надо подчеркнуть особую значимость первых четырёх частей: часть I – «Общие распоряжения по производству следствия и исполнению решения», – в ней находятся донос Петрова, всеподданнейшие доклады гр. Орлова, а также сосредоточена вся переписка по делу Кирилло-Мефодиевского общества. Далее следует назвать дела Гулака, Костомарова и Белозерского, в которых содержатся, как мы уже говорили выше, основные программные документы Общества, а также переписка их с разными лицами, представляющая большой интерес для изучения Общества. Необходимо также остановиться на делах Кулиша и Марковича, в которых мы находим планы Общества в области издания литературы на украинском языке. Представляет также интерес и дело Андрузского, в котором содержатся его различные планы социально-политических реформ.
Весьма ценным является также и дело Шевченко, характеризующее его стойкость и мужество во время следствия в III Отделении.
Для уяснения изучения идеологии Савича и влияния на него утопического социализма не лишено интереса его дело, в котором мы находим проекты, касающиеся положения женщин, а также отношения его к религии.
И, наконец, дело № 19 – «Журнал, который веден был во время производства дела и постепенно докладываем государю императору» представляет интерес для понимания отношения правительства к Обществу.
Остальные части следственного дела не лишены также известной научной значимости. Однако для изучения идеологии Общества и его деятельности они менее важны.
Надо отметить, что при изучении материалов следственного дела необходимо сугубо критически относиться к этому источнику. Во-первых, привлечённые к делу, вполне естественно, стремились скрыть истинные цели Общества и своё участие в нём, во-вторых, само правительство в силу ряда причин было заинтересовано в освещении Общества в желательном для себя духе, в результате чего Белозерский и Костомаров писали свои показания буквально под диктовку управляющего І экспедицией ІІІ Отделения Попова.
Обратимся к характеристике третьей группы исторических источников.
Первые сведения мемуарного характера о Кирилло-Мефодиевском обществе мы находим на страницах львовских журнала. Написаны они либо самими деятелями Общества, либо лицами, близко к ним стоящими.
Такова статья «Жизнь Кулиша», опубликованная в ряде номеров журнала «Правда» за 1868 г. Судя по слогу и характеру изложения, можно сказать, что эта статья написана самим Кулишом. В ней автор вкратце излагает планы Общества, подчёркивая его «мирнохристианский характер». Политический идеал Общества, по словам автора, заключался в соединении всех славянских народов в вольный союз под протекторатом российского императора. Подобное утверждение, как известно, не соответствует действительности и является официальной версией III Отделения. Однако вскрыть истинные цели Общества автор, пожалуй, и не счёл возможным: слишком незначительное время прошло ещё с 1847 г., и иначе изложить задачи Общества было небезопасно и для самого автора. В 1876 г. в том же журнале «Правда» публикуются «Споминки про Т. Г. Шевченка» его двоюродного брата Варфоломея Григорьевича. Варфоломей Григорьевич рассказывает, что в сентябре 1845 г. Тарас Григорьевич приехал в Кирилловку, показывал ему портреты своих приятелей, вместе с которыми он организовал общество, ставящее своей целью распространение просвещения среди народа; для этого они организовали общественную кассу, в которую каждый из членов вносил известную сумму в зависимости от возможности. Биограф Шевченко Конисский опровергает достоверность этих воспоминаний, считая их плодом досужей фантазии самого автора «Споминок». Не настаивая на достоверности сведений, сообщаемых Варфоломеем Шевченко, мы всё же считаем возражения Конисского малоубедительными. Так, Конисский, пытаясь доказать фантастичность рассказа В. Г. Шевченко, говорит следующее: «Шевченко был в Кирилловке в сентября 1845 г., а первые попытки организовать Кирилло-Мефодиевское общество относятся к декабрю 1845 г.» Следовательно, делает вывод Конисский, это неправдоподобно.
Мы позволим себе несколько усомниться в правильности подобного вывода.
У Кирило-Мефодіївського товариства знайдено витоки попередників
Ведь до создания Кирилло-Мефодиевского общества существовал, как раз в тот период, когда Шевченко приезжал в Кирилловку, киевский кружок молодёжи «Киевская мысль». Почему не предположить, что Шевченко имел в виду этот кружок, а не Кирилло-Мефодиевское общество? Именно этот кружок, к которому Шевченко был весьма близок и пытался распространить просвещение в народе. Далее Конисский относится крайне недоверчиво к рассказу Варфоломея Шевченко о портретах, которые показывал ему Тарас Григорьевич. Конисский задаёт вопрос: «Какие портреты мог показать Т. Г. Шевченко? Фотографии тогда не было, литографии и дагерротипии были слишком дороги и малодоступны». Однако, Конисский забывает, что Шевченко был художник и мог показать портреты, им самим написанные. Таким образом, аргументация Конисского кажется нам неубедительной.
Куліш свідчить про гурток «Київська молодь»
Большой интерес представляет работа Кулиша «Хуторна поезія», опубликованная также во Львове. В предисловии «Історичне оповіданє» Кулиш рассказывает об образовавшемся в Киеве в 1843 – 1844 гг. кружке украинской молодёжи, так называемой «Киевской молоди», «проникнутой христианским духом». Этот кружок – первохристианская коммуна, как называет его Кулиш, – по словам автора, ставил своей задачей освобождение украинского народа. С этой целью члены кружка предполагали вести пропаганду среди просвещённых помещиков о необходимости освобождения ими своих крестьян. Большое влияние, продолжает автор, оказывала на этот кружок поэзия Шевченко, являвшаяся для его членов «гласом воскресной трубы архангела». Это свидетельство Кулиша имеет большое значение, давая возможность установить непосредственных предшественников Кирилло-Мефодиевского общества.
Місце «Киевской старины» у висвітленні історії та літературного процесу в Україні
В 1882 г. в Киеве начинает издаваться журнал «Киевская старина», являвшийся органом украинской интеллигенции. На страницах «Киевской старины» освещались почти исключительно вопросы истории, культуры и быта Украины. Журнал опубликовал целый ряд статей, воспоминаний, документов, относящихся к истории Кирилло-Мефодиевского общества, и много сделал для освещения этого вопроса в пределах тех возможностей, которые предоставлялись ему цензурой.
Погляди Костомарова на Кирило-Мефодіївське товариство
В февральской книжке «Киевской старины» за 1883 г. была помещена статья Костомарова «П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность». В ней автор впервые в печати освещает ряд программных положений Общества.
Далее Костомаров рассказывает об аресте кирилло-мефодиевцев и излагает ход следствия над ними, причём изложение всего этого грешит рядом неточностей, особенно в той части, где изображается поведение в III Отделении самого автора.
И, наконец, в заключение Костомаров утверждает, что Кулиш и Шевченко не были членами Общества, да и существование самого Общества как тайной организации им отрицается.
«Собственно самого общества не существовало, так как нельзя считать организованным обществом разговоры частных лиц, случайно сошедшихся для беседы без всякой предвзятой цели»462.
Что заставило Костомарова таким образом характеризовать Общество? Как известно, подобная оценка не соответствует истинному положению вещей и совершенно расходится с его же высказываниями в «Автобиографии», на которых мы остановимся позже.
Ще про різнобій у поглядах і трактовках історика Костомарова
Мы полагаем, что подобное высказывание было вызвано либо соображениями цензурного характера, либо, наконец, эволюцией взглядов самого Костомарова, пытавшегося в силу этого отрицать «ошибки своей молодости».
Попытка Костомарова характеризовать Кирило-Мефодиевское общество таким образом не единична: в письме к издателю «Колокола», помещённом в № 61 «Колокола» и опубликованном Драгомановым в 1902 г. во Львове, Костомаров также по существу отрицает существование Общества Кирилла и Мефодия.
Большое значение для изучения Кирилло-Мефодиевского общества представляют «Автобиографии» Костомарова. Первая её редакция была продиктована в 1860 г. Н. Л. Белозерской, вторая – жене Алине Леонтьевне Костомаровой в 1875 г. Эти редакции мало чем отличаются друг от друга. В первой, продиктованной Белозерской, автор подробнее останавливается на программных положениях Общества. Во второй же более подробно излагается арест и ход следствия.
«Автобиография» в первой редакции была опубликована в 1885 г. в пятой и шестой книгах журнала «Русская мысль».
Во второй редакции «Автобиография» была помещена в 1890 г. в «Литературном наследии Костомарова» с пропусками ряда глав, в том числе четвёртой, содержащей в себе данные об аресте, следствии и ссылке. Эта глава была впервые опубликована в четвёртой книге «Вестника Европы» за 1910 г.
Полностью «Автобиография» во второй редакции была опубликована в 1922 г. вместе с воспоминаниями А. Л. Костомаровой о своём муже. В этих воспоминаниях сообщаются вкратце некоторые сведения об аресте и ссылке Костомарова.
Нельзя не подчеркнуть необходимости критического отношения к «Автобиографии» как ко всякого рода мемуарам, не лишённым большой доли субъективизма.
Несомненный интерес представляют воспоминания малоизвестного польского поэта Юлиана Белины-Кентжицкого, освещающие его жизнь в Киеве (1845 – 1847 гг.) и знакомство с Шевченко. Кентжицкий учился в Киевском университете… позднее принимал участие в восстании 1863 г., за что был сослан в Сибирь. Эти воспоминания были опубликованы в 1918 г. в ряде номеров «Gazety Lwowskiej», а нескольке позднее были напечатаны на украинском языке в перемышльской газете «Український голос». В 1958 году они были опубликованы в книге «Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників».
Большое значение этих воспоминаний, написанных в форме дневниковых записей, заключается в том, что они дают возможность установить попытку Шевченко ознакомить с идеями Кирилло-Мефодиевского общества польскую молодёжь. Вместе с тем воспоминания Кентжицкого косвенным образом свидетельствуют также об участии Шевченко в Обществе463.
В заключение характеристики этой группы исторических источников необходимо остановиться на воспоминаниях А. М. Петрова «Из далёкого прошлого», опубликованных в № 5 «Звеньев» в 1935 г.
Автор этих воспоминаний – член Общества, донесший о существовании его следственным властям. Написаны воспоминания в 1883 г. в форме письма в журнал «Киевская старина» в связи с опубликованием в нём статьи Костомарова, касавшейся истории Кирилло-Мефодиевского общества. Воспоминания Петрова носят явно выраженный апологетический характер, в силу которого не могут претендовать в какой бы то ни было степени на объективное изложение событий.
«Я, – писал он в письме в «Киевскую старину», – будучи не согласен ни с правдою, о которой свидетельствует уважаемый учёный касательно Общества, ни с тою фантастически измышлённою правдою, которая касается собственно меня…» Петров пытался уверить своих читателей в том, что никакого предательства он вообще не совершал, сообщив сведения об Обществе лишь своему дяде, профессору математики Киевской духовной академии Подгурскому. По словам Петрова, Подгурский сообщил в свою очередь об этом попечителю Киевского учебного округа Траскину. Будучи вызван к попечителю, Петров якобы был вынужден повторить в письменной форме то, что он говорил своему родственнику.
Петров пишет, что он не назвал ни одного имени, кроме Гулака. «В моём покаянии, – говорит он, – кроме фамилии Гулака, не фигурировала ничья другая, да и не могла фигурировать, так как я никого не знал из членов Общества». Это утверждение от начала и до конца лживо. В действительности в доносе Петрова названы имена ряда лиц, в том числе Савича, Костомарова, Навроцкого и Шевченко.
К четвёртой группе исторических материалов принадлежат различные публицистические произведения членов Общества. Большинство этих произведений представляют собой рукописи, содержащиеся в следственном деле. К ним относятся различные проекты социальных преобразований, имеющиеся в деле Андрузского, в частности «Достижение возможной степени равенства и свободы преимущественно в славянских землях», «Идеал государства» и т. д. Сюда же относится и рукописный проект Савича «Освобождение женщин».
Наконец, к этой группе принадлежит анонимная брошура Кулиша «Карманная книжка для помещиков», изданная им в Петербурге в 1846 г. под псевдонимом штаб-лекаря Федора Гладкова» 464.
Далі П. А. Зайончковський висвітлює історію публікації програмних документів та слідчих матеріалів, пов’язаних з Кирило-Мефодіївським товариством, оглядає присвячену йому наукову літературу.
Зупинимось на останній, розглянутій дослідником проблемі. «Первая работа, в которой освещалась история Кирилло-Мефодиевского общества, принадлежит перу известного историка В. И. Семевского.
В связи со смертью Н. И. Костомарова в январской книжке «Русской старины» за 1886 г. В. И. Семевский поместил статью «Н. И. Костомаров», в которой он довольно подробно останавливается на истории Кирилло-Мефодиевского общества, основываясь на автобиографии Костомарова, известной автору полностью (включая и цензурные пропуски).
Как и в последующих своих работах, посвящённых этому вопросу, В. И. Семевский в своей статье пытается установить преемственную связь кирилло-мефодиевцев с Обществом соединённых славян.
Говоря о следствии, производившемся в ІІІ Отделении, автор довольно подробно останавливается на роли управляющего I экспедицией ІІІ Отделения Попова465, предложившего как Белозерскому, так и Костомарову составить свои показания в желательном для правительства духе. В. И. Семевский приходит здесь к совершенно правильному выводу: «…значит он (т. е. – Попов) благодетельствовал не без ведома своего непосредственного начальника. По всей вероятности, в политику лиц, стоявших во главе ІІІ Отделения, входило не представлять в слишком ужасном виде дела тех или других арестованных…»466
К сожалению, в последующих своих работах автор не только не развивает этого положения, а, наоборот, по непонятным нам причинам вовсе умалчивает о нём.
Известный интерес для изучения Кирилло-Мефодиевского общества представляет работа А. Я. Конисского «Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко». Эта работа опубликована на украинском языке в 1898 г. во Львове и в этом же году в русском переводе в Одессе. В ней автор излагает историю Общества на основании «Автобиографии» Костомарова и, кроме того, приводит крайне важное свидетельство одного из членов общества Д. П. Пильчикова, переданное лично ему в начале 60-х годов, о том, что в начале 1847 г. число членов общества доходило до 100 человек.
Далее автор утвердительно разрешает вопрос о принадлежности Шевченко к Обществу.
Во время революции 1905 – 1907 гг. и в предшествовавший ей период революционного подъёма увеличился интерес к национально-освободительным движениям прошлого. Кроме того, в это время появилась возможность, хотя бы частично, ознакомиться со следственными материалами III Отделения.
В 1906 г. в первой книге «Киевской старины» проф. Стороженко опубликовал очерк «Кирилло-Мефодиевские заговорщики», основанный на ознакомлении с частью следственного дела. В нём автор подробно цитирует донос студента Петрова, устав и правила Общества. Очерк посвящён главным образом Гулаку, с делом которого автор, как видно, имел возможность детально ознакомиться. Однако эта работа носит чисто описательный характер и не ставит своей задачей глубокий анализ программных положений.
В 1907 г. В. И. Семевский поместил в «Галерее Шлиссельбургских узников» (часть I) очерк «Н. И. Гулак», написанный опять-таки на основе детального знакомства со следственным делом Гулака в архиве III Отделения.
В 1911 г. в «Русском богатстве» была опубликована работа Семевского «Кирилло-Мефодиевское общество». Появление её связано с 50-летием со дня смерти Т. Г. Шевченко.
В 1918 г. эта работа была издана вторично.
50-летний юбилей со дня кончины Т. Г. Шевченко проходил в условиях жесточайшей реакции. Столыпин вёл беспощадную борьбу с национально-освободительным движением. Поэтому научная разработка тех или иных вопросов, связанных с историей национально-освободительного движения на Украине и с именем Шевченко, являлась определённым вызовом правительству.
Названная выше монография была напечатана с небольшими пропусками, сделанными по цензурным соображениям; на основе построчной сверки с изданием 1918 г. мы установили ряд пропусков в тексте основного программного документа Общества – в «Законе божием». Так в издании 1911 г. отсутствует характеристика Екатерины II как распутницы и мужеубийцы, везде пропущено слово «царь» и, наконец, исключён нижеследующий абзац, касающийся восстания декабристов:
«И голос Украины отозвался в Московщине, когда по смерти царя Александра русские хотели изгнать царя и дворянство уничтожить, учредить республику и всех славян соединить с нею по образу божественных ипостасей неразделимо и несмесимо; а этого Украина хотела и домогалась почти за 200 лет перед тем. И не допустил до этого деспот: одни кончили жизнь на виселице, других замучили в рудокопиях, третьих отдали на убой черкесам. И царствует деспот над тремя славянскими народами; правит ими посредством немцев, заражает, калечит, уничтожает добрую породу славянскую, но ничего он не сделает, ибо голос Украины не умолкнет»467.
Таким образом, работа Семевского была опубликована почти полностью, но уже после выхода её из печати цензурой были исключены целиком III и IV главы данной работы, излагающие содержания «Закона божия» и ход следствия в III Отделении; но это было сделано с некоторым опозданием, так как часть номеров журнала увидела свет без соответствующих цензурных манипуляций (так в Московской государственной публичной исторической библиотеке имеются экземпляры журнала, сохранившие полностью эти главы). В. И. Семевский является по существу первым и, пожалуй, до сих пор единственным исследователем Кирилло-Мефодиевского общества. Он впервые подошёл к изучению истории Кирилло-Мефодиевского общества на основе анализа следственных материалов III Отделения. Его монография «Кирилло-Мефодиевское общество 1846 – 1847 гг.», полностью опубликованная в 1918 г. редакцией журнала «Голос минувшего», до сих пор является наиболее крупной работой о Кирилло-Мефодиевском обществе.
Работа написана на основе ознакомления с главными материалами, а также и всей литературой вопроса; однако, по не зависящим от автора обстоятельствам, целиком со всеми материалами следственного дела он знаком не был. Надо думать, что и получаемые им материалы из III Отделения были копиями, так как ряд замечаний гр. Орлова на полях следственного дела, имеющих довольно существенное значение, не был ему известен. Нам представляется, что исследователь не имел возможности ознакомиться полностью с делами Андрузского, Кулиша и Савича. Всё это вполне естественно обнаруживает наличие ряда пробелов, что несколько снижает её общую значимость. Работа носит почти исключительно описательный характер, это является, безусловно, одним из основных недостатков её. Этого не отрицает и сам автор: «В настоящее время я не ставлю своей целью такое исследование (всестороннее. – П. З.), так как по причинам, от меня не зависящим, я не мог ознакомиться со всем делопроизводством по этому вопросу», – говорит в начале своей работы В. И. Семевский.
Анализируя эту работу, нельзя забывать об общей исторической концепции Семевского, являвшегося представителем субъективно-исторической школы позднего народничества. Многие ошибочные положения этой школы мы можем найти и в разбираемой нами работе Семевского. Однако, несмотря на это, значимость данной монографии велика: это первая работа, в которой даётся последовательное (пускай неполное) изложение событий, связанных с деятельностью Общества, а также показаны основные моменты следствия.
В. И. Семевский удачно разрешает ряд проблем: подробно излагая общественнополитические взгляды Шевченко, совершенно правильно подчёркивает независимость этих взглядов от кирилло-мефодиевцев и даже, наоборот, обратное влияние Шевченко на Костомарова и других. «Очевидно, не историк влёк поэта к более радикальным взглядам, а поэт – историка», – говорит Семевский.
Далее автор подробно излагает устав Общества и основной программный документ «Закон божий», причём исследует вопрос о происхождении его, совершенно правильно отрицает прямую зависимость «Закона божего» от сочинения Мицкевича «Книга народа польского и пилигримства польского», соглашаясь лишь с тем, что здесь мы имеем косвенное влияние, а отнюдь не копирование, как пытаются утверждать некоторые более поздние исследователи.
Вопросы об идейных предшественниках кирилло-мефодиевцев автор разрешает в основном правильно, пытаясь установить идейную связь Кирилло-Мефодиевского общества с декабристским Обществом соединённых славян, а также с масонской ложей Соединённых славян, существовавшей на Украине с 1818 г.
В. И. Семевский аргументирует это сходством программных положений Общества соединённых славян и Кирилло-Мефодиевского общества – стремлением тех и других объединить славян в славянскую демократическую республику. Известную общность устанавливает Семевский между конституцией Никиты Муравьёва и программными положениями Общества. Кроме того, Семевский указывает на интерес, проявлявшийся членами Общества к движению декабристов. Подтверждением этого является тот факт, что у Костомарова был найден на столе номер «Русского инвалида», в котором были напечатаны официальные сведения о деле декабристов.
Однако наряду с этими положительными моментами, нельзя не остановиться на ряде неправильных положений, обуславливающихся общей субъективно-исторической концепцией автора. Рассматривая социально-политические взгляды Общества, он не связывает их с конкретно-исторической обстановкой. Отсутствует классовый анализ идеологии Общества. Автор совершенно игнорирует оценку правительством деятельности Общества, хотя для ответа на этот вопрос он и располагал необходимыми материалами. Автор не объясняет, почему правительство, имея программные документы Общества, а отсюда зная его истинные цели, вдруг признаёт правильность показаний Белозерского в отношении политических идеалов Общества, заключавшихся якобы в стремлении объединить всех славян под скипетром государя российского. Он как бы не замечает этого противоречия. Больше того, автор излагает без комментариев рассказ Костомарова «о добром и порядочном» управляющем I экспедицией III Отделения Попове, «помогавшем» ему и Белозерскому составить показания, соответствующие их интересам. В этом вопросе автор делает шаг назад по сравнению с разбиравшейся нами выше его же статьёй «Н. И. Костомаров» (1886 г.), где совершенно справедливо была подвергнута сомнению «бескорыстность» Попова»468.
Матеріали «Журналу слідства III Відділу в справі Кирило-Мефодіївського товариства»
Cаме тому попередні неузгодженості шевченкознавства доводиться пояснювати тривалою вимушеністю писати про Шевченка та Кирило-Мефодіївське товариство, не маючи достатньої документальної бази, зокрема, належного наукового забезпечення аутентичних матеріалів жандармського слідства й розправи над більшою частиною його членів – з одного боку, та поведінки Тараса Григоровича після арешту та під час слідства й суду – з другого. Саме через це недостатньо документовані припущення авторів давніх повідомлень вимагають сьогодні більшого чи меншого, значного або часткового корегування. Воно має здійснюватись на підставі довгоочікуваних документальних даних, які побачили світ у виданому порівняно недавно солідному науковому тритомнику «Кирило-Мефодіївське товариство»469.
Але дослідники470, на превеликий жаль, не використали належним чином надзвичайно показовий і доказовий «Журнал слідства III Відділу в справі Кирило-Мефодіївського товариства».
Журнал «Об Украино-Славянском обществе» від 17 березня починається вказівкою на те, що: «Было получено отношение г-на генерал-адъютанта Бибикова о доносе студента Киевского университета Петрова471, что существует Славянское общество, стремящееся как к соединению всех славян, так и к учреждению в России республиканского правления». На полях поряд з цими рядками керуючий ІІІ Відділенням жандармський генераллейтенант Л. Дубельт, який старанно вів цей архівний документ, зробив красномовну примітку: «По мере составления сего журнала его величество изволил читать оный. Того же числа это отношение было доложено государю наследнику цесаревичу и получено повеление арестовать Гулака и осмотреть все его бумаги»472.
Вищенаведені записи Л. Дубельта правдиво характеризують благородну постать революційного демократа Миколи Івановича Гулака.
Л. Дубельт, якому належать докладні щоденні записи-звіти про безупинну діяльність по захисту й збереженню царського ладу, на нашу думку, відігравав у цім зовсім не другорядну роль.
В його записах чітко проглядається непозбутий страх панівних верств царської Росії перед невпинним розгортанням революційно-демократичного руху в країні.
Отже продовжуємо знайомитись з матеріалами архівного фонду III Відділення: того ж дня (18 березня) «Обер-полицмейстер Кокошин и генерал Дубельт арестовали Гулака и все его бумаги доставили в III Отделение. Того же дня, 18 марта, был Гулак допрошен генерал-лейтенантом Дубельтом, действительным статским советником Сагтынским и камергером Писаревым473, который допущен к допросу по желанию генерал-адъютанта Бибикова474 потому, что по знанию местных соотношений он, Писарев, в этом деле может быть употреблён с пользой.
Гулак ни в чём не сознался, но уличён найденным у него в шкатулке кольцом с буквами «св. Кирилл и Мефодий!» и другими бумагами.
Во время арестования Гулака он пошёл в отхожее место, из предосторожности сопровождал его туда полицейский служитель, а частный пристав Юнкер приказал осмотреть нечистоты, в которых и найдена брошенная Гулаком рукопись, писанная его рукой.
Рукопись заключает в себе 109 параграфов разных демократических идей, направленных к уничтожению всякого рода властей, и воззвания к украинцам, великороссиянам и полякам.
Из доноса студента Петрова видно, что эту рукопись Гулак и товарищ его Навроцкий называли «Законом божиим».
«Провини» Білозерського й Марковича
Марта 19
Рассматривали все бумаги и письма Гулака, в коих найдено, что переписка в духе славянском была у него с бывшим учителем С. – Петербургской гимназии Кулишем475, ныне находящимся за границей для изучения славянских наречий по поручению министерства народного просвещения, с бывшими студентами Киевского университета Белозерским476 и Марковичем, из коих первый служил в Полтаве и намерен был ехать за границу, а второй находится в Киеве, с Павлом Ашаниным, двоюродным братом Гулака, служащим в уланах Херсонского военного поселения.
В письме Белозерского упоминается, что он нашёл в Полтаве несколько «благородномыслящих477», по его мнению, людей и встретился там с одним офицером из Образцового полка, сыном генерала, воспитывавшимся в Пажеском корпусе, который высказал, по его заключению, дельные мысли, и это единственный человек, от которого можно ожидать, что со временем переведёт слова на дело. В том же письме Белозерского говорится о Кулише, что он составил христианские правила. Называет Шевченко гениальным человеком, умеющим угадывать потребности народа и целого века.
В письме Марковича выхваляется горячая любовь Гулака к родине и излагается обещание, что может вполне на него положиться…
Кроме сего в письмах упоминаются имена Навроцкого, о котором показывает и Петров, как на участника Гулака, Посяденко, Андрузского, Тулуба, по случаю ссоры Посяденки с Андрузским. Посяденко пишет, что на время удаляется от их христианского общества, но что дух его никогда от оного не удалится, ибо в самой глубине души положена мысль, никому ещё не ведомая, и что прежде чем он увидел Костомарова, душа его уже принадлежала обществу, которого никто из них не знает.
После рассмотрения этих бумаг делались Гулаку снова допросы, но он остался при прежнем своём запирательстве.
Составлен доклад государю наследнику цесаревичу о дозволении послать за Навроцким и требовать сюда других лиц, кои окажутся к делу Гулака прикосновенными, но доклад сей не был представлен его императорскому высочеству.
Перелякані слідчі вимагають репресій та посилюють розшуки Шевченка
Марта 20
Дубельт, Сахтынский и Писарев возобновили увещания и допросы, но безуспешно. Предписано по высочайшему повелению по эстафете генерал-адъютанту кн. Долгорукому арестовать Навроцкого и со всеми его бумагами доставить в С. – Петербург под присмотром самого надёжного и верного чиновника. Переписана набело рукопись «Закон божий». Получено отношение генерал-адъютанта Бибикова с подлинным показанием студента Петрова.
Марта 21
Деланы допросы Гулаку о тех лицах, которые упомянуты в его письмах, и разрешено генерал-адъютанту Бибикову осмотреть в Киеве бумаги Костомарова, Посяденко, Андрузского, Марковича, Тулуба и Шевченко, ежели сей последний возвратился в Киев, и ежели окажется в их бумагах что-либо подозрительное, то арестовать и доставить в С. – Петербург.
Министрам финансов и внутренних дел предложено сделать распоряжение о задержании помещика Савича на границе при возвращении его в Россию и доставлении его со всеми бумагами в С. – Петербург…
Сделано распоряжение об отыскании Шевченко (художник С. – Петербургской академии), который, как из показаний Петрова видно, поехал в С. – Петербург с Гулаком, по показанию Гулака – остался в Черниговской губернии в Борзненском уезде.
Писано в министерство внутренних дел, когда и куда выдан паспорт помещику Савичу…
Гулак, чувствующий потребность занятий, просил книг. Ему объявлено, что ежели он решится сделать искренние и откровенные показания, то всякое его желание будет исполняемо. Но несмотря на новые при этом случае убеждения, он по-прежнему объявил, что говорить ему запрещает совесть, поэтому в просьбе Гулаку отказано…
Марта 22
…Из бумаг Гулака видно, что он имел переписку в духе славянских идей с бывшим учителем С. – Петербургской гимназии Кулишем, отправившимся за границу по распоряжению министерства народного просвещения, а потому насчёт Кулиша478 сделано распоряжение, какое сделано насчёт Савича и Ежова, то есть предложено министрам финансов и внутренних дел задержать его на границе при возвращении в Россию.
Сообщено генерал-адъютанту Адлербергу высочайшее повеление удерживать и доставлять в ІІІ Отделение все письма, какие будут адресованы на имя Гулака.
Марта 23
Генерал-адъютанту кн. Долгорукову479 сообщено высочайшее повеление о сделании распоряжения, чтобы находящийся в Полтавской губернии дворянин Василий Березовский и остановившийся при проезде из Киева в Борзненском уезде художник Шевченко, если он доселе остаётся в Черниговских или других вверенных кн. Долгорукову губерниях, были немедленно задержаны и со всеми бумагами доставлены в С. – Петербург в III Отделение. Ему же писано, чтобы уведомил, кто был в Полтаве в сентябре 1846 г. офицер Образцового полка, сын генерала, которого Кулиш описывал как человека, подающего для них большие надежды.
Гулаку предложены были подробные вопросы о всех намёках на тайное общество и других сомнительных местах в письмах к нему Кулиша, Белозерского, Посяденки, Марковича, Ошанина, а также и его, Гулака, бумагах; но в ответах своих он каждое место объясняет в благовидном смысле, например: предпринимаемые труды относит к литературе, и прочее, или отзывается неведением того, что писали к нему друзья его. Словом, он ничего не открыл существенного и продолжает упорствовать в сознании.
Сообщено военному министру высочайшее повеление о предписании, чтобы у служащего в одном из поселённых полков в Херсонской губернии офицера Ошанина, к которому Гулак писал, что он может сделаться великим, завоевателем или монархом, произведен был строжайший обыск, чтобы все бумаги, в коих окажутся мысли возмутительные или относящиеся до тайного общества, были тотчас представлены в III Отделение, с тем, чтобы то обстоятельство, не следует ли над Ошаниным учредить надзор, или подвергнуть аресту, или же доставить самого в С. – Петербург, судя по важности бумаг, кои будут у него найдены, предоставлено было усмотрению ближайшего главного начальства. Ему же писано о собрании сведений и насчёт того офицера Образцового полка, который в сентябре 1846 г. был в Полтаве и о котором уже писано к генерал-адъютанту кн. Долгорукову…
Марта 24
Шеф жандармов г-н генерал-адъютант Орлов лично делал Гулаку самый строгий допрос и самые краткие отцовские увещания, описал ему картину различия между данной им присягой перед Господом быть верным подданным государю и честным словом, данным нескольким молодым людям не показывать правды, описал пагубные последствия его упорного запирательства и того несчастья, в которое он ввергнет и себя, и отца, и мать его. Видно было, что Гулак был тронут до глубины души, он плакал и, казалось, готов был последовать благим советам графа, но упорство превозмогло, и он остался при прежних ответах «Не знаю!» Тогда гр. Орлов дал ему три дня на размышление и предупредил его, что по истечении этого срока вся тягость закона падёт на него, и что тогда уже не будет никакой возможности облегчить его участь.
Засим послано к отцу Гулака письмо, в котором выражено всё упорство сына и предложено, чтобы отец написал от себя к сыну с убеждением открыть истину или даже сам приехал бы для его увещания.
В конце этого письма приказано Гулаку написать, и он написал, что слышал все увещания гр. Орлова. Наконец сообщено гр. Протасову о командировании в III Отделение способного и просвещенного священника для религиозного увещания весьма важного, но упорного преступника.
Поява у III Відділенні рукопису «Гайдамаків»
Марта 25
При отношении генерал-адъютанта Бибикова от 18 марта за № 909 было доставлено в III Отделение сочинение в рукописи «Гайдамаки». Эта рукопись рассмотрена и заключает в себе два рассказа самовидца – казака, бывшего в отряде кн. Любомирского, который начальствовал польскими войсками в Полонном, по всей вероятности, в конце XVIII столетия.
Первый рассказ о том, как войско кн. Любомирского окружило однажды шайку гайдамаков, или наездников, составленную под начальством казака Чуприны из запорожцев и других бродяг, и каким образом часть гайдамаков при сём случае спаслась, прорвавшись сквозь ряды поляков, а прочие, и в том числе Чуприна, погибли.
Второй рассказ о том, каким образом самовидец этот был послан кн. Любомирским разведать, где скрывается другая разбойничья шайка гайдамаков, грабивших окрестные места, под начальством казака Чертоуса, как он отыскал эту шайку, к ней присоединился, потом ушёл с ночлега для донесения кн. Любомирскому; наконец, каким образом кн.
Любомирский окружил гайдамаков в указанном месте и как они погибли вместе с Чертоусом от ядер и картечи польского отряда.
В юго-западных губерниях и Малороссии есть следующее обыкновение: во время ярмарок, когда собирается много народа, является непременно какой-нибудь старик, который рассказывает или поёт песню о каком-либо происшествии из истории борьбы казаков с поляками и татарами – другие слушают. Помянутые два рассказа принадлежат к этому роду. Сделан был вопрос Гулаку: не переменил ли он намерения упорствовать и, в таком случае, не желает ли, чтобы ему были даны письменные вопросы для написания истины? Гулак отверг эти предложения.
Распоряжение 24 марта о том, чтобы отец Гулака написал к сыну увещание и даже, чтобы он сам для того приехал, отменено, а писано только к отцу о непреборимом упорстве сына и о том, что этим упорством он увеличивает свою вину, а следовательно, и наказание.
Марта 26
…Сего 26 марта Гулаку опять был сделан вопрос: готов ли он показать истину и начертать оную письменно? «Остаюсь при прежних показаниях!» – отвечал Гулак.
Марта 27
По высочайшему повелению был истребован от гр. Протасова образованный и опытный священник для увещания Гулака. Для сего был избран протоиерей Малов.
27 марта Малов был допущен к Гулаку, и вот в чём состоит письменный отчёт Малова:
«Вид его, Гулака был печален, но не дик, взоры томны, но кротки и смиренны.
Когда я начал говорить ему, чтобы он открыл правительству полную и чистую истину всего того, о чём его спрашивают, он с тихостию ответил мне: «Нет, отец мой, я сделать этого не могу».
Когда я начал спрашивать о причине такой невозможности, он отвечал мне: «На сохранение сей тайны я дал клятвенное слово, которого никогда и ни за что не нарушу».
Когда я начал доказывать ему всем, что есть святого и досточтимого, что всякое честное, клятвенное слово, а особливо если оно дано в каком-либо преступном начинании есть явный грех и нарушение священнейшей клятвы, которая изрекается нами в верноподданнической присяге, он заплакал, заплакал горько, и отвечал мне: «Всё это справедливо, но я не могу».
Когда я спрашивал у него, что же это за тайна и в каком деле правительство хочет дознать от него истину, он отвечал: «Правительство это уже знает, впрочем, это некоторые несбыточные мечты, которыми увлекается иногда молодость, мечты сии сами бы собой разрушились, но, вероятно, кто-нибудь нас подслушал, и дело сие получило гласность». Я сказал ему: «Вы произнесли слово «нас подслушал!», следовательно, в вашем деле были и некоторые другие участники. Он отвечал: «Были, но по силе взаимной нашей клятвы я их не наименую никогда. Знаю, что я сильно оскорбляю Господа Бога, жестоко огорчаю моих родителей, но моё честное слово я сохраню, какая бы участь меня не постигла, я вполне предаюсь промыслу Божию».
В заключение всей беседы, которая сопровождалась непрестанным плачем, он сказал мне: «Отец! Удостойте меня святого причащения». На сие я сказал ему: «Если Вы сознаетесь всесовершенно в том, чего требует от Вас правительство, Ваше желание я исполню с радостию, но если продолжите Ваше упорство, сего сделать я не могу». При сих словах моих он зарыдал ещё более и сказал мне: «Если не для причащения, то хотя из христианской жалости навещайте меня».
Вообще в разговорах его я не заметил ничего сильно злостного и враждебного; все они сопровождались мягкостью и сокрушением».
Марта 28
Писано генерал-адъютанту кн. Долгорукову о доставлении сведений насчёт поведения, образе мыслей и благонамеренности родителей Гулака.
Составлен всеподданнейший доклад, в коем подробно изложены все сведения, имеющиеся доселе о Славянском обществе, допросы Гулака, имена соучастников его и степень прикосновенности их к обществу, распоряжения, сделанные к обыску и доставлению их в Петербург, и все меры, принятые к полному объяснению дела.
Предложено протоиерею Малову посещать Гулака в течение 28, 29 и 30 марта и дано наставление, чтобы он, Малов, продолжал кроткие убеждения, употреблял иногда и выражения строгие, доказывал бы Гулаку, что кроме преступления перед правительством и государем он согрешает и перед Господом, и описал бы ему всю важность, заключающуюся в его преступном упорстве.
На вопрос Малова, должен ли он о его посещении Гулака донести митрополиту, дано ему по этому предмету разрешение, но с тем, чтобы в донесении своём не входил ни в какие подробности, а донёс бы только, что был приглашён для увещаний арестанта, упорствующего в открытии истины.
Предписано генерал-лейтенанту Перфильеву подробно донести, что ему известно в Москве насчёт Славянского общества, об именах тех, которые слывут славянофилами, об образе их мыслей, занятий и обо всём, до них относящемся, а также не питают ли они каких-либо политических замыслов.
Справлялись в бывшей квартире Гулака, не был ли кто в оной, и не спрашивали ли о Гулаке…
Протоиерей Малов во второй раз посетил Гулака, объяснял ему обязанности христианина и верноподданного, толковал важность всеподданнейшей присяги и ничтожность перед оною данного им кому-то обета, говорил о его родителях и сёстрах. Гулак, по-видимому, был вполне расстроган, плакал и показал совершенную преданность Богу и всем постановлениям религии; но на все вопросы о тайном обществе и соучастниках отвечал: «Я дал обет Богу молчать, прав ли оный или неправ, я оного не нарушу. Я Вам сказал уже, что никакого открытия сделать не могу и связанный обетом, теперь повторяю Вам так же. Обет мой перед Богом, за мною его исполнение. Что Господь со мной ни сделает, моему обещанию я не изменю». Никакие убеждения Малова не могли победить его упорства.
Марта 29
Гулаку предложены были вопросы как о тех лицах, которых он посетил в С. – Петербурге, так и о тех, которые у него бывали.
На это Гулак ответствовал… посещали его только по старому знакомству, и он с ними не имел никаких разговоров, кроме самых общих; более же никто не бывал…
К обер-полицеймейстеру послано 15 руб. серебром для раздачи в награду тем нижним полицейским чинам, которые после арестования Гулака нашли брошенную им рукопись под заглавием «Закон божий».
Протоиерей Малов в третий раз был допущен к Гулаку, и в третий раз его убеждения оказались бесполезны…
Марта 30
Протоиерей Малов в четвёртый раз увещевал Гулака, но всё безуспешно. «Не могу, не могу, – сказал Гулак, – не по упрямству, а по силе моего обета…»
Апреля 1
Генерал-адъютант граф Орлов, прибыв в III Отделение, вновь лично предложил Гулаку словесные и письменные вопросы по всем предметам дела о Славянском обществе, но Гулак и словесно и письменно на все вопросы отвечал: «Не знаю!» Таким образом, он и при новом вопросе показал прежнее, ничем не преоборимое упорство.
За сим в ожидании доставления в С. – Петербург других арестантов, Гулак отправлен в Алексеевский равелин; а коменданту крепости сообщено, чтобы Гулака как закоренелого и доказанного политического преступника, увеличивающего вину свою необыкновенным упорством, содержали в равелине самым строгим образом, в совершенном уединении, не допуская никого к нему и не давая ему ни книг, ни других предметов развлечения.
Апреля 2
Генерал-адъютанту гр. Киселёву сообщено о немедленном арестовании и доставлении со всеми бумагами в III Отделение служащего в министерстве государственных имуществ чиновника Иславина, которого посещал Гулак.
Генерал-лейтенанту Адлербергу объявлено высочайшее повеление о сделании распоряжения, дабы все письма, кои будут пересылаться по почте к находящимся за границей Савичу, Кулишу и Чижову, были подвергаемы перлюстрации.
Представлена г-ну шефу жандармов записка, извлечённая из III Отделения, о том, что находящиеся за границею польские выходцы под руководством Адама Чарторижского ещё с 1845 г. замышляют также о соединении всех славянских племён в одно царство, полагая разделить оное на четыре штата:
1) Русско-славянский,
2) Польско-славянский,
3) Чехо-славянский,
4) Иллиро-славянский, с тем, чтобы каждый штат управлялся сообразно своим правам и обычаям, на либеральном основании, но под одним федеральным господством. В Париже учреждено с этой мыслью общество, называемое «Славяно-народное владо», которое рассылает своих агентов и старается разными другими средствами распространять свои замыслы. Хотя из дела о Славянском обществе св. Кирилла и Мефодия доселе не видно, чтобы члены оного были в сношениях с польскими выходцами, но весьма вероятно, то действия Парижского славянского общества подали мысль и нашим молодым людям, уроженцам Малороссии, мечтать о восстановлении прошлой вольницы на их родине.
Апреля 4
…Генерал-лейтенанту Кокошкину послано 200 руб. серебром, всемилостивейше пожертвованных частному приставу Юнкеру в награду деятельности и распорядительного поступка его при отыскании после арестования Гулака рукописи «Закон божий». В то же время упомянутая сумма, по высочайшему повелению, потребована от министра финансов на известное и. в. употребление.
Апреля 5
Всеподданнейший доклад о Гулаке, с относящимися к оному приложениями, был препровождён к г-ну военному министру, который по прочтении возвратил сии бумаги.
Составлена для г-на шефа жандармов записка о степени прикосновенности к делу о Славянском обществе Кулиша.
Апреля 6
Генерал-адъютант Бибиков доставил донесение к нему гражданского губернатора Фундуклея480 и попечителя Киевского университета генерал-майора Траскина насчёт осмотра бумаг тех из лиц, прикосновенных к делу о Славянском обществе, которые находятся в Киеве.
Из сих лиц бывший студент Маркович выбыл из Киева и должен находиться в Переяславле, но осмотрена была квартира его, в которой оказались бумаги, несколько сомнительные, почему в Переяславль послан чиновник для арестования Марковича. Адъюнкт Костомаров при обыске у него бумаг сам предъявил кольцо с надписью св. Кирилла и Мефодия и сделанный им перевод одного места их революционного польского сочинения. В двух письменных показаниях своих Костомаров объяснил, что кольцо им изобретено, но только из уважения к памяти первых просветителей славян, что подобные кольца носили ещё Гулак и Навроцкий, что он, Костомаров, в обществе этих молодых людей, а также Посяденко и Марковича иногда рассуждал о славянстве, что, не ручаясь за других, он не замечал в этих беседах и действиях никакого тайного общества и злоумышления, что упомянутый перевод из польского сочинения он давал списать Гулаку и в этом признаёт себя виновным. Между бумагами его найдены некоторые, относящиеся до славянства. Посему Костомаров вместе с бумагами отправлен в С. – Петербург.
Студент Андрузский выехал из Киева к родителям своим в г. Пирятин, а художник Шевченко не возвращался в Киев.
От студента Петрова требовалось объяснение, не имеет ли он новых сведений о Славянском обществе. Он показал, что сверх прежнего донесения ему известно только то, что Маркович и после того намерен продолжать свои действия в духе означенного общества.
Генерал-майор Траскин при этом случае просит оправдать его перед министром народного просвещения в том, что он по причине тайны настоящего дела не донёс об означенных распоряжениях.
Апреля 7
Государю императору благоугодно было повелеть, дабы шеф жандармов обо всём этом деле лично, без всякой переписки, объяснился с гр. Уваровым481».
Уже на сторінках першого зошита, в основному, присвяченого поліцейському стеженню та допитам арештованого М. І. Гулака, який тримався незламно, містяться показові деталі запопадливих жандармських намагань довести свою собачу вірність престолу:
Гулак, не зважаючи ані на неодноразові умовляння протоієрея Малова, ані на відчайдушний жандармський тиск, ані на особистий візит і спроби дістати від нього відомості самого начальника ІІI відділення О. Орлова, кінець кінцем відмовився відповідати на жодні запитання.
Благородна поведінка М. І. Гулака під час слідства
Стійка й самовіддана позиція Миколи Івановича Гулака викликає глибоку повагу й тим, що він брав на себе й ті речі, які аж ніяк не подобалися і каралися слідством і які робили його товариші по Товариству. Про один з таких прикладів згадував Микола Іванович Костомаров у своїй «Автобиографии», розповідаючи про очні ставки, що влаштовувалися жандармами:
«Мая 15-го созвали нас на очные ставки. Здесь увидел я студента Петрова, который наговорил на меня, между прочим, что я в своих лекциях с особенным жаром и увлечением рассказывал будто бы такие события, как убийства государей. На это я дал ответ, что, читая русскую историю, я не имел возможности заявить в своих чтениях того, в чём меня обвиняют, потому что читал историю древнюю, а в те времена кроме Андрея Боголюбского, умерщвлённого одною партиею, никто из князей не был убит народом и не происходило таких событий, о которых толкует мой обвинитель. Мой ответ был до того логичен, что не возбудил от моих судей никакого возражения. Здесь я встретил другого студента Андрузского, уже не в качестве обвинителя, но в качестве соучастника, по неизвестной мне причине привлечённого к следствию. Этот студент, молодой, низенького роста и с больными глазами, написал в своём обо мне показании множество самых ужасных и до крайности нелепых вещей, между прочим, обвиняя меня в намерении восстановить Запорожскую Сечь; но когда его показание было прочитано и я при нём объявил, что всё это ложь и бред больного воображения, он заплакал и произнёс: «Всё это ложь, я сознаюсь в этом».
Третья ставка была иного рода – между мной и Гулаком. Я писал, что дело наше ограничивалось только рассуждениями об обществе, и найденный у меня проект устава и сочинение о славянской федерации признал своими. Вдруг оказалось, что в своих показаниях Гулак сознавался, что и то и другое было сочинено им. Видно было, что Гулак, жалея обо мне и других, хотел принять на себя одного всё то, что могло быть признано преступным. Я остался при своём прежнем показании, утверждая, что рукопись дана была Гулаку мною, а не мне Гулаком. Гулак на очной ставке упорствовал на своём, и граф Орлов с раздражением сказал о нём: «Да это корень зла!» Впоследствии Гулак написал, что рукопись действительно была написана не им, так как, принимая чужую вину на себя, он уже не мог сделать никакой пользы другим. Тем не менее его попытка выгородить товарищей принята была за обстоятельство, увеличивавшее его преступление, и он был приговорён к тяжёлому заключению в Шлиссельбургской крепости на три с половиною года. Как бы ни судить справедливость или несправедливость наших тогдашних убеждений, подвигнувших нас на неосторожное и, главное, на несвоевременное дело, всякий честный человек не может не признать в этом поступке молодого человека этого порыва самоотвержения, побудившего его для спасения друзей подвергать себя самого страданиям наказания…»
А це покарання було найбільш суворим, якщо не говорити про далеко жорстокішу розправу над Тарасом Григоровичем Шевченком.
Костомаров зустрівся з Шевченком за дверима очних ставок
Під час допитів Гулака з’являється в Журналі слідства й прізвище Шевченка. Немає жодного сумніву, що вже тоді за ним пильно стежили жандарми. Про це свідчить запис від 6 квітня 1847 р.: «художник Шевченко не возвращался в Киев»482.
Костомаров не мав очної ставки з Шевченком, але він зустрівся з ним, так би мовити, у прихожій цих ставок. «Из всех привлечённых к этому делу и в этот день сведенных вместе в комнате перед дверью той, куда нас вызывали для очных ставок, – згадував він, – Шевченко отличался беззаботной весёлостью и шутливостью. Он комически рассказывал, как во время возвращения его в Киев арестовал его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что он с детства не терпел косых, а когда-то жандармский офицер, знавший его лично во время прежнего житья в Петербурге, сказал ему: «Вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь, то-то запоёт ваша муза», – Шевченко иронически отвечал: «Не який чорт мене сюди заніс, коли не та бісова муза». «Не журись, Миколо, ще колись будемо укупі жити». Эти последние слова, действительно, через много лет оказались пророческими, когда последние годы своей жизни освобождённый поэт проводил в Петербурге и часто виделся со мной.
30 мая утром, глядя из окна, я увидел, как выводили Шевченко, сильно обросшего бородой, и сажали в наёмную карету вместе с вооружёнными жандармами. Увидя меня в окне, он с приветливой улыбкой поклонился мне, на что я также ответил знаком приветствия, а вслед за тем ко мне вошёл вахмистр и потребовал к генералу Дубельту»483.
7 квітня діяльністю Товариства зацікавилися на самих верхах царської влади: «Государю императору благоугодно было повелеть, дабы шеф жандармов обо всём этом деле лично, без всякой переписки, объяснился с гр. Уваровым.
По высочайшему повелению сообщено генерал-адъютанту Бибикову, дабы он приказал студента Петрова, который первый донёс о существовании Славянского общества, немедленно прислать в С. – Петербург в III Отделение, не в качестве арестанта…
Его величество повелел: «Ежели что важное будет открыто, прислать к его величеству сего же числа…»
Апреля 8
Генерал-адъютанту Бибикову объявлено высочайшее повеление, чтобы при допросах лиц, прикосновенных к делу о Славянском обществе, присутствовал действительный статский советник Писарев.
Генерал-адъютанту кн. Долгорукову сообщено высочайшее повеление об отправлении благонадежного сотрудника в Пирятин для осмотра бумаг и вещей студента Андрузского, и если в оных окажется что-либо наводящее сомнение, то отправить его с означенными бумагами и вещами в С. – Петербург, в III Отделение с. е. и. в канцелярию в сопровождении благонадежнейшего и верного чиновника под строгим контролем.
Апреля 9
…9 апреля в 10 часов вечера доставлен из Варшавы в III Отделение Кулиш.
Сейчас приступлено к обзору его бумаг. По рассмотрении части оных оказалось:
1. Рукопись, писанная рукою Белозерского, «Закон божий» на малороссийском наречии – это вполне та самая рукопись, которой два экземпляра найдены у Гулака.
2. Записка руки Кулиша, в которой исчислено, сколько и к кому послано книг под названием «Летопись Самовидца о войнах Хмельницкого» и «Украинские предания».
3. Рисунок, изображающий голову малороссиянина, отрубленную саблей и терзаемую орлом, а вверху рождающаяся луна.
На этом кончился разбор в ночь с 9 на 10 апреля. Между бумагами и письмами Кулиша есть много таких, которые с первого взгляда заключают в себе намёки и выражения весьма подозрительные, требующие внимательного и продолжительного рассмотрения.
Апреля 10
Фельдмаршалу князю Варшавскому сообщено высочайшее повеление о доставлении в С. – Петербург Белозерского.
К нему же препроводжено письмо, которое Кулиш писал к своей жене.
Окончено рассмотрение бумаг Кулиша и Белозерского и составлена из них подробная выписка.
Сверх объяснённых в журнале 9 апреля рукописи под названием «Закон божий», записки о рассылке к разным лицам книг, содержание которых относится до Малороссии и о каких-то «деньгах для добрых дел», наводящих сомнение, не имеет ли Славянское общество кассы, и рисунка, изображающего голову малороссиянина с сидящим на ней орлом и саблею под нею – в бумагах Кулиша и Белозерского найдено ещё много других, доказывающих несомненно, что лица сии принадлежат к одним из ревностнейших последователей идей славянизма.
Особенное внимание обращает на себя рукопись Белозерского в виде рассуждения, в котором доказывается, что народы, по завету Спасителя, должны быть свободными, и если некоторые находятся под властью государей, то это неестественное состояние.
Применяя мысли сии к славянским племенам, сочинитель продолжает, что они должны стараться освободить себя из этого положения и соединиться в общество. Здесь изложены и правила для действий того же смысла, как правила Славянского общества, только распространённые и усиленные ложными рассуждениями. Главным средством, по мнению сочинителя, должно быть распространение образованности в народе, и ещё предлагает он склонять к соучастию женщин, которые, как матери, могут иметь самое сильное влияние на детей своих. Вообще эта рукопись или послужила основанием устава Славянского общества, или есть истолкование его устава. Ещё замечено, что эта рукопись черновая, следовательно, не перебелена с другой, а сочинение того, кто писал её, – Белозерского. Принимая же во внимание, что в письме Марковича, найденном у Гулака, Белозерский назван «путеводной звездой к Вифлеему», рождается вопрос: не он ли есть зачинщик или один из главнейших действователей общества.
Далее найден проект просьбы к правительству о дозволении учредить в Малороссии за счёт пожертвований училища, преимущественно для казачьих сыновей, дабы преподавать им начальные науки и развивать между ними образование, сообразное низшему классу народа. Хотя эта просьба изложена в благовидных выражениях, но в ней проявляется та же скрытая мысль, что распространение просвещения есть средство возбудить народ к мыслям о свободе.
Между бумагами Кулиша и Белозерского оказалась и та статья о гайдамаках, которою, по донесению студента Петрова, члены Славянского общества надеялись возбудить в малороссиянах прежний воинственный свободный дух, а также несколько стихотворений на малороссийском наречии, сочинённых, как должно полагать, художником Шевченкою; в них говорится о страданиях, о пролитой крови, цепях, кнуте, о Сибири и прочее; они исполнены ненавистью к правительству и, вероятно, сочинены с тою же целью – посевать неудовольствие к властям в народе.
Несколько записок Кулиша о панславизме и возрождении народности, большей частью выписанных из сочинений бывшего профессора славянских наречий в Париже Киприана Робера; в них рассматривается идея о сродстве славянских племён, о соединении их в одно целое и средствах к этому соединению. Из одного же листка, писанного Кулишом, виден путь, по которому молодые люди дошли до идеи о славянстве. Сначала они, предаваясь учёным и историческим изысканиям, остановились на мысли возобновлять и поддерживать всё народное и древнее, а потом, более и более углубляясь в эту мысль, уже начали считать священными и достойными подражания одни старые обычаи и, наконец, присоединили к этому предположения политические, видя из истории древнюю вольницу некоторых славянских племён и не имея столько практических сведений в управлении народами, чтобы судить, до каких бедствий вольница может довести народы. Вероятно, этим-то путём Гулак, Кулиш, Белозерский и другие молодые люди от учёных трудов перешли к политическим злоумышлениям…
Из бумаг Кулиша и Белозерского ещё делаются известными несколько имён по Славянскому обществу: чиновник канцелярии киевского военного губернатора Ригельман484, ревностно следящий за успехами славянства, учитель Подольской гимназии Чуйкевич485, Максимович, Бодянский и другие. Хотя в писаниях их везде проявляется главная тема – любовь к славянству и особенно к Малороссии, но трудно решить, все ли означенные лица участвуют в политических злоумышлениях или некоторые только разделяют учёные труды славянофилов. В этих письмах несколько раз упоминается как подающий надежды тот дворянин Чижов486, который находится за границею, и о задержании которого по возвращении его в Россию уже сделано распоряжение.
Что же касается до Кулиша, то не одни большие бумаги и письма, но даже краткие заметки, где он обозначал адреса или предметы для памяти, показывают, что он предан идее славянизма и находился в связях с людьми неблагонамеренными. Замечая, с кем надобно ему повидаться за границею, он отметил между другими Фёдора Чижова и в Париже известного выходца Мицкевича. Даже жену свою он любит особенно за то, что она по рождению и образу мыслей вполне малороссиянка и знает наизусть стихи Шевченки.
Наконец, в напечатанной книге Кулиша под названием «Повесть об Украине»487, пропущенной цензором Куторгой, находится много мест, показующих, что он желал бы видеть другой порядок в государстве.
Описывая с восторгом дух древнего казачества, песни малороссийские, в которых выражается любовь к вольности, он старается показать, что этот дух не простыл и доселе таится в малороссиянах; изображает распоряжение Петра Великого и преемников его, вводивших благоустройство в Украине, в виде страшных угнетений и подавления прав свободы. Замечательно ещё, что на заглавном листе этой книги напечатано, что она составлена для детей старшего возраста. Словом, книга эта сочинена Кулишом, видимо, вследствие правил устава славянского общества – приготовлять восстание славянских племён распространением просвещения и воспитанием детей.
Для окончательных улик не оказалось у Кулиша только кольца и образа во имя св. Кирилла и Мефодия.
Выписка из бумаг Кулиша и Белозерского представлена его и. в.
В 11 часов вечера того же 10 апреля доставлен в III Отделение из Полтавы бывший студент Киевского университета Навроцкий.
При нём оказалось весьма мало бумаг, и те, кроме одной, состоят из писем, рассказов любовного содержания, ни в каком отношении не важным; одна же замечательная бумага – это стихи на смерть Пушкина сочинения Лермонтова, за которые он в 1837 г. был переведен из гвардии в Кавказский корпус.
Кольца и иконы во имя св. Кирилла и Мефодия не нашлось и у Навроцкого.
Перший допит Костомарова
Апреля 11
В ½ 2 часа пополудни привезен в III Отделение из Киева адъюнкт университета Св. Владимира Костомаров.
Господин шеф жандармов лично предложил Костомарову вопросы. Он ответствовал, что ему неизвестно было о существовании общества, но он слышал многие разговоры о славянстве, о соединении славянских племён и подобных предметах. Он обещал написать всё ему известное по этому предмету, что ему и дозволено, а между тем приступлено к разбору его бумаг.
В ½ 6 часа пополудни того же 11 апреля доставлен в III Отделение из Киева студент Андрузский, имеющий 19 лет.
В бумагах его, при поверхностном обзоре оных, найден проект, им самим писаный: «О достижении равенства и свободы, преимущественно в славянских землях». Также разные стихи, большей частью на малороссийском наречии.
Огляд паперів Костомарова
Апреля 12
Окончен разбор бумаг Костомарова. В них оказались:
1. Рукопись, называемая «Закон божий», переведенная им на малороссийское наречие, из Мицкевичевой «Pielgrzymka», но в ней нет ни воззваний к славянам, ни устава Славянского общества.
2. Три легенды о св. Кирилле и Мефодии, записки о панславизме и записка же о славянских народах. В этих бумагах выражены все мысли славянистов о важности и вольности славянских народов в древние времена, о необходимом стремлении их слиться в одно целое и о надеждах, что это слияние рано или поздно непременно совершится.
3. Пять писем Кулиша к Костомарову. Из них видно, что Кулиш выше всего считает свою Малороссию и только о ней одной думает, а Костомаров заботится о всех славянских племенах. От этого происходят между ними ссоры, и Кулиш, опровергая мнение Костомарова о незначительности языка и характера малороссиян, в запальчивых выражениях доказывает чрезвычайно великое значение Малороссии, пророчествуя, что пред этой страной падут все преграды и она достигнет своей вольности.
4. На нескольких листах малороссийские стихи возмутительного содержания и две книги стихов Шевченки, одна рукописная, хорошо иллюстрированная, а другая печатная. В стихах Шевченки также во многих местах проявляются вольные мысли.
5. Рукописная драма на польском языке без означения имени составителя…
6. Кольцо с надписью имён св. Кирилла и Мефодия и печать с вырезкой слов: «Иоанна гл. VIII, cт. 32». В этом стихе сказано: “И уразумеете истину и истина освободит вы”».
Про що дізналося слідство з паперів і допиту Андрузького
Слідство поспішало: «Того же 12 апреля окончено рассмотрение бумаг и студента Андрузского488. Между ними оказались:
1. Два проекта, составленные самим Андрузским; «О достижении возможной степени равенства и свободы, преимущественно в славянских землях». В этих проектах Андрузский сначала полагает оставить в России самодержавное правление, ограничив государя только законами, им же изданными; потом ограничить государя представительными властями (депутатами), допущением оппозиционных журналов и прочее; и, наконец, признавал, что лучше ввести республиканское правление. Относительно народных сословий он полагал сначала уничтожить дворянство и оставить одни производительные классы, купечество, цехи и земледельцев, присоединив к ним ещё духовенство; потом, не уничтожая дворянство, определить точные права дворян и принять меры к постепенному выкупу крестьян из крепостного состояния. Нижним воинским чинам он назначает 10-летний срок службы, а потом они должны быть по 5 лет дома и по одному лету в лагере, до конца 20 лет всей службы. В таком роде написаны проекты Андрузского – без системы, без твёрдых убеждений; сначала говорит одно, а там другое и везде сам себе противоречит. На вопрос: «Отчего это произошло?» – он отвечал, что старался составить лучшее, по его понятиям, государственное постановление и записывал в тетрадь всё, что ему приходило в голову.
2. Стихотворения самого же Андрузского, в которых он описывает мнимые бедствия малороссиян и угнетения, будто бы претерпеваемые ими от русских.
Андрузский показал себя самым откровенным молодым человеком. Нимало не скрывая собственных своих заблуждений и сам указывая в своих бумагах преступное, он с величайшим простодушием изъясняет готовность объявить всё известное ему о славянистах. При первом поверхностном допросе он объяснил, что в Киевском университете существует как бы эпидемия политическая: почти все студенты заняты мыслями о государственном преобразовании, и у многих находятся проекты разных конституций, что в Киеве Славянское общество имеет две главы – Костомарова и Шевченку, из которых первый принадлежит к умеренной партии, а второй – к неумеренным, что главное правило Шевченко: «Кто предан государю – тот подлец, а кто либерал – тот благородный человек», что славянисты разделяются ещё по племенам – на малороссиян, поляков и русских, но из них многочисленны только первые две партии, а из русских занимаются идеями славянизма не более четырёх или пяти студентов, что киевские профессора не подают студентам поводов к либерализму и читают лекции весьма осторожно, идеи же либерализма привозят к ним молодые люди из столиц, что в Москве считается главный корень славянизма, хотя там с этим не соединяют политических идей, а занимаются только исследованием древностей, наречий и историей славянских племён. Шевченко же распространил в Киеве то мнение, что и в Петербурге, и в Москве все следуют его правилу, то есть всех преданных государю называют подлецами, а либералов благородными людьми»489.
Апреля 13
Окончено рассмотрение показаний и бумаг Тулуба и Посяденки. Первый отозвался на все главные вопросы о славянстве незнанием, а прочие объяснения его не заключают ничего важного. Напротив того, бумаги Посяденки обращают на себя особенное внимание.
В одной записке Посяденки малороссияне размышляют, не лучше ли им пристать к полякам и, изъявляя опасение, чтобы от этого не было хуже, продолжают, что они будут помышлять о своей родине и готовы пролить за неё казацкую кровь.
В двух черновых просьбах, которые Посяденко полагал представить государю императору и одному из министров, он описывает бедствия малороссиян, выражает плач об их бедствиях и о потере свободы; по его словам, Малороссия есть самая несчастная страна в мире, и, между прочим, он намекает на то, что найдутся люди, которые за неё готовы положить жизнь свою.
В черновом письме к учителю Полтавской гимназии Боровиковскому490 Посяденко извещает его о составляющемся обществе. Из письма его видно, что общество предположено учредить в Киеве, что на первый раз уже имеются в виду 15 человек, что общество соберёт и будет иметь свои деньги, печатать на эти деньги сочинения, сначала историю Малороссии на малороссийском языке, при составлении которой принята будет в основание уже напечатанная на русском языке повесть об Украине, сочинение Кулиша491, потом священную историю и другие книги, что общество будет стараться распространить круг читателей означенных книг и образование в том же духе. Славянисты считают, что общество их распространится быстро, что на Полтаву можно надеяться ещё более, чем на Киев, а Чернигов пойдёт в этом деле ещё выше, что самая Москва не откажет им во внимании. И там Бодянский492».
Незламність Навроцького
14 квітня слідчі повернулися до показань Андрузького, які він дав, відповідаючи письмово на їхні запитання. Дубельт порівнював відповіді Андрузького з відповідями «колишнього студента» Навроцького493: «Навроцкий в своём показании ни в чём не сознался. Он утверждает, что если иногда слыхал от многих лиц рассуждения о славянстве, то единственно учёные, о тайном же обществе соединения славянских племён и государственном преобразовании будто бы решительно ничего не знает. Отрицая имеющиеся по делу против него показания, что он в Киеве в собраниях у Гулака разделял преступные разговоры собеседников, слушал чтение рукописи «Закон божий» и жаловался на недостаток средств к распространению идей её, Навроцкий и явную улику против него, собственное письмо его, в котором он говорит, что в Малороссии легко можно найти людей с таким горячим сердцем, что от одной искры вспыхнет любовь к родине и может сжечь целый свет, будто он говорил только о возможности найти в Малороссии достойных людей и об украинской поэзии.
Дубельт про показання заляканого Андрузького
Напротив того, Андрузский в показании своём, можно сказать, вылил всю свою душу. Нисколько не скрывая собственных слабостей и даже преступных намерений, этот молодой человек с откровенностью объявил о Славянском обществе, соучастниках и действиях их всё, что ему известно.
Вот сущность его показаний:
Славянское общество, начавшееся, кажется, в 1846 г., имело главной целью соединение всех славянских племён воедино по примеру Соединённых Штатов или нынешней конституционной Франции.
Головна мета товариства за Дубельтом
Русские не занимаются идеею славянизма. (?) Польские уроженцы имеют своей целью восстановить королевство по Днепр и Южную Двину; впрочем, и они ограничиваются одними словами и надеждами. Более же действовали малороссияне, которые желают восстановить гетманщину, если возможно, в независимости от прочих славянских племён.
Перевес в деятельности малороссиян был так велик, что Славянское общество почти потеряло из виду главную цель – соединение всех славянских племён – и заботилось только о Малороссии, восстановлении её народности, языка и даже независимости.
Первым средством к достижению цели своей общество признавало распространение образования в простом народе, образования в духе древней украинской свободы. Для этого оно намерено было заводить училища в волостях, перепечатывать старые и сочинять новые книги на малороссийском языке и издавать журнал. Для этого они собирали деньги, приглашая каждого к пожертвованию, взнос был значительный и не прекращался. Несмотря на это, средства общества были слишком малы: оно не могло издать не только журнала, даже альманаха, притом же усердие некоторых членов, сначала пылкое, иногда охладевало.
Вторым средством общество полагало примерять племена, исторически враждебные. С этой целью оно разыскивало акты, допускало всевозможные оправдания проступков одного народа против другого, извиняя их временем и обстоятельствами.
Последствием этого, по словам Андрузского, должен был повториться 1825 г. «Долго ли ходить на ходулях, – говорит он, – лучше, хотя хромать, да на своих ногах».
Різні течії в Кирило-Мефодіївському товаристві
Главные представители Славянского общества были умеренной партии – Костомаров и его последователь Гулак494, неумеренной – Шевченко и Кулиш.
Костомаров, сын малороссиянки и воспитанный в Украине, пристрастился сначала к малороссийскому языку, потом к истории Украины. Начитавшись о древней вольнице этой страны и о новых революциях в европейских государствах, он, естественно, перешёл к либерализму и неодобрению монархического правления. Врочем, он был не твёрд в своём направлении: то хотел издавать журнал в видах общества – и не издавал, то печатать старые книги и песни – и не печатал, то углублялся в историю или преисполнялся религиозности, забывая о Славянском обществе. «Может быть, – прибавляет Андрузский, – всё и уничтожилось бы, но судьбы определили иначе».
Гулак, друг Костомарова, в Дерптском университете напитался вольных мыслей, но слыл добрейшим человеком. Подробностей о нём Андрузский не знает.
Розповіді про Шевченка та його вплив на членів Кирило-Мефодіївського товариства
Шевченко из помещичьих крестьян Киевской губернии, кажется, выкупленный на волю государем великим кн. Михаилом Павловичем, воспитывался в Академии художеств, но сделался известен в Малороссии своими стихотворениями. «Его поэтическая слава, – говорит Андрузский, – гремела по всей Малороссии, его ставили выше Жуковского, надеялись иметь в нём своего Шиллера. Об нём все приверженцы Славянского общества имеют чрезвычайно высокое мнение, между прочим и потому, что он часто читал им стихи в вольном духе и пасквили. Он имел большое влияние на общество: с приездом его в Киев всё приостанавливалось. Даже в то время, когда «кутил напропалую по всей Малороссии», он письмами понуждал общество к деятельности. Всех монархистов он называл подлецами.
Кулиш, судя по выражению, сказанному им на вечере у Костомарова: «Эти мне кацапы», и по беспрерывным занятиям его историей Малороссии, ничего не хочет знать, кроме Малороссии. Характера он горячего, любит скорую деятельность и Шевченку признаёт величайшим поэтом».
Подальші суб’єктивні свідчення вкрай заляканого й знервованого Андрузького були потрібні жандармам для слідства, щоб дістати потрібний їм матеріал для покарання кирило-мефодіївців. Наводимо їх задля того, щоб читач дістав уявлення про атмосферу, яка склалася в слідстві щодо першого українського політичного товариства.
«Из последователей этих четырёх представителей Андрузским поименованы:
Белозерский, в полном смысле ученик Кулиша. Он был обязан в Полтаве распространять идеи общества.
Навроцкий, человек горячий, но без характера, придерживался того, кто громче кричит, и потому держался мнений Костомарова.
Маркович495 боготворил гетманщину и славянизм, собирал сказки, притчи, у него можно было заслушаться малороссийских песен.
Посяденко (он же Посяда), происходя из крестьян, задумал во что бы то ни стало облегчить положение этого сословия, ненавидит дворян, считая их притеснителями, и монархизм, как потворствующий оному. Впрочем, будучи души мягкой, он нередко уступал в спорах и соглашался действовать открыто, с помощью правительства. Вследствие этого он приготовил просьбы на имя государя императора и к министру финансов, намереваясь гласно высказать все злоупотребления местных начальств. Он более желал облагородить жизнь простого народа, нежели восстановить Малороссию. Негодуя на грубое духовенство, он, однако же, дорожит всем православным и предполагал шляхту-католиков обратить в православие, с предварительного разрешения правительства.
Пильчиков до отъезда в Полтаву бредил одной республикой, но в последние полгода только и слышно было, что он завёл в Полтаве маслобойню…
О себе Андрузский говорит, что он, начав с юных лет писать стихи, вовлёкся в возмутительные мысли от чтения стихотворений Шевченко, сначала он гнушался подобными мыслями, потом спорил против них, и наконец, мало-помалу привыкая к ним, усвоил их себе, так что после того не мог писать иначе, как в возмутительном духе. Это довело его до того, что он из всякого чтения извлекал одни дурные заключения и, считая, что «всё худо», вздумал составлять проекты конституции. «И я, – говорит Андрузский, – дитя, решился дать совет высокому царственному мужу, составить предположение и поднести ему, углубляясь более и более (в проекты), я незаметно отдалялся от своего доброго намерения, посягнул на титло законодателя и передо мной всё стало в ничто: царя ограничил, царя уничтожил… Неисповедимый промысел остановил меня над самой пропастью, время дало одуматься, и я рад бы слезами смыть строки, прежде написанные мной. Но да будет воля царская. Благословлю милующего и карающего благословлю; я заслужил кару»496.
Але нас цікавить в усіх цих показаннях, перш за все те, що і в них проглядається справжня провідна роль і місце Шевченка в діяннях Кирило-Мефодіївського товариства – саме те, що, ретельно аналізуючи незаперечні факти, відзначили серйозні й об’єктивні дослідники. Першим це зробив Михайло Петрович Драгоманов. Та розмова про нього – далі.
Зосередимось на матеріалах Дубельта. В той самий день, коли допитували Андрузького, III Відділення серйозно занепокоїлося подією, яка трапилася в Києві: «Всеподданнейше доложено государю императору относительно киевского генерал-губернатора, с приложением копии возмутительного содержания «К верным украинцам», которое было прибито в Киеве к забору одного дома. При этом случае его величество соизволил отозваться, что генерал-адъютанту Бибикову было бы нужно отправиться к месту его служения. Между тем Бибиков предупредил высочайшее желание и сам объявил, что предполагает немедленно ехать в Киев.
Бібікову доручено керувати освітою в Києві
Апреля 15
Вследствие представления генерал-адъютанта Бибикова, что отношения к нему Киевского университета не довольно определены и что в настоящее время между некоторыми лицами из малороссиян, учащими и учащимися в Киеве, открылось вредное направление, государю императору благоугодно было высочайше повелеть, дабы управление Киевским учебным округом на некоторое время было во всех отношениях подчинено генерал-адъютанту Бибикову под гласным наблюдением министра народного просвещения. Монаршая воля сия объявлена к надлежащему исполнению гр. Уварову и Бибикову.
… Кулиш написал ответы на последние 30 из предложенных ему вопросов…
… Генерал-адъютант Бибиков извещён, что он послал в Киев эстафету с предписанием о немедленном доставлении в С. – Петербург студента Посяденка.
Апреля 16
Рассмотрены и переведены с малороссийского на русский язык из числа стихотворений Шевченка: 1. «Кобзарь». 2. «Перебендя». 3. «Катерина». 4. «Тополь».
Далі російською мовою вміщено переказ змісту цих творів497.
Апреля 17
«Составлен свод показаний Кулиша на предложенные ему 79 вопросов.
Он не дал никаких фактов для объяснения Славянского общества, потому что на главные вопросы о тайном обществе, замыслах и действиях оного отозвался совершенным незнанием. В бумагах, привезенных им из Варшавы, оказалась и рукопись «Закон божий» с революционными в конце воззваниями и тетрадь преступнейшего содержания, в которой объяснены с доводами и убеждениями все правила Славянского общества, и проект учреждения школ для простого народа в Малороссии, и стихотворения возмутительного содержания, но он доказывает, что никогда не знает и никогда не видывал этих бумаг, и что они, быть может, принадлежат Белозерскому. Действительно, между бумагами Кулиша находятся многие и шурина его Белозерского, ибо последний в Варшаве жил с первым на одной квартире, и все бумаги их вместе доставлены в III Отделение.
Сколь ни невероятно, чтобы Кулиш, дружный с Белозерским ещё до женитьбы на сестре его и живший там на одной с ним квартире, не знал ни о бумагах, ни о преступных мыслях своего товарища, но Кулиш утверждает, что доселе не имел ни малейшего понятия о Славянском обществе и политических замыслах.
Такие решительные оправдания Кулиша тем более сомнительны, что в его собственных письмах, бумагах и даже напечатанных сочинениях находится много мест или весьма сомнительных, или почти прямо указывающих на какие-то замыслы. Несмотря на то, что Кулиш всему даёт истолкование в таком смысле, что означенные места вовсе не относятся ни до общества, ни до политических замыслов; все, по его словам, касается только литературы, исторических изысканий и других учёных предметов.
Например, слова в письме к Гулаку, которого он приглашал приехать в Петербург («здесь между Москвой и Петербургом решаются два великие современные вопроса»), Кулиш объясняет так, что в Москве учёные преимущественно занимаются славянской народностью, а в Петербурге общим европейским образованием, и это-то он называет великими современными вопросами! Под выражением: «Будет время, когда от одного звука трубы её (Малороссии) падут стены и твердыни, для разрушения которых вы считаете необходимым оружие», – он будто бы разумел малороссийскую литературу, от влияния которой помещики малороссийские сами даруют селянам своим свободу; слова «явятся новые из народа, явятся сердца святые, которым сама свобода внушит без науки любовь к родному, – он говорил будто о поэтах, кои могут родиться в простом звании; под «развитием племенных начал», под «зерном, брошенным в землю и пустившим уже глубоко корень», под «развитием, которое должно начаться в действователях и потом перейти к народу», – он разумеет язык, нравы и обычаи малороссийские, которые улучшаются от сочинений литераторов сначала в высшем, а потом в низшем сословии; – письма, где упоминается о заведении школ и сборе денег, – он объясняет так, что школы предполагалось заводить только для образования простого народа, без всякой цели, а деньги собирались для издания сочинений в пользу того же народа, и прочее. Дабы показать, сколь натянуты объяснения Кулиша, довольно привести ответ его на вопрос, для чего он записал в памятной книжке своей имя мятежника Мицкевича. Кулиш пишет: «О Мицкевиче я записал не с тем, чтобы видеться с ним, а единственно из свойственного путешественникам любопытства видеть всё за границей, от кого же я узнал о месте жительства его в Париже, того не помню».
Принизливе каяття Куліша
Как по некоторым предметам невозможно было показать себя совершенно невинным, ибо в бумагах и мыслях Кулиша находятся выражения, исполненные вольных мыслей, то здесь, сознавая вред, который может происходить от этих мыслей, он изъявляет полное раскаяние, объясняя, что всё это произошло от любви его к родине, что эта любовь, как он ныне сам видит, действительно, превосходила должную меру, увлекла его за пределы благоразумия и до чрезмерных надежд насчёт значения языка и народа Малороссии; что ныне, когда указаны ему упомянутые места, он сам с ужасом видит, что многое в них кажется злонамеренным, что, впрочем, высокие мысли о родине, доведшие его до неправильных суждений, никогда не вовлекали его ни в какие преступные замыслы, не ослабляли в нём любви к общему отечеству, России, и благоговейной преданности к государю императору. В заключение он клянётся, что не причастен к преступному направлению и что ему вовсе не известно было о существовании Славянского общества.
Неискренность Кулиша обязывает не упускать из вида при дальнейшем развитии дела новых улик против него, тем более, что он, по показанию Андрузского, не только участвовал в Славянском обществе, но был, вместе с Шевченкою, представителем неумеренной партии.
Господин шеф жандармов приказал уведомить господина наместника царства Польского о ходе дела насчёт Славянского общества, описав все подробности, открываемые следствием, и всех лиц, прикосновенных к делу. Приказание это исполнено»498.
Жандармські хмари нависають над Кобзарем
13 березня 1847 р. М. І. Костомаров писав Т. Г. Шевченку: «Приїзди у Київ, я запевне дізнався, що тебе вже наставлено наставником малярського іскуства в Університеті св. Владимира, у виді опита…
А віршей чом нема?
Швидше присилай друкувати»499.
Тарас Григорович і сам прагнув в Україну. Однак, тут його чекали не лише друзі, зокрема з названого товариства, головним осередком якого був Київ. Але «не так сталося, як гадалося». В справу втрутилася всемогутня царська охранка. Арештованого в Києві Шевченка привезли до Петербурга.
Того ж таки 17 квітня Дубельт занотував: «В 3 часу пополудни доставлен в ІІІ Отделение из Киева художник Шевченко со всеми его бумагами и к разбору оных тотчас было приступлено.
Бумаг у него не оказалось таких, которые бы прямо относились к Славянскому обществу и поясняли бы дело, равно и писем особенно важных, но стихотворения его заключают в себе самые наглые дерзости, устремлённые против государя императора и вообще русских, возгласы о мнимом угнетении малороссиян и возмутительные мысли о прежней свободе его родины500.
Впрочем, раскаяние это, – змушений визнати Дубельт, – ограничилось только в отношении стихотворений [Шевченка]; во всём же прочем, о Славянском обществе и участии в нём Шевченко показал упорное несознание, отзываясь, что ему не было известно ни о каких замыслах друзей его.
Знову Куліш
В описании показаний Кулиша опущено еще одно важное обстоятельство, относящееся до рисунка, с изображением отрубленной главы малороссиянина и сидящего на ней орла. По объяснению Кулиша, рисунок этот сделал он, но означает будто бы мысль одной из малороссийских песен, в которых говорится о падшем на поле боя казаке и орле, клюющем ему глаза.
Апреля 18
Господин шеф жандармов, сообщив генерал-адъютанту Бибикову, что правитель его канцелярии Писарев может отправиться с ним в Киев, просил объявить Писареву благодарность за труды, понесённые им при производстве в III Отделении исследования о Славянском обществе…
Адъюнкту Костомарову предложены 15 дополнительных вопросов, извлечённых из бумаг его и писем других лиц, кои представляют сильнейшие улики, что он был не только участвующим, но одним из главных действователей в Славянском обществе.
От генерал-адъютанта Бибикова получены показания, снятые в Киеве с студента Посяденка и бывшего студента Марковича, равно и бумаги последнего.
Посяденко, в дополнение прежнего показания своего, объясняет, что Костомаров ещё после пасхи 1846 г. говорил ему о предположении составить общество в духе славянском и читал несколько проектов вроде устава: что через несколько дней после того у того же Костомарова Гулак и Навроцкий, рассуждая о предполагавшемся обществе, говорили, что назвать его обществом св. Кирилла и Мефодия и придумать какой-либо символ.
По этому вопросу включён новый вопрос в предложенные Костомарову вопросы.
Маркович в показании своём ни в чём не сознался. Объяснил только, что он был знаком с Гулаком, Кулишем, Навроцким и у них встречал Костомарова, Белозерского, Посяденку и других, но разговоры их относились до одних наук и обыкновенных предметов жизни, кроме того, что иногда рассуждали о положении крепостных людей, необходимости эмансипации их, образования крестьян, издания для народа чтения и учебников, и что для последнего был сделан небольшой денежный сбор.
В бумагах Марковича же находится письмо Гулака и несколько писем Кулиша и Белозерского, наполненных теми намёками на замыслы, кои проявляются во всех их письмах, и тетрадки стихов возмутительного содержания.
Сверх всего обращают на себя внимание два новые лица: Тарновский (помещик Киевской губернии)501 и Затуркевич (чиновник Полтавской уголовной палаты)».
Тарновські в житті Шевченка
Родина Тарновських займає певне місце серед друзів та прихильників Тараса Григоровича. Взаємини її членів з Шевченком обіймають кілька десятиліть – від кінця 1830-х років до останніх днів життя поета. Про початок їх знайомства розповідає П. І. Мартос: «В то время был в Петербурге Григорий Степанович Тарновский502, с которым я познакомил Шевченко»503.
«Взаємини між поетом-художником і моїм прапрадідом, – пише Яків Васильович Тарновський504, – дали початок тій дружбі, яка розвинулася пізніше між славетним Кобзарем і моїми найближчими предками. Всі вони познайомилися з ним у домі Григорія Степановича».
Знайомство з Тарасом Григоровичем Шевченком відбулося в 1839 році, тоді, коли українська аристократія та інтелігенція почала їздити в С. – Петербург. Хоча Кониський пише, що поета познайомив з Тарновським Мартос 1841 року, проте це не так. За словами В. В. Тарновського (молодшого), поета познайомив з Григорієм Степановичем художник Василь Іванович Штернберг, товариш Шевченка по Академії мистецтв. Штернберг був уже багато років знайомий з Григорієм Степановичем і не раз приїздив до маєтку Тарновського в Качанівці Борзнянського повіту Чернігівської губернії. Знаючи любов Григорія Степановича до всього, що стосується науки й мистецтва, він і познайомив поета з великим українським меценатом.
О. Кониський пише про Григорія Степановича 1841 року: «Йому тоді було років під 50, дітей у нього не було, в годованках у нього була небога, і в одну з них закохався був Штернберг. Тарновський любив товариство художників, письменників, учених і артистів.
Чимало їх, і між ними Глинка, знаменитий музика, бували в Качанівці, маєтності Тарновського, де в нього був чудовий, розкішний будинок і невимовно гарний парк».
Про самого Григорія Степановича він пише: «Тарновський належав до тих українських поміщиків-дуків, що хоч трошки пам’ятали свій національний родовід і не цуралися ідей національно-демократичних, звісно, настільки, наскільки їм дозволяло панське походження». В іншому місці, кажучи про князя Михайла Григоровича Рєпніна, він зазначає: «…він належав, як і Грицько Тарновський, до тих українських панів, що вміли єднати свій аристократизм з новим прямуванням і з властивим Україні демократизмом».
«Близькість між поетом і Григорієм Степановичем не була аж надто велика в розумінні симпатії, незважаючи на ті дружні слова, що їх ми читаємо в листах до мого прапрадіда; поет ставився до Тарновського, скоріше, негативно, судячи по тому, що він пише багато років потому у своєму «Художнике»: «Ещё познакомил он (Штернберг) меня в доме малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии. Я редко там бываю и то, собственно, для Штернберга. Не нравится этот покровительственный тон и подлая лесть его неотёсанных гостей, которых он кормит своими роскошными обедами и поит малороссийскою сливянкой»505.
Усвідомлення своєї гідності – це досить поважна звичка. У самого Гигорія Степановича вона не ґрунтувалася на самому лише багатстві. Він служив спочатку у Міністерстві внутрішніх справ… а в 1835 р. став камер-юнкером з наданням звання статського радника, бо чин не відповідав камер-юнкерству, а камергерства він не домагався… Важко припустити, щоб Селецькому506, коли він писав свої спогади, все те не було відомо. Отже, він писав неправду, знаючи про це заздалегідь.
Повернімось тепер до стосунків між Тарасом Григоровичем Шевченком і Григорієм Степановичем Тарновським. Стосунки, що виникли через це знайомство, відображено у двох-трьох листах поета до Григорія Степановича, які збереглися в шевченківській колекції Василя Васильовича Тарновського (молодшого)507.
26 березня 1842 р. Шевченко писав з Петербурга: «Григорий Степанович!
Я думаю, вы меня хорошенько побранили за Гайдамаки. Было мне с ними горя, насилу выпустил цензурный комитет, возмутительно да и кончено, насилу коекак я их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились. Посылаю вам три экземпляра, один возьміть собі, другий оддайте Николаю Андреевичу maestro Маркевичу, третій Віктору Забілі508 на заочне знакомство. По вашему реєстру я поручил Н. М. Корбі509.
Ваш покорный слуга Т. Шевченко.P. S. Трохи-трохи був не забув. Я чув, що в вас є молоденькі дівчата. Не давайте їм, будьте ласкаві, і не пожалуйте мої Гайдамаки, бо там є багато такого, що аж самому сором. Нехай трошки підождуть, я їм пришлю Черницю Мар’яну, к Великодню думаю надрюкувать. Це вже буде н е возмутительное.
Ще раз P. S. Поправляйте, будьте ласкаві, самі граматику, бо так погано видержана коректура, що цур йому»510.
Трепетне ставлення Шевченка до жіноцтва
Український поет, котрий усе життя ставився цнотливо до честі дівчини і не бажав заплямувати її скромності, злякався, що його «Гайдамаки» потраплять до рук молоденьких небог Григорія Степановича і забаламутять їхні непорочні чисті душі «Не давайте їм, будьте ласкаві, не показуйте мої «Гайдамаки»! Вся прекрасна душа поета відбилась у цьому поклику. І справді, все, що читаєш у спогадах різних людей про Т. Г. Шевченка, зокрема, К. Юнге, яка була тоді ще підлітком, змальовує поета як людину, що не обмовилась жодним цинічним словом і не вчинила нічого осудливого. К. Ф. Юнге511, згадуючи свої зустрічі з Тарасом Григоровичем, пише, що світлими північними ночами сім’я Толстих (Юнге – за дівоцтва графиня Толстая) їздила з Шевченком на морське узбережжя. «Тут і пили, й співали. Коли б Шевченко дозволяв собі щось зайве або непристойне, то це, безумовно, коробило б мою матір і мене. Протягом двох років, за незначним винятком, я бачилася з Шевченком щодня й жодного разу не бачила його п’яним, не чула від нього жодного брутального слова і не помічала, щоб він у спілкуванні чимось відрізнявся від решти добре вихованих людей».
Майже те саме пише випадковий учень Т. Г. Шевченка Суханов-Подколзін: «У домі моєї сестри, де Шевченко часто обідав, подавали багато різного вина, та він ніколи не бував напідпитку. Відвідуючи Шевченка, де я часто засиджувався подовгу, мені ніколи не доводилося бачити його п’яним, жодних цинічних витівок він собі не дозволяв, жодних брутальних висловів не вживав. Чи можна припустити, щоб моя мати, жінка розумна і світська, зважилась відпускати мене, чотирнадцятирічного хлопчика, про якого було б відомо, що він п’є».
Таку саму оцінку морального обличчя Шевченка зустрічаємо і в М. Костомарова та Л. Жемчужникова. Між наведеним вище листом до Г. С. Тарновського і наступним минає більше року. Сталася, мабуть, якась запинка у стосунках поета з Григорієм Степановичем і загалом з його українськими друзями. Мовчанка Тарновського була спричинена, можливо, його серйозною хворобою, а, можливо, чимось іншим. Принаймні мовчання Григорія Степановича засмутило поета, і лист, написаний ним із С. – Петербурга 25 січня 1843 р. це засвідчує. Листа написано, ймовірно, у відповідь на лист Григорія Степановича.
«С. П. – бург, 25 января 1843.
Спасибі вам, Григорій Степанович, що ви мене таки не забуваєте, ще раз спасибі. А я вже думав, що мене всі одцурались, аж бачу – ні, єсть ще на світі хоч один щирий чоловік. Чув я, що ви нездужали, але думав, що так тілько, звичайно, по-панському. Аж як розказав мені Дараган512, то я аж злякався. Слава Господові, що минуло, цур йому, щоб і не згадувать. А ось що шкода, що ви сю зиму не приїхали, у нас була виставка в Академії і дуже добра. А тепер дають Р у с лана і Людмилу.Тащотозаопера, так ну! а надто як Артемовський співа Руслана, то так, що аж потилицю почухаєш, далебі правда! добрий співака, нічого сказать. От вам і все, що тут робиться. Василій Іванович вернувся із Італії ще товщий, як був і розумніший і добріший, дякує вам і кланяється. Карл Павлович байдики б’є собі на здоров’я, а Осада Пскова жделіта.Михайлов513 кончив вашу картину добре. Штернберг пише мені, що він нездужав, але тепер вичуняв і вам кланяється, бо він дума, що ви в Петербурге. А я… чортзна-що, не то роблю що, не то гуляю, сновигаю по оцьому чортову болотові та згадую нашу Україну. Ох, якби-то мені можна було приїхать до солов’я, весело б було, та не знаю, спіткали мене прокляті кацапи так, що не знаю, як і випручаться. Та вже ж як-небудь вирвусь хоч після Великодня і прямісінько до вас, а потім уже дальше. Ще ось що, намалював я се літо дві картини і сховав, думав, що ви приїдете, бо картини, бачте, наші, то я їх кацапам і не показував. Але Скобелєв514 таки принишпорив і одну вимантачив, а друга ще в мене, а щоб і ця не помандрувала за якимсь москалем (бо це, бачте, моя К а т ерина)515, то я думаю послать її до вас, а що вона буде коштувать, то це вже ваше діло, хоч кусок сала, то й це добре на чужині. Я намалював Катерину в той час, де вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село, у царині, під куренем, дід сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона, сердешна, тіль не плаче та підіймає передню червону запашчину. Бо вже знає, трошки теє… а москаль дере собі за своїми, тілько курява ляга – собачка ще поганенька доганяє його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака моя картина.
Коли вподобаєте, добре, а ні, то на горище, поки я приїду, а вже коли приїду, то не виганяйте місяць або другий, бо в мене на Україні, окроме вас, нема пристанища, а я вам що-небудь намалюю. Спасибі вам за ласкаве слово про дітей моїх Гайдамаків.
Пустив я їх у люди, а ніхто й спасибі не сказав. Може, й там над ними сміються так, як тут москалі зовуть мене ентузіастом, сиріч дурнем. Бог їм звидить, нехай я буду мужицький поет, то мені більше нічого й не треба. Нехай собака лає, вітер рознесе. Ви, спасибі вам, боїтеся мені розказувать про людей – цур їм, покоштував я вже цього меду, щоб він скис.
Бачив я вчора вашого хлопця рисунки, добре, дуже добре, тілько треба йому другого майстра, бо він тілько яблука і огірки малює, а це така річ, що серце не нагодуєш. А з його був би добрий маляр, бо воно хлоп’я до всього беручке. Обіцянку пришлю вашим дівчатам к Великодню, а може, й раньше, коли впораюсь. Тілько не ту, що вам писав, а іншу, по-московськи скомпоновану. Щоб не казали москалі, що я їх язика не знаю. Бувайте здорові, нехай з вами діється все добре, і не забувайте щирого вашого Т. Шевченка»516.
Як проводив перед засланням свій час Тарас Григорович
«Там, далеко в глибині величезного качанівського парку, серед білих беріз, стоїть самотній віковічний дуб. Від могутніх гілок його лягають на землю змієподібні тіні. Тиша й прохолода. А був час, коли тут линули звуки пісні, було чути сміх і лунала українська мова.
У нічній тиші, осяяній місячним світлом, сиділи й лежали довкола когось декілька чоловік і слухали його спів. Хто ж він, отой співак, чия пісня ллється в душу, і кого так уважно слухають всі присутні? Це – Тарас Григорович Шевченко! Його пісня чарівна, і нема їй рівних ні в столиці, ні в Україні!»
А ось що писав В. В. Тарновський (молодший) у статті «Качанівка», опублікованій у 1913 р: «З приводу співу Шевченка у спогадах М. Білозерського517 («Киевская старина», 1882. Жовтень. – С. 71) написано: «Мою матір особливо зачарував Шевченко своїм співом. Ходить було залою, заклавши руки за спину, опустивши задуману голову, шия зав’язана шарфом, вираз обличчя сумний, голос тихий і тонкий. Мати, бувало, плаче від його співу».
П. Куліш, згадуючи своє весілля 1847 року, на якому Шевченко був старшим боярином, розповідає: «Аж ось старший боярин, заклавши назад руки, почав ходити залою та й заспівав:
Ой, зійди, зійди, зіронька та вечірняя, Ой, вийди, вийди, дівчинонько моя вірная.Всі гості, почувши, як заспівав Тарас, стихли, ніби залишився сам співак. Та як він співав! Такого або рівного тому співу не чув я ні в столиці, ні на Україні! Від співу стихли розмови й між старшими, й між молодшими. З усіх кімнат посходилися гості, наче в церкву. Пісню за піснею співав наш соловейко, й справді ніби в темному лузі серед червоної калини. Тільки він змовкне, його знову просять заспівати, і душа поета перетворила весілля шанувальників його таланту на національну оперу, яку не скоро ще почують на Україні» («Хуторная поэзия»).
Про той спів на весіллі розповідає і дружина П. Куліша (Ганна Барвінок): «Про приїзд на наше весілля Т. Г. Шевченка обов’язково хотів знати Микола Данилович Білозерський518, і ми поспішили його повідомити, щоб він приїхав увечері.
Знаючи, що Шевченко недолюблює панів, але здавна захоплюючись його поетичними творами, він зайшов до зали мовчки і мовчки подав руку Шевченку. Микола Данилович сів, а ми, бажаючи розважити гостя, попросили Шевченка щось заспівати. Проте Шевченко несподівано вперся і, хоч кілька разів П. Куліш приступав до нього з проханням, співати відмовився. Пантелеймон Олексійович знітився і облишив його, звернувся з бесідою до Миколи Даниловича. Шевченко і далі розміреними кроками ходив з кутка в куток по залі і, коли ми вже зовсім не чекали, раптом заспівав козацьку пісню:
Ой, Морозе-Морозенку! Ти славний козаче! За тобою, Морозенку, Вся Вкраїна плаче!Здавалося, він ніколи не співав так досконало. Пісня його лунала залою, як, бувало степом. Він закінчив, і тут сталося щось небачене і нечуване. Микола Данилович швидко зійшов з місця, кинувся до Шевченка, обійняв його і заридав у нього на грудях. Шевченко ледве міг його заспокоїти. Все, що було в душах обох, рідне, заповідне, піднялося й вихлюпнулося в цих сльозах, в цих обіймах і риданнях. З цієї хвилини Мик. Дан. Білозерський ніколи не забував його і потім надсилав йому на заслання гроші»519.
Великий поет України, за родинними спогадами, любив уночі, під оцим дубом, збирати біля себе друзів та однодумців. І не лише пісня лилася тут річкою. Тут, у нічній тиші, подалі від чужих очей, лунали промови, які тоді могли чути тільки «ніченька темна» та декілька друзів, які мали б нести далі полум’яні заклики до повалення кріпацтва і сваволі.
Не раз зграя коршаків, надіслана адміністрацією, розшукувала в Качанівці «крамолу», проте завжди безуспішно. Мій прапрадід, незважаючи на його дивацтва, не займався зрадництвом – а де вже шукати, та ще й уночі, в глибині величезного парку.
Поет згідно з своєю обіцянкою приїхав до Качанівки влітку 1843 р., про що попереджав Григорія Степановича в листі, цитованому вище.
Він прагнув до любої серцю України, водночас якось боязко було потрапити туди і знову зіткнутися з пригнобленим рідним народом, побачити його пекучі сльози.
Чи був Шевченко в Качанівці до цього свого приїзду, тобто 1842 р., документальних свідчень немає. Але в нашій родині впевнено говорили, що він був там улітку 1842 р., хоча й недовго. Це переконання ґрунтується на тому, що того самого літа на прохання Григорія Степановича Олексій Васильович Капніст привіз Тараса Григоровича до Яготина, куди повернулися після тривалого перебування за кордоном князі Рєпніни, з дорученням написати портрет Миколи Григоровича Рєпніна.
Гадаю, що у зв’язку із замовленням портрета Шевченко міг бути наїздом у Качанівці. Про це короткочасне перебування і збереглася туманна згадка в нашій родині.
У своєму листі від 25 січня 1842 р.520 Шевченко пише, що в нього немає на Україні іншого пристановища, окрім Качанівки, але насправді вийшло інакше. Звістка про перебування у Григорія Степановича швидко розлетілася по сусідах, і кожний прагнув прийняти в себе вже дуже популярного на Україні поета. Качанівка стала штаб-квартирою Тараса Григоровича. Він виїздив до Закревського у Вейсбахівку, до де Бальмена у Лисновицю, Маркевича – в Турівку, Рєпніних – до Яготина та до інших, і знову повертався в Качанівку. Їздив частенько до князів Рєпніних, де жив досить довго і навіть зазимував. Уже наприкінці серпня – на початку вересня він переселяється до Яготина і там зимує. З вересня 1843 р. він уже не бачився з Григорієм Степановичем. Він віддав перевагу затишку і ласкавому ставленню, яким його оточили старий князь і його дочка Варвара Миколаївна, а не в Качанівці. За всіх його добрих, дружніх стосунків з Григорієм Степановичем, цей останній був йому несимпатичний.
Після відвідин Качанівки в липні 1843 р. Шевченко за життя Григорія Степановича більше там не бував. Навіть 1845 року, коли був у Василя Васильовича в Потоках, приїхавши і відвідавши друзів Лівобережної України, до Качанівки не заїздив.
Чи викликали арешт поета, висилка його до Петербурга, а потім жахливе заслання – в Григорія Степановича якесь співчуття – важко сказати.
Чи був між страдником-в’язнем і Тарновським обмін листами, невідомо, бо таких не виявлено. Якби був хоч щонайменший рядок співчуття, то Шевченко згадав би про нього в листах до Лазаревського і Лизогуба, але такого теплого слова, на жаль, не було.
Не хочеться думати, що мій прапрадід боявся себе скомпрометувати, написавши політичному в’язневі (що, звісно, не може бути поставлене йому за особливу заслугу), і тому не писав поетові на заслання. Так і увірвалися їхні взаємини.
Повернувшись із заслання, Тарас Григорович не застав уже Григорія Степановича живим – він помер наприкінці 1853 р.
В «Журналі» поета за час його перебування в Петербурзі жодного разу немає згадки про ім‘я його давнього знайомого, хоча приводів для цього було чимало. Зустріч з Юлією Василівною Смирновою, уродженою Тарновською, з М. С. Кржисевич, уродженою Задорожною, могла викликати розмови про минуле, про Качанівку і, звичайно, про її господаря. Та в «Журналі» про першу з них, тобто про Юлію Василівну Смирнову, як я вже згадував раніше, поет каже не особливо приязно і, мабуть, обмежився лише одним візитом… Своєї розмови з нею він не записав.
Про Марію Степанівну Кржисевич, уроджену Задорожну, Шевченко розповідає докладніше і частіше, хоча і в деяких записах ім’я Григорія Степановича не згадує.
Марина Степанівна Задорожна була, власне, якоюсь далекою небогою Ганни Дмитрівни Тарновської521. Вона рано вийшла заміж і поїхала до Петербурга, де з нею й зустрічався Шевченко. Особливу симпатію до неї виявляв Глинка, котрий познайомився з нею ще в Качанівці 1838 р., про що він згадував у своїх «Записках». Композитор, який щиро подружився з нею, характеризував її так: «Гарненька, весела і привітна панночка», і присвятив їй романс:
Не называй её небесной И от земли не отрывай!»М. П. Драгоманов – про Шевченка, українофілів та соціалізм
Ще наприкінці ХІХ століття М. П. Драгоманов вивчав тісний зв’язок творчості й діяльності Шевченка з Кирило-Мефодіївським товариством. Прагнучи правдиво й вичерпно відтворити життя й творчість поета-революціонера, притаманні йому думки й прагнення, зберегти для прийдешніх поколінь правду про поетичну спадщину Т. Г. Шевченка, М. П. Драгоманов ретельно дослідив вірогідні джерела 40-х років ХІХ ст.
Нагальна потреба наукового вивчення й висвітлення «Кирило-Мефодіївського» періоду життя й творчості Шевченка
М. П. Драгоманов – другий у часі та значенні після І. Я. Франка авторитет шевченкознавства – відзначав наприкінці ХІХ ст.:
«Не тільки молодий вік Шевченка, а й середній вік, коли він жив у Києві серед ліпших людей України, досі темний. А тепер заговорюють про те, чого навчивсь Шевченко в Польщі, од поляків, із польського письменства, – д. С(ір)ко говорить про те, що виніс Шевченко з пробування свого в Варшаві522 в часи повстання 1830 р. Маловідоме й життя Шевченка в Петербурзі, а також і те, чого він навчивсь на тих письменників російських, яких там знав, напр., як Бурачок, Жуковський і т. ін. Хоч би нам хто сказав, які книги в який час найбільше читав Шевченко тоді, як складавсь в ньому письменник і громадянин, коли вже не про те, з ким про що розмовляв і листувавсь, – то все-таки можна було б судити хоч скільки-небудь напевно про школу Шевченка в молодший вік і в середній.
В цей середній вік найбільше впливу над Шевченком мусили мати його київські приятелі 1845 – 1846 рр., далеко більш від його вчені, і його гостювання по Черніговщині й Полтавщині, де він мав багато приятелів між панством. На лихо, й про київський кружок, із яким Шевченко і був скараний, досі є тільки дві звістки, та обидві не підписані кимнебудь, на кого можна було б скластись. Ми вже зробили витяги з одної з тих звісток… Зваживши на те, як непевно трапляються в Росії закордонні видання, ми приведемо й тут той витяг із статті «Жизнь Куліша» у «Правді» 1868 р.523».
Зміст і призначення «Жизні Куліша»
«Ще бувши в Києві, – цитував М. П. Драгоманов, – звів Куліш докупи скількох приятелів; в сій-то невеличкій громаді зародилась перва думка – видання книжок, потрібних до самопізнання українського, і споруди простолюдних шкіл по панських добрах. Думка була нахилити до сього деяких панів-гуманістів і тим положити основу народній освіті на Україні. Частенько писав Куліш до Білозерського, та до Костомарова, та до інших, піддержуючи їх духа. А вони не такі були козаки, щоб їх підпирати. Вони осадили межи себе й Шевченка, здержуючи його завзяте бурлацтво.
Мета кирило-мефодіївців – об’єднати й визволити слов’янські народи
Раз по раз вони сходились і вели широкі розмови про всю Слов’янщину. Отоді ж то Шевченко понаписував високі свої твори «До мертвих і живих», «Шафарикові» й інші. Що вони проміж собою науковим способом говорили, то він виповідав поетичними образами, і з одного сього розумно, яким високим духом київська громада дихала. Обняла вона своєю думкою весь мир слов’янський і глибоко розуміла, що дух українського люду, більш ніж який інший, здоліє той мир у єдине живе тіло стулити. Віра Христова й історія слов’ян була їм світом і теплом до великого подвигу. Святе письмо вони всі добре знали і з великою шаною почитували. І стали вони на тій думці, що не на дипломатію потрібно слов’янам уповати; що до сього діла треба нових людей і сили нової, а тією силою повинна бути чистота серця, праведна освіта, свобода простого люду і християнська самопожертва. Щоб же всьому мирові було розумно, що тут Україна не поставлена альфою і омегою, признали вони своїми патронами всеслов’янських апостолів Кирила і Мефодія і назвали свою громаду Кирило-Мефодіївським братством. Найвиразнішим параграфом устава сього братства було приречено тільки тих приймати до себе, хто був знаний із непорочного життя й праведної освіти. Другим знов параграфом застережено, щоб у сьому ділі ніколи тим робом не ходжено, як у єзуїтів, що до своєї мети байдуже їм було про способи. Найкращим способом ширити свою проповідь уважали вони усне і печатне слово й добру науку дівчат як матірок і сестер тих діятелів, що мали колись вирости серед стуманілого люду й холодного лінивого панства. Тим-то вони постановили піклуватись, щоб на Україні постало якнайбільш письменного й тямущого жіноцтва. Не в централізоване государство замріяли вони скупити всі слов’янські народи, а в вільний союз під протекторатом російського імператора. А як імперія його доти не згідна була б притулити до себе слов’янської федерації, доки б не очистилась би з ганьби кріпацтва, то установлено було помалу-малу підготовляти й панів і уряд до зрозуміння сеї спасенної громадської потреби за поміччю науки й намови, а простий люд – до нової кращої долі за поміччю шкіл; розпочати ж се діло повинні були пани-гуманісти в своїх селах. Се ж то саме, що вславило царя Олександра ІІ вовіки по всьому світові, підняли були на себе люди убогі й не знані ще за його панотця, царя Миколая.
Угодовська позиція Куліша
Опасувались вони писати до свого приятеля Куліша про братство; давали тільки йому знати, що вони почасти розмовляють громадно на всякі поважні речі. А він їм на це відписував: «Хвалитесь мені словами, – та не матиме сили ваше слово, поки ви не заходитесь коло діла. Ділом вашим нехай би була щира праця над освітою самих себе й інших. Занедбайте політику. Сам собою настане час, що від вашого слова впадуть стіни єрихонські (?!)». Розуміючи, що Куліш туди ж манівцем простує, куди вони широкий шлях прокладають, і що діло їх, як уряд не зрозуміє його, станеться для них небезпечним, змовились вони не показувати Кулішу устави й до братства його не зазивати. Так же само й Шевченка держали вони оддалік щодо братства»524.
Прояв дещо дивного ставлення Драгоманова до Герцена
«Друге місце, де розказується про те ж «братство» київське, подається в тексті М. П. Драгоманова як де в чому цікава стаття «Украйна» в «Колоколе» Герцена (1880, № 61). Там читаємо ось що: «Пробуждение славянских народностей быстро отразилось в Украйне и подняло из летаргического сна народную мысль и чувство. Явилось стремление возродить умирающую под кнутом московским и штыком санкт-петербургским народность и воссоздать самобытную литературу.
Но идея панславизма принялась в Украйне совсем не так, как в Москве, где она проявилась или в стремлении уразуметь смысл тропарей и букварей, или в риторических похвалах старомосковской Руси, под которые боязливо прокладывалась всероссийскому престолу надежда простереть когда-нибудь царскую десницу на славянские народы и уготовать им вожделённую судьбу Украйны и Польши. В Украйне эта идея тотчас облеклась в светлую форму федеративного союза славян, где бы каждая народность сохранила свои особенности, при всеобщей личной и общественной свободе. Вместе с тем возникло убеждение, что только этим путём Украйна может подняться из упадка и сохранить свой собственный, столь несправедливо и безжалостно попранный образ. Молодые люди Харьковского и Киевского университета быстро стали проникаться этими идеями. Могло ли это ускользнуть от бдительных преследователей всяких идей при императоре Николае?
В 1847 г. в Киеве по доносу студента, жандармского сына Петрова, взято было под арест несколько лиц, принадлежавших к кругу малороссийских писателей, и в числе их народный поэт Тарас Шевченко, превосходные сочинения которого знают наизусть не только все читающие россияне, но и многие великороссияне и славяне. Всех захваченных притащили в III Отделение, где и засадили. Из их бумаг и писем оказалось, что все они проникнуты идеею соединения славян и любовью ко всем славянским народностям, и украинской в особенности, омерзением к крепостному праву и к религиозным и национальным ненавистям, и соболезнованием о невежестве народа. Вместе с тем некоторые письменно выражали мысль, что было бы очень полезно, если бы существовало учёное общество с целью сближать умственную деятельность славянских народов и распространять в народе просвещение. Что мыслью об этом обществе не соединялось намерение основать так называемое тайное общество, показывает то, что в бумагах обвиняемых найдено было порицание правила «цель оправдывает средства». Как при этих данных возможно было обвинить в политическом преступлении, когда общество существовало в предположении, а не на деле, и мысль о федеративном союзе славян представлялась только как идеал в будущем? Можно ли было за это обвинять и карать, да ещё так и как долго? Но что невозможно для простых людей, для Дубельта было возможно. Он тотчас увидел, что тут есть готовый материал для того, чтоб представить дело так, будто бы открыто тайное политическое общество, и окрестил сочинённое им общество именем Украйно-славянского!..
Николай Павлович – человек формы, давал больше значения противным ему идеям, когда они были облечены в формальность, поэтому уничтожить общество в его глазах представлялось великой заслугой: следовательно, Дубельт мог надеяться высочайшей награды и благоволения.
Под нравственною пыткою заключения в крепости принудили обвиняемых наклепать на себя, что действительно было общество; с своей стороны III Отделение дозволило им представить вымышленное общество в елико возможно извинительном свете. Таким образом, они написали, что их общество касалось только западных славян, а не почиющих под кроткою десницею всероссийского монарха, который один может освободить их из уз немецких и турецких. Как ни нелеп был вымысел, как ни противоречил всему, что находилось в бумагах арестованных лиц, однако дело слажено. Свежеиспеченные государственные преступники хотя и получили наказание, но растворённое отеческим милосердием. Некоторых, главнейших, засадили в крепость кого на год, кого на три года, а потом послали их на службу в великороссийские губернии; но и тех и других отдали под строжайший надзор полиции. Поэта Шевченко послали рядовым в Оренбург, а потом в Новопетровское укрепление…»525
Негідні прагнення приліпити на Шевченка тавро антиросійського сепаратиста
Обурлива, – надто м’яко кажучи, – розправа над поетом по-різному оцінювалася ще його сучасниками. Зупинимося спочатку на вивертах одвертих противників українського визвольного руху, які намагалися очорнити незламний інтернаціоналізм Т. Г. Шевченка, антиімперську програму й діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
«Наиболее видными из старших представителей украинофильства, – викладає свою версію знаний проповідник асиміляторства С. Щоголів, – были Костомаров, Шевченко и Кулиш. В 1846 году они образовали тайный панславистский кружок под именем Кирилло-Мефодиевского братства и в основу программы положили федерацию автономных славянских штатов, из числа коих назовём: 1) белорусский, 2) польский (этнографическая Польша), 3) западный малороссийский (часть Галиции и Юго-Западный край) и 4) восточный малороссийский. Кроме России, предполагалось пригласить также Чехию, Болгарию и Сербию. Все столицы (в том числе Петербург и Москва) упраздняются. Сейм собирается в Киеве, где резиденция и президента республики. По оценке М. Грушевского братство (иначе «Кружок Шевченко») противопоставляло самодержавному режиму идею свободной славянской федерации, это было возобновлением федеративных идей «Соединённых славян» 1820-х годов («Славянское собрание» в Житомире), но с тою существенной поправкою, что принцип национальной федерации проводился теперь и внутри восточного Славянства. Нас интересует, конечно, не самый проект дележа России, а та эволюция «украинофильства», которая повела его на путь политических комбинаций во вкусе варшавского Народного ржонда. Болгария и Сербия были за тридевять земель; Чехия в более тесных, чем ныне, немецких объятиях; членом славянской федерации предполагалось сделать и Кавказ, тогда ещё непокорённый. Практически дело сводилось, очевидно, к желанию дать автономию Польше и состряпать два гегемонных малороссийских штата. При ликвидации тайного кружка пострадали более прямодушные Костомаров и Шевченко; Кулиш сумел выйти почти сухим из воды…
Принадлежность Шевченко к братству, оспариваемая частью его биографов, ныне окончательно доказана Семевским (см. «Русское богатство». 1911. V – VI)»526.
«Щодо Шевченка, – зазначає М. П. Драгоманов, – то згода між галицькими народовцями, такими як дд. Партицький і Желехівський, і попівством зводиться на те, що Шевченко був і ангел і аггел. Та ж сама думка трошки інакше говориться в «Правді» і в листі д. Желехівського, – цебто, що не всі твори Шевченка зрозумілі і приступні для молодіжі і для народу… так саме як і Біблія, і що деякі твори апостола Русі-України треба залишити тільки для старших і для «спеціально студіюючих». Один Шевченко вийшов для посвячених, другий для профанів!
Так-то крутили на всі боки українофіли в Росії й Австрії свого пророка, аж поки його прокляв найбільший його приятель, а в Австрії його поділено на двоє. Так завше буває з «пророками», на яких їх обожателі не дивляться об’єктивно й історично, а тільки абсолютно.
Як же мало думали говорити про Шевченка навіть найрозумніші, найбільш звичні до історичного думання земляки його, показує напр., стаття д. Костомарова «Воспоминание о двух малярах», у якій ми читаємо такі слова: «Шевченко был избранник народа в прямом значении этого слова; народ как бы избрал его петь вместо себя… Шевченко сказал то, что каждый народный человек сказал бы, если б его народное чувство могло возвыситься до способности – выразить то, что хранилось на дне его души… Шевченко возвеститель народных дум, представитель народной воли, истолкователь народного чувства».
Те, що в д. Костомарова говорилось усе-таки світською мовою, те в Галичині вже просто перекладалось на церковну – і Шевченко звавсь і в промовах, і в телеграмах, які посилались в день його смерті, «святим мучеником, пророком і апостолом України-Русі». А звісно, що ніхто так не мучиться, як святі пророки й апостоли од тих, хто їм кланяється.
Починається з того, що кожне слово пророка стає святим, не розбираючи, коли, як, при чому воно сказане. Далі кожний вірний примазує до святих слів свої, святить словами пророка кожну свою думку, вибирає з тих слів що йому треба, перекручує їх. Появляється купа Петрів, Павлів, Симонів-волхвів. Тонкі люди з науки починають ділити науку на тайну і явну. Починається таке, що й справді святий не розібрав би, коли це якому вірному захочеться стати пророком, або привидиться йому Діоклеціан у жандармському мундирі. Тоді пророк стає посланцем не Єгови, а сатани, тоді ікона пророча летить у болото. Sic semper prophеtis!527»
Видатний український учений другої половини ХІХ ст. – за науковий історизм у вивченні життя й діяльності Т. Г. Шевченка
Лише справді наукове вивчення, а отже – знання епохи 40-х років ХІХ ст. дозволило М. П. Драгоманову дати переконливе наукове визначення активної участі та провідної ролі Тараса Григоровича Шевченка у революційно-демократичному русі середини ХІХ ст.
«Кожного чоловіка, кожного писателя, – відзначав він, – тоді тільки можна оцінити як слід, коли роздивимось на нього власне історичним, об’єктивним поглядом, та ще й на ґрунті тієї громади, в якій він виріс і працював. Таке досліджування «пророків» показує, що дійсно пророків, «всецелых выразителей народа» і навіть для одного «часу», ніколи й не було. Таке досліджування розбиває ідоли, старі мощі, та зате дає не тільки правдивий погляд на померших пророків, а ще й міцну нитку, щоб провести нас у будуче слідом не за особою, з усіма її часовими й особистими одмінами й хибами, а за думкою.
Отже, Шевченка ніхто ще так не дослідив історично й об’єктивно ні як поета, ні як громадського чоловіка. Та це не так-то й легко, бо близькі до нього люди не дали нам основи для такого досліду ні докладними звістками, ні навіть новим і добре впорядкованим виданням того, що він писав.
Празьке та наступні видання «Кобзаря»
Щоб далеко не ходити, спинимось на празькому виданню «Кобзаря», про яке говорять видавці як про повне, зроблене по власних рукописах Шевченка.
Перш усього те видання кидається в очі чудовим поділом на дві книги. Очевидячки, видавці прилагоджувались до російської цензури, виділяючи в першу чергу таке вже невинне, що вже ні до чого й причепитись. А коли й у раньших виданнях «Кобзаря», – в тім числі й у кожанчиковському (яке, певно, порядкував хтось із близьких Шевченкові людей), – стихи його поставлено зовсім не в часовому порядку, то тепер через поділ усього «Кобзаря» на дві книги: цензурну й нецензурну, стало вже зовсім важко вдержати порядок, як росли думки поета про те та се. Коли згадати, що, окрім такого поділу «Кобзаря» на цензурний і нецензурний, кожна книга празького видання пущена «з додатком споминок про Шевченка, Тургенєва й Полонського, Костомарова й Микешина», про які, як про щось основне, виголошується на передніх листах, немов вони прибавляють щодо ціни самого «Кобзаря» або прикривають його своїми крилами, – то це видання стане пам’ятником опортунізму, прилагоджування «духовних синів» Шевченка до російських казьонних порядків. Із найближчих людей до Шевченка знаходимо там споминки тільки одного д. Костомарова. Та й ті так мало дають для історії, власне духовного чоловіка – Шевченка, що дивуєшся, коли читаєш, напр., у д. Микешина: «Н. И. Костомаров мог бы дать самые точные разъяснения», а од д. Костомарова чуєш: «Я не могу похвалиться особенною с ним близостью, так что в этом отношении мне известны были лица, более с ним знавшие особенности его жизни». А споминів тих-то людей – і нема! В самого д. Костомарова про найцікавіше, про життя його з Шевченком у Києві і про їхнє товариство слов’яно-українське, не бачимо ні згадки. Глухо споминається тільки «отъезд» (!) Шевченка из Киева в генваре 1847 г.». Ясно, що цензура закувала перо славного історика й у Празі!
Нарешті, й тексти самого «Кобзаря» в празькому виданні напечатано без усякої системи. Перш усього не зроблено огляду тих текстів, печатних і рукописних, із яких зроблене видання, не сказано, які тексти взято за основні; не показано в кожному випадку, чому вибрано той текст, а не другий – хоч зате іноді бачимо, що в примітках показані мов одміни (варіанти), навіть помилки шарлатанської липської книжки «Путешествия Пушкина и Шевченки». Приглядаючись, можна догадатись, що основою для празького видання були кожанчиковське та львівське, до яких підбавлене нове з рукописів і по яким пороблені, тільки не скрізь, поправки по рукописах528. А як де, то взято за основу рукопис, а внизу поставлені одміни по печатним виданням, та тільки з такими неакуратними значками, що часом зовсім запутаєшся. Так, напр., про «Неофіти» сказано, що їх напечатано по рукопису, що зоставсь у д. Марковички з одмінами по львівському і кожанчиковському виданню. А під першою одміною показано: «Перш(ий) рук(опис)», далі «рук(описний) вар(іант)». Які це рукописи? Треба було сказати, тим паче, що й львів’яни кажуть, що їхнє видання (дуже нелагодне!) зроблене по рукописам, хоч вони напечатали, як Шевченкову, зовсім не його пісню «Ще не вмерла Україна», яка так подібна до Шевченкових, як «Душечки часок не видя» до Пушкінових. Словечка «перш. рукоп., рук. вар., льв. вид.» – або «перш. рукоп.», «справлено рукою Тараса Григоровича по власному рукопису» завше бачиш під одним (і) тим же текстом, а звідки взято самий текст, чи з першого рукопису, чи з другого, чи просто з власного рукопису, – не бачиш. Через це всі ці одміни не помагають тому, щоб точно прослідити хід думок і працю поета.
Окрім того, наскільки ми могли судити, наскоро переглянувши рукописи Шевченка тоді, як вони йшли на виставку в Прагу, не все з них внесено в нове видання. Та й у недавно випущеній першій книжці малесенького женевського видання «Кобзаря» є одна штучка, якої не знаходимо у празькому виданню. Далі і сам д. С(ір)ко в своїй статті приводить один вірш «не по празькому виданню529, а по новому рукописному варіантові» (стор. 64). Потім у цьому виданні нема ні «Дневника» Шевченкового, і ні його московських писань, яких після нього зосталось чимало.
Думаємо, що вказаного буде доволі, щоб сказати, що в нас нема і досі повного і акуратного видання Шевченка, і що приятелі його, а також ученики мусили б перш усього постаратись, щоб дати нам його, а також біографію Шевченка з його листами.
Місце й роль Шевченка в Кирило-Мефодіївському товаристві
«Мужик Шевченко стояв попереду вивчених приятелів, київських слов’янофілів, і гарячою громадською думкою, й таким же українством. До того, він більше їх бачив світа не тільки в мужицтві, а й у Росії взагалі.
Він бачив і Петербург із царем, бачив і панство, на яке братчики покладали надії. Не можна не звернути увагу на те, що «Сон», у якому Шевченко явно виступив проти царства, написаний був іще в Петербурзі, в 1844 р., до знайомства з Костомаровим (1845), який, звісно, мусив бути найголовнішим у київському слов’янолюбському кружку. Значить, є багато правди в словах земляка, як згадує д. С[ір]ко, що Шевченко приїхав на Україну з Петербурга з готовими думками про волю України від московських царів. Ми ж знаємо, що в Петербурзі Шевченко жив серед людей далеко більш його вчених, яких він явно поважав, та тільки далеко не республіканців. Хіба в Брюллова виривались слова досади на царя Миколая, який йому «покровительствував». Але звідси далеко було до того, що написано в «Сні». Ясно, що Шевченко в Петербурзі мусив був добиратись до своїх противуцарських думок більш «своїм умом», ніж за поміччю науки й більш його вчених людей.
Трохи не так само довелось йому й у Києві, де він коли навчивсь чого нового, то хіба трохи про слов’янство, про яке теж він став задумуватись іще в Петербурзі, згадуючи в «Гайдамаках», як-то гірко, що «старих слов’ян діти впились кров’ю». Можна навіть думати й по «Посланію», й по словам дд. Куліша й Костомарова, що в Києві Шевченко почав кидати «козаколюбство», не стільки навчившись історії України од вивчених знайомих і приятелів, скільки з досади на те, що вони величались «українськими Брутами й Коклесами». І тут півмужикові Шевченкові довелось добиратися до правди більш «своїм умом», ніж поміччю науки й учених приятелів.
Були ще люди на Україні, з якими водився Шевченко, окрім київського університетського кружка, була інша купа теж українофілів. То були пани на лівобічній Україні, серед яких Кобзар наш мав уже велику славу й ласку. І про цю кампанію Шевченка мало звісно докладно. Більш усього про життя Шевченка в Чернігівщині і Полтавщині в 1843 – 1846 рр. розказує лубенець Чужбинський-Афанасьєв. Там знаходимо таку картину розумових інтересів багатшого українського панства:
«В то время паны наши жили, что называется, на широкую ногу, и патриархальное гостеприимство не теряло ни одной черты из своего почтенного характера. Молодое поколение было уже более или менее образовано. Женщины высшего сословия, собственно молодые, все уже были воспитаны в институтах, пансионах или дома под надзором гувернанток, и французский язык не только не казался диковинкой, как в начале тридцатых годов, но считался необходимой принадлежностью всякой образованной беседы. Говорили на нём быстро и порядочно одни, впрочем, женщины, а кавалеры по большей части не умели вести разговора на этом языке, но каждый щёголь считал обязанностью пригласить даму на танец – непременно по-французски. Хотя у многих помещиков выписывались журналы, т. е. «Библиотека» и «Отечественные записки», но критические статьи Белинского оставались неразрезанными на том основании, «что в них всё начиналось от Адама», и жадно читалась летопись Брамбеуса, приходившаяся по плечу большинству публики: заучивались наизусть драматические фантазии Кукольника, и я знал одну очень милую барышню, которая могла проговорить без запинки всего Джакобо-Санназара»530.
Обстановка в Україні під час перебування Т. Г. Шевченка на батьківщині
Над таким ґрунтом піднімалось кілька панських родин, із яких великопансько-французьке навчання давало вже вищі парослі, що, дякуючи кріпацтву, що псувало панські натури лінню, та державним порядкам, які не давали путньому чоловіку робити що-небудь для громади, дуже калічились і ті люди, що вже набрались із Франції не самих мод і танців, а й вільних чоловічих думок. Ось як малює тих людей Чужбинський. Йдеться про «мочемордіє», про подвійний вплив якого на Шевченка йшлося вище».
Мабуть, цим пояснюється те, що вміщені в збірнику «Спогади про Тараса Шевченка» (К., 1982.) з матеріалів О. С. Афанасьєва-Чужбинського – до речі, перекладених і поданих, як і всі інші, українською мовою, – сюжет про «мочемордіє» не тільки не розглядається, а навіть не згадується. Очевидно, складачі збірника вважають, нібито вони більш старанно й вимогливо бережуть добру пам’ять про геніального поета, ніж видатний вчений М. П. Драгоманов, який аж ніяк не цурається того, що відчував і переживав Тарас Григорович, а намагається пояснити причини тих або інших обставин його життя. До речі, щирі друзі поета не лише переживали цю слабкість поета, а й не приховували перед ним свою відразу до неї. Переконливим свідченням цього є подальший сюжет:
«Тепер, читаючи такі оповідання, всякий здвигне плечима, коли не гірше. І справді, компанія для українського кобзаря неабияка! Тільки все-таки ми думаємо, що він дещо виніс із цієї компанії, окрім «мочемордія», яке, одначе, стало заїдати поета вже після перебування за Каспієм. Серед тих панів, із яких виходили «мочеморди», були люди, що все-таки, окрім щирого, нечиновницького серця, мали вже в голові деякі вільні думки, які зайшли з французькими книжками Гюго, Ламартіна і ін. Знали вони ціну і забороненій книзі, напр., Міцкевичевій. Були серед них і ті жінки, які зрозуміли Шевченка і на яких він завше покладав надію, що вони його оцінять (напр. С. А. З[акрев]ська531, авторка повісті «Институтка» в «Отеч[ественных] записках» і ін.). Були тут: і кн. Репнін, чоловік із породи декабристів і, мабуть, чи не автор «Истории русов», яка стільки мала сили над Шевченком; були тут і такі, яких цар Миколай послав на Кавказ, як гр. Яків Бальмен532, якому Шевченко присвятив свій «Кавказ», або такі, яких привозили в ІІІ Отделеніє за похвали французької республіки, як сам «високоп’янєйшество» В. З[акревськ]ий533.
Ми всмілюємось думати, що Шевченко наслухавсь вільних, сміливих, європейських думок од таких людей далеко більш, ніж од своїх університетських, київських приятелів, яким, видно по всьому, європейські, неспеціальні письменства були доволі чужими, – звісно, не систематичних політичних думок, а хоч гострих висмішок проти казьонних і церковних порядків. Ми думаємо, що й ці уривки з європейських політичних думок, які попадали в уха Шевченка од полтавських панів, були для нього корисніші, ніж уривки з Шафарика й Ганки, яких, певно, поет ніколи і в руки не брав, або «Славянская міфологія» д. Костомарова, запечатана церковними буквами, – всі ці речі, які мають свою ціну, та тільки на такому ґрунті, якого не було в тодішній громаді, а тим більше в Шевченка.
Шевченко висміяв українське панство, «котре перлось на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, братерства братнього», яке «залазило на небо» і казало «нема ні пекла, ні раю». І був він правий, коли лаяв їх за те, що вони «в Україну принесли з чужого поля великих слів велику силу, та й більш нічого», за те, що вони «кричали, що Бог создав нас не на те, щоб ми неправді поклонялись», та все-таки «хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерли з братів незрячих гречкосіїв» і т. ін. Та все-таки, коли ми порівняєм сих панів не тільки з петербурзьким кружком «Маяка», в який пішов Шевченко за тими земляками, що йшли за Квіткою або й самими євангельськими слов’янцями київськими, то мусимо сказати, що дехто з того панства хоч би одними «великими словами, привезеними з чужини», прислуживсь і самому кобзареві, бо й він через кілька часу став говорити багато такого, за що колись сердивсь на своїх панів-земляків.
Тільки все-таки в цій школі українського панства, та ще й при «мочемордії», Шевченко ще менш міг навчитись чого-небудь систематично, ніж у компаніях київських слов’янщиків. І тут він ще більше підхоплював самі зернятка нових для себе думок, а часом слів, та «мотав собі на уса», та перероблював собі «своїм умом», іноді так не до ладу, як це робив він із «німецькою мудрістю», написавши в своєму беззв’язному й далеко не так мудрому, як звичайно думають, «Посланію до земляків» таку нісенітницю, як: «А то залізете на небо: І ми – не ми і я – не я! І все те бачив, все те знаю: нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я, та куций німець узловатий, та й більш нікого…» (??!) Ще більш звисока мусив дивитись Шевченко на панів українських, ніж на київських Колларів. Ані ті, ні другі, кожні по своїй причині, не здібні були систематично навчити Шевченка».
АРЕШТ ТА УВ’ЯЗНЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Гарячкові пошуки творів Шевченка
Царські владці, розуміючи вагомий вплив революційної творчості Шевченка, робили все, щоб дістати підстави для якнайсуворішого покарання поета. Вони прагнули знайти компромат на арештованого у листах, якими Шевченко обмінювався з іншими кириломефодіївцями. Під час слідства 6 травня 1847 р. Бібіков надіслав таємне розпорядження губернському поштмейстеру: «Прошу ваше высокоблагородие все получаемые с почтою письма на имя: преподавателя в университете св. Владимира Николая Костомарова, художника Шевченка и студентов: Посяда, Андрузского, Афанасия Маркевича, Тулуба, – доставить ко мне, так как лица сии арестованы»534.
Після арешту 5 квітня було затримано вихід збірки творів Шевченка «Три літа», в якій містилося 24 твори535, а також нотатки, зроблені Тарасом Григоровичем під час подорожі Україною за дорученням Київської археографічної комісії536.
Прикметний обмін листами між начальником III Відділення та тодішнім президентом Академії мистецтв герцогом Максиміліаном Лейхтенберзьким вже через тиждень після арешту Тараса Григоровича. 12 квітня Орлов повідомляв і запитував: «Честь имею довести до сведения вашего императорского высочества, что художник Шевченко учился в Академии художеств и, сколько известно, занимался живописью под руководством профессора Брюллова. До 1845 г. был в С. – Петербурге; в том же году прибыл в Киев и изъявил желание поступить в университет преподавателем рисования, в каковую должность назначен министром народного просвещения в начале нынешнего года, но ещё в оную не вступил.
Докладывая о сём вашему им(ператорско)му высочеству и встречая необходимость иметь о Шевченке ближайшие сведения, долгом считаю покорнейше просить удостоить меня, сколь возможно, поспешнейшим уведомлением, как о том, не находится ли означенный Шевченко и ныне при Академии, так и о мнении на его счёт ближайшего его начальства»537.
Герцог відповів вже 14 квітня: «Вследствие вопроса в записке вашего сиятельства от 12-го сего апреля о художнике Шевченке, мне сделанного, сим ответствую, что художник Шевченко учился в императорской Академии художеств художеству с 1838 по 1845 год, в котором году признан художником и с того времени, занимаясь свободно искусством, от Академии не зависит.
К сему нужным считаю присовокупить, что Шевченко имеет дар к поэзии и на малороссийском языке написал некоторые стихотворения, уважаемые людьми, знакомыми с малороссийским языком и прежним бытом этого края; почитался он всегда человеком нравственным, быть может, несколько мечтателем и чтителем малороссийской старины, но предосудительного на счёт его ничего не доходило до сведения Академии»538.
Жандармське «резюме»
17 квітня 1847 р. датована перша реляція вищої жандармської установи про головні підстави тюремного ув’язнення поета та початку слідства: «17 апреля, в 3 часа пополудни, доставлен из Киева в ІІІ Отделение художник Шевченко, со всеми его бумагами. К разбору оных тотчас было приступлено…
Из бумаг его обращают на себя внимание стихотворения его и только частью письма.
Замечательнейшие из них суть следующие:
1. Рукописная книга стихотворений самого Шевченко. Особенно два стихотворения, первое и называемое «Сон», исполнены противозаконных и возмутительных мыслей.
В стихотворении «Сон» Шевченко представляет себя заснувшим и перенесенным сначала в Сибирь, потом в Москву и, наконец, в С. – Петербург. В Сибири он видит преступников в рудниках и цепях, гибнущих под ударами наказаний; в Москве описывает изнурение войск на параде, а в С. – Петербурге – собрание во дворце. Нигде клеветы его столько не дерзки и не наглы, как при описании дворцового собрания. В этом собрании, по его словам, ждали государя императора с трепетом, и когда он вышел «Ось і сам високий, сердитий виступає», все вельможи, молча, окружили его; разговор шёл об отечестве, петлицах и последних манёврах; каждый старался стать ближе к императору, чтобы удостоиться получить от него пощёчину или хотя полпощёчины: государь подошёл к самому старшему, ткнул его в лицо; вельможа со своей стороны ткнул следующего за ним, этот – следующего, и таким образом толчок сверху обошёл всех от первого до стоявшего у дверей, а в собрании раздалось: «ура, ура, ура!». В другом месте козаки у него выражаются: «От царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспіде неситий!»
Шевченко прибегает ко всем едким и пасквильным выражениям, как только доходит до государя императора… В конце «Сна» он представляет себя перед памятником, воздвигнутым Петру І-му Екатериною ІІ, и изливает свою желчь как на того, так и на другую…
2. Тетрадь стихотворений Шевченко незамечательного содержания.
3. Два листочка стихотворения и в его же духе.
4. Стихотворение, писанное кем-то другим, в котором говорится, что «Украина спит в развалинах, главные гетманы умерли в муках, заклёпанные в кандалы», а в конце род плача об Украине.
5. Стихотворение Чужбинского, в котором также говорится о погибшей козацкой славе, о кандалах, и присоединена просьба «Про козацтво не забудьте».
Стихотворение Виктора Забелы; он описывает в виде пасквиля секретаря Академии художеств Григоровича, сочинителя Торквато Тассо (вероятно, Кукольника), какого-то медальера и самого Шевченко.
6. Стихи Андрузского (о которых он сам упоминает в своём показании), поднесённые им Шевченко; в них также говорится о погибшей будто бы Малороссии.
7. Четыре письма Кулеша к Шевченко.
8. Письмо Штрандтмана к Шевченко, в котором первый называет второго «остатній з козаків».
9. Письмо Михайла Карпо к Шевченко: первый, называя второго: «Отамане наш», приглашает его к себе попировать и говорит: «мы на квартире у Матвеева, молоденького кацапчика».
10. Два письма к Шевченко уже умершего литератора Григория Квитки (Основьяненко)»539.
Термінова нарада начальників охранки й освіти
Відтоді власті вживають ретельних заходів, щоб приховати від громадськості свій острах перед полум’яною творчістю поета. Головна роль у цьому – III Відділення. 1 травня його начальник зустрічається з одним з найзатятіших стовпів царської реакції, головним у галузі «народної культури» – президентом Російської Академії наук і міністром освіти С. С. Уваровим.
Ось повідомлення Орлова про цю зустріч, яку завершує Примітка: «Были читаны в доме гр. А. Ф. Орлова министру просвещения и его товарищу 1 мая». Зроблено таке було, зрозуміло, за ініціативою самого Орлова: «К министру народного просвещения было бы нужно препроводить:
1. Три печатные книги Кулиша.
2. Печатную книгу стихотворений Шевченко.
3. Тетрадь «Закон божий».
4. Рукопись, служащую как бы пояснением устава Славянского общества.
5. Листок о панславизме, писанный Костомаровым, и три листка, найденных у него же, на которых написаны возмутительные сочинения, в том числе «Сон» Шевченки.
6. Отпечаток печати Костомарова»540.
Арешт та ув’язнення Шевченка
Наступного дня Шевченка було арештовано. Київський цивільний губернатор Фундуклей спішно доповідає в Петербург: «В числе лиц, на которых по полученному мною предписанию от г. киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора, обращено было внимание, указан был художник С. – Петербургской Академии Тарас Григорьев сын Шевченко.
Художник этот при возвращении из Черниговской губернии был задержан вчерашнего числа у въезда в город Киев и доставлен прямо ко мне».
У свою чергу того ж дня поспішив рапортувати начальству й жандармський полковник Бєлоусов: «…Художник Шевченко, при возвращении в Киев из Черниговской губернии, вчера был остановлен на заставе и доставлен на квартиру гражданского губернатора, при нём найдена тетрадь, самим им написанная с возмутительными стихами. В списках под названием «Сон» дерзко описывается высочайшая его императорского величества особа и государыня императрица.
С этою тетрадью и со всеми другими бумагами Шевченко отправлен в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии».
Цивільний губернатор двічі звітує представнику III Відділення про арешт Шевченка
Показові подробиці, пов’язані з арештом Тараса Григоровича, повідомляв цивільний губернатор Гессе Долгорукому: «Начальник Полтавской губернии 5 числа сего апреля передал мне к исполнению отзыв шефа корпуса жандармов … Орлова, к вашему сиятельству, об арестовании, по высочайшему повелению, дворянина Василия Михайлова сына Белозерского и художника С. – Петербургской Академии Тараса Григорьева Шевченка, и о доставлении их со всеми бумагами, какие при них найдены будут в С. – Петербург в III Отделение.
По известности мне, что означенные лица находились: Белозерский в Борзненском уезде и Шевченко в Черниговском уезде, в доме князя Кекуатова, где последний занимался списыванием портретов, я в то же время командировал двух чиновников особых при мне поручений: Васильева в Борзненский уезд и Семенюту в дом князя Кекуатова, предписав им взять помянутых лиц и доставить вместе с бумагами, какие при них окажутся в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии.
Из числа посланных чиновников Семенюта, возвратись того же числа в Чернигов, донёс мне, что Шевченко 4-го числа уехал в г. Киев. Вследствие чего я, не теряя времени, тотчас же командировал чиновника Семенюту, отзывом к киевскому гражданскому губернатору относительно содействия в арестовании Шевченка.
Ныне чиновник особых поручений Семенюта, возвратясь из Киева, представил мне отзыв киевского гражданского губернатора… что Шевченко взят уже в Киеве и отправлен в С. – Петербург при чиновнике его, киевского губернатора»541.
Початковий допит Шевченка
На допиті Тарасу Григоровичу було задано 22 запитання. Більше половини з них безпосередньо стосувалися програми та діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. Шевченко рішуче відповідав, що він нічого не знає про таке товариство.
Доповідаючи про допит Шевченка, «III Відділення» повідомляло, що ув’язненому було поставлено більше двадцяти запитань. Дві третини з них стосувалися тих чи інших аспектів програми, завдань і діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. На всі перші чотирнадцять відповідь Шевченка була заперечною. Він заперечував будь-яке знайомство з цією організацією. Так було і з відповіддю на останнє – 23-тє.
Питання 15-те: «С какою целью вы сочиняли стихи, могущие возмущать умы малороссиян против нашего правительства; читали эти стихи и разные пасквили в обществах друзей ваших и давали им списывать оные. Не сочиняли ли вы эти стихи для распространения идей тайного общества и не надеялись ли приготовлять этим восстание Малороссии?»
Відповідь: «Малороссиянам нравились мои стихи, и я сочинял и читал без всякой цели; списывать не давал, а был неосторожен, что не прятал».
Питання 16-те: «Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора и до такой неблагодарности, что сверх великости священной особы монарха забыли в нём и августейшем семействе его лично ваших благотворителей, столь нежно поступивших при выкупе вас из крепостного состояния?»
Відповідь: «Будучи ещё в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал ещё более и хуже между молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами шляхтичами, и всё это делается именем государя и правительства, и всему этому я поверил и, забыв совесть и страх божий, дерзнул писать наглости против моего высочайшего благодетеля, чем довершил своё безумие».
Питання 17-те: «Кто иллюстрировал рукописную книгу ваших сочинений и не принадлежит ли тот, кто столько занимался вашими сочинениями, к злоумышленным славянистам?»
Це й подальші питання були покликані виявити спільників і соратників поета. Шевченко робить усе, щоб вивести їх з-під удару. Прагнучи врятувати свого доброго знайомого, Шевченко заявив: «Иллюстрировал мои сочинения гр.(аф) Яков де Бальмен, служивший адъютантом у одного из корпусных генералов и убит на Кавказе в 1845 г., и некто Башилов. С первым я виделся один раз, а второго совсем не знаю»542.
Питання 18-те: «Почему стихотворения ваши были в таком уважении у друзей ваших, тогда как они лишены истинного ума и всякой изящности; не поклонялись ли они вам более за ваши дерзости и возмутительные мысли?»
Відповідь: «Стихотворения мои нравились, может быть, только потому, что по-малороссийски написаны».
Питання 19-те: «С какой целью вы побуждали в Киеве Костомарова и других славянистов к изданию журнала на всех славянских наречиях, вызываясь сами участвовать в оном, и не было ли при этом намерения распространять посредством журнала преступных идей?»
Відповідь: «Не я, а бывший ректор Киевского университета Максимович просил меня и Костомарова участвовать в его журнале или составить сборник из статей, относящихся к Южной России, на великороссийском и малороссийском языках».
Питання 20-те: «Между бумагами вашими находятся стихотворения Чужбинского и Забеллы, первого – возмутительные, а второго – пасквильные. Кто такие Чужбинский (если это не псевдоним) и Забелла?»
Відповідь: «Чужбинский – псевдоним; фамилия его Афанасьев Александр, помещик Полтавской губ. Лубенского уезда. Забелла Виктор тоже помещик Черниговской губ. Борзненского уезда».
Питання 21-ше: «Кто такие Штрандтман и Карпо и почему они в письмах своих называли вас: первый – «остатним из козаков», а второй – «отамане наш». Не участвовали ли и они в замыслах славянистов?»
Відповідь: «С Штрандтманом я познакомился в Яготине у кн. Репнина; он был там домашним учителем, а теперь не знаю, где он. Почему он называет меня «остатним из козаков», не знаю. Карпо – ученик Академии художеств, он и ещё два ученика жили со мной на одной квартире, и как я был старше их летами, то они и называли меня “отаманом”».
Питання 22-ге: «Не известно ли вам, сверх предложенного в предыдущих вопросах, ещё что-либо о славянистах, их тайном обществе и замыслах?»
Відповідь: «Сверх того, что я объяснил, я больше ничего не знаю»543.
Кирило-мефодіївці про провідну роль Шевченка у Товаристві
Інші притягнуті до слідства в справі Кирило-Мефодіївського товариства також в абсолютній більшості своїй не збирались приховувати свою щиру повагу й захоплення особистістю народного поета. Так чи інакше ставало зрозумілим, що найзнаковішою постаттю Товариства був Тарас Григорович Шевченко (який, на нашу думку, лише формально не вважався його членом).
Негайно після арешту в III Відділенні був складений реєстр і детальний виклад російською мовою вилучених у Т. Г. Шевченка творів, а також його поезій, знайдених у М. І. Костомарова544. Привізши поета до Петербурга, жандарми одразу ж взялися з’ясовувати його станове походження. Датована 21 квітня записка III Відділення містить ці дані та ще й з додатком, що Шевченка викупили з кріпацтва завдяки щедротам «августейшей фамилии»545.
Заборона видавати твори Шевченка
Слідчі намагалися схилити поета до потрібних їм даних про Кирило-Мефодіївське товариство, програму та діяльність організації, її членів.
Щодо себе, Тарас Григорович сказав таке: «Я сын крепостного крестьянина; в детстве лишился отца и матери; в 1828 г. был освобождён из крепостного состояния августейшей императорской фамилией, через посредство Василия Андреевича Жуковского, гр. Михаила Юрьевича Виельгорского и Карла Павловича Брюллова. Брюллов написал портрет Жуковского для императорской фамилии, и на эти деньги я был выкуплен у помещика. Учился я рисованию и живописи в Академии художеств по 1844 г. По выпуске из академии определился в Киевскую археографическую комиссию сотрудником по части рисования и собирания народных преданий, сказок и песен в южнорусских губерниях. Стихи я любил с детства и начал писать в 1837 г. Первое моё стихотворение под названием «Катерина» посвящено Жуковскому, которое возбудило энтузиазм в малороссиянах, и я стал продолжать стихи, не оставляя живописи»546.
Самодержавство готувало Тарасу Григоровичу Шевченку кару, особисто сформульовану Миколою І. Про це начальник III Відділення сповістив військового міністра О. Чернишова: «Государь император высочайше повелеть соизволил: определить Шевченку рядовым в Отдельный оренбургский корпус с правом выслуги, под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений»547.
ТЯЖКИЙ ВИРОК ТА ЖИТТЯ У ЗАСЛАННІ
Старанно минаючи великі міста, Шевченка доправляють до місця заслання
Винісши поетові жорстокий вирок, влада поспішила якнайхутчіше відправити Шевченка в далекі оренбурзькі степи. Проникливо описує цю подорож і особливо перші дні по прибутті до місця ув’язнення у своїй незавершеній книжці (присвяченій пам’яті дружини Горислави Михайлівни Біляч) відомий шевченкознавець, син академіка О. І. Білецького, Платон Олександрович Білецький:
«Рано-вранці першого травня 1847 року Шевченко у супроводі фельд’єгеря вирушив у найдальшу зі своїх мандрівок. Коней перепрягали швидко. Гнали трійку у повний опір, ані Москви, ані Симбірська, ані Самари у цій несамовитій скачці арештант не міг помітити. Пролетіли берег широкої, як море, ріки Волги, почалися степи. Де-не-де зеленіли та біліли гайочки кволих берізок, на сіро-чорних просторах спалахували яскраві квіти. Спалахнуть – роздивитися не встигнеш, а вже згасли. На восьму добу надвечір’ям переправилися через річку Сакмару. Удалині завиднілася рожевіюча у відблисках згасаючого сонця будівля караван-сараю і мечеті з мінаретом, що здався Тарасу Григоровичу «прекраснішим». Пізніше він дізнався, що ця архітектурна екзотика була творінням Олександра Павловича Брюллова, брата його вчителя.
Прибуття до Оренбурга. Старання земляків полегшити життя Шевченка на засланні
Дев’ятого червня в’їхали до фортеці Оренбург, захищеної валом чотириметрової висоти, облицьованим червоним камінням. Сакмарська брама міста справила на мандрівника враження «незграбної». Прослідували прямісінько до ордонансгаузу (комендатури. – П. Б.). Час був пізній, коменданта не було. Довелося лягти на голу підлогу.
Наступного дня до канцелярії прикордонної комісії, що відала зносинами з «азіятськими інородцями», вбіг писець Галевинський і повідомив урядовця Федора Матвійовича Лазаревського: «Вночі жандарми привезли Шевченка; я чув від офіцера, якому його здали, і він знаходиться зараз у пересильній казармі». Обидва вони були земляками поета, знали його за «Кобзарем» і «Гайдамаками». У ту ж мить дбайливий урядовець відсунув ділові папери і побіг розшукувати земляка-засланця. Той лежав на нарах, читав, або робив вигляд, що нічого не чує. Коли незнайома людина кинулась його обнімати, питаючи, чи не може бути чимсь корисним, Шевченко сухо відповів: «Я не потребую нічиєї допомоги – сам буду собі допомагати. Я вже отримав запрошення від завідуючого пересильною тюрмою навчати його дітей».
Лазаревський та його товариш по чернігівській гімназії Сергій Петрович Савицький вирішили звернутися до впливового у канцелярії Оренбургського генерал-губернаторства урядовця Матвєєва. Син простого уральського козака, дослужившися до чину підполковника, він залишився людиною приступною, доброю і співчутливою. Матвєєв викликав Шевченка до себе. Був з ним люб’язним, чим дещо підняв його настрій. Прийняв його, розмовляв, не давши відчути, що він злочинець, і сам генерал-губернатор та командуючий окремим Оренбурзьким корпусом Володимир Панасович Обручов. Серце Шевченка і зовсім відтало, коли його відпустили на добу у гості до Лазаревського і Левицького. Зустріли його як друга і брата. Тарас Григорович повірив у щирість молодих людей тим більше, що з розмови з Матвєєвим дізнався про їхні клопоти. В гостях у земляків він не побоявся декламувати «Сон» і «Кавказ». Цілу ніч співали українських пісень. «Були хвилини, – згадував Федір Лазаревський, – коли сльози самі собою котилися з очей, а гість наш просто ридав…»
Шевченка переводять до Орська. Самоповага рядового солдата
Між тим було визначене місце служби Шевченка: п’ятий лінійний Оренбурзький батальйон, розквартирований за три версти від міста у Орській фортеці. Друзі, число яких за кілька днів перебування в Оренбурзі все зростало, умовляли Тараса Григоровича видатися хворим і попроситися до лазарету. Після несамовитої скачки з фельд’єгерем він і справді почував себе зле. Перебути б йому у лазареті тижнів два-три, а тим часом поклопотатися, щоб службу проходити в Оренбурзі. Як-не-як, тут друзі. Легше було б. Так ні, – не захотів просити, кланятися, принижуватися… Це не по ньому!
Як буде в Орську, Шевченко не замислювався. Уявляв його фортецею трохи меншою за Оренбурзьку. Коли Орськ був закладений і почав будуватись, було знайдене краще місце для головної фортеці прикордонного краю. На неї й перенесли назву Оренбург, а раніше збудовану фортецю назвали Орськ. Великої різниці між обома фортецями Тарас Григорович не передбачав. А люди – вони є всюди; серед них можна знайти нових шанувальників мистецтва, коли не художників. Знайшовся ж у Оренбурзі знайомий ще по Академії Олексій Чернишов з його двоюрідним братом, козачим офіцером, живописцем-аматором.
Проїхавши Оренбурзький форштадт (передмістя. – П. Б.) і кинувши погляд на дзвіницю, з якої колись гармати Пугачова палили по фортеці, рядовий Шевченко затрясся у візку в напрямі до місця служби. Долина Уралу милувала око, а села й козачі станиці були на рідкість миршаві. Раптом – невже мариться? – білосніжні у зелені хати, верби; дівчинка в українському строї з віночком із польових квітів на голівці жене корову… Куточок милої батьківщини у зауральських степах! Тут мешкали земляки-переселенці. Зупинився на ночів’я, насолодився рідною мовою, посмакував малосольними огірками.
Далі дорога пішла горами, порослими лісом. Нанизу річка Губерла. З висоти розкривається пустельна місцевість: рудий низькорослий кущавник, буцім брудна піна між чорних кам’яних хвиль. Єдина ознака присутності людини – жердина з пучком соломи біля будки: знак козачого пікету. Знову підвищення, цього разу гола, безрадісна земля.
За нею – переддвір’я Дантівського пекла, ще тужливіша пустеля, а вдалині біліє плямочка, червоно-бурою стрічкою обведена. «А ось і Орськ біліє», – сказав ямщик.
Шевченку співчувають і в Яман-Калі
Біліла церква, червоніли дахи казарм та цейхгаузів. «При такій декорації, – змією заповзала в душу поета заледеняюча думка, – можливе тільки мертве мовчання, що переривається тяжкими зітханнями, а не звучними піснями». Настрій Шевченка впав. В’їхав до укріплення, яке згодом так описав: «Це велика площа, оточена з трьох боків ровом аршина з три шириною та валом сорозмірної височини, а з четвертого боку – Уралом. Ось вам і фортеця. Недаремно киргизи звуть її Яман-Кала (гадюча кріпость)».
Безвідрадне враження від декорації, де мав відбутися наступний акт драми його життя, розвіялося, коли він був викликаний до коменданта фортеці генерал-майора Дмитра Ісаєва548. Певно, хтось із оренбурзьких друзів встиг повідомити його про прибуття не зовсім звичайного солдата. Старий генерал був більш ніж люб’язний. Дозволив жити не в казармі, а наймати квартиру. Нечуване порушення військової дисципліни! Комендант міг не дуже побоюватися службових неприємностей: він бездоганно прослужив багато років, а зараз десь по інстанціях уж проходив наказ про його відставку.
Борці за свободу Польщі на засланні разом з Шевченком
До політичних засланців Ісаєв ставився ліберально. Під його начальством їх було декілька. Усі поляки. Оттон Фішер давав уроки дітям генерала. Утримували від коменданта різноманітні пільги Іпполіт Завадський і Станіслав Круліковський. Обидва лишилися живими чудом: до заслання їх було бито шпіцрутенами, проведено крізь півтисячний солдатський стрій. Ще з віленських часів добре опанувавши польську мову, будучи палким шанувальником Міцкевича, Тарас Григорович легко зблизився з поляками549. В Орську часто бував у службових справах молодший брат Федора Лазаревського, Михайло – «куратор по справах прилінійних киргизів». В його особі Шевченко знайшов одного з найвідданіших своїх друзів. Михайло Матвійович увів його до дому Михайла Олександрійського, що відав у кріпості справами орських козаків, «кайзаків», як іменували їх офіційно. У цьому домі Шевченко забував про своє солдатське звання».
Напевно, останнє твердження надто оптимістичне. Наведемо перші листи самого Шевченка з заслання, в якому він ділиться своїми враженнями від перебування в Орській фортеці.
Обнадійливий початок і подальше нестерпне життя в казармі
Брати Лазаревські отримували на свої адреси листи і посилки від петербурзьких друзів Шевченка, пересилали їх до Орська з оказією. Через них, у свою чергу, він надсилав власні листи. Якби не «співчуття» Мєшкова, командира батальйону, в якому рахувався рядовий Шевченко, не так уже й погано жилося б в Орську «колишньому художнику». Тим більше, що його друзі постійно постачали його грішми. Але ось Ісаєв отримав відставку. У фортеці з’явився новий комендант. Довелося Шевченкові перебратися до казарми. Задушливе повітря, бруд, постійний крик, неможливість побути наодинці з собою пригнічували Тараса Григоровича. Читати йому не забороняли – це було єдиною втіхою. Інколи, отримавши дозвіл від командира, він міг відлучатися з казарми на годинку-другу. Та ось біда, користуючись його відсутністю, солдати крали книжки, взяті ним у знайомих, і заставляли їх у шинках. Тарас Григорович до подібних витівок ставився поблажливо: запитував у товаришів-солдат, у якому шинку і за скільки заставлена книга, йшов і викупав. Зате його глибоко обурювало те, що не всі речі, конфісковані у нього при арешті, були йому повернені.
Що і чому із забраного при арешті не було повернуто Шевченку
Йому повернули гроші (триста п’ятдесят сріблом), але ж етюдник з фарбами і пензелями, бритви, поламаний пістолет, кисет, чарочка, перочинний ніж і головне – тека з малюнками і рисунками, – все це залишилося у Києві, все це безцеремонно й протизаконно привласнив Фундуклей. Так гадав Шевченко. І ось, не скаржачись, він наважується звернутися до Мєшкова з проханням доправити від Київського цивільного губернатора відібране у нього майно. Ще у Петербурзі при останньому побаченні з Дубельтом, що виголосив йому вирок, він висловив подібну претензію. Жандармський генерал обіцяв її задовольнити, втім, минуло півтора місяця, а речі ще не повернені. Батальйонний командир визнав за можливе задовольнити законне прохання рядового, турботи про якого поклав на нього сам бригадний генерал. Склав рапорт на ім’я Фундуклея. Не задовольнившися цим, Тарас Григорович пише приватного листа Фундуклею: «Оставленные вами у себя мои вещи прошу вас покорнейше велеть переслать мне, через почту в Оренбургскую губернию в крепость Орскую, на имя Тараса Григорьева Шевченка или передайте моему приятелю, сотруднику Археографической комиссии Алексею Сенчилу550 для отправки ко мне. В портфели между рисунками есть оригинальный рисунок известного французского живописца В а т о. Ежели угодно будет вашему превосходительству приобресть его, то я охотно уступаю за цену, какую вы назначите. Предложил бы вам виды Киева, но они не окончены, а во-вторых, хотя неясно, они мне будут напоминать наш прекрасный Киев».
Платон Білецький прагне пояснити: «Тон листа такий, ніби автор звертається до людини, рівної йому за суспільним станом. У пропозиції придбати за безцінок рисунок знаменитого майстра прослизає навіть якась презирливість. Заслання не придушило гідності рядового солдата. Шевченко не передбачав, що Дубельт виявиться людиною неодмінною і запросить, як обіцяв, речі, які залишилися у Києві. Фундуклей не думав їх привласнювати. (Але ж справа зовсім не у своєкорисності «сильних мира того», а в прагненні не дати засланцю рядовому Шевченку займатися справою його життя. – Авт.). Бібіков, отримавши припис Дубельта, зауважив щодо речей Шевченка: «Дрібниці, які можна назвати мотлохом». Дубельту доставили конфісковані речі з супровідним папером. Подивився і наклав резолюцію: «Таке дрантя, що нема кому показувати».
Доки стояло літо, при першій нагоді Шевченко йшов з фортеці на берег річки Орі. Тут, ховаючись у кущах, він виймав з халяви олівця, клаптики паперу і вів докладний літопис свого казарменного життя. Крім того, він не боявся довіряти паперові все нові й нові вірші»551.
У доповіді начальника ІІІ Отделения Орлова від 26552 травня 1847 р. про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства і пропозиції щодо покарання його членів відзначено: «Шевченко вместо того, чтоб вечно питать благоговейные чувства к особам августейшей фамилии, удостоившего выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе гетманского правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей. Сверх того, что всё запрещённое увлекает молодых людей со слабым характером, Шевченко приобрёл между друзьями своими славу значительного малороссийского писателя, а поэтому стихи его вдвойне вредны и опасны. С любимыми стихами в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом блаженстве времён гетманщины, о счастии возвратить эти времена и о возможности Украйне существовать в виде отдельного государства. Судя по этому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченко, и к его стихотворениям все украйно-слависты, сначала казалось, что он мог быть если не действующим лицом между ними, то орудием, которым они хотели воспользоваться в своих замыслах; но, с одной стороны, эти замыслы были не столь важны, как представлялось при первом взгляде, а с другой – и Шевченко начал писать свои возмутительные стихотворения ещё с 1837 г., когда славянские идеи не занимали киевских учёных; равно и всё дело доказывает, что Шевченко не принадлежал к Украйно-славянскому обществу и действовал отдельно, увлекаясь собственно испорченностью. Тем не менее, по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен быть признан одним из важных преступников»553.
Доля малюнків, відібраних у Шевченка під час арешту
Питання це проливає світло на особливості суворої кари, яку зазнав Шевченко, і обійти його не можна.
2 червня 1847 р. Орлов звернувся до київського цивільного губернатора Фундуклея: «Имея в виду объяснение жительствовавшего в Киеве бывшего художника Тараса Шевченки, что у вашего превосходительства остались его рисунки киевских видов и ящик, долгом считаю покорнейше просить вас, милостивый государь, не изволите ли приказать означенные рисунки и ящик доставить в ІІІ Отделение с. е. и. в. канцелярии для возвращения по принадлежности…»554
14 червня Фундуклей повідомив у Петербург: «имею честь донести, что все бумаги и вещи, принадлежавшие Шевченке, представлены мною к г-ну киевскому военному, подольскому и волынскому генерал-губернатору, поэтому я донёс ему о настоящем требовании вашего сиятельства»555.
24 червня Бібіков доповідав III Відділенню: «Вследствие требования г-на генераладъютанта гр. Орлова, последовавшего к киевскому гражданскому губернатору, имею честь препроводить при сём в ІІІ Отделение с. е. и. в. канцелярии принадлежащие Тарасу Шевченку рисунки и ящик».
На цьому ж аркуші паперу накреслено резолюцію голови таємного відомства й три помітки: «Матеріаліст» з одного боку, тонкий цінитель мистецтва – з другого, Орлов цього разу висловився досить рішуче та брутально: «Оставить под сохранением при делах. Такая дрянь, что нечего показывать»556.
Утім, через три тижні він став обережнішим. 15 липня повідомив Оренбурзького військового губернатора Оберучева: «Определённый рядовым в войска Отдельного оренбургского корпуса бывший художник Тарас Шевченко перед отправлением его из С. – Петербурга просил о возвращении ему ящика с красками и рисунков, оставшихся в Киеве у гражданского губернатора.
По таковой просьбе я входил в сношение с кем следует, и ныне г-н киевский военный губернатор доставил ко мне упомянутые ящик и рисунки, но как предметы сии оказались совершенно незначительными и незаслуживающими пересылки, то я приказал оставить оные в ІІІ Отделении с. е. и. в. канцелярии»557.
Наведене листування високих офіційних посадовців царської влади досить промовисте. Воно свідчить про те, що власноручне письмове розпорядження Миколи І заборонити засланому в далекі закаспійські степи рядовому Шевченку малювати мало на меті задушити Шевченка, який не уявляв себе без творчості, що надихала українського генія і допомогала долати найтяжчі життєві випробування.
П. Білецький про життя Шевченка на засланні
Передусім про початкові місяці заслання «Чи малював Шевченко в Орську восени 1847 року? – ставить питання П. О. Білецький та відповідає: – Нема чого й казати, наскільки це було ризиковано. 24 жовтня у листі до Варвари Рєпніної558 він писав, що його страждання збільшуються забороною малювати:
«По ходатайству вашему, добрая моя Варвара Николаевна, я был определён в Киевский университет, и в тот самый день, когда принесли определение, меня арестовали в Петербурге 22 апреля (день для меня чрезвычайно памятный), а 30 мая мне уже принесли конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат Оренбургского линейного гарнизона!
О, как неверны наши блага, Как мы подвержены судьбе.И теперь прозябаю в киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрёпанного, небритого, с чудовищными усами, – и это буду я. Смешно, а слёзы катятся. Что делать, так угодно Богу. Видно, я мало терпел в своей жизни. И правда, что прежние мои страдания в сравнении с настоящими, были детские слёзы: горько, невыносимо горько! И при всём этом горе, мне строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (окроме писем), а здесь так много нового, киргизы так живописны, так оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. Местоположение здесь грустное, однообразное, тощая речка Урал и Орь, обнажённые серые горы и бесконечная киргизская степь. Иногда степь оживляется бухарскими на верблюдах караванами, как волны моря зыблющими вдали, и жизнию своею удвоевают тоску. Я иногда выхожу за крепость, к каравансараю или меновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ, какие прекрасные головы! (чистое кавказское племя) и постоянная важность, без малейшей гордости. Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков. Но что делать! А смотреть и не рисовать – это такая мука, которую поймёт один только истинный художник. И я всётаки почитаю себя счастливым в сравнению с Кулишём и Костомаровым, у первого жена прекрасная, молодая, а у второго бедная, добрая старуха мать, а их постигла та же участь, что и меня, и я не знаю, за какое преступление они так страшно поплатились. Вот уже более полугода я не имею никакого понятия о нашей бедной новой литературе, и я просил бы вас, добрая Варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя Письма к друзьям, то пришлите мне, вы сделаете доброе дело, и, если можно, Ч т ение Московского археологического общества, издаваемое Б о д янским. Я мог бы выписать всё это сам, но… пришлите, добрая Варвара Николаевна, это будет вернее, и Бог вам заплатит за доброе дело. Адрес мой сообщит вам Андрей Иванович»559.
Крім моральної туги, – пише П. Білецький, – почав його мучити ревматизм. Гарнізонний лікар виявився доброю людиною, не тільки лікував, а й дивився крізь пальці на те, що засланий художник узявся в лазареті за рисування. Дивлячися у люстерко, малював себе самого сепією». І попри всі негоди, вигляд Шевченка, як вважає П. Білецький, не справляв того враження, про яке сам засланець писав Рєпніній: «Автопортрет Шевченка не відповідає цьому опису. Нема розпатланого волосся, страхітливих вусів. Проте викликати сльози він може. З найтяжчим сумом, з німим докором дивиться солдат. Нічого незграбного, «гарнізонного» у його скорботному образі нема. Можливо, вуса йому й не до лиця, однак страхітливими їх не назвеш. Губа під вусами накавичилася, як у ображеної дитини. В цьому автопортреті майстер, не прагнучи того і про те не відаючи, відкрив ще одну з іпостасей своєї душі, про яку в листах і віршах не сказав майже нічого: була його душа ніжною, чутливою і образливою, як у малої дитини. Цьому Шевченку – незлобному, довірливому, який потребував ласки і дружньої підтримки сильніших, нелегко було співіснувати в одній душі з відчайдушним гайдамакою, що п’янів від видовища пожарів і кривавих рік, з козаком, здатним кидатися назустріч напевній загибелі, тираноборцем, уїдливим пересмішником.
У листі до Лизогуба від двадцять другого жовтня 1847 року сказав про себе так: “На другий день, як я од вас поїхав, мене арестовали в Києві, на десятий – посадили в каземат в Петербурзі, а через три місяці я опинився в Орской крепости в салдатській сірій шинелі, чи не диво, скажете! Отже воно так. І я тепер точнісінький, як той москаль, що змалював Кузьма Трохимович560 панові, що дуже кохався в огородах. От вам і кобзарь! Позабирав грошики та й шморгнув за Урал до киргиза гуляти. Гуляю! Бодай нікому не довелося так гуляти, а що маємо робить! Треба хилитися, куда нахиляє доля. Ще слава Богу, що мені якось удалося закріпить серце так… що муштруюся собі, та й годі. Шкода, що я не покинув тойді у вас рисунок київського саду, бо він, і всі, що були у мене, пропали. У І. І. Фундуклея. А тепер мені строжайше запрещено рисувать і писать (окроме писем), нудьга, та й годі; читать – хоч би на сміх одна буква, і тії нема. Брожу понад Уралом та … ні, не плачу, а щось ще поганше діється зі мною. Одішліть, будьте ласкаві, моє письмо і адрес мій княжні Варварі Миколаєвні, в адрес ось який. В город Оренбург в пограничную комиссию. Его Благородию Фёдору Матвеевичу Лазаревскому с передачею. А цей добрий земляк уже знатиме, де мене найти. Бувайте здорові, низенько кланяюсь Ілії Івановичу і всьому дому вашому, не забувайте безталанного Т. Шевченка. Поклоніться, як побачите, од мене Кікуатовим”»561.
«Що саме з ним коїлося, – пише П. О. Білецький, – він розповів автопортретом, який написав у лазареті. Власник Седнева відповів: “Лист Ваш, коханий друже, я получив на самісінький Новий год. Превеликая Вам дяка і за лист, і за Вас, тільки важко на Вас дивитися”»562. П. О. Білецький продовжує: «Якби Тарас Григорович мав змогу незабаром написати ще один портрет, на нього дивитися було б ще важче. Хворого солдата невідомо чому поспішили повернути до казарми. Тут до ревматизму додалася люта цинга. Боліли ноги, очі. Тарас Григорович впав у цілковитий відчай. Надсилав відчайдушних листів до Петербурга і на Україну. Слізно благав поклопотатися, щоб зняли з нього хоча б заборону малювати. Лизогуб надіслав йому етюдник з пензлями і акварельними фарбами. Володіти ними він мав право, користуватися – ні в якому разі. Дивився на цей подарунок і не стільки радів, скільки мучився. Якось прочитав свій ведений улітку щоденник. Жахнувся одноманітністю й нудотою днів, що проминули. Спересердя спалив свою сповідь.
Микола І відхиляє всі клопотання про дозвіл Шевченку малювати
Друзі робили для Шевченка все, що могли. Варвара Рєпніна написала листа шефу жандармів О. Орлову. У ньому просила не додавати до кари «витончену жорстокість, забороняючи йому рисувати». Не відала того княжна, що «витончену жорстокість» придумав не Орлов, а сам Микола І. Шеф жандармів не став доповідати імператору про лист Рєпніної, але у своїй відповіді просив більше до нього в цій справі не звертатися. І все ж лист благодійниці Шевченка виявився не зовсім марним. Орлов запросив командира Окремого Оренбурзького корпусу про службу, поведінку і спосіб думок «колишнього художника», про те, «чи заслуговує він клопотання про дозвіл займатися йому рисуванням». Мєшков, тим часом пожалуваний у майори, дав про свого підлеглого такий відгук: «Рядовий батальону, яким я командую, Тарас Шевченко поводить себе добре. Службою займається ретельно, образ його думок не подає ніякого приводу до чогось доганного, і, судячи за цим, він заслуговує клопотання про дозвіл йому займатися рисуванням». Те саме доповів Обручов Орлову. Шеф жандармів увійшов з відповідною доповіддю до імператора. Той категорично відмовив у клопотанні.
Чому Брюллов відмовився допомогти своєму учню й другу?
Чернишов, академічний товариш Шевченка, і Михайло Лазаревський, будучи у Петербурзі, просили впливових осіб, зокрема Брюллова, поклопотатися про полегшення долі Шевченка. Чернишов звертався до колишнього Оренбурзького військового губернатора Перовського. Той попросив у Дубельта справу Шевченка, і з жалем був змушений визнати, що «заступитися й просити за нього государя» не зможе. Здавалося б, Карл Павлович мусив був хоч спробувати якось допомогти своєму колишньому учневі і другу, але і він не зробив нічого. Звичайно ж, він сердився на Шевченка. Свого часу він зробив для Шевченка все, що міг. Шевченко не виправдав надій Брюллова. Замість повністю присвятити себе служінню живописові він визнав за краще згубити свій непересічний талант заради чогось, Карлу Павловичу рішуче незрозумілого…
Муки фізичні й моральні, сум і безнадія надламали Шевченка. Уперше в житті він шукає полегшення в релігії. Двадцять восьмого лютого 1848 року, у перший день Пасхи орський страждалець пише княжні Варварі Миколаївні: «Вчера я просидел до утра, и не мог собраться с мыслями, чтобы кончить письмо; какое-то безотчётное состояние овладело мною (прийдите все труждающиеся и обременённые и аз успокою вы). Пред благовестом к заутрени пришли ко мне на мысль слова распятого за нас, и я как бы ожил, пошёл к заутрени и так радостно, чисто молился, как может быть, никогда прежде. Я теперь говею. И сегодня приобщался святых тайн – желал бы, чтобы вся жизнь моя была так чиста и прекрасна, как сегодняшний день! Ежели вы имеете первого или второго издания книгу Фомы Кемпейского О п о дражании Христу,Сперанского перевод, то пришлите ради Бога»563. Книгу Фоми Кемпейського – німецького ченця п’ятнадцятого століття, що зберігала популярність у середовищі віруючих католиків, міг порадити прочитати Тарасу Григоровичу хтось із знайомих поляків. Ця книга прикметна як простотою викладу, так і головною думкою: у світі, загрузлому в гріхах та злі, треба думати не про те, щоб урятувати самого себе, а подібно до Христа, йти на страждання заради загального добра. Допитливий Шевченко зацікавився працею середньовічного мислителя – це не дивно. Дивують зміни у його настроях. Через місяць він уже не чекає полегшення у молитвах та каятті, а знову складає вірші, ховаючися за фортечним валом. В одному з них поет кличе до себе в гості щасливу долю»564.
Перша «усмішка» довгоочікуваної ліпшої долі
Та минуло з добрий рік, поки вона трішечки посміхнулася Шевченкові. «Ймовірно, хтось із оренбурзьких друзів, – робить припущення Платон Білецький, – встиг повідомити його, що готується експедиція для обстеження Аральського моря565, і очолить її капітан-лейтенант Бутаков566. Тарас Григорович міг читати в «Отечественных записках» за 1843 – 1844 роки вельми цікавий щоденник Бутакова, ведений ним під час кругосвітнього плавання. Мрія поплавати морем – повністю у дусі Шевченка. Чи не в цьому плаванні бачить він свою щасливу долю?
Бутакову для роботи в експедиції потрібен був художник. Він звернувся до Оренбурзького генерал-губернатора, який командував також Окремим Оренбурзьким корпусом, з проханням про включення Шевченка до складу експедиції. Обручов розпорядився: «З усіх помітних пунктів, за якими у дальшому можна буде визначитися, наказати знімати види з різних румбів, для чого взяти з п’ятого лінійного батальйону одного, вміючого знімати види рядового». Командир бригади, до якої входив батальйон, генерал-майор Федяєв567 наказав перевести рядового Шевченка до четвертого батальйону в укріплення Раїм568 для подальшого проходження служби. Цікаво, що в армійських документах ані слова немає про те, що Шевченко отримує наказ «знімати види». Обручов каже не конкретно про якогось здатного до цієї справи рядового. Федяєв не вказує, з якою метою він переводить рядового Шевченка до віддаленого укріплення. На початку травня Бутаков з Оренбурга прибув до Орська, звідки його експедиція мала прослідувати в Раїм.
9 травня 1848 р. Тарас Григорович пише Лизогубу: “Спасибі тобі, щирий мій друже, і за папір, і за лист твій, ще кращий паперу. Папір мені тепер дуже став в пригоді, а лист ще дужче! і тим самим, що мені тепер треба було молитви і щирого дружнього слова, а воно якраз і трапилось. Я тепер веселий йду на те нікчемне море Аральське. Не знаю, чи вернуся тілько!.. А іду, єй-богу, веселий.
Спасибі тобі ще раз за писанку. Дійшла вона до мене цілісінька, і в той самий день прийшло мені разрішеніє малювать, а на другий день приказаніє у поход виступать. Беру з собою усю свою малярську справу; не знаю тілько, чи доведеться малювать!
Вибач мені, єй-богу, ніколи і сухар той з’їсти, а не те, щоб лист написать доладу. До Варвари Ніколаєвни напишу вже хіба з Раїму. Як будеш писать до неї, подякуй за книжку Гоголя.
Адрес мій: в Крепость Орскую
Его высокоблагородию
Михайлу Семёновичу Александрийскому
З передачею мені.
А цей чолов’яга буде посилать до мене через коменданта. Не забувай мене, єдиний мій! Коли не побачимось на сім світі, то вже певно зустрінемось на тім. До свидання!
Щирий твій Т. Шевченко”»569.
П. Білецький, на нашу думку, справедливо вважає, що: «Тон листа вказує на збуджений стан автора. Його веселість подібна до настрою людей, що йдуть майже на вірну смерть. Він зрадів писанці, що нагадала йому про далеку батьківщину. Дійшов до нього крихкий сувенір непошкодженим, і тоді ж йому дозволили рисувати – співпадіння, яке здалося багатозначним. Наївний Шевченко вважає, що заборона рисувати знята з нього віднині і назавжди. Тільки б вижити в поході – головна думка, що пронизувала його свідомість.
Дванадцятого травня транспорт з трьох тисяч возів, тисячі в’ючних верблюдів з погоничами під охороною піхотної роти виступив до Раїму – найвіддаленішої російської фортеці у киргизьких степах.
Командував військами, що супроводжували експедицію Бутакова, генерал-майор Шрейбер. Шлях був небезпечний та багатотрудний. Шевченко йшов пішки.
В суцільний гук зливалися тарахкотіння возів, клуби пилу застилали небо. За свідченням штабс-капітана Макшеєва570, географа, найближчого помічника Бутакова, перший перехід Тарас Григорович переніс добре. Познайомившися з рядовим Шевченком, штабскапітан запропонував йому місце для ночівлі у своєму похідному наметі.
Наступного дня знялися зі стоянки на світанні. При перших променях сонця виникла дивна омана зору – постаті людей і тварин почали здаватися набагато більшими за свої справжні розміри. Групи вершників, що їхали обабіч транспорту, уподібнювалися величезним кораблям, що пливуть під вітрилами. Науковоподібний ефект зветься рефракцією. Денний степ під білим саваном висохлої ковили вражає своєю млявістю і безгомінням. Не те, що український степ: ящірка прошмигне, цвіркун стрибне, пташка злетить, і щебіт її відгукнеться… Але що це? Удалині з’явилась маленька хмариночка, ще одна, друга, третя; злилися у стовпах білого диму… Це казахи влаштували свій «весняний пал» – палили сухостій, щоб скоріше нова паросль зазеленіла. У сутінках всенький небосхил тріпотів рожево-кривавою загравою. На прохання генерала Шрейбера художник увічнив цю ефектну картину. Зробив з натури олівцевий рисунок, але утримався від спокуси розфарбувати його з натури, краєвид змінювався на очах. Він придивився до основних тональних та кольорових співвідношень землі, полум’я, диму, неба. Зорову пам’ять мав вражаючу. Згодом, вже за денного світла і в зручних умовах, виконав за рисунком багатоколірну акварель, працюючи спокійно, не плутаючися у мінливих відтінках – один з його пейзажних шедеврів.
…На першому плані – мілководна затока річки Орі. Вершник – казах – в’їхав у воду, зупинився, дивлячися за обрій. Його товариші розвели багаття на березі біля щойно зіпнутого намету. На другому плані – валка розпряжених возів, джуламейки (казахське житло. – П. Б.), далекі горби, з-за яких до темніючого неба здійнялися відблиски пожежі.
Пізно увечері спостерігав художник інше, можливо, ще краще видовище: чорні силуети верблюдів на тлі затихаючої заграви; між горбами одного верблюда примостився голий кочівник і заливається піснею, тужливою, монотонною, як його степ.
Вночі уві сні Тарасу Григоровичу марилася, варіюючи на різні лади, симфонія вогняної несамовитості. Уранці збагнув, що враження минулого вечора переплелися в його свідомості з полотном живописця Мартена, що зобразив загибель Содому і Гоморри.
Шлях через чудодійний казахський степ
Далі транспорт з нудною повільністю рухався чорним випаленим степом. Краєвид різноманітився тільки спадистими берегами Орі. Цей перехід приніс несподіване й сильне враження. Киргизи, казахи та російські козаки один за одним раптом почали від’їжджати й відходити кудись убіч. Тлумач-башкир пояснив, куди: «Мана ауля агач» – там святе дерево. (Тарас Григорович зберіг у пам’яті ці та згодом ще інші казахські слова.) Звичайно, художник не міг стримати своєї цікавості і не глянути на місцеву достославність власними очима. Подивувався диву: самотня тополя з розлогим гіллям, калюжа зі спичаком, зелена травичка, кущики – острівець життя у бездушному степовому морі. І справді – святе місце. Шанувальники дерева нап’ялили на його гілки некоштовні подарунки: стрічечки, клаптики тканини, пучечки фарбованого кінського волосся; хтось, найщедріший, прив’язав цінну жертву – шкурку дикого кота. Шевченко не проминув відзначити на папері святе місце. Щоправда, людей, які тут юрмилися, і дарів, піднесених дереву, він не зобразив. Лише на дальньому плані намітив постать вершника зі списом, на якому майорів прапорець. Так самотність тополі відчувається гостріше. В українських степах також зустрічаються подібні одинокі дерева, звичайно дуби, і там вони не здаються дивом. І все ж відпочинок під тінню старезного дуба був радістю після тривалої їзди літнім спекотним днем для козаків-запорожців (до речі, на списах запорожців теж були прапорці, а як поховають запорожця – увіткнуть в його могилу такого списа з прапорцем). Наскільки дбайливим був художник у зображенні деталей, свідчить те, що для постаті вершника він зробив окремий рисунок з натури. Не ілюстрацією географічного опису киргизьких степів (такий опис складав Макшеєв), а передусім свій настрій відтворює Шевченко у цьому краєвиді.
Шевченко – друг і брат поневолених народів
Художника в поході не обтяжували солдатською муштрою, він ходив у своєму старенькому цивільному вбранні і, крім етюдника, не ніс нічого. На перепочинках він рисував вози та джуламейки, верблюдів у різноманітних положеннях – ззаду, спереду, крокуючими, відпочиваючими на землі. Своєрідні звичаї екзотичних тварин, їхні рухи та міміку Шевченко навчився передавати бездоганно. Коней він рисував рідко, також як офіцерів і солдатів. Дальша путь транспорту йшла берегами Уралу (Іргизу). Зустрічалися й малі річечки, через які переходили убрід. Степ, де-інде порослий безлистяними стовбурами саксаулу, такими твердими, що вдар по ньому сокирою – іскри посипляться, був усіяний блискучими камінцями кварцу.
На горі, що синіла на обрії, стояли могили киргизьких і казахських батирів (богатирів), яких кочівники шанували не лише як героїв, а і як святих. Побачить його казах – голову похилить, а верблюд плаче… Моляться казахи, жертвами благають дерево повернути минувшину. У поетичному образі краю, колись багатолюдного, лісистого, гнівом Бога перетвореного на пустелю, – алегорична історія народів, що привели себе міжусобними війнами до теперішнього жалюгідного стану, поет не кляне суворий край, куди занесла його недоля. Він його жаліє – ось що типове для нього, друга і брата поневолених народів.
Немає, виявляється, степів без могил минулих часів! На одній акварелі Шевченко змалював мавзолей батира Дустана. На першому плані – брунатні горбики з кущами степової маслини; на одному, ніби в роздумі, застиг сайгак… Чого чекає? Пролунає постріл – і помчить він вільним степом, як не помчать батири на своїх баских конях. Дустанова гробниця нагадала художнику своїми обрисами «саркофаги давніх греків», «грубо з глини зліплені». Він поплутав: не грецькі, а етруські та римські саркофаги. День, у який художник змалював могилу Дустана, ознаменувався враженням, яке було здатне відбити будь-яке бажання малювати. Напередодні передовий загін транспорту зазнав нападу розбійників-хивінців. Шевченко бачив обезголовлені трупи, до числа яких він сам випадково не попав. Шрайбер наказав поховати небіжчиків. Піп-п’яничка відправив панахиду.
Наступного дня спочинок транспорту був біля сумного на вигляд Уральського укріплення. На горі – оточені валом довгі одноповерхові казарми-мазанки під рудими очеретяними дахами, що здалека нагадували швидше стайні, ніж людські житла. Сумний вийшов рисунок. Пізніше в іншому настрої Шевченко виконає за ним поліхромну акварель.
Ріка Іргиз, виблискуюча під блакитним небом, з пухнастими тваринками, затишні юрти, з верхівок яких іде дим, постать киргиза, що мирно сидить на лузі, інша постать, – в усьому цьому нема й тіні суму. Стіни казарм, що увінчують гору, здаються сліпучо-білими, ніби побіленими до святкового дня. Отак самі собою фарби, відповідаючи настрою художника, здатні бувають змінювати настрій твору.
Шевченко у найважчих переходах до Раїму і в самій фортеці
За Уральським укріпленням було ще три переходи. Ночували біля озер та поблизу гнилої річки Джалоли. Звідси починалася найважча частина путі – треба було подолати пустелю Каракуми. Шрейбер хвилювався, очікуючи згубної спеки, але ж пустеля, перетнута одноманітними пологими барханами, зустріла прохолодою. Аж, нарешті, з’явилася блакитно-сіра смуга, що в міру наближення дедалі синішала. Море Аральське. Йшли до нього ночами.
Місцевий гарнізон фортеці Раїм вийшов назустріч новоприбулим. В пустині стоїть дивна кам’яна споруда висотою приблизно зо три людських зрости. З першого погляду вона нагадує роги якогось закопаного у землю величезного звіра. Був це, з’ясовується, монумент у формі півмісяця, поставлений на місці поховання батира на ім’я Раїм. Хто б думав, що пам’ять про нього збереже російська фортеця, збудована минулого 1847 року стараннями генерала від інфантерії Обручова?
Акварелі Шевченка та записки Макшеєва дають уявлення про Раїм та про те, що відбувалося тут протягом шести тижнів до виходу експедиції у плавання Азовським морем. Юрта, в якій жили Шевченко і Макшеєв, була поставлена на пустирі, оточена казармами, такими ж убогими, як і в Уральському форті. Недалеко височів монумент Раїма. Вийшовши за браму, спустившися до води, художник рисував нехитру колодяну корабельню, на якій споруджувалася шхуна «Константин», доставлена у розібраному вигляді. Її шістнадцятиметрова основа, подібна до кістяка якоїсь мари, обшивалась дошками. Нахилившися на бік, стояла на березі інша, меншого розміру, шхуна – «Николай», на якорі трималася третя – «Михаил». Вітрильники Аральської флотилії були названі іменами імператора та його братів.
Зле те вийшло, що найбільший, флагманський корабль, був названий не «Николаем», а «Константином». Тарас Григорович мав плисти на ньому і, вірогідно, втішався тим, що корабель не носить ім’я його особистого ворога. І, звичайно ж, він відчував ні з чим не зрівнянну радість рисувати, ні від кого не ховаючись.
Особливості проблематики й техніки Шевченкових малюнків
Корабельників за працею він не рисував. Певно, тому ж, що він не малював свого часу селян: краси у підневільній праці він не бачив. Одну акварель – «Вид Раїму з корабельні» – він забарвив яскравими тонами. Вийшло строкато. Акварелі в одну-дві фарби у нього гармонійші і багатобарвні завдяки точно схопленим співвідношенням тонів. У Раїмі шляхетна брунатна сепія знову, як і в українських краєвидах, стала його улюбленою фарбою. Нею малював він і портрети. На одному з них бачимо невідомого унтер-офіцера, що перебирає струни гітари. Рисунок міцний, ліплення голови та рук чітке, «скульптурне». Сумний доброзичливий погляд, несміливий рух музиканта, що ніби побоюється втратити мелодію, яка на нього сходить, – образ, що закарбовується у пам’яті та зворушує. Макшеєв каже, що Шевченко малював і його портрет, але «зі схожістю не щастило». Дивно, бо що-що, а схожість Шевченко добре схоплював. Крім портрета гітариста, збереглася чудова «автобіографічна» композиція Шевченка, перша у низці подібних до неї, виконаних у наступні роки. В ній з найменшими подробицями відтворений інтер’єр юрти Макшеєва. Шевченко напівлежить на ліжку біля столу, дивлячись задоволено на свій малюнок; посеред юрти стоїть напівоголений чоловік у чоботах, широких шароварах і казахському гостроверхому капелюсі. Яскраво освітлений торс бездоганно нарисований з анатомічного боку, модельований з великою вишуканістю. На стіні над іншим ліжком – килим і гітара, ті самі, що й у портреті унтер-офіцера, що грає на гітарі. Під віконцем підвішена полиця. На ній коробки і товстелезна книга – можна твердити впевнено – Біблія. Але ж ні: було ще щось – мусив же художник сидіти на чомусь, малюючи автопортрет і постать позуючого (з ліжка він не міг малювати ні себе, ні натурщика). Отже, перед нами композиція, а не етюд, повністю виконаний з натури, з єдиної точки зору.
Двадцять п’ятого липня шхуни «Константин» і «Михаил» відпливли з Раїмської гавані після молебну, відсалютувавши сімома гарматними пострілами. Подолати шістдесят верст, що відділяли гавань від Каспійського моря, пощастило за дві доби. Течія Сир-Дар’ї збивала кораблі з курсу, прибивала до берегів, заганяла у бічні річища, садовила на мілини. Після перерозподілу вантажів, який тривав ще три доби, шхуни вийшли в море.
На зворотному шляху – чудо рідної української пісні
Однієї особливо нудної, задушливої ночі Тарас Григорович вийщов з офіцерської каюти на палубу. Раптом до його слуху долинула знайома пісня, яка у дитинстві викликала сльози. Йшлося у ній про сироту-бідолаху, про людей, нездатних його зрозуміти.
Сирота втомився, на тин похилився, Люди кажуть і говорять: «Горілки напився».Співав вахтовий матрос-українець зі станиці Острівної, тієї самої, в якій Тарас Григорович відпочивав душею і посмакував огірочком шляхом з Оренбурга до Орська. Випливав з туману червоний місяць, море спало непевним підступним сном – ось-ось прокинеться. Тихо співав матрос. Його пісня протнула серце поета, підвела хвилю спогадів. Сльози виступили на очах. Вірш, присвячений цьому випадку, він почав так:
Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого, А серце б’ється, ожива, Як їх почує!.. Знать, од Бога І голос той, і ті слова Ідуть між люди.Хвилювання тієї дивної ночі так і не пощастило втілити у словах, оскільки мить зачарування виявилася неповторною. Зате навкруги відкривалися все нові красоти. Шевченко навіть не встигав фіксувати в альбомі примхливі силуети прибережних скель. Коли висаджувалися на острови, які належало описати і нанести на карту, запливали до бухт, відшукуючи зручні місця для майбутніх гаваней, художник рисував і малював краєвиди аквареллю. Часом він доводив їх до повної завершеності. Ні, не подібні ці краєвиди до улюбленого ним «веселого, зеленого краю»! Але як же чарівні вони своїм похмурим і диким виглядом! Особливу принаду природних кам’яних скульптур, вирізьблених вітром й хвилями морськими, Шевченко зумів відчути і передати. Для цього, крім гострого ока і тренованої руки майстра, потрібна була чутлива душа поета.
Майстерність Шевченка-художника у зображенні незнаних досі країв
Плавання Аральським морем у біографії Шевченка-художника було епізодом, подібним до мандрівки Брюллова до Греції і Туреччини. Безумовно, акварельні краєвиди, виконані його учителем у горах Еллади, Тарас Григорович добре пам’ятав, але не став їх наслідувати. Пленерних ефектів у нього менше, ніж у Брюллова, зате структура скель виявлена бездоганно, а таїна їхнього багатопромовляючого мовчання розкрита з ще небувалою в російському живописі проникливістю. Нагромаджені тисячоліттями плити, гострі шипи відточених вітром і вологою піків, скелі, подібні мурам і баштам – природою створені руїни ніколи не існувавших замків та міст, пірамідальних гробниць та храмів, кам’яні масиви, що нагадують тварин допотопного часу, які сплять, але готові пробудитися – так і здається, що ніби неохоче підводяться їхні голови… Світ загадковий і лякаючий, особливо для того, хто споглядає його віч-на-віч; світ, що попри все це, невідворотно притягує людину якоюсь своєю чаклунською силою. Своєрідне причарування цього світу Шевченко відчув і втілив задовго до Костянтина Богаєвського і Максиміліана Волошина, які відкрили дещо подібне у краєвидах північносхідного Криму. Окрім художньої вартості, акварелі і аральські рисунки Шевченка мають ще одну вартість – наукову, оскільки являють досить точні «портрети місцевостей». І в наші дні, коли зовнішність скель, рисованих ним, значно змінилася, здебільшого їх щастить відносно легко впізнати. Малюючи панорами, художник трохи стискав їх за горизонталлю, щоб умістити на аркуші найцікавіші за формою складові частини краєвиду, але ж кожну скелю, кожен горб, бережок, кам’яний розсип він умів нарисувати і виділити тінями майже так, як це робив у своїх новаторських етюдах Олександр Іванов, чиїх геніальних знахідок Шевченко не бачив, та міг уявляти їх лише за чутками.
Шевченко на безлюдному острові
Тріумфом експедиції стало відкриття острова, на який ще не ступала нога людини. Назви у нього не було. Поява людей на ньому зацікавила тутешніх сайгаків. Спокуса прибульців покуштувати свіже м’ясо виявилася непереборною – гримнули постріли. Шевченко був свідком трагічної загибелі довірливих тварин. Встиг нарисувати зворушливо-незграбний горбоносий профіль антилопи і мертві тіла її родичів. Острів, политий кров’ю невинних тварин, назвали іменем Миколи І. Тут були чудові місця для гаваней, багатша рослинність, прісні водоймища, а море біля берегів кишіло рибою. Близько тижня «Константин» простояв біля острова Миколи І. Невтомний художник малював краєвид за краєвидом, милуючися кущами, очеретом, мілинами, нестрашними для людини. Поглинутий працею, Тарас Григорович перестав голитися, відпустив бороду. Одяг і всенький вигляд виділяли його серед членів експедиції, але зауважень йому ніхто не робив. У вересні шхуни експедиції Бутакова причалили на зимівлю біля острова Кос-Арал у гирлі Сирдар’ї. Тут був невеликий форт, гарнізон його складався з уральських козаків-старообрядців. Перші зустрічні, побачивши бороду «лопатою», вирішили, що до них явився піп-розкольник, мученик за істинну віру. Поспішили донести осавулу Чартогорову. Той зазвав «зайду» в очерет, впав на коліна: «Поблагослови, батюшка, ми вже все знаємо». – «Я теж не був дурнем, – згадував з посмішкою Тарас Григорович, – збагнув, у чім справа, та й хватив його розкольницьким хресним знаменням. Захоплений осавул облобизав мою руку, а увечері задав такий бенкет, який нам і уві сні не марився». Після усіх іспитів, що випали на його долю, Шевченко залишався паливодою.
Шевченко – не «нижчий чин» у товаристві офіцерів
З Кос-Аралу Шевченко навідався до Раїму. На обіді у полковника Матвєєва571, який виконував обов’язки коменданта фортеці (того, що добре поставився до Шевченка, коли він був доставлений у Оренбург), Тарас Григорович веселив товариство розповіддю про свою пригоду з командиром Богомоловим572, присутнім у складі гостей. Викликало сміх уже те, що серед росіян він говорив українською мовою. Свою розповідь він почав так: «Послав наш добрий полковник, нехай йому легенько ікнеться, команду мостити гати на тій проклятущій, кому Дар’ї, а кому мачусі. Зібрав наш ротний командир Богомолов команду, призначив старшого і каже: «Ідіть до чортової матері». Я тієї матері ніколи не бачив, ну і примазався до компанії. Треба було рубати очерет, але сокир команда з собою не мала».
Шевченко буцім побіг до Богомола. Зостав його у дим п’яним, не розуміє, що значить «три сокири». Довелося перекласти «Три топора!» Почухав тоді ротний своє брюхо і каже: «Що ж, Тарас Григорович, треба писать требованіє». – «А пишіть». – «А у мене руки трясутся». Став писати, три аркуші ізмарав та пошматував. «А я стояв та й думав, – закінчив свою розповідь Шевченко. – «От розумна голова! Все пише і рве!» Далі узяв четвертий аркуш і надряпав: «Отпустить три топора». Реготали всі, а особливо сам Богомолов. У товаристві офіцерів Тарас Григорович не почував себе «нижчим чином», поводився невимушено, більше того – був душею компанії.
Шевченко поряд з хоробрим мисливцем
Почався новий період у житті Шевченка – кос-аральський… Пішли дні – сірі, безрадісні. Значною подією в житті гарнізону було полювання на тигра, що з’явився в околицях. Влаштувати його Бутаков наказав двадцятого листопада, після кількох тривожних повідомлень, що надійшли від місцевих казахів. Джульбарс загрожує не лише отарам, а й людям. Хижака настигли в очеретах, він саме був налагодився до бою. За словами Бутакова, хоробрий солдат у ту саму мить, як Джульбарс пригнувся перед стрибком, влучив йому кулю в лоб з відстані у дві сажені. Постріл був такий добрий, що тигр лишився стояти, спираючися на передні лапи. За якийсь-то дуже короткий час Шевченко встиг намалювати вмираючу тварину: задні лапи вже заклякли, передні ще тримають груди та голову. Судячи за цим рисунком, Шевченко був наділений специфічним, не кожному художнику даним, талантом анімаліста.
Різні інтер’єри кос-аральських домівок
Уявлення про будні Кос-Арала дає сепія, в якій Тарас Григорович змалював інтер’єр найбільшого у Кос-Аралі будинку. Тут жив і працював начальник експедиції, сюди до нього приходили підлеглі – як у справах, так і в гості. На першому плані велика залізна піч з количастою трубою, виведеною назовні через стіну. На пічці гріється чайник. Бутаков сидить на ліжку спиною до глядача. У дверях стоїть експедиційний фельдшер Істомін, який тільки-но переступив через поріг, прийшовши з якимсь донесенням. Судячи за позою Бутакова і постаттю фельдшера, нічого незвичайного останній не повідомив. На стіні розвішана усякого роду амуніція, а над ліжком капитана – череп Джульбарса. Крокви стелі прогнулися під вагою даху, віконна рама зроблена абияк. Такий найпишніший інтер’єр кос-аральських будинків. Змалював художник і інтер’єри других будинків – кибиток, а у них своїх приятелів-казахів. Особливу ніжність викликають у нього хлопчики. Перша радість для них – погрітися. Заходять до кибитки і одразу до грубки – погрітися, розпалять її та й засинають у теплі…
Красотами природи Кос-Арал аж ніяк не прикметний. І тим не менше, художник дивом свого пензля, здавалося б, найпрозаїчніші мотиви вмів перетворити на ефектні видовища, овіяні романтичним настроєм. Ми бачимо шхуни, що застигли на водяній гладі біля берега, на якому стоїть будинок Бутакова. Снасті чітко рисуються на тлі неба. Смуги хмар палають жовтогарячими відблисками, вода відливає платиною.
Про що не знали Іван Айвазовський та Архип Куїнджі
Є і нічний краєвид. Диск місяця, що сходить, запалив на воді тремтливу світлову доріжку від обрію до берега. На пишній темній косі – якір та лопоухий пес. Ще видніються повиті темрявою кораблі та острівець височезного очерету, що шелестить на вітрі, і хмари, які вкрили небо. Світлові ефекти у акварелях Шевченка ілюзорні, певною мірою їх допомагає створювати сам собою матеріал і техніка: художник малює на тонованому папері, застосовуючи білила. Та справа не тільки в цьому. Враження засліплюючого світла та блиску майстер створює завдяки найтоншому відчуттю тональних кольорових співвідношень. Іван Айвазовський, а слідом за ним Архип Куїнджі будуть вражати й інтригувати глядачів своїми місячними ночами, не знаючи про те, що Шевченко раніше вирішив аналогічне завдання, йдучи своїм шляхом.
У квітні 1849 року ремонтується шхуна «Константин». Ось вона лежить біля берега на лівому борті, наче без сну завалилася. На першому плані постать людини, що також лежить. Шевченко полюбляє не лише контрасти573, а й паралелі. Близько того часу Бутаков подав рапорт з проханням залишити при ньому у Оренбурзі по завершенню експедиції Вернера574 і Шевченка для доробки описів, карт і видів Аральського моря. Дозвіл був даний з тим, щоб обидва вони «по закінченню потреби» були повернені до Раїмської фортеці.
Після гнітючого Кос-Аралу
Нарешті кос-аральська нудота закінчилася. Шевченко прощається з Кос-Аралом.
Готово! Парус розпустили, Посунули по синій хвилі Поміж кугою в Сирдар’ю Байдару та баркас чималий, Прощай, убогий Кос-Арале!Восьмого травня шхуни знялися з якоря та пішли Сирдар’єю у море. У плаванні небезпечніше, але краще, ніж у фортеці. Цього разу досліджували східне побережжя моря. Тут було багато мілин та дрібних острівців. Рухалися повільно, безперервно вимірюючи глибину. Острівець Чикита-Арал виявився справжнім царством птахів…
Шевченкові краще й плідніше живеться й працюється в Оренбурзі
Прибувши до Оренбурга, Тарас Григорович оселився разом з Лазаревським та Левицьким. Вечорами він читав друзям свої вірші, співали українських пісень, не нехтували і чаркою. Іноді запрошували до себе «веселих дівчат». Подружкою Шевченка завжди була така одна татарочка, найгарніша з оренбурзьких повій. Шевченко, хоч і користувався їхніми послугами, жалів повій, адже випала їм, сиротам, така доля.
Днями Тарас Григорович працював на квартирі Бутакова. Одна кімната тут була зайнята геологічними та ботанічними колекціями, зібраними Вернером під час експедиції. Тепер він їх систематизував, готуючи до відсилки до Петербурга. У іншій кімнаті на трьох столах топографи креслили мапи. Шевченко мав переносити на них «гідрографічні види». Але йому була відведена і окрема кімната, де за своїми рисунками він малював краєвиди для великого альбому аральської експедиції. Роботи було так багато, що капітан додав йому помічника – рядового Броніслава Залеського575, що був художником-аматором…
Великорозмірних картин Шевченко ніколи не малював. Вирішив спробувати – створити вівтарний образ для костьолу, ксьондзом у якому був Кандид Зеленка576, висланий з Вільни після повстання 1830 року. Зробив ескіз сепією: на тлі темного неба яскраво освітлене струнке тіло розп’ятого, обличчям на Шевченка схожого, за ним обабіч розп’яті скорчені розбійники. Картина трагічного настрою. Можливо, згадав художник, як свого часу разом з Михайловим допомагав Брюллову встановлювати його «Розп’яття» у петербурзькій лютеранській церкві. Вразила тоді не так картина учителя (вона викликала захоплення Жуковського, особливо постать Марії Магдалини – розцілував Карла Павловича), а натхненна розповідь Брюллова про те, як слід було намалювати голгофську трагедію. Не виключено, що прагнув здійснити задум Карла Павловича. Показав Зеленці – той рішуче відхилив: не можна вклонятися постатям розбійників. Вилаяв його Шевченко подумки за середньовічний спосіб мислення. На тому й скінчилася справа з його першою картиною релігійного жанру.
Рішуча зміна у ставленні Шевченка до поляків
Спочатку у Шевченка виникали непорозуміння з поляками. Про це свідчить епізод, про який згодом згадував Михайло Лазаревський: «Раз приходе до мене Тарас і пропонує свій портрет: «Візьми ти у мене, Христа заради, оцей портрет, хотілося б, щоб він залишився у добрих руках, а то погані ляхи виманюють його у мене. Усе пристають, щоб я їм віддав (…)». Портрет за бажанням поляків мав представити Шевченка, який сидить за гратами у казематі Орської фортеці, але такої обстановки в рисунку не виявилося. Цікава підробиця. Якби за бажанням поляків додати тюремні грати, автопортрет художника перетворився б на політичний плакат! За словами Залеського, Шевченко незабаром «примирився з Польщею, а нашим братам дав зрозуміти усю прекрасну, щиру і поетичну душу руської народності». Повернувшися до Оренбурга, товариш Шевченка по Академії Чернишов577 виконав груповий портрет польських революціонерів, серед яких представив і Шевченка. Свідченням змін у настрої Шевченка є його слова, звернені до «друга-ляха»: «Подай же руку козакові і серце чистеє подай».
Зближення Шевченка з польськими засланцями
Детальніше розповідає про це Ф. М. Лазаревський: «…Шевченко сблизился с поляками, которых в николаевское царствование в Оренбурге была целая колония…
Ближе всех, по-видимому, он стоял к Залескому, Сераковскому, Турно578, Зеленке и Аркадию Венгжиновскому. Последний из них служил в Пограничной комиссии, человек необыкновенно юркий и пронырливый, он первый узнавал о прибытии новых ссыльных поляков и тотчас вводил их в свой кружок…
Эти-то два воротилы, Венгжиновский и Зеленка, составляли центр польского населения в крае. Лучшими из ссыльных поляков были сосланные в 30-х годах. Было несколько и таких, которые были назначены на службу в Оренбургский край от правительства, с обязательством отслужить известное число лет. Ссыльные поляки составляли образованную часть губернского общества, конечно, не чисто аристократического, а того среднего кружка, в котором вращалось чиновничество невысокого ранга.
Одна из сестёр полковника Герна была замужем за паном Киршей, служившим в провиантской компании. В доме Киршей всегдашними гостями были: Сераковский, Залеский, Турно и др. Там же довольно часто бывал и Шевченко, окуриваемый фимиамом лести и ухаживаний…
Федір Лазаревський про життя Шевченка в Оренбурзі
В последний свой приезд из степи я застал Шевченко там на слободке, во флигеле дома К. И. Герна, но по возвращении моём он начал по-прежнему проживать чаще в моей квартире, оставляя свой скарб у Герна.
Вообще говоря, в короткий период своего житья-бытья в Оренбурге Тарас Григорьевич был обставлен превосходно. Образ жизни его ничем не отличался от жизни всякого свободного человека. Он только числился солдатом, не неся никаких обязанностей службы. Его, что называется, носили на руках.
У него была масса знакомых, дороживших его обществом, не только в средних классах, но и в высших сферах оренбургского населения. Он бывал в доме генерал-губернатора, рисовал портрет его жены и других высокопоставленных лиц. В это время, вследствие частых командировок в степь, я страшно страдал ревматизмом. Пришёл однажды ко мне Тарас и стал тянуть меня к доктору Майделю на вечер:
– Ходім, він тобі скаже, що треба робить.
– Христос с тобой, – говорю ему, – как я пойду без приглашения к такому важному тузу?
– Але ходім, я вже знаю, що роблю.
Я и пошёл. Надобно сказать, что тайный советник барон Майдель был породистый аристократ и вращался в самых высших сферах губернской знати; но я воочию и там убедился, что мой Тарас и там был свой человек. И никакой угловатости, никакого диссонанса с окружавшими его гостями я не заметил. Держал он себя с достоинством и даже с некоторой важностью. Мне за него, как за любимое существо, было приятно. Он никому не навязывался, не вмешивался ни в какой разговор; все обращались к нему, и он всякому отвечал сдержанно, с едва заметным оттенком иронии и с чувством собственного достоинства…
Шевченко захищає честь свого доброго знайомого
В 1849 году прибыл в Оренбург на службу только что выпущенный из какого-то кадетского корпуса смазливенький прапорщик Исаев. Не прошло и полгода, как по городу стали ходить слухи о том, что сей юный Адонис приглянулся супруге N. N. (K. И. Герна). Слухи эти приводили Тараса в исступление.
– Докажу ж я этой к… Не дам ей безнаказанно позорить имя почтенного человека, – кипятился он, заходя ко мне.
– Не твоё, – говорю, – дело мешаться в семейные дрязги. Помни, Тарасе, что ты солдат, а Исаев, хоть и плюгавенький, да офицер, и если через тебя что-нибудь откроется, что ты думаешь – N. N. (K. И. Герн) подякує тоби? Есть вещи, которые лучше не знать.
Но Тарас мой не унимался. Он начал следить за женой N. N. (K. И. Герна) и каждый вечер приносил мне всё новые известия о своих наблюдениях и открытиях. В пятницу на страстной неделе он прибежал ко мне с торжествующей физиономией.
– Накрыв! доказав! N. N. (K. И. Герн) со двора, а он в форточку (калитку), а я следом за N. N. (K. И. Герном), вернув его до дому да прямо в спальню.
– Дурень же ты, дурень, Тарасе, наробив ты собі лиха. Знай же, що тобі не минеться даром: маленькая душонка Исаева отдаст тобі!..
К несчастию, слова мои оказались пророческими. Но всё-таки я не предполагал найти в молодом человеке столько мерзости, сколько в нём оказалось. Я не допускал более того, чем офицер может выместить свои обиды на нижнем чине – рядовом Шевченко. Но я сильно ошибся.
У передбаченні обшуку в квартирі Шевченка палять папери
На следующий день, в страстную субботу, Тарас был дома, а я получил официальное приглашение пожаловать к губернатору в таком-то часу разговеться. Спрашиваю Тараса, как тут быть?
– Ты собі як знаєшь, а я поїду в гости.
В сумерки ко мне приехал Герн, страшно озабоченный, взволнованный.
– Где Тарас? – спрашивает меня торопливо.
– Поехал, – говорю, – в гости.
– Ради бога, поскорей зовите его в квартиру. Жгите там всё, что сколько-нибудь может повредить ему: на него Обручеву подан донос579. Уже сделано распоряжение произвести в его квартире обыск.
Я бросился к знакомым, забрал Тараса и помчался с ним на Слободку. Он был совершенно покоен и даже подшучивал над собой. Приехали. Вывалил он мне целый ворох бумаг и несколько портретов, начатый портрет жены Герна и его самого.
– Ну що ж тут палить? – обратился он ко мне.
Я хоть и знал содержание всех писем к нему, но стал их пересматривать. Все они, по моему мнению, были самого невинного свойства.
– И я тебе питаю, – отвечал я вопросом на вопрос, – що палить?
– Пали усі письма княжны Репниной.
И все драгоценные для Тараса послания Варвары Николаевны, конечно, самые невинные, брошены в камин. Туда же полетели и некоторые бумаги, по выбору самого Тараса.
Пытливо прочёл я письма брата Василия, письма Левицкого, Александрийского580, и других, но ровно ничего, по-моему, в них не было недозволенного, а тем более преступного, но Тарас командовал: «Пали».
– Но послухай же, мій голубе: як ми все спалим, то догадаются, шо нас предупредили об обыске, да и станут искать виноватого. А не будет ли в таком разе в ответе Карл Иванович?
Когда мы въезжали в город, то в Сакмарских воротах повстречали плац-адъютанта Мартынова, полицеймейстра и ещё какого-то военного. Мы догадались, что они едут в Слободку. Не смыкаючи очей, провели мы эту ночь, но обыска у меня не было. Рано утром, прямо от Обручева581, приехал к нам после розговин Александрийский и рассказал все то, что там происходило.
– На меня, – говорил он, – внезапно накинулся Обручев: «А-а, так мы отвечаем пушками на вопли порабощённого народа о свободе! (цитата из письма Александрийского к Шевченко о бунте киргизов в 1848 г.)582. На обвахту! На белое, синее, чёрное море (поговорка Обручева). А Лазаревский здесь? А-а, в переписке с преступником: «Милый, любый мій!», а? На обвахту!» (Здесь Обручев смешал меня с братом Василием.)
В то же время всех присутствующих поразило необыкновенное внимание Обручева к прапорщику Исаеву. Несколько раз подходил он к нему, брал под руку, любезно припрашивал: «Разговляйтесь, любезнейший, разговляйтесь». Тогда всем стало ясно, кто был этот любезнейший предатель.
Значит, ещё до рассвета часть взятых при обыске бумаг уже успели разобрать и доложить генерал-губернатору, заодно с радостным благовестием о воскресении распятого за нас Спасителя!..
В тот же день ко мне заезжали и другие знакомые и передавали, что Обручев высказывался перед своими приближёнными в таких выражениях:
«Мерзавец! Подлец! Но… что будешь делать? Я уверен, что этот негодяй и на меня послал донос. А в Петербурге я никого не имею за плечами; я, как Шевченко, человек маленький».
Обручев не ошибся: на него полетел другой донос шефу жандармов583. В тот же день Шевченко потребовали в ордонансгаус и посадили на обвахту впредь до особого распоряжения, а 12 мая отправили в Орскую крепость этапным порядком, со строжайшим предписанием командиру 5-го батальона следить за ним. Вскоре после высылки Шевченко уволен был и сам Обручев».
Повага до Шевченка на засланні. Його авторитет в Оренбурзі
У Оренбурзі, як свого часу в Україні, автор «Кобзаря» не мав відбою від запрошень. З квартири Лазаревського, що поїхав у відрядження (Левицького тим часом було переведено на службу до Петербурга), Тарас Григорович перебрався до Бутакова. Той був вхожий в доми найповажніших мешканців міста і сам приймав їх у себе. Завдяки йому Шевченко бував у аристократичних вітальнях, в тому числі у самого начальника краю Обручова. За короткий час він встиг зробитися модним в Оренбурзі портретистом. Навіть Обручов замовив йому портрет своєї дружини»584.
Згадує Федір Михайлович Лазаревський
Зі спогадів Ф. М. Лазаревського585 про доаральський та післяаральський період життя Шевченка: «В начале 1848 года Тарас Григорьевич с ротой был отправлен в Уральское укрепление, а оттуда, в числе других нижних чинов 5-го линейного батальона, командирован для прикрытия от нападения кочующих киргизов транспорта, следовавшего под началом генерала Шрейбера в Раимское укрепление, на берегу Сыр-Дарьи. Затем, как известно, Шевченко безвестно пропадал в описной Аральской экспедиции А. И. Бутакова. Во всё это время, ни я, ни кто другой из близких ему лиц не получали от него ни строчечки. Неизменный друг поэта княжна Репнина, встревоженная долгим его молчанием, в начале сентября 1848 года обратилась ко мне со следующим письмом:
«Милостивый государь Ф(ёдор) М(атвееви)ч!
Более года, как я совершенно без известий о Тарасе Григорьевиче Шевченко, который находится под вашим начальством. Именем всего вам дорогого прошу вас уведомить меня, где находится Шевченко и что с ним? Вы меня очень обяжете. Готовая к услугам В. Репнина».
На это письмо я предоставил ответить самому Тарасу по возвращении в Оренбург.
Після Аральської експедиції
Экспедиция Бутакова окончилась осенью 1849 года. Для приведения в порядок собранных материалов ему понадобились в Оренбурге Вернер и Шевченко; последний – для окончательной отделки живописных видов, чего на море сделать было нельзя, а равно и для перенесения на карту видов гидрографических, – вследствие чего Бутаков вошёл с представлением к Обручеву об откомандировании Вернера и Шевченко в Оренбург. Узнавши о том, что во втором батальоне есть искусный рисовальщик, ссыльный Бронислав Залеский, Бутаков просил командировать его в помощь Шевченко. Таким образом наш Кобзарь вместо Орской крепости попал в Оренбург и поселился в квартире моей, близ костёла, а потом в предместье Оренбурга в доме К. И. Герна586, хотя, собственно говоря, наш Тарас, имея много знакомых, проводил где день, где ночь.
Во весь 1849 год я по делам службы подолгу останавливался в киргизских степях. Вернувшись однажды из командировки глубокой осенью, я застал в своей квартире Шевченко и моряка Поспелова587, с которым поэт более года провёл в Аральской экспедиции.
Тарас, Поспелов, Левицкий и я зажили, что называется, душа в душу: ни у одного из нас не было своего, всё было общее, а с Тарасом у нас даже одежда была общая, так что в это время он почти никогда не носил солдатской шинели. Летом он ходил в парусиновой паре, а зимой в чёрном сюртуке и драповом пальто. Иногда заходил к нам Бутаков, чаще других гостил К. И. Герн. Матвеев также не чуждался нашего общества.
Вечера наши проходили незаметно. Пили чай, ужинали, пели песни. Тарас с моряком Поспеловым иногда прохаживались по чарочкам. Изредка устраивались вечера с дамами, причём неизменной подругой Тарасовой была татарка Забаржада, замечательной красоты.
А. И. Бутакову очень понравились наши вечера, но, стесняясь своего подчинённого Поспелова, он у нас не засиживался. Однажды Алексей Иванович просил Тараса устроить в его квартире подобный нашему вечер, только без Поспелова. Был назначен день, но, как назло, в этот именно день Бутаков был приглашён на вечер к Обручёву. Тем не менее, мы собрались у него и ожидали его к ужину. К трём часам вернулся хозяин. Тарас собственноручно зажарил превосходный бифштекс, и мы пропировали до свету.
В конце декабря того же 1849 года я должен был отправиться за 500 вёрст в Гурьев городок и пробыл там до весны 1850 года. Вернувшись в марте, я застал в городе только одного Тараса. Левицкий переведен на службу в Петербург, Бутаков с Поспеловым выехали в степь»588.
Покарання – помста за захист честі товариша
Ісаєв589 звинувачував Шевченка в тому, що він живе не в казармі, вдягається по-цивільному, порушуючи цим військовий статут. «Хоробрий вояка» Обручов перелякався і своєю чергою надіслав до Петербурга рапорт про провини рядового Шевченка.
Місяць просидів Тарас Григорович під арештом, а двадцять третього травня за наказом генерал-губернатора відправлений до подальшої служби в Орськ під команду притягли до відповідальності як особу, що допустила «послаблення» щодо Шевченка. Перебуваючи в Новопетровському укріпленні, поет не раз згадував Поспєлова в листах. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 139.)
старого знайомого майора Мєшкова, який отримав догану за поблажливість до неблагонадійного рядового. Тут для більшої надійності до нього були приставлені унтерофіцер та єфрейтор, щоб стежити за всіма його діями, а коли помітять щось негаразд або неслухняність, то негайно доводили б про це до відома батальйоного командира. І все ж Тарас Григорович знаходив засоби інколи вирватись з казарми, навідатися до старих знайомих…
Близько трьох місяців просидів Тарас Григорович на орській гауптвахті. Під конвоєм його водили на допити до слідчого, підполковника Чигиря590, якого призначив Обручов. Навіть Дубельт звертався до колишнього художника на «ви», а для Чигиря він був тільки рядовим, який «проштрафився», і якому тільки й можна було казати «ти». Це приниження довелося терпіти. При допитах арештанта його «напутствував» священик гарнізонної церкви. Оскільки з’ясувалося, що Шевченка свого часу не привели до присяги, привели його до церкви під караулом, примусили цілувати Євангеліє і хрест, присягаючи «всесвітнім Богом» в тому, що воліє і мусить вірно служити, «не щадячи живота свого, до останньої краплі крові великому государеві Миколі Павловичу».
Умови життя у Орській фортеці були визнані надто сприятливими для Шевченка, даремно що слідство нічого, крім уже відомого про його «злочини», не могло виявити.
З розпорядження командира Окремого Оренбурзького корпусу Обручова начальнику двадцять третьої піхотної дивізії: «Рядового Тараса Шевченка після звільнення його з-під арешту перевести на службу під суворий нагляд ротного командира до однієї з рот Оренбурзького лінійного батальйону, розташованого у Новопетрівській фортеці, відправивши його туди під наглядом благонадійного унтер-офіцера з таким розрахунком у часі, щоб він міг прибути до Гур’єва-городка до закінчення цього року».
Шевченка випроваджують з Оренбурга в піски Мангишлаку
Дорогою до Новопетрівської фортеці Шевченко проїздив Оренбург. Далі дорога йшла все більш кволим степом, укритим уже не ковилою, а посохлим полином. На березі Хвалинського (Каспійського) моря ростуть верби і берези. В уяві Шевченка це дерево пов’язане з Україною. Узяв гілочку з собою на пам’ять.
Сімнадцятого жовтня 1850 року побачив Шевченко просочений сіллю півострів Мангишлак, де на нудній уступчатій горі пригніздився Новопетрівський форт, ще неповністю добудований; білі стіни, церква, казарми, комендантський будинок.
Командиром четвертої роти, до якої зарахували новоприбулого рядового, був штабскапітан Меркул Матвійович Потапов591. Знайомство з ним почалося з такого багатообіцяючого діалогу:
– Ти, братець мій, за політичні справи потрапив у солдати?
– Так, за політичні.
– Не да, а так точно, ваше благородіє!
– Точно так, ваше благородіє.
– Дивись ти у мене, а не то я з тебе всю цю дурість повибиваю. Йди до казарми і без мого дозволу відтіль нікуди.
У дальшому ротний командир не тільки не давав рядовому Шевченку жодних послаблень по службі, а незмінно перевіряв, чи не ховає він у кишені або ще десь олівця та папір, – знав, що має злочинну схильність писати й рисувати. Лише одне дивовижне було помічене у поведінці Шевченка: посадив вербову гілочку і старанно поливав, таскаючи воду з криниці. Навесні деревце зазеленіло…
Комендант фортеці Антон Петрович Маєвський заради Шевченка пішов на службовий злочин: дозволив вести листування. І більш того: сам відсилав його кореспонденцію і отримував листи до нього на свою адресу. Цілком можливо, що хтось з друзів Тараса Григоровича знайшов спосіб повідомити комендантові, хто є його новоприбулий рядовий. Маєвський ризикував, а особливо тому, що у Новопетрівському мешкав «один акцизний урядовець, любитель складати доноси». На цей час стало відомо, що Обручов з своєї посади буде звільнений, Оренбурзьким губернатором знову буде Перовський»592.
Царські службовці – слухняні підручні Миколи І
Якими злісними противниками Шевченка, його поглядів і діяльності не були його ревні наглядачі протягом нестерпного заслання, з якими б огидою та презирством не ставився до них поет-революціонер, іноді вони – одного разу навіть не останні чини зловісного «III Відділення» – погодилися піти на те, щоб, бодай трішечки, полегшити тяжкі умови цього десятирічного періоду важких випробувань.
Пошлемося на подання кількох осіб царського режиму, запозичених з їхнього листування між собою. Як не дивно, його подав начальник «III Відділу» граф Орлов593.
30 січня 1848 р. він звернувся до командира Окремого Оренбурзького корпусу Обручова: «По высочайшему повелению, последовавшему в исходе мая 1847 года, бывший художник Тарас Шевченко за сочинение на малороссийском языке стихов возмутительного и самого дерзкого содержания, определён рядовым в войска Отдельного Оренбургского корпуса, с правом выслуги, под строжайший надзор и с запрещением ему писать и рисовать.
Имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство уведомить меня, как о том, в каковом полку Шевченко состоит на службе, так равно и об усердии, поведении и образе мыслей его, с вашим заключением ему заниматься рисованием»594.
30 березня 1848 р. начальник 23-ї піхотної дивізії генерал-лейтенант Толмачов595 доповідав шефу «III Відділу» Орлову: «Вследствие отношения вашего сиятельства к господину корпусному командиру от 30-го генваря… я, за отсутствием его высокопревосходительства, имею честь донести, что определённый в Отдельный Оренбургский корпус рядовым, по высочайшему повелению, последовавшему в мае месяце 1847 года, за сочинение возмутительных стихов, бывший художник Тарас Шевченко, с запрещением ему писать и рисовать, – состоит на службе в Оренбургском линейном батальоне № 5-го, ведёт себя хорошо, службою занимается усердно, в образе его мыслей ничего предосудительного не замечено и по засвидетельствовании его ближайшего начальника, он заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованием».
У примітці до цього рапорту сказано: «На документі є така резолюція: «“Подождать”»596.
Вирок виносить та наполягає на його виконанні особисто цар Микола І
Прочекавши практично два роки, Орлов разом зі своїм заступником Дубельтом597 наважилися звернутися зі спільним поданням до царя Миколи І:
«О РЯДОВОМ ШЕВЧЕНКЕ
В 1847 г. художник Шевченко, находясь в Киеве, был в связях с молодыми людьми, которые составляли Украино-славянское общество, и потому был доставлен в С. – Петербург.
Хотя по исследованию оказалось, что Шевченко не принадлежал к упомянутому обществу, но обнаружено, что он, сочиняя малороссийские стихи, выражал плач о мнимых бедствиях Украины, описывал славу гетманских времён и прежнюю вольницу казачества, изливал клеветы и желчь даже на особ императорской фамилии, забывая в них личных своих благодетелей, удостоивших выкупить его из крепостного состояния.
При решении Украино-славянского дела, я полагал: Шевченку определить рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений. Ваше императорское величество, высочайше утвердив таковое мнение, собственно написать соизволили: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».
В исполнение сего Шевченко тогда же определён рядовым в Оренбургский линейный № 5-го батальона.
В январе 1848 года поступило ко мне ходатайство о дозволении Шевченке рисовать, и начальство отдельного Оренбургского корпуса в то время отозвалось, что означенный рядовой ведёт себя хорошо, службою занимается усердно и в образе мыслей его не замечено ничего предосудительного, а поэтому он заслуживает испрашиваемого ему дозволения рисовать, но я тогда признавал ещё рановременным входить по сему предмету со всеподданнейшим докладом.
Ныне генерал от инфантерии Обручёв, ссылаясь на упомянутую переписку, спрашивает меня: можно ли дозволить Шевченке заниматься рисованием, под наблюдением ближайшего начальства.
Всеподданнейше докладывая о сём вашему императорскому величеству и принимая во внимание, с одной стороны, одобрительный отзыв нынешнего начальства о поведении Шевченки, а что рядовой сей и в прежнее время неблагонамеренность свою обнаруживал в сочинении, рисунков же подобного содержания не было между его бумагами, я осмеливаюсь испрашивать не соизволите ли высочайше разрешить ему заниматься рисованием, с тем однако же, чтобы он произведения свои представлял на просмотр оренбургского военного губернатора»598.
Отримати офіційний дозвіл малювати у засланні Шевченкові так і не вдалося, але він зміг і знайшов-таки друзів, за допомогою яких і у засланні – так чи інакше – продовжити заняття живописом. Про це розповідає, зокрема, непересічний знавець історії ХІХ століття Ф. О. Ястребов. «В ссылке, – зазначає дослідник, – Шевченко продолжал мужественно представлять революционную демократию Украины. И это – несмотря на муки бесправия, одиночества, несмотря на почти полное отсутствие моральной и материальной поддержки извне и каторжную жизнь в николаевской казарме. Недаром, когда получил весть о своём освобождении, он некоторое время спустя, 19 июня 1857 г., записал в своём журнале-дневнике, этом удивительном человеческом дневнике-документе599: «Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему мне ещё запрещено рисовать.
Отнято благородней(шу)ю часть моего бедного существования. Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произвести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностию.
Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Николай запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромнейшее государство в мире, выросло на началах Христовой заповеди. Флорентинская республика – полудикая средневековая христианка, но всё-таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Алигьери. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомученниками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого язычника и полуозарённую средневековую христианку с христианином девятнадцатого века»600.
Шевченко в засланні. В перші роки й згодом
Если в первые три года ссылки (1847 – 1850) Шевченко ещё мог сравнительно свободно заниматься поэтическим творчеством, создав больше ста произведений, и среди них такие, как «Княжна», «Сон», «Іржавець», «Чернець», «Варнак», «Старенька сестро Аполлона» («Царі»), «Титарівна», «Швачка», «У неділеньку, у святую», «Якби ви знали, паничі» и др., то за последние семь лет жизни в Новопетровском укреплении (1850 – 1857) написал, как известно только небольшое стихотворение в 8 строк «Мій боже милий, знову лихо» (1853) и вариант поэмы «Москалева криниця» (май 1857).
Много значил для развития поэтического гения Шевченко 1847 год, когда поэт, изведав жизнь в казарме, влачил своё неизбывное горе на солдатской каторге. Приведём следующие строки из обращения к А. О. Козачковскому, зародившиеся в 1847 г. в Орской крепости и окончательно обработанные в середине марта 1858 г. в Москве уже после ссылки:
«Айда в казарми! Айда в неволю!» — Неначе крикне хтось надо мною. І я прокинусь. Поза горою Вертаюсь, крадуся понад Уралом, Неначе злодій той, поза валами. Отак я, друже мій, святкую Отут неділеньку святую601.И дальше поэт раскрывает до конца трагедию своего рабского существования в трижды проклятой царской казарме:
А понеділок?.. Друже-брате! Ще прийде ніч в смердячу хату, Ще прийдуть думи. Розіб’ють На стократ серце, і надію, І те, що вимовить не вмію… І все на світі проженуть. І спинять ніч. Часи літами, Віками глухо потечуть. І я кривавими сльозами Не раз постелю омочу602.Страдания в одиночестве не убили в поэте благородного чувства собственного достоинства, не сломили революционного духа; его гневный голос зазвучал с ещё большей силой, провещая неминуемый конец злу, воплощённому в царской власти и крепостном бесправии.
О думи мої! о славо злая! За тебе марно я в чужому краю Караюсь, мучуся… але не каюсь!..603О неизменности произведений Шевченко лучше всего свидетельствуют произведения, написанные в 1847 – 1857 годах. В них, как и раньше, бьёт живой родник любви к Украине и дышит огонь революционной ненависти и презрения к врагам всех угнетённых. До поэта доходят издалека глухие вести о революции 1848 г., как это видно из письма Александрийского…
От своего знакомого Александрийского Шевченко знал и о киргизском восстании, происшедшем в том же году604.
Несомненным откликом на революционные события была поэма Шевченко «Старенька сестро Аполлона» («Царі»), написанная в 1848 г. Во введении к ней поэт, обращаясь к музе, замечает, что ему:
Хотілося б зогнать оскому На коронованих главах, На тих помазаниках божих… Так що ж, не втну, а як поможеш Та як покажеш, як тих птах Скубуть і патрають, то, може, І ми б подержали в руках Святопомазану чуприну. Покиньте ж свій святий Парнас, Придибайте хоч на годину Та хоч старенький божий глас Возвисьте, дядино. Та ладом, Та добрим складом хоть на час, Хоть на годиночку у нас Ту вінценосную громаду Покажем спереду і ззаду Незрячим людям. В добрий час Заходимось, моя порадо»605.Описав развратную жизнь царей, Шевченко в заключительной главе поэмы говорит:
Бодай кати їх постинали, Отих царів, катів людських! Морока з ними, щоб ви знали. .... Бо де нема святої волі, Не буде там добра ніколи606.И Шевченко заканчивает поэму призывом идти на службу к народу, жить с ним вместе и любить его:
Ходімо в селища, там люде, А там, де люде, добре буде, Там будем жить, людей любить, Святого Господа хвалить607.По возвращении из ссылки с огненной, испепеляющей силой заговорил Шевченко о народном восстании, о революции. Во всей нашей стране не было тогда поэта, обладающего голосом подобной мощи.
Выстраданный в крепостной, а потом в казарменной неволе гнев запылал в неслыханных доселе стихах.608
1
Н. М. Дружинин. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX веке. М., 1985. С. 5.
(обратно)2
Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 т. Т. 5. Щоденник… К., 1980 – 1984. С. 125.
(обратно)3
Там само. С. 124.
(обратно)4
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. Ленинград, 1978. С. 407.
(обратно)5
Михаил Петрович Погодин (1800 – 1875) – русский историк, писатель, журналист. Профессор Московского университета, академик с 1841 г. Сын крепостного, отпущенного на волю в 1806 г. В 1825 г. защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», в которой выступил представителем так называемой норманнской школы. В начале литературной деятельности, в период издания журнала «Московский вестник» (1827 – 1830) в беллетристике Погодина слышались мотивы протеста против угнетённого положения народа. Наибольший интерес представляли его бытовые повести (издания 1832 г.), в которых показано бесправное положение крепостных («Нищий»), мрачный быт купечества («Чёрная помочь»), жадность и бескультурье мелкодворянской и чиновничьей среды («Невеста на ярмарке»). Предвосхищая Ф. М. Достоевского, Погодин проявил интерес к людям социального дна («Счастье и несчастье»), а также к патологическим состояниям человеческой психики («Преступница», серия рассказов из народной жизни под общим названием «Психологические явления»), однако Погодин не связывал их с патологией социального строя и искал выход в религии, в социальном смирении. В книге «Год в чужих краях» (1839). Дорожный дневник» отчётливо сказались противоречия сознания Погодина: с одной стороны – нерассуждающая религиозность, монархизм, великодержавный шовинизм, с другой – возмущение бесправием, нищетой, а заодно и «гегелистами», считающими «всё действительное разумным». К Погодину здесь приложима характеристика, данная ему позднее поэтом Н. Ф. Щербиной: «демократства и холопства удивительная смесь».
В 1835 г. Погодин установил связи с представителями чешской славистики (В. Ганка, Ф. Палацкий, П. Й. Шафарик) и стал пропагандистом идеи славянского единства. С начала 1840-х годов Погодин вёл преимущественно публицистическую и научную деятельность, выступал в период редактирования совместно с С. П. Шевырёвым (1841 – 1856), как апологет «официальной народности». Православие как религия «смиренномудрия», самодержавие как система «отеческого» управления, народность как верность старинным бытовым и общественным устоям – эти «истиннорусские» принципы должны спасти страну от революций, потрясающих «гниющий» Запад. С этих позиций Погодин осуждал натуральную школу, критику В. Г. Белинского, приветствовал «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя, с которым был лично связан до конца его жизни. «Охранительство» Погодина (служившее Н. А. Герцену и М. Е. Салтыкову мишенью для сатирических выпадов) отталкивало от него даже недавних соратников-славянофилов.
Значительна роль Погодина-историка, обнаружившего и опубликовавшего многие документы. Ему принадлежит заслуга создания русского национального древнехранилища (Москва), в котором собраны старинные рукописи, книги, монеты, утварь, оружие и т. д. (в 50-х гг. XIX века собрание Погодина было куплено правительством). (Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. Стб. 822.)
(обратно)6
Степан Петрович Шевырёв (1806 – 1864) – русский литературный критик, историк литературы, поэт. Академик Петербургской АН (1852). Родился в дворянской семье. Окончил Благородный пансион при Московском университете (1822). Был близок к Обществу любомудров, разделял его интерес к философии Ф. Шеллинга. В 1825 г. перевёл книгу Д. Тика и В. Г. Ваккенродера «Об искусстве и художниках». Принимал участие в организации и издании «Московского вестника», печатал в нём свои стихи, критические и теоретические статьи, рецензии (например, обзор русской литературы за 1827 г., где дана содержательная характеристика творчества А. С. Пушкина). Сделанный Шевырёвым разбор фрагмента из «Фауста» получил одобрение И. В. Гёте… В стихах, большая часть которых написана во второй половине 1820-х гг., Шевырёв предпринял попытку создать «позицию мысли». Шевырёв выступил против гладкости и благозвучия поэтической речи. Тема природы и её единства с духовной жизнью человека (стихотворения «Глагол природы», «Сон», Ночь», «Стансы» и др.) занимает центральное место в творчестве Шевырёва. Ряд его стихотворений посвящены исторической теме («Петроград», «Стансы Риму» и др.), литературной полемике («Водевиль и Элегия», «Тяжёлый поэт», «Послание к А. С. Пушкину» и др.). В 1831 г. Шевырёв опубликовал рассуждение «О возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение», которое вместе с экспериментальными переводами октавами седьмой песни «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо должно было обосновать возможность коренной реформы русского стихосложения. В 1832 – 1857 гг. он преподавал историю русской литературы в Московском университете (в 1837 г. – профессор).
В исследованиях «История поэзии» (тт. 1 – 2, 1835 – 1892, посмертно), «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (ч. 1 – 4, 1836, докторская диссертация) и др.
Шевырёв стремился рассмотреть теорию литературы как отражение духовного опыта народа, его истории; обоснование исторического подхода к искусству вызвало сочувственный отзыв Пушкина. В 1835 – 1837 гг. Шевырёв – критик «Московского наблюдателя». Высоко оценивая комизм Н. В. Гоголя, выступал против так называемого «торгового направления» в литературе (Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч, О. И. Сенковский) , он вместе с тем всё определённее занимает дворянско-охранительные позиции. Возглавив в 1841 г. вместе с М. П. Погодиным журнал «Москвитянин», Шевырёв стал одним из глашатаев теории «официальной народности», вел непрестанную борьбу против В. Г. Белинского, натуральной школы. В 1846 г. Шевырёв издал «Историю русской словесности, преимущественно древней» (т. 1) – первый систематический курс древней русской литературы, основанный на изучении первоисточников. Последние годы жизни Шевырёв провёл за границей, где читал лекции по истории русской литературы». (Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Стб. 655 – 656.)
(обратно)7
На превеликий жаль, коментатори видання Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка не дуже старанно поставились до своєї справи, плутаючи факти, відомі школярам. Адже історична битва під Калкою сталася роком раніше – у 1223 році.
(обратно)8
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8, C. 407 – 409.
(обратно)9
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Л.: Изд-во художественной литературы, 1950. 599 с.
(обратно)10
Сергей Львович Пушкин (1770 – 1848) пережил свого великого сына на одиннадцать с половиною лет, но не оставил о нём развёрнутых воспоминаний. Это можно объяснить и холодностью их личных отношений, и определённой узостью духовного мира отца. Взглядам С. Л. Пушкина на назначение дворянина явно не соответствовало поприще, избранное сыном. «Замечания на так называемую биографию Александра Сергеевича Пушкина», помещённую в «Портретной и биографической галерее», вызваны не столько стремлением С. Л. Пушкина исправить неточности биографа, относящиеся к облику поэта, сколько уязвлённым достоинством дворянина: больше всего негодует С. Л. Пушкин по поводу того, что преуменьшены родовитость его жены и состояние его отца. Поводом к «Замечаниям» явилась анонимная книга «Портретная и биографическая галерея словесности, художеств и искусств в России. I. Пушкин и Брюллов», СПб., 1841 (авторство приписывается О. И. Сенковскому). «Замечания» С. Л. Пушкина на эту книгу напечатаны в журнале «Отечественные записки» (1841, том XV). Мы воспроизводим наиболее существенные из них, относящиеся непосредственно к А. С. Пушкину.
Сестра Пушкина Ольга Сергеевна в замужестве Павлищева (1797 – 1868) была неразлучной спутницей детства будущего поэта, до самой поры его поступления в Лицей. Этим дням и посвящены «Воспоминания о детстве будущего поэта (со слов сестры его О. С. Павлищевой), написанные в Спб. 26 октября 1851 г.». Воспоминания содержат ценные данные о временах домашнего учения, детских досугах и первых литературных опытах Пушкина, о среде, его окружавшей. Небезынтересны и сведения о предках Пушкина, в заключительной части воспоминаний… (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 523.)
(обратно)11
Николай Николаевич Раевский (1771 – 1829) – русский военный деятель, герой Отечественной войны 1812 г., генерал от кавалерии (1813). С 1790 г. участвовал в войнах с Турцией, Польшей, Ираном, затем в войнах с Францией (1805 – 1807), Турцией (1806 – 1812) и Швецией (1808 – 1809). Во время Отечественной войны 1812 г., командуя 7-м пехотным корпусом, отличился в боях у Салтановки 11(23) июля, под Смоленском 4(16) августа, в Бородинском сражении (оборона батареи Раевского), под Малоярославцем 12(24) октября и др. Участник заграничных походов 1813 – 1814 гг. До 1825 г. командовал корпусом во 2-й армии на Юге России, с 1826 г. – член Государственного совета. Отличался личной храбростью и пользовался широкой популярностью. Был в дружеских отношениях с А. С. Пушкиным и оказывал ему поддержку во время его южной ссылки. В среде, окружавшей Раевского, было много декабристов (в частности, его зятья С. Г. Волконский и М. Ф. Орлов), с которыми были связаны также двое его сыновей. Декабристы намечали Раевского членом Временного верховного правительства. (Советская историческая энциклопедия. Т. 11. Стб. 835.)
(обратно)12
Где находилось семейство Раевских.
(обратно)13
Давно покинувший свет и службу и живущий уединённо в Москве. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. C. 523.)
(обратно)14
Л. С. Пушкин приводит письмо к нему А. С. Пушкина от 18 сентября 1820 года с некоторыми неточностями. (Там само. С. 524.)
(обратно)15
М. Ф. Орлов (1788 – 1842) – генерал-майор, член «Арзамаса», видный декабрист, в 1820 – 1822 гг. командир 16-й пехотной дивизии в Кишинёве. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. C. 589.)
(обратно)16
П. С. Пущин (1789 – 1865) – бригадный генерал в Кишинёве, масон, причастный к декабристам. (Советская историческая энциклопедия. Т. 11. Стб. 592.)
(обратно)17
Кроме того, в Кишинёве Пушкин написал поэму «Гаврилиада» (апрель 1821 года) и начал роман «Евгений Онегин». (Там само. С. 525.)
(обратно)18
Из заметок художника Г. Г. Чернецова, сделанных 12 апреля 1822 года, следует, что Пушкин был ростом 2 аршина 5 ½ вершков.
(обратно)19
Стихотворение «Иностранке» относится к 1822 г. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 525.)
(обратно)20
Николай Михайлович Языков (1803 – 1847) – русский поэт. Родился в дворянской семье. В 1814 – 1820 гг. учился в Горном кадетском корпусе и Институте инженеров путей сообщения в Петербурге в 1822 – 1829 гг. – на философском факультете Дерптского (Тартуского) университета. В молодости был близок к К. Ф. Радищеву, А. А. Бестужеву, печатался в «Полярной звезде». Был другом А. С. Пушкина. Годы, проведенные в Дерпте – наиболее плодотворный период его творчества. Языков быстро завоевал репутацию самобытного поэта, самобытно отразившего вольнолюбие и политическую оппозиционность передовой дворянской молодёжи: стихи и песни Языкова осуждают самодержавие и обскурантизм, славят личность, независимую от оков несправедливого социального строя и ханжества официальной морали. В элегиях «Свободы гордой вдохновенье» и «Ещё молчит гроза народа» выражено глубокое сожаление по поводу слабости политического протеста в стране. В стихотворении «Не вы ль, убранство наших дней», написанном после казни К. Ф. Рылеева, возникает грозный образ грядущей России, поднявшейся «на самовластие царей». В декабристских традициях разрабатывает Языков темы русской истории («Песнь барда во время владычества татар в России», «Баян к русскому народу…», «Евпатий», «Новгородская песня» и др.). Характерный для стихов молодого Языкова пафос «жизни своевольной», «радости и хмеля» нашёл отражение и в самой удали его поэтической речи, в темпераментности и свежести стихового строя, в смелости и неожиданности словотворчества. Высоко оценивая стихи Языкова ранней поры, Н. А. Добролюбов отметил, что «…к сожалению, источник их был не в твёрдом, ясно сознанном убеждении, а в стремительном порыве чувства, не находившего себе поддержки в просвещённой мысли» (Собр. соч. Т. 2. 1962. С. 342) и тем самым объяснил основную причину идейной и творческой эволюции Языкова в 30 – 40-е гг. XIX века.
Переехав из Дерпта в Москву (1829), поэт сблизился с будущими славянофилами И. В. и П. В. Киреевскими, А. С. Хомяковым, семьёй Аксаковых. От вольнолюбия и тираноборчества дерптских стихов Языков перешёл сначала к покаянно-религиозным настроениям, к осуждению своего прошлого (Ау!», 1831), а в конце жизни – к ожесточённым нападкам на П. Я. Чаадаева, Т. Н. Грановского, А. И. Герцена («К ненашим», 1844), что вызвало резкий отзыв В. Г. Белинского, пародии Н. А. Некрасова. Патриотизм Языкова стал проявляться как приверженность к православию и вражда к революционному Западу. Программным для позднего Языкова было стихотворение «Землетрясенье» (1844), где он утверждал, что миссия поэта – приносить «дрожащим людям молитвы с горной вышины», что путь к спасению – в вере.
В 1840-е гг. Языков написал стихотворные повести, близкие к натуральной школе, в которых проявлялся интерес к быту и влиянию среды на человека («Сержант Сумин», 1845, «Липы», 1846). Языков был одним из зачинателей и активных пропагандистов собирания и издания памятников народного творчества. Разработка фольклорных тем заняла заметное место и в его поэзии («Сказка о пастухе и диком вепре», 1835; «Жар-Птица», 1836 и др.). Многие стихи и песни Языкова («Нелюдимо наше море», «Из страны, страны далёкой» и др.) положены на музыку А. С. Даргомыжским, К. П. Вильбоа и другими русскими композиторами. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Стб. 1048 – 1050.)
(обратно)21
По цензурным соображениям Л. С. Пушкин умалчивает о приезде в Михайловское декабриста И. И. Пущина.
(обратно)22
Петр Андреевич Вяземский (1792 – 1878), князь – русский поэт и критик. Родился в богатой дворянской семье. Получил отличное домашнее образовние. С 1807 г., оставшись сиротою, находился «на попечении» Н. М. Карамзина (женатого на старшей сестре Вяземского), что обусловило литературные интересы Вяземского. В 1812 г. вступил в ряды ополчения, участвовал в Бородинском сражении. После войны у Вяземского возникло критическое отношение к правительству, политике. Он принимал участие в составлении записки об освобождении крестьян, поданной царю в 1820 г., а находясь на службе в Варшаве, Вяземский участвовал в подготовке конституции (1820), общался с вольнолюбиво настроенными кругами польского дворянства и будущими декабристами. В 1821 – 1829 гг. Вяземский, отстранённый от службы за оппозиционные настроения, жил в Москве и в родовом подмосковном имении Остафьево. После поражения декабристов Вяземский продолжал отрицательно относиться к царской бюрократии, о чём свидетельствует его сатира «Русский бог» (1828), опубликованная А. И. Герценом в Лондоне (1854); она была переведена на немецкий язык для К. Маркса и сохранилась в его бумагах. Однако это не помешало Вяземскому искать путей для примирения с самодержавием, и в 1830 г. он вновь поступил на службу. В 1830 – 1855 гг. он служил в министерстве финансов. В 1856 – 1858 гг. – товарищ министра народного просвещения; возглавлял цензуру. Был близок к царскому двору. С 1863 г. почти постоянно жил за границей, где и умер.
Первые стихи Вяземский напечатал в 1808 г. Обратившись в 1810-е гг. к жанру гражданской лирики, он создал стихи, близкие к революционной поэзии декабристов. В своих вольнолюбивых стихотворениях «Петербург» (1818), «Сибирякову» (1819), «Негодование» (1820) и др.
Вяземский обличал деспотизм, «неистовых врагов» свободы, бесчеловечность, крепостников – «угодников самовластья», в своих сатирах высмеивал петербургскую чиновничью знать.
Некоторые стихи Вяземского печатались в «Полярной звезде» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. В 1810 – 1820 гг. Вяземский вместе с А. С. Пушкиным принимал активное участие в борьбе «Арзамаса» против «Беседы любителей русского искусства», выступая сторонником карамзинистов. В «Послании к М. Т. Каченковскому» (1820) Вяземский защищал Карамзина от нападок его литературных врагов. В 1825 – 1828 гг. Вяземский участвовал в издании журнала «Московский телеграф», где выступал как критик в защиту романтизма, против классицизма и литературных староверов. В статьях «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» (помещена в виде предисловия к изданию «Бахчисарайского фонтана») и в «Письмах из Парижа» (1826 – 1827) Вяземский рассматривал романтизм как утверждение исторического и национального начала в поэзии, как утверждение независимости личности. Позднее активно сотрудничал вместе с Пушкиным в «Литературной газете» и «Современнике», выступал против реакционно-охранительной литературы, Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. В 1848 г. Вяземский опубликовал написанную ещё в 1830 г. книгу о Д. И. Фонвизине, явившуюся первым опытом обстоятельного исследования жизни и творчества писателя. В 1840-е гг. литературнокритические статьи Вяземского, носившие реакционный характер, были направлены против идей В. Г. Белинского («Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина», 1847 г. «Языков и Гоголь», 1847 г. и др.). Революция 1848 г. в Европе вызвала стихотворение Вяземского «Святая Русь», проникнутое враждой к революции и преданностью монархии. Политические стихи Вяземского 1850 – 1870-х гг. носили официозный характер и нередко подвергались осмеянию в передовых сатирических журналах. Некоторые его поздние лирические стихи отражали грустные настроения поэта, ощутившие разрыв с современностью. В 1855 г. в Лозанне были изданы «Письма русского ветерана 1812 года». В течение многих лет Вяземский печатал эпизодические отрывки из «Старой записной книжки» (в 1820 – 1830-е гг. – в «Московском телеграфе», «Северных цветах», в 1870-е гг. – в «Русском архиве»). Сводная их публикация, в том числе неизданных (32 книжки из 37), хранящихся в Остафьевском архиве, помещена в Полном собрании сочинений Вяземского… В них Вяземский включил свои литературные анекдоты, афоризмы, стихи, меткие зарисовки политического и литературного быта своего времени и портреты современников.
Вяземский – поэт высокой художественной культуры, владевший различными жанрами. В его лирике встречаются интонации торжественной оды, продолжающей традиции державинской оды; они сменяются тонкими зарисовками природы («Первый снег», 1819); негодующая публицистическая речь чередуется с изящной записью в великосветском альбоме или наброском народной песни («Тройка мчится, тройка скачет…»). Для поэтического языка Вяземского характерны свободные переходы от романтического пейзажа к куплетной форме («Зимние карикатуры», 1828), от высокого пафоса к языку «газетного стихотворения» фельетонного типа и к обиходной разговорной речи. «Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах. Прежде поэты терялись в метафизике; теперь чудесное, сей великий помощник поэзии на земле», – Вяземский в 1821 г. …Певучей музыкальности поэтической речи Вяземский предпочитал прозаическую резкость стиха, отражающего точность острой мысли. Ради создания «поэзии мысли» Вяземский порой нарушал грамматические нормы стиха, жертвовал лёгкостью и правильностью стиха. Его мастерство сатирика, автора острых эпиграмм и салонных каламбуров дало повод для пушкинской характеристики Вяземского: «Язвительный поэт, остряк замысловатый, и блеском колких слов и шутками богатый…» В. Г. Белинский, ценивший блестящий талант и важные литературные заслуги в освобождении русской литературы «…от предрассудков французского классицизма», выступил, однако, в «Письме к Гоголю» против Вяземского-реакционера. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. Стб. 1080 – 1082.)
(обратно)23
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. C. 547.
(обратно)24
Кишинёвский помещик, лейб-драгунский капитан. (Там само. С. 534.)
(обратно)25
Речь идёт, несомненно, о богатом бессарабском помещике Земфараки Ралли-Арборе, дом которого, по свидетельству Липранди, довольно часто посещал Пушкин. (Там само. С. 247.)
(обратно)26
Ода «Вольность». (Там само. С. 300.)
(обратно)27
8 сентября 1826 года, в первый же день возвращения из ссылки в Москву, Пушкин направил графу Ф. И. Толстому – Американцу вызов на дуэль, которая, однако же, была предотвращена стараниями друзей. (С. 301.)
(обратно)28
Там само.
(обратно)29
Иван Иванович Пущин (1788 – 1859) – русский мемуарист, декабрист. Происходил из старинного дворянского рода. В 1811 – 1817 гг. воспитывался в Царскосельском лицее, где началась его долголетняя дружба с А. С. Пушкиным, посвятившим Пущину стихи «Воспоминания» (1815), «К Пущину» (1815), «В альбом Пущину» (1817). «19 октября» (1825), «И. И. Пущину» (1826). По окончании Лицея был произведен в офицеры конно-артиллерийского полка. В 1817 г. стал членом «Союза спасения», затем вошёл в «Союз благоденствия» и в Северное общество. За участие в восстании на Сенатской площади приговорён к смертной казни, заменённой пожизненной каторгой и пожизненной ссылкой (в Чите, Петровском Заводе, в Туринске Тобольской губернии);
в 1843 г. переехал в Ялуторовск. В 1856 г. амнистирован и поселился в селе Марьино, под Москвой. В 1814 г. Пущин напечатал перевод статьи Ж. Ж. Лагарпа «Об эпиграмме и надписи древних» и отрывок из И. К. Лафатера «О путешественниках»… В Сибири Пущин переводил «Записки» В. Франклина и «Мысли» Б. Паскаля (не опубликованы). «Письма» Пущина из Сибири – ценное свидетельство настроений и быта декабристов. В 1859 г. опубликованы «Записки И. И. Пущина о дружеских связях его с Пушкиным»… воссоздающие обстановку, в которой рос Пушкин и развивалось его дарование». (Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. Стб. 111.)
(обратно)30
Иван Дмитриевич Якушкин (1793 – 1857) – декабрист. Из дворян Смоленской губернии. Учился в пансионе проф. А. Ф. Мерзлякова, окончил Московский университет (1811), затем служил в лейб-гвардии Семёновском полку, участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813 – 1814 гг., отличился в сражениях при Бородино и Кульме. В 1818 г. уволен в отставку в чине капитана. Один из основателей «Союза спасения». В сентябре 1817 г. вызвался совершить цареубийство, но это предложение было отвергнуто, после чего Якушкин вышел из «Союза спасения». В 1819 г. принят в «Союз благоденствия». В 1820 г. предпринял неудачную попытку безземельного освобождения крепостных крестьян своего имения в Смоленской губернии (позднее склонялся к предоставлению крестьянам земли за выкуп). В движении декабристов склонялся к умеренному течению, будучи сторонником конституционной монархии.
Вместе с М. А. Фонвизиным был инициатором московского съезда «Союза благоденствия» (январь 1821 г.), решением которого Якушкину поручалось основать Смоленскую управу тайного общества, куда он привлёк П. Я. Чаадаева и П. П. Пассека. В середине декабря 1825 г. предложил поднять на восстание расквартированные в Москве войска. Арестован 10 января 1826 г. и приговорён к 20 годам каторги (позднее срок сокращён до 10 лет), находился на Нерчинских рудниках и в Петровском Заводе. С 1835 г. на поселении в г. Ялуторовске Тобольской губернии. В Сибири Якушкин сохранил верность революционным идеалам, много занимался естественными науками, вёл просветительскую деятельность, учредив ланкастерские школы, где обучение велось на основе прогрессивных педагогических принципов по разработанным Якушкиным программам и пособиям. В 1856 г. амнистирован, жил в селе Новинки Тверской губернии и в Москве, где и умер. Автор «Записок» – первоклассного источника по истории декабризма. (Советская историческая энциклопедия. Т. 16. Стб. 878 – 879.)
(обратно)31
«Прощальная песнь» Дельвига.
(обратно)32
Антон Антонович Дельвиг (1798 – 1831) – барон, русский поэт. Учился в Царскосельском лицее… по окончании которого определился на службу. С 1824 г. Дельвиг целиком отдаётся литературной работе. Он начал писать стихи ещё будучи воспитанником Лицея, там же установились его художественные взгляды. В 1818 г. был избран в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В 1819 г. вступил в общество «Зелёная лампа». Прогрессивные убеждения Дельвига того времени нашли частичное отражение в его творчестве (участие в переводе «Маккавеев», перевод антирелигиозной песни Беранже «Le bon Dieu» – «Подражание Беранже»). Однако восстание декабристов прошло мимо Дельвига, несмотря на близкие отношения с В. К. Кюхельбекером, К. Ф. Рылеевым, А. А. Бестужевым и другими. Дельвиг выступил в поэзии оригинальным продолжателем классической традиции (К. Н. Батюшкова и других). Основными видами его лирики становятся подражания древним (идиллии) и стихи в духе русских народных песен. Увлечение античностью для Дельвига, как и для многих поэтов начала XIX века, обусловливалось пассивным неприятием господствующих общественных порядков, романтическими поисками гармонической личности, отличающейся простотой и естественностью чувств. Именно в этом заключался идейный смысл таких идиллий, как «Цефил», «Дамон», «Купальницы», «Конец Золотого века». В идиллии «Отставной солдат» Дельвиг стремился воспроизвести особенности русского национального характера. В жанре народных песен он значительно глубже отразил народный дух по сравнению с предшественниками (Ю. А. Нелединским-Мелецким, И. И. Дмитриевым). Некоторые песни пользуются широкой популярностью («Соловей», муз.
А. А. Алябьева, «Не осенний мелкий дождичек», муз. М. И. Глинки). Дельвиг одним из первых разработал в русской поэзии форму сонета. Как показывает набросок «Ночь на 26 июня», Дельвиг искал новых путей в области драмы и смело обращался к новым метрическим формам, вводя их в литературу. Лирика Дельвига, несмотря на камерность, сыграла большую роль в развитии поэтических форм и метрической техники в поэзии. Пушкин, высоко ценивший стихи Дельвига, указывал, что в них «заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял».
Издательская деятельность Дельвига, его альманахи «Северные цветы» (1825 – 1831) и «Литературная газета» (1830 – 1831) имели большое значение для объединения прогрессивных поэтов пушкинского круга и защиты их позиций в литературной борьбе 1820-х гг. С первых же номеров газета повела борьбу за прогрессивное искусство, идейную свободу художника. Литераторы пушкинской группы через газету Дельвига отстаивали свою независимость от правительства. Издателя газеты несколько раз вызывал к себе по доносу Ф. В. Булгарина шеф жандармов А. Х. Бенкендорф. В результате «состоялось высочайшее повеление о запрещении издания под его редакцией» (декабрь 1830 г). Вскоре после этого Дельвиг скончался. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. Стб. 582 – 583.)
(обратно)33
А. Д. Илличевский (1798 – 1837) – лицейский однокашник Пушкина, посредственный поэт. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 583.)
(обратно)34
Говоря о «либерализме» Пушкина, автор имеет в виду оппозиционность к самодержавию и свободомыслие, рассматривая слово «либерализм» не в его собственном политическом значении, а как производное от французского «liberte» – свобода. (Примітка упорядників збірника.)
(обратно)35
Николай Иванович Тургенев (1789 – 1871) – брат друга А. С. Пушкина, камергера А. И. Тургенева; экономист, политический деятель, декабрист, с 1824 г. эмигрант, заочно присужденный к смертной казни. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 596.)
(обратно)36
А. П. Куницын (1782 – 1840) – прогрессивный лицейский профессор нравственных и политических наук, ценимый Пушкиным и декабристами. (Там само.)
(обратно)37
Г-жа Сталь, «Взгляд на французскую революцию». (Там само. С. 71.)
(обратно)38
Мне ничего лучшего не остаётся, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына (франц.). (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 72.)
(обратно)39
Пушкин выехал из Петербурга в екатеринославскую ссылку 6 мая 1820 года. Пожар в Лицее произошёл 12 мая. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 526.)
(обратно)40
Ах, это по-рыцарски (франц.).
(обратно)41
Е. А. Энгельгардт (1775 – 1862) – директор Лицея в 1816 – 1822 гг.
(обратно)42
Н. Б. Юсупов (1751 – 1831) – князь, дипломат, меценат.
(обратно)43
В. П. Зубков (1799 – 1862) – советник Московской гражданской палаты, причастный к декабризму.
(обратно)44
Этот портрет, помещённый в альманахе «Северные цветы» за 1828 год и в 1 томе Собрания сочинений Пушкина под редакцией В. В. Анненкова (1855) принадлежит кисти О. А. Кипренского и гравирован Н. И. Уткиным. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 528 – 529.)
(обратно)45
Внезапно (франц.).
(обратно)46
В. Ф. Раевский (1795 – 1872) – видный декабрист, поэт, майор 32-го егерского полка в Кишинёве. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 592.)
(обратно)47
По мнению ряда биографов Пушкина речь идёт об Ольге Калашниковой, «крепостной любви Пушкина». (Там само. С. 529.)
(обратно)48
Делать весёлую мину при плохой игре (франц.).
(обратно)49
Пущин, осужденный на двадцать лет каторги, до отправки в Сибирь провёл двадцать месяцев в Шлиссельбургской крепости. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 529.)
(обратно)50
Александра Григорьевна Муравьёва (1804 – 1832) – жена видного декабриста Н. М. Муравьёва, приехавшая к своему мужу в Сибирь. (Там само. С. 588.)
(обратно)51
Пётр Александрович Плетнёв (1792 – 1865) – русский поэт, критик. Сын священника. Окончил Главный педагогический институт в Петербурге. В 1832 – 1849 гг. – профессор русской словесности Петербургского университета. С 1841 г. – академик. В 1840 – 1861 гг. – ректор Петербургского университета. В 1836 – 1846 гг. был издателем и редактором «Современника». В 1820-е гг. Плетнёв выступал главным образом как поэт; печатался в «Трудах» Вольного общества любителей российской словесности, «Сыне отечества», «Северных цветах». Стихам Плетнёва («С. Д. Пономарёвой», «Пир», «Ночь») свойственна тихая мечтательность, «элегическое расположение духа». В стихотворении «Долг гражданину» (Н. С. Мордвинову) звучат гражданские мотивы. В целом поэтическое творчество Плетнёва носит подражательный характер и обнаруживает влияния В. А. Жуковского, В. А. Баратынского, К. Н. Батюшкова.
Более плодотворной была литературно-критическая деятельность Плетнёва. Несмотря на архаические пристрастия к писателям XVIII в., многие его суждения о современной литературе проницательны и глубоки. В статьях «Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова» (1822), «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» (1824) и др. Плетнёв одним из первых дал характеристику романтизма Жуковского, развитую впоследствии Н. А. Полевым и В. Г. Белинским. Статью Плетнёва «Чичиков, или Мёртвые души Гоголя» (1842) В. Г. Белинский оценил как «…единственную хорошую статью из всех, написанных по поводу поэмы Гоголя…». Выделяются также статьи Плетнёва «Шекспир» (1837), где дана подробная характеристика его объективного метода и работа «Иван Андреевич Крылов» (1845) – один из первых удачных опытов биографического жанра. Плетнёв был дружен с Жуковским, Н. В. Гоголем, Пушкиным, который посвятил ему роман «Евгений Онегин». (Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. Стб. 793 – 794.)
(обратно)52
Под впечатлением ряда мемуаров о гибели Пушкина И. И. Пущин писал бывшему директору Лицея Е. А. Энгельгардту: «О Пушкине давно я глубоко погрустил; в «Современнике» прочёл письмо Жуковского; это не помешало мне и теперь не раз вздохнуть о нём, читая Спасского и Даля. Мы здесь очень скоро узнали о смерти Пушкина, и в Сибири даже, кого могла, она поразила как потеря общественная». А в 1840 году он писал лицейскому товарищу Малиновскому: «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь; я бы нашёл средство сохранить поэта-товарища, достояние России». (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 529.)
(обратно)53
В. Ф. Малиновский (1796 – 1893) – сын первого директора Лицея, лицейский однокашник Пушкина. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 587.)
(обратно)54
Там само. С. 43 – 86.
(обратно)55
Опубликована под заглавием «История Пугачёвского бунта» в 2-х частях.
В настоящем издании воспроизводится лишь первая часть «Истории Пугачёва» со всеми примечаниями…
Начало работы Пушкина над «Историей Пугачёва» относится к январю 1833 г. Он задумывает написать историческую повесть («Капитанскую дочку») и в то же время чисто исторический труд («История Пугачёва» или «История Пугачёвщины», как она названа поэтом в одном месте). Для обеих работ над эпохой Пугачёва Пушкину было необходимо ознакомиться с подлинными документами. 7 февраля 1834 г. Пушкин обратился с письмом к военному министру гр. А. П. Чернышёву, прося последнего разрешить ему заняться материалами из архива Главного штаба, касающимися генералиссимуса А. В. Суворова-Рымникского, для написания его биографии. Разрешение на занятие было получено, Пушкин получил доступ к «донесениям графа Суворова» и другим материалам. 25 февраля и 8 марта ему были предоставлены нужные документы о событиях 1773 – 1774 годов, а 25 марта он уже приступил к написанию первой главы «Истории Пугачёва»; 17 апреля помечен набросок этой главы, а 22 мая уже закончена первая черновая редакция всего труда. Ещё 8 мая Н. В. Гоголь писал: «Пушкин почти кончил историю Пугачёва». Предисловие было вчерне написано между 15 июня и 18 августа. Работа продолжалась очень интенсивно и далее дополнялась новыми материалами, исправлялась и перерабатывалась в течение всего 1833 г. и в начале 1834 г. В процессе работы Пушкин обращался с письмами к очевидцам событий и счёл совершенно необходимым посетить самые места событий. Он между 2 и 23 сентября посещает Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск, опрашивает старожилов, вносит рассказы в дорожную записную книжку и роется в провинциальных архивах.
По приезде 1 октября в Болдино он приводит в порядок собранные материалы. 2 ноября получен новый текст предисловия к историческому труду, и этой датой определяется окончание всей работы над «Историей Пугачёва». Пушкину остался недоступным один из главных источников – следственное дело о Пугачёве. С ним он пытался ознакомиться и после выхода в свет «Истории Пугачёвского бунта», в 1835 г., безуспешно разыскивая «главнейший документ: допрос, снятый с самого Пугачёва в Следственной комиссии, учреждённой в Москве.
6 декабря 1833 г. Пушкин писал графу А. Х. Бенкендорфу о законченной им «Истории», прося «дозволения представить оную на высочайшее рассмотрение». По докладу Бенкендорфа Николай I неожиданно ответил согласием на издание «Истории Пугачёва», но на представленной ему рукописи сделал ряд замечаний, которые пришлось учесть при окончательной подготовке рукописи к печати (в настоящем издании эти места текста восстановлены по рукописи Пушкина). «Пугачёв пропущен, и я печатаю его на счёт государя», – писал Пушкин в начале марта 1834-го П. В. Нащокину – Павел Воинович Нащокин /1801 – 1854/ был знаком с Пушкиным с 1818 г., но особенно они подружились после возвращения Пушкина из ссылки в 1826 г. В свои приезды в Москву Пушкин обычно останавливался у Нащокина. – «А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, том седьмой, с. 488», а в своём дневнике отметил 28 февраля: «Государь позволил мне печатать «Пугачёва»; мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными). В воскресение на бале, в концертной, государь долго со мною разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения». – «А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, том восьмой, с. 29». Пушкин получил ссуду в 20 000 рублей на осуществление издания и предполагал иметь от него некоторую прибыль. Николай I, утверждая эту выдачу, 16 марта 1834 г. переименовал «Историю Пугачёва» в «Историю Пугачёвского бунта», что никак не соответствовало замыслу Пушкина. С переименованием, однако, пришлось примириться. Издание осуществлялось под непосредственным наблюдением директора типографии III Отделения бывшего лицейского товарища Пушкина – М. Л. Яковлева. Между Пушкиным и Яковлевым возникла переписка, из которой мы узнаём подробности печатания книги. Так Яковлев на предисловии против имени Вольтера пометил: «Нельзя ли без Вольтера?» Пушкин писал: «А почему ж? Вольтер человек очень порядочный, и его сношения с Екатериною суть исторические». Пушкину пришлось, однако, уступить. Из предисловия (ты прав, любимец муз!), – писал он Яковлеву, – должно будет выкинуть имя Вольтера, хоть я и очень люблю его».
«История Пугачёвского бунта» вышла в свет в декабре 1834 г. в количестве 3000 экземпляров, но успеха у читателей не имела. Большая часть экземпляров издания осталась нераспроданной. К этому прибавились и другие неприятности. Помимо выпадов С. С. Уварова и других недоброжелателей и врагов поэта, в январе 1835 г. появилась в «Сыне отечества» анонимная рецензия, использованная в целях дискредитации труда Пушкина Ф. В. Булгариным и вызвавшая ответ поэта в «Современнике» 1836 г». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. М.: Государственное изд-во Художественная литература, 1959–1962. С. 393 – 394.)
(обратно)56
«Болтовня; но вообще вся записка замечательна и, вероятно, составлена дипломатическим агентом, находившимся в то время в Петербурге». – Примітка О. С. Пушкіна. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 211.)
(обратно)57
Крепость Татищева, при устье реки Камыш-Самары, основана Кирилловым, образователем Оренбургской губернии и названа от него Камыш-Самарою. Татищев, заступивший место Кириллова, назвал её своим именем: Татищева пристань. Находится в 28 верстах от Нижне-Озёрной и в 54 (прямой дорогою) от Оренбурга. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 211.)
(обратно)58
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 116 – 125.
(обратно)59
Журнал осады, веденный в губернской канцелярии, помещён в любопытной рукописи академика Рычкова. Я имел в руках три списка, доставленные мне гг. Спасским, Языковым и Лажечниковым. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 211.)
(обратно)60
Сержант сей назывался Иван Костицын. Участь его неизвестна. Его допрашивал подполковник В. М. Могутов. (Там само, с. 212.)
(обратно)61
Падуров, в последствии времени повешенный, писал Мартемьяну Бородину, увещевая его покориться Пугачёву. «А ныне вы называете его (Самозванца) донским казаком Емельяном Пугачёвым, и якобы у него ноздри рваные и клеймённый. А по усмотрению моему, у него тех признаков не имеется». (Там само.)
(обратно)62
Хлопуша (настоящие фамилия и имя – Соколов Афанасий Тимофеевич (1714 – 1774) – один из ближайших соратников Е. И. Пугачёва в крестьянской войне 1773 – 1775 гг. За участие в разбоях был осуждён на каторжные работы, которые отбывал на Петровском медном заводе под Оренбургом и в Сибири; трижды бежал и был приговорён к вечному заключению в Оренбургской каторжной тюрьме. В начале октября 1773 г. был послан оренбургским губернатором И. А. Рейнсдорпом в отряды Пугачёва, осаждавшие Оренбург, для агитации против Пугачёва и с заданием захватить его, но перешёл на сторону повстанцев. В середине октября послан на Авзяно-Петровский завод, где организовал крупный отряд из заводских крестьян и наладил производство боеприпасов. С этим отрядом Хлопуша участвовал в разгроме войск генерала В. А. Кара у деревни Юзеевой (6 ноября 1773 г.).
Вскоре был произведён Пугачёвым в полковники, командовал отрядами заводских крестьян, организовал отливку орудий на ряде заводов. Руководил осадой Верхне-Озёрной крепости и захватом Ильинской крепости (ноябрь 1773 г.) и Илецкой защиты (февраль 1774 г.). После разгрома отрядов Пугачёва под Татищевой (22 марта 1774 г.) Хлопуша уехал в Сакмару к семье, но 23 марта в Каргалы был схвачен татарскими старшинами и доставлен в Оренбург, где был казнён по приговору Оренбургской секретной комиссии. (Советская историческая энциклопедия, т. 15. Стб. 599 – 600.)
(обратно)63
Меновой двор, на котором с азиатскими народами чрез всё лето до самой осени торг и мена производятся. Построен на степной стороне реки Яика, в виду из города, расстоянием от берега версты с две… (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 212.)
(обратно)64
Кажется, Пугачёв и его сообщники не полагали важности этой пародии. Они в шутку называли тогда Бердскую слободу – Москвою, деревню Каргале – Петербургом, а Сакмарский городок – Киевом. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 213.)
(обратно)65
То есть депутат в Комиссии составления Нового уложения. Депутатов было 652 человека. Им розданы были для ношения в петлице, на золотой цепочке, золотые овальные медали с изображением на одной стороне вензелового е. и. в. имени, а на другой пирамиды, увенчанной императорскою короною с надписью: Блаженство каждого и всех; а внизу: 1766 год, декабря 14 день.
(обратно)66
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 126 – 138.
(обратно)67
Орская крепость на степной стороне реки Яика, выстроена в 1735 году под названием Оренбурга. Она имела изрядные земляные укрепления. В ней всегда находился командир Орской дистанции и двойное число гарнизона по причине близ кочующих орд. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 214.)
(обратно)68
Корф после сражения 14 ноября подсылал к Пугачёву казака с предложениями о сдаче Оренбурга и с обещанием выйти к нему навстречу. Пугачёв, осторожно подъезжая к Оренбургу и усумнясь в искренности предложений, скоро возвратился в Берду. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 136)
(обратно)69
Рейнсдорп, потеряв надежду победить Пугачёва силой оружия, пустился в полемику, не весьма приличную. В ответ на дерзкие увещания самозванца он послал ему письмо со следующею надписью: «Пресущему злодею и от бога отступившему человеку, сатанину внуку Емельке Пугачёву». Секретари Пугачёва не остались в долгу. Помещаем здесь письмо Падурова, как образец канцелярского его слога. «Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше увещевание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненависника, благодарим. Да и сколько ты себя, по действу сатанину, не ухитрил, однако власть божию не перемудришь. Ведай, мошенник: известно (да и по всему тебе, бестия, знать должно, что), сколько ты ни пробовал своего всескверного счастия, однако счастие ваше служит единому твоему отцу, сатане. Разумей, бестия, хотя ты по действу сатанину во многих местах капканы и расставил, однако ваши труды остаются вотще, а на тебя здесь, хотя верёвяных не станет петель, а мы у мордвина, хоть гривну дадим, мочальных (возьмём, да на тебя верёвку свить можем; не сумневайся, мошенник, из б… сделан. Наш всемилостивейший монарх, аки орёл поднебесный, во всех армиях на один день бывает; а с нами всегда присутствует. Да и мы б вам советовали, оставя своё неверие, прийти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивейшему монарху: егда придёшь в покорение, сколько твоих озлоблений не было, не только во всех извинениях всемилостивейше прощает, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишит; а здесь небезызвестно, что вы и мертвечину в честь кушаете, и тако объявя вам сие да и пребудем в склонности вашей ко услугам готовы. Февраля 23 дня 1774 года». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 214.)
(обратно)70
Слова Вольтера даны в переводе с французского. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 410.)
(обратно)71
Ответ Екатерины II также дан в переводе с французского. (Там само.)
(обратно)72
Технический термин у кулачных бойцов, значит удар по челюсти. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 218).
(обратно)73
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 218 – 220.
(обратно)74
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 220 – 221.
(обратно)75
Г-н Левшин пишет, что самозванец показывал сии пятна легковерным своим сообщникам и выдавал их за какие-то царские знаки. Оно не совсем так: самозванец, хвастая, показывал их, как знаки ран, им полученных. (Там само.)
(обратно)76
Многие и воспользовались сим разрешением; несмотря на то, история Пугачёвского возмущения мало известна. В Записках о жизни и службе А. И. Бибикова мы находим самое подробное известие об оном, но сочинитель довёл свой рассказ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная под заглавием: Михельсон в Казани, есть не что иное, как весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарского, напечатанное почти без всякой перемены, с приобщением незначущих показаний. Г-н Левшин в своём Историческом и статистическом обозрении уральских казаков слегка коснулся Пугачёва. Сей кровавый и любопытный эпизод царствования Екатерины мало ещё известен. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 220 – 221)
(обратно)77
Там само. С. 139 – 148.
(обратно)78
Денис Иванович Фонвизин (1745 – 1792) – русский писатель, драматург. Родился в богатой дворянской семье. В 1755 – 1760 гг. учился в гимназии при Московском университете, в 1761 – 1765 гг. на философском факультете того же университета. Ещё в студенческие годы начал печататься в московских журналах, сделал свой первый перевод: «Басни нравоучительные» датского просветителя Л. Хольберга. Приступил также к переводу романа Террасона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя Египетского»… трагедии Вольтера «Альлира» и других произведений. В 1762 г. Фонвизин определился переводчиком в Коллегию иностранных дел, переехал в Петербург. В 1763 – 1769 гг. служил секретарём кабинет-министра Елагина (который ведал разбором челобитных на высочайшее имя, а с 1766 г. – и императорскими театрами). Тогда же сблизился с кружком молодых офицеров-вольнодумцев; видимо, в результате общения с ними Фонвизин создал «Послание к слугам моим…» (опубликовано в 1769 г.) – сатирическое произведение оригинального жанра, опиравшееся на традиции русской басни и сатиры, а также западно-европейской иронической поэмы. В поэтике классицизма послание относилось к «высоким» жанрам; Фонвизин отошёл от установившейся нормы, сделав героями своего произведения людей «незначительных» – крепостных. При этом автор во многом разделял скептическое отношение своих героев к существующим порядкам; высказано в «Послании…» и сомнение в существовании «божественного промысла» (в дальнейшем, однако, Фонвизин отойдёт от атеистических взглядов и займёт позиции философского деизма). Демократическая направленность, стремление объяснить характеры героев их бытием позволяют видеть в «Послании…» предвестие рождения русской реалистической сатиры… Как просветитель Фонвизин выступает за всеобщее обучение, за постепенное – по мере «просвещения» – освобождение крестьян. Его идеал политического устройства – просвещённая монархия.
Принадлежность Фонвизина к кружку Елагина, куда входили драматурги В. И. Лукин, Б. Е. Ельчанинов и др., определила его интерес к драме. Поддерживая стремление Лукина сблизить драму с жизнью, опираясь на его опыт «склонения» иностранных комедий «на русские нравы», Фонвизин переделал сентиментальную драму Ж. Грессе «Сидней» в комедию «Корион». В конце 1760-х под влиянием общественного оживления, связанного с политическими спорами вокруг Комиссии для сочинения проекта нового уложения (1769), Фонвизин пришёл к замыслу оригинальной русской сатирической комедии. Первым образцом в этом роде явился его «Бригадир» (1766 – 1769), о котором Н. И. Новиков писал, что «сочинена она точно о наших нравах…».
Создавая «Бригадира», Фонвизин ещё следовал традициям классицизма, что сказалось в чётком делении персонажей на добродетельных и порочных, в рационалистическом подчёркивании одной черты характера героя, в соблюдении единств времени, места. Однако в комедии по-новому представлен образ жизни, быт героев: если у драматургов классицизма быт героев изображался как сумма смешных явлений «низменной» жизни, нередко лишённых национальной окраски, то у Фонвизина показаны именно русские нравы и обычаи. С появлением «Бригадира» русская литература и театр включались в то течение европейской культуры, которое противопоставляло себя классицизму; преодолевался барьер между искусством и жизнью, ставились конкретные проблемы реальной жизни людей. При этом Фонвизин привнёс в литературу не мелкий бытовизм, а значительность характеров, проблемность. Так в «Бригадире» осмеиваются не отдельные носители абстрактного порока – Фонвизин ставит вопрос о дворянстве в целом, о принципе существования его как сословия, не случайно комедия отразила все главные сферы деятельности этого сословия – чиновничью, военную и собственно помещичью: чиновники грабят нацию (Советник), офицеры бьют солдат смертным боем (Бригадир), крестьян гноят на месячине (в имении Советника). Ставя столь важные проблемы, невозможно было оставаться в рамках традиционной комедии «чистого смеха». В комедии звучат и трагические ноты. Когда Бригадирша рассказывает о своей тяжёлой судьбе, образ этой глупой, жадной, но страдающей женщины получает неожиданную объёмность. И это открывало литературе путь к новому, лишённому однолинейности пониманию человека. Фонвизин изобразил и «новых людей» – гуманистов, просвещённых дворян, противостоящих бездуховному существованию Советника и Бригадира.
В 1769 г. Фонвизин стал секретарём руководителя Коллегии иностранных дел – Н. И. Панина, воспитателя наследника престола. Фонвизина и Панина сближали оппозиционность по отношению к правительству Екатерины II, ненависть к фаворитизму, убеждённость, что России нужны «фундаментальные законы». В 1777 – 1778 гг. Фонвизин совершил поездку по Франции и Германии (чтобы поправить здоровье, но возможно, и с какими-то тайными дипломатическими поручениями) и рассказал о ней в «Записках первого путешественника», состоявших из писем П. И. Панину – брату Н. И. Панина (при жизни Фонвизина публикация «Записок…» не была разрешена). «…Читая их, – говорил В. Г. Белинский, – вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником…» Изображая кризисное положение во Франции, Фонвизин давал урок русскому правительству. «Записки…» сыграли важнейшую роль в становлении русской прозы. Резкая критика русских государственных установлений дана в «Рассуждении о непременных государственных законах», написанном Фонвизиным в начале 1780-х гг. и распространявшемся в списках: автор осуждал положение, при котором «люди составляют собственность людей», выступал за предоставление политических прав всем сословиям.
В обстановке реакции, наступившей после подавления Пугачёвского восстания, Фонвизин создал самое значительное своё произведение – комедию «Недоросль» (1781; постановка 1782, публикация 1783). В ней прямо назван корень всех бед России – крепостное право. Фонвизин оценивает и судит не людские пороки сами по себе, а прежде всего общественные отношения. Положительные герои – просвещённые дворяне – не просто осуждают крепостное право, но и борются с ним. Комедия строится на остром социальном конфликте; её развязка (учреждение опеки над имением Простаковой) содержит в себе призыв к реформам в духе Просвещения. Жизнь в доме Простаковых представлена уже не как суммарная картина нелепых обычаев, а как система отношений, основанная на крепостничестве. Раскрывая воздействие среды на личность, Фонвизин делает одной из главных проблем проблему воспитания: очень точно фиксируется уродующее влияние уклада помещичьей усадьбы на Митрофана. Развитие интриги отступает на второй план. Нарушается и важнейший для классицизма принцип единства действия, обнажая внутреннюю драму таких отрицательных персонажей, как Еремеевна и Простакова. По словам Н. В. Гоголя «Недоросль» – «…истинно общественная комедия».
Просветительское миросозерцание Фонвизина сказалось в изображении положительных героев «Недоросля» как людей, живущих по вечным законам природы и разума. Историзм в понимании общественности человека не свойственен Фонвизину, воздействие среды на человека он понимает только в смысле искажения его «естественной природы». Поэтому положительные герои рассматриваются как «слишком идеальные». И тем не менее «Недоросль» – этапное произведение русской литературы. Эту комедию невозможно воспринять как обычный пример «среднего» жанра, подчинённого «высокой» трагедии. Понимание обусловленности характера (хотя – только отрицательного) законами среды подготавливало в литературе реалистическое изображение человека. В образе Стародума современники Фонвизина увидели тип просвещённого русского гуманиста, патриота, борца против крепостничества и деспотизма.
Вскоре после отстранения Панина от дел подал в отставку и Фонвизин (март 1782), решив полностью отдаться литературной деятельности. В 1783 г. он опубликовал в «Собеседнике любителей русского слова» ряд сатирических произведений: «Опыт русского сословия», «Челобитная российской Минерве от российских писателей», «Поучение, говоренное в Духов день иереем Василием в селе П.», «Повествование глухого и немого». Особенно острая критика политики Екатерины II содержалась в напечатанных анонимно «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание»; на них с раздражением отвечала Фонвизину сама императрица. В 1784 – 1785 гг. Фонвизин совершил поездку по Германии и Италии; анонимно издал (1784, на французском языке) «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина», где нарисовал образ идеального просвещенного вельможи. Повесть «Калисфен» (опубликована анонимно, 1786) знаменовала крах веры писателя в идею просвещенного монарха. Попытки Фонвизина выступать в печати пресекались Екатериной II: в 1788 г. ему не разрешили издать ни пятитомное собрание своих сочинений, ни журнал «Друг честных людей, или Стародум» (входившая в него едкая сатира «Всеобщая придворная грамматика» распространялась в списках и пользовалась большой популярностью). Последние годы жизни Фонвизин был тяжело болен (паралич), но писать продолжал до самой смерти. В 1780 г. он начал работу над автобиографической повестью «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» (неоконченной; опубликована в 1830), которая является замечательным произведением русской прозы: в образе автора воссоздан характер человека и писателя – русского по складу ума, юмора, иронии, показано духовное богатство личности, умеющей подняться над своими слабостями и бесстрашно рассказать о них своим соотечественникам. Видимо, к 1790 г. относится набросок комедии Фонвизина «Выбор гувернёра», в центре которой мыслилась проблема воспитания передового человека. В тексте наброска есть и отклик на события Великой французской революции, которую Фонвизин не понял и не принял.
Фонвизин – крупнейший русский драматург XVIII века, создатель русской социальной комедии, блестящие образцы которой после «Недоросля» представляют «Горе от ума» А. С. Грибоедова и «Ревизор» Н. В. Гоголя. С именем Фонвизина связано также формирование русской художественной прозы. Велико было воздействие самой личности Фонвизина на его современников и русских революционеров, деятелей передовой русской культуры XIX века. А. С. Пушкин, видевший в Фонвизине поборника просвещения, борца с крепостничеством и самовластьем, назвал его «другом свободы». Комедия «Недоросль» сыграла важную роль в развитии русского национального театрального искусства, заняв прочное место в его репертуаре. Она ставится и на сцене советских театров.
Фонвизин похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Стб. 42 – 45.)
(обратно)79
Тоцкая крепость, при устье реки Сороки, в 206 верстах от Оренбурга. Выстроена при Кириллове, в 1768 году. Сорочинская крепость главная на Самарской дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 30-ти от Тоцкой.
(обратно)80
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 149 – 162.
(обратно)81
Иван Наумович Белобородов (ум. 5 сентября 1774 г.) – один из предводителей крестьянской войны 1773 – 1775 гг. в России, сподвижник Е. И. Пугачёва. Происходил из приписных к заводам крестьян Урала. В 1759 – 1766 гг. был солдатом, освобождён от службы по болезни. В январе 1774 г. примкнул в составе отряда башкир к восстанию. В январе-феврале 1774 г. развернул деятельность на заводах Среднего Урала. Установил тесную связь с Салаватом Юлаевым и самим Пугачёвым (с последним соединился в мае 1774 г.). Пытался сделать основной базой восстания на Урале сначала Каслинский завод, а затем Саткинский (западнее Златоуста). Предпринимал попытки организовать военное обучение и внедрить дисциплину среди восставших, упорядочить захват и раздел казённого и помещичьего имущества. Был членом Военной коллегии, «главным атаманом и походным полковником». Сыграл выдающуюся роль во взятии Казани (июль 1774 г.). Попал в плен к царским войскам под Казанью и был казнён в Москве. (Советская историческая энциклопедия. Т. 2. Стб. 230.)
(обратно)82
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 409.
(обратно)83
Чика (Зарубин Иван Васильевич [1736 – 24.I.1775]) – яицкий казак, активный участник крестьянской войны 1773 – 1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачёва. Участвовал в Яицком восстании 1772 г., после разгрома которого укрывался на хуторах под Яицким городком (ныне Уральск), где в сентябре 1773 г. встретился с Е. И. Пугачёвым. В начале крестьянской войны вместе с А. А. Овчинниковым руководил разгромом войск генерала В. А. Кара 7 – 9 сентября под Оренбургом. Наладил производство пушек и снарядов на Воскресенском заводе. Получил от Пугачёва титул «графа Чернышёва» и в начале декабря 1773 г. отправлен в Уфу, которую осадил с отрядом в 10 тысяч человек, руководил повстанческим движением на Среднем Урале, в Башкирии и Приуралье, налаживал гражданское управление, заготавливал оружие, боеприпасы, провиант и фураж для снабжения главных сил под Оренбургом. После упорных боёв (с января 1774 г.) с карательными войсками генерала А. И. Бибикова главные силы Чики 24 марта 1774 г. были разбиты под Уфой отрядом подполковника Михельсона. 26 марта Чика был предательски захвачен в Табынске. Во время следствия проявил необычайное мужество и стойкость, приговорён к смертной казни и казнён в Уфе отсечением головы. (Советская историческая энциклопедия. Т. 16. Стб. 28.)
(обратно)84
Афанасий Петрович Перфильев (1731 – 1775) – яицкий казак, сподвижник Е. И. Пугачёва в крестьянской войне 1773 – 1775 гг. В 1772 г. – один из руководителей восстания яицких казаков. В декабре 1773 г. под Оренбургом примкнул к Пугачёву. В феврале 1774 г. был избран старшиной казаков-повстанцев; один из руководителей осады Яицкого городка. Впоследствии командовал полком яицких казаков, исполнял обязанности судьи. После разгрома Пугачёва 25 августа 1774 г. под Чёрным Яром переправился за Волгу. 12 сентября 1774 г. захвачен в плен после боя с карателями. Следствие над Перфильевым шло в Москве. На следствии отказался принести покаяние. Приговорённый к четвертованию вместе с Пугачёвым… мужественно вёл себя во время казни. (Там само. Т. 11. Стб. 72.)
(обратно)85
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 178 – 192.
(обратно)86
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 154.
(обратно)87
Иван Васильевич Гудович (1741 – 1820) – русский фельдмаршал. Во время Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. отличился под Хотином (1769), Ларгою, Кагулом (1770) и Журжевой (1771). Во время Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. руководил взятием Хаджибея (совр. Одесса) и Килии (1790); назначен командующим Кавказской линией. 22 июня 1791 г. штурмом овладел Анапой. В 1806 г. назначен командующим войсками в Закавказье. Руководил покорением Бакинского, Шекинского и Дербентского ханств. Разбил турецкие войска под Арапчае (1807), но потерпел неудачу при штурме Эривани (1808). В 1809 – 1812 гг. главнокомандующий в Москве, член Государственного совета, сенатор. С 1812 г. в отставке. (Советская историческая энциклопедия. Т. 4. Стб. 878 – 879.)
(обратно)88
Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 7.
(обратно)89
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 17.
(обратно)90
При жизни Пушкина не печаталось. Написано в 1830-е годы. (Там само. С. 392.)
(обратно)91
В «Истории русского народа», т. II, с. 87, Полевой говорит: «Но аристократизм существовал собственно только в отношении к народу; перед лицом князя всё сливалось в одно звание – рабов. Его первый чиновник и последний смерд были перед ним равны». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 393.)
(обратно)92
Там само. С. 104 – 105.
(обратно)93
Сердцем я материалист, но мой разум этому противится (франц.).
(обратно)94
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 16.
(обратно)95
Там само. Т. 1. С. 307.
Стихотворение получило широкое распространение в списках. Без ведома Пушкина в искажённом виде оно было напечатано в альманахе «Северная звезда» за 1829 г. Это одно из наиболее популярных политических стихотворений Пушкина, сыгравших большую агитационную роль в кругу декабристов.
Отнесено к 1818 г. предположительно; возможно, вызвано оживлёнными политическими спорами по поводу обещания конституции и речи Александра на Польском сейме 15 марта 1818 г. Пушкин не верил в обещания Александра и в мирное введение конституционного правления в России. (Там само. С. 456.)
(обратно)96
Встреча Пушкина с В. К. Кюхельбекером произошла на ст. Залазы по пути Пушкина из Михайловского в Петербург. В. К. Кюхельбекер в это время препровождался с фельдъегерем Подгорным из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую, куда он 12 октября 1827 г. был отправлен вместо каторжных работ в Сибирь сроком на 20 лет. О встрече Пушкина и Кюхельбекера сохранился следующий рапорт фельдъегеря:
«Господину дежурному генералу Главного Штаба его императорского величества генерал-адъютанту и кавалеру Потапову фельдъегеря ПодгорногоРапорт
Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С. – Петербург некто г. Пушкин, начал после поцелуя с ним разговаривать, я, видя сие, наипоспешнее отправил как первого, так и тех двух на полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для прописания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорит, что «по прибытию в С. – Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег, – сверх того, не премину сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу». Сам же г. Пушкин между прочими угрозами объявил мне, что он был посажен в крепости и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, что сочиняет. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. С. 349.)
(обратно)97
Там само. С.18.
(обратно)98
Летом 1831 г. Пушкин жил на даче в Царском Селе, где и вёл свои записи.
Записи 1831 г. были обработаны Пушкиным в качестве образца политической информации, которую он хотел вести в своей газете «Дневник», предполагавшийся к изданию. Как образцы они были представлены Бенкендорфу. Однако, проект издания газеты не осуществился. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. С. 350.)
(обратно)99
Алексей Фёдорович Орлов (1786 – 1861) – командир гвардейского конного полка, брат М. Орлова. (Там само. Том 1. С. 457.)
(обратно)100
Там само. Т. 8. С. 29.
(обратно)101
Николай Фёдорович Аренд (1785 – 1859) – крупный врач-практик, хирург, стал с 1829 г. лейб-медиком Николая I, сопровождал его в разъездах. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 350.)
(обратно)102
Там само. С. 21.
(обратно)103
Александр Филиппович Смирдин (1795 – 1857) – русский издатель, книгопродавец и библиограф. После работы в книжном магазине А. С. Ширяева перешёл на службу к петербургскому издателю А. С. Плавильщикову; в 1825 г. приобрёл его книжный магазин и типографию. Значительно расширив книготорговую деятельность, Смирдин вскоре перевёл книжный магазин из Гостиного двора к Синему мосту, а затем на Невский проспект. Его книжный магазин стал своеобразным салоном, где встречались многие писатели. На «новоселье» присутствовали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, П. А. Вяземский, Н. И. Гнедич и др. Все они приняли участие в альманахе «Новоселье», издававшемся Смирдиным (1833 – 1834) по случаю переезда на Невский проспект. Смирдин издал сочинения Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, новые издания сочинений В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина и др. Основав (1834) журнал «Библиотека для чтения», Смирдин положил начало изданию в России «толстых» журналов. Им были выпущены три сборника «Сто русских литераторов» (1839 – 1845). С 1846 г. Смирдин издавал серию «Полное собрание сочинений русских авторов». Находясь в дружеских отношениях со многими писателями своего времени, Смирдин старался оказывать им поддержку. Его издательское дело долгое время развивалось успешно, но впоследствии он разорился и вынужден был прекратить книжную торговлю. Отчасти это объяснялось бескорыстием Смирдина в делах: так Пушкину он платил по червонцу за стихотворную строку, а за стихотворение «Гусар», опубликованное в «Библиотеке для чтения», заплатил 1200 рублей. Крылову за право издания его басен тиражом в 40 тыс. экземпляров было выплачено 40 тыс. рублей. Из библиографических трудов Смирдина особенно ценно справочное издание «Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки А. Смирдина» (1828); дополнения к этой библиографии составлялось до 1856 г. (в 4 частях). Как издатель-просветитель Смирдин занимает видное место в истории русской культуры. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. Стб. 973.)
(обратно)104
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 26.
(обратно)105
Филипп де Куртильон, маркиз де Данжо (1638 – 1720) – автор мелкой придворной хроники последних лет царствования французского короля Людовика XIV.
(обратно)106
Наталья Кирилловна Загряжская, рождённая графиня Разумовская (1747 – 1847) – дочь президента Академии наук и гетмана Малороссии графа К. Г. Разумовского. Фрейлина императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Н. Н. Пушкина приходилась ей внучатой племянницей. Пушкин познакомился с ней во время сватовства к Н. Н. Гончаровой и впоследствии (1835), по совету В. А. Жуковского, записывал её рассказы. (Там само. С. 354 – 355.)
(обратно)107
Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону своё назначение. До сих пор он сдержал данное мне слово, и я был доволен им, и т. д. и т. д. (Там само. С. 402.)
(обратно)108
Там само. С. 28.
(обратно)109
Не сестра Пугачёва, а последняя из его дочерей Аграфена, умершая «от болезни и старости лет». 5 апреля 1833 года в Кексгольме, где она жила под надзором полиции. Эрлингфорс – так иногда в рукописях Пушкина называется Гельсингфорс. (Там само. С. 357.)
(обратно)110
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 28.
(обратно)111
Барон Жорж Дантес (1812 – 1895) – убийца Пушкина, французский роялист, эмигрант, принятый в русскую службу по экзамену 8 февраля 1834 г. корнетом в Кавалергардский полк. (Там само. С. 357.)
(обратно)112
Эммануил Иванович де Пина – французский роялист и эмигрант, был принят в русскую службу в один из армейских полков и 1 апреля 1834 г. получил чин прапорщика. (Там само.)
(обратно)113
Шуаны – участники контрреволюционного восстания в Бретани во время Французской революции. (Там само. С. 357.)
(обратно)114
Там само. С. 28.
(обратно)115
Очевидно, російського та французького. (Прим. авт.)
(обратно)116
Там само. С. 29.
(обратно)117
28 февраля Пушкин обратился к гр. А. Х. Бенкендорфу с просьбой выдать ему ссуды в 20 000 рублей на печатание «Истории Пугачёва» сроком на два года. 4 марта Пушкину было сообщено о согласии Николая I. (Там само. С. 357.)
(обратно)118
Адольф Александрович Плюшар (1806 – 1865) – издатель, предпринявший издание «Энциклопедического лексикона», рассчитанного на 24 тома. Первый том его вышел в июне 1835 г., а затем до 1841 г. было напечатано ещё 16 томов. Издательство закончено не было. (Там само. С. 358.)
(обратно)119
Шарлатан – здесь в старинном значении: уличный торговец лекарствами. При таких торговцах когда-то стояли паяцы («пальяс»), потешавшие прохожих и привлекавшие их к приобретению лекарств. – Примітка упорядників тому.
(обратно)120
Павел Петрович Свиньин (1787 – 1839) – писатель, журналист, основатель журнала «Отечественные записки», слывший лжецом. (Там само.)
(обратно)121
Документы следствия и суда над патриархом Никоном Устряловым не были изданы. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 358)
(обратно)122
Там само, с. 31.
(обратно)123
Русская политическая и литературная (с 1838 г.) газета. Издавалась в Петербурге в 1825 – 1864 гг. (до 1831 г. – три раза в неделю, затем ежедневно). Издатель-редактор – Ф. В. Булгарин, в 1831 – 1850 гг. – он же и Н. И. Греч, с 1860 г. – П. С. Усов. До восстания декабристов 1825 г. газета не чуждалась либерализма (печатала стихи К. Ф. Рылеева, хвалила альманах «Полярная звезда»), затем стала рупором монархизма и реакции. В ней опубликованы доклад следственной комиссии и приговор по делу декабристов. Однако в 1820 – 1830 гг. в «Северной пчеле» появились некоторые произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова. Печатались очерки, стихи и путевые заметки. Почти во всех отделах – «Новые книги», «Словесность», «Всякая всячина», «Нравы», о театре – писал сам Булгарин. Греч выступал главным образом по вопросам грамматики и с письмами из-за границы. Критические статьи и рецензии опубликовали О. М. Сомов, М. А. Бестужев-Рюмин. «Северная пчела» положительно оценила «Повести Белкина» Пушкина и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Однако с появлением «Литературной газеты» и особенно «Современника» «Северная пчела» начала нападать на Пушкина, вела полемику с «Московским наблюдателем», в котором сотрудничал В. Г. Белинский. Пушкин отвечал полемическими статьями «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830), «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (1831). В 1840-х гг. против «Северной пчелы» выступали «Отечественные записки», «Современник» и др. Белинский разоблачал коммерческий подход Булгарина к журналистике, его пресмыкательство перед властями, низкий художественный уровень его произведений. Получив субсидии от правительства, Булгарин продолжал вести борьбу с передовой литературой, привлёк к сотрудничеству В. А. Межевича, Л. В. Бранта, Р. М. Зотова, Ф. М. Толстова (Ростислав), К. А. Полевого и др. С 1860 г. «Северная пчела» вынуждена принять либеральное направление; в ней появлялись произведения писателей-демократов В. А. Слепцова, А. И. Левитова, Ф. М. Решетникова, М. Вовчка и др., корреспонденции И. И. Гольц-Миллера, статьи А. И. Пятковского о Н. А. Некрасове, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. А. Добролюбове (некролог), А. В. Кольцове, велась полемика по поводу романа Н. Г. Чернышевского «Что делать» и деятельности А. И. Герцена. В 1864 г. «Северная пчела» прекратила своё существование. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. Стб. 714 – 715.)
(обратно)124
Ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленнисти, новостей и мод», выходивший в Петербурге в 1834 – 1865 гг. Издавался с 1834 г. А. Ф. Смирдиным. Редактором был О. И. Сенковский (до 1836 г. совместно с Н. И. Гречем), который печатал в журнале свои статьи, фельетоны (большей частью под псевдонимом Б а р о н Б р а м б е у с), «Библиотека для чтения» – первый в России «толстый» журнал (до 30 печ. л.), положивший начало «торговому направлению» в русской журналистике. Ориентировался главным образом на провинциальных читателей (мелкопоместное дворянство, чиновничество, купцов, мещан): в 1830-х гг. пользовался большой популярностью (тираж достигал 7000 экз.). Успеху «Библиотеки для чтения» способствовало напечатание в 1834 – 1835 гг. некоторых произведений А. С. Пушкина («Пиковая дама», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях и др.); позднее в журнале появились «Хаджи-Абрек» М. Ю. Лермонтова, «Кавказские очерки» А. Марлинского, произведения Д. В. Давыдова, В. П. Даля, Н. А. Полевого и др. В отделе иностранной словесности печатались произведения О. де Бальзака, Жорж Санд, Уильяма Теккерея, Э. Сю, А. Дюма и др. Однако журнал заполнялся главным образом произведениями второстепенных писателей (Н. В. Кукольник, В. Г. Бенедиктов и др.), светскими повестями, переводами французской романтической беллетристики. С 1836 г. журнал повёл борьбу с «Современником» А. С. Пушкина, выступал против В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя и «натуральной школы». Передовая критика резко осуждала охранительные идеи, поверхностный тон критики, беспринципность Сенковского как журналиста. С 1849 г. редактором стал А. В. Старчевский, затем А. В. Дружинин (с 1856 г.), позднее – А. Ф. Писемский (с 1860 г.) и П. Д. Боборыкин (с 1863 г. и до закрытия в 1865 г.). В 1850 – 1860 гг. в журнале эпизодически участвовали Л. Н. Толстой (рассказ «Три смерти»), А. Н. Островский (пьеса «Воспитанница»), И. А. Гончаров, А. Н. Майков, А. А. Фет и др. В отделах «Науки и художества», «Новости учёного мира» и др. в разное время были помещены статьи Н. И. Пирогова, П. Н. Ткачёва, П. Л. Лаврова, Р. В. Шелгунова, А. Гумбольдта и др. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. Стб. 604.)
(обратно)125
Михаил Михайлович Сперанский (1772 – 1839) – крупнейший государственный деятель царствования Александра I. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 356.)
(обратно)126
От замысла по (написанию. – Авт.) истории русской критики не сохранилось никаких материалов.
(обратно)127
Юлий Помпеевич Литте (1763 – 1839) – граф, старший обер-камергер, которому Пушкин был подчинён при дворе как камер-юнкер. (Там само. С. 362.)
(обратно)128
Видок – начальник парижской тайной полиции, с которым Пушкин сравнивал Ф. В. Булгарина. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 363.)
(обратно)129
Там само. С. 38.
(обратно)130
25 июня Пушкин написал письмо А. Х. Бенкендорфу с просьбой об отставке от службы и получил в ответ извещение, что отставка принята, но разрешение, данное ему на занятие в архивах, тем самым отнимается. Под влиянием и воздействием В. А. Жуковского и вследствие раздумий о тягостных последствиях своей ссоры с Николаем I Пушкин взял обратно просьбу об отставке. – Примітка коментаторів видання. (Там само. С. 365.)
(обратно)131
Там само. С. 41.
(обратно)132
Николай I ездил в Берлин и вернулся в Петербург вечером 26 ноября. В его отсутствие не решались выпустить в продажу отпечатанный тираж «Истории Пугачёвского бунта». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 366.)
(обратно)133
6 декабря – день именин Николая I. Пушкину, как камер-юнкеру, надлежало явиться в присвоенном ему по придворному звании мундире. (Там само.)
(обратно)134
Там само. С. 42.
(обратно)135
Анна Владимировна Бобринская (1769 – 1846) – графиня, рождённая баронесса УнгернШтернберг, мать графа А. А. Бобринского. (Там само. С. 357.)
(обратно)136
Алексей Алексеевич Бобринский (1800 – 1888) – граф, внук Екатерины II; основатель свеклосахарной промышленности в России, пропагандист устройства железных дорог, добычи каменного угля и торфа, развития сельского хозяйства и садоводства; приятель Пушкина. (Там само. С. 355).
(обратно)137
Адам Осипович Ленский, помощник статс-секретаря Государственного совета по департаменту дел Царства Польского. (Там само. С. 366.)
(обратно)138
Мій дорогий друже, однак не слід тут говорити про Польщу. Оберемо нейтральний об’єкт розмови, наприклад, про посла Австрії (франц.). Переклад авторів праці.
(обратно)139
Елизавета Михайловна Хитрово, рождённая Голенищева-Кутузова (1783 – 1839) – дочь знаменитого полководца, приятельница Пушкина. (Там само. С. 364 – 365.)
(обратно)140
Великий князь – Михаил Павлович. Он возмущался статьёй, напечатанной в № 206 «Северной пчелы» от 13 сентября 1834 г., где был описан приезд Николая I в Москву 7 сентября. (Там само. С. 366.)
(обратно)141
Александр Васильевич Никитенко (1805 – 1877) – цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета, впоследствии академик. 8 дней провёл под арестом на гауптвахте за пропуск в печать для 12-й книжки «Библиотеки для чтения» следующего перевода стихотворения В. Гюго:
Красавице
Когда б я был царём всему земному миру, Волшебница! тогда б поверг перед тобой Всё, всё, что власть даёт народному кумиру: Державу, скипетр, трон, корону и порфиру, За взор, за взгляд единый твой! И если б богом был – селеньями святыми Клянусь – я отдал бы прохладу райских струй, И сонмы ангелов с их песнями живыми, Гармонию и власть мою над ними За твой единый поцелуй!(А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 366 – 367.)
(обратно)142
Михаил Данилович Деларю (1811 – 1863) – поэт, воспитанник Царскосельского лицея.
(обратно)143
Митрополит новгородский и петербургский Серафим (1857 – 1843). В 1823 г. возбудил дело о «Гаврилиаде», а в 1833 г. при выборах Пушкина в члены Российской академии не дал своего голоса за Пушкина «единственно потому, что он ему неизвестен». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 367.)
(обратно)144
Фёдор Николаевич Глинка (1786 – 1880) – поэт, декабрист. (Там само. С. 367.)
(обратно)145
По-видимому, стихотворение Ф. Н. Глинки 1832 г. «Слова Адонаи к мечу (из Исайи)», которое начинается следующими стихами:
Сверкай, мой меч! Играй, мой меч! Лети, губи, как змей крылатый! Пируй, гуляй в раздолье сеч! Щиты их в прах! в осколки латы!(Там само.)
(обратно)146
«…он пустился…» – он, т. е. бог. (Там само.)
(обратно)147
Принадлежавшие Наталье Николаевне Пушкиной бриллианты были заложены Пушкиным вследствие денежных затруднений сразу же после свадьбы в 1831 г. и в связи с переездом из Москвы в Петербург в мае того же года. Он не смог их выкупить до конца своей жизни. (Там само.)
(обратно)148
Князь Пётр Михайлович Волконский (1776 – 1862) – министр двора и управляющий кабинетом, близкий человек и доверенный Николая I. (Там само.)
(обратно)149
Елена Павловна. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 367)
(обратно)150
Записки Екатерины II тогда были известны только в рукописных списках и считались секретными. Появились в печати лишь в 1859 г. в Лондоне (их издал А. И. Герцен). Пушкин снял с них копию в Одессе со списка, хранившегося в библиотеке графа М. С. Воронцова. (Там само.)
(обратно)151
Герасим Петрович Паевский (1787 – 1869) – протоиерей, профессор Петербургской духовной академии, крупный филолог. Митрополит Филарет обвинил его в том, что в его двух книгах «Начертание духовной истории» и «Христианское учение в краткой системе» находятся неблагонамеренные места. (Там само. С. 368.)
(обратно)152
Наследник Александр Николаевич, у которого Павский был законоучителем. (Там само.)
(обратно)153
Александр Семёнович Шишков (1754 – 1841) – русский писатель, государственный деятель. В 1772 г. окончил Морской кадетский корпус, совершил несколько морских походов, дослужился до адмирала. Был статс–секретарём Александра I, членом Государственного совета, в 1824 – 1828 гг. – министром просвещения. Член Российской академии (с 1789 г.) и её президент (1813 – 1841 гг.). По политическим убеждениям консерватор; активно боролся с идеями отмены крепостного права. В 1826 г. ввёл крайне жёсткий цензурный устав, получивший у современников прозвище «чугунный». Был членом Верховного суда над декабристами (правда, добивался смягчения участи подсудимых). (Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Стб. 733 – 734.)
(обратно)154
Иоаким Семёнович Кочтов (1787 – 1854) – протоиерей Петропавловского собора в Петербурге, профессор Петербургской духовной академии, член Российской академии. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 368.)
(обратно)155
Другой – Василий Борисович Бажанов (1800 – 1883), священник, законоучитель Петербургского университета, с 1837 г. член Российской академии наук. (Там само.)
(обратно)156
Кто есть кто, какие же лжецы водятся? (Франц.)
(обратно)157
Сергей Семёнович Уваров (1786 – 1855) – с 1818 г. президент Академии наук, с 1834 г. – министр народного просвещения, враг Пушкина. В молодости был членом «Арзамаса». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 709.)
(обратно)158
Князь Михаил Александрович Дундуков-Корсаков (1794 – 1869) – попечитель С. – Петербургского учебного округа (при С. С. Уварове – министре народного просвещения), председатель С. – Петербургского цензурного комитета и с 7 марта 1835 г. вице-президент Академии наук (при С. С. Уварове – президенте). (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. С. 368.)
(обратно)159
Граф Егор Францевич Канкрин. (Там само.)
(обратно)160
Дашкова – княгиня Екатерина Романовна, рождённая графиня Воронцова (1744 – 1810), директор Академии наук и президент Российской академии. Сын её – князь А. А. Дашков. (Там само.)
(обратно)161
Дашков Дмитрий Васильевич (1784 – 1839), в то время министр юстиции. (Там само.)
(обратно)162
Александр Иванович Красовский (1780 – 1857) – цензор, получивший известность, как тупой гаситель всякой живой и свободной мысли. (Там само. С. 364.)
(обратно)163
Александр Степанович Бируков (1772 – 1844) – цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета. (Там само. С. 369.)
(обратно)164
Пушкин в воспоминаниях современников. Ленинград, 1950. Стихи Фёдора Николаевича Глинки не раз служили предметом дружеских эпиграмм Пушкина. Значительно выше ценил Пушкин Глинку – видного деятеля «Союза благоденствия», и даже испытывал близость к его политическим взглядам в петербургский период своей жизни (1817 – 1820 гг.). В 1820 г. Глинка смело приветствовал ссыльного Пушкина посланием, которое вызвало ответные стихи Пушкина «Когда средь оргий жизни шумной…». «Покажи их Глинке, – писал Пушкин брату в январе 1823 года, – обними его за меня и скажи ему, что он всё-таки почтеннейший человек здешнего мира». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 44.)
(обратно)165
Фёдор Николаевич Глинка (1786 – 1880) – русский поэт, публицист… Окончил кадетский корпус в 1803 г. В 1805 – 1806 гг. служил в армии, участвовал в сражении при Аустерлице. Первое стихотворение «Глас патриота» опубликовал в 1807 г. Участник Отечественной войны 1812 г., Бородинского сражения и заграничных походов 1813 – 1814 гг. , описанных Глинкой в «Письмах русского офицера (1815 – 1816 гг.), которые принесли ему первую литературную известность. Глинка одним из первых вошёл в «Союз спасения», затем в «Союз благоденствия», примкнув к умеренному крылу декабристов. В 1819 – 1825 гг. – председатель Вольного общества любителей российской словесности. В «Полярной звезде» за 1823 г. опубликовал одну из самых известных своих политических элегий «Плач пленённых иудеев». После поражения восстания декабристов уволен в 1826 г. со службы и сослан в Петрозаводск (до 1830 г.), затем жил в Твери, Москве, Петербурге. В ссылке Глинка изучал этнографию и фольклор Карелии, что отразилось в его «карельских» поэмах (1828 – 1830 гг.): «Дева карельских лесов» и «Карелия». Во второй из них А. С. Пушкин отметил «свежесть живописи» при описании северной природы и народного быта. Наиболее значительна гражданская лирика Глинки декабристского периода, его духовные стихи, окрашенные сентиментальными и библейскими мотивами. К этому времени относятся также стихотворения «Тройка» («Вот мчится тройка удалая»), «Узник» («Не слышно шуму городского»), ставшие популярными народными песнями. Известно стихотворение Глинки «Москва» («Город чудный, город древний…», 1841). Пушкин указывал на оригинальность элегических псалмов Глинки и в то же время однообразие мыслей в них. Книга Глинки «Очерки Бородинского сражения» была положительно оценена В. Г. Белинским.
С конца 1830-х гг. Глинка сближается с будущими славянофилами, сотрудничает с М. П. Погодиным и С. П. Шевырёвым в журнале «Москвитянин». Его «Духовные стихотворения» (1839), поэмы «Иов» (1859) и «Таинственная капля» (1861) проникнуты религиозным мистицизмом. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. Стб. 199 – 200.)
(обратно)166
Эта встреча состоялась в середине апреля 1820 года.
(обратно)167
Николай Иванович Гнедич (1784 [Полтава] – 1833 [Петербург]) – русский поэт, переводчик. Родился в небогатой дворянской семье. В 1793 г. поступил в Полтавскую духовную семинарию, в 1800 – 1802 гг. учился в Московском университетском пансионе, где сблизился с Дружеским литературным обществом (А. И. Тургеневым, А. Ф. Мерзляковым, А. С. Кайсаровым) и драматургом Н. Н. Сандуновым. Гнедича увлекают тираноборческие и республиканские идеи, творчество молодого Ф. Шиллера. В 1802 г. вышла повесть Гнедича «Мориц, или Жертва мщения», в 1803 г. перевод трагедии Шиллера «Заговор Фиеско»… и роман «Дон Коррадо де Геррера». Переехав в Петербург (1803), Гнедич долгие годы служил в Императорской публичной библиотеке. Гнедич состоял в «Беседе русского слова». Сблизился также с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств, К. Н. Батюшковым, И. А. Крыловым, литературным салоном А. Н. Оленина. Им созданы свободолюбивое стихотворение «Общежитие» (вольный перевод с французского оды Тома, 1804), антикрепостническое стихотворение «Перуанец к испанцу» (1805), перевод трагедии Вольтера «Танкред» (1810). В основе творчества Гнедича этого периода – идея народности. Исходя из учения просветителей XVIII века Гнедич стремился создать идеал трудового гармоничного человека. Его интересовал исполненный страстей свободолюбивый герой. Отсюда интерес к Шекспиру (в 1808 г. Гнедич опубликовал трагедию «Леар» – перевод «Короля Лира»), к поэзии Оссиана и особенно к античному искусству. В героях Гомера Гнедич увидел образы героического народа, в их жизни – идеал патриархального равенства. В 1807 г. Гнедич начал переводить «Илиаду» александрийским стихом, но под влиянием Н. А. Радищева, А. Х. Востокова перешёл на гекзаметр. Гнедич был близок с декабристами: К. Ф. Рылеевым, Н. М. Муравьёвым, Ф. Н. Глинкой и др. Для многих поэтов 1820-х гг. и молодого Пушкина Гнедич был литературным авторитетом и союзником. Его роль раскрывается в стихотворных посланиях к нему Пушкина, Е. А. Баратынского, К. Ф. Рылеева. Последний также посвятил ему думу «Державин». Однако Гнедичу был чужд романтический субъективизм декабристов, он выступал за героический эпос, за повествование о героическом народе. Позиция декабристов была революционнее, Гнедича – демократичнее. Пытаясь создать образ современного народа как синтез гомеровской стилистики и русского фольклора, Гнедич написал идиллию «Рыбаки» (1822), перевёл «Простонародные песни нынешних греков» (1825). После поражения декабристов Гнедич писал мало. В 1829 г. он издал полный перевод «Илиады», над которым работал более 20 лет; перевод имел огромное поэтическое и общекультурное значение. Пушкин оценил труд поэта как совершение «…высокого подвига». В. Г. Белинский утверждал: «Перевод «Илиады» – эпоха в нашей литературе, и придёт время, когда «Илиада» Гнедича будет настольною книгою всякого образованного человека». (Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. Стб. 204 – 205.)
(обратно)168
А. Н. Оленин (1763 – 1843) – директор Публичной библиотеки в Академии художеств.
(обратно)169
Служебное положение Глинки позволяло ему своевременно предупредить Пушкина о правительственных гонениях. Хлопоты влиятельных людей, среди которых были Карамзин, Жуковский, Чаадаев, Гнедич, Энгельгардт, А. И. Тургенев и др., возымели своё действие и смягчили удар. Вместо грозившей ссылки в Сибирь или, по другим данным, заключения в крепость, опальный Пушкин отделался как чиновник министерства иностранных дел переводом в Екатеринослав, где находилась штаб-квартира главного попечителя колонистов южной России генерала И. Н. Инзова.
6 мая 1820 года Пушкин покинул Петербург, направляясь к месту ссылки. (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 538.)
(обратно)170
Осенью 1820 года в лейб-гвардии Семёновском полку, расквартированном в Петербурге, вспыхнуло восстание, подготовленное будущими декабристами. Волнения имели место и в других частях гвардии. Правительство Александра I жестоко расправилось с зачинщиками и раскассировало Семёновский полк, обновив его состав. (Там само.)
(обратно)171
С. К. Вязмитинов (1744 – 1819) – граф, петербургский генерал-губернатор. (Там само. С. 579.)
(обратно)172
А. Д. Балашов (1770 – 1837) – генерал-адъютант, министр полиции. (Там само. С. 576.)
(обратно)173
Пушкин в воспоминаниях современников. С. 175 – 178.
(обратно)174
На свой собственный риск (нем.). – Ред.
(обратно)175
А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954 – 1965. Т. 24. С. 142.
(обратно)176
Замыслы Долгоруких – князей Долгоруковых – Василия Лукича, Алексея Григорьевича и его братьев: попытка ограничить самодержавие аристократической конституцией, с верховным советом во главе правительства. Попытка выразилась в составлении «условий, которые подписала Анна Иоанновна при вступлении на престол в 1730 году. Условия «верховников» были уничтожены Анной в результате оппозиции «шляхетства» (среднего дворянства), а Долгоруковы сосланы и имущество их конфисковано. «Условия» были написаны по образцу шведской конституции, но с устранением народного представительства. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 24. С. 81.)
(обратно)177
Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турциею и Россией. Зачем Екатерина не совершила сего важного плана в начале Французской революции, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия и изнурённая Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот. (Там само. С. 91.)
(обратно)178
Юрий Михайлович Лотман (1922 – 1993) – русский советский литературовед и культуролог. В 1950 г. окончил ЛГУ. С 1963 г. – профессор Тартуского университета. Основные работы посвящены истории русской литературы и общественной мысли конца XVIII – начала XIX века и современным проблемам теории литературы. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. Стб. 431.)
(обратно)179
М. С. Лунин. Письма из Сибири. М., 1987. С. 303 – 304.
(обратно)180
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 318.
(обратно)181
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 315.
(обратно)182
Алексей Андреевич Аракчеев (1769 – 1834) – генерал от кавалерии, временщик при Павле I и Александре I, военный министр в 1808 – 1810 гг., организатор военных поселений. (Там само. С. 484.)
(обратно)183
Манилов – действующее лицо в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя (Там само, с. 501.)
(обратно)184
А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 26. С. 171.
(обратно)185
Адольф Колачек (1796 – 1861) – австрийский публицист и политический деятель, член Франкфуртского парламента; в 1850 – 1851 гг. издавал в Штутгарте журнал «Deutsche Monatschrift fur Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», в котором напечатано несколько работ Герцена; в 1851 г. переселился в Париж, а в 1853 г. в Америку. (Там само. С. 554.)
(обратно)186
В комментарии к упомянутому исследованию Герцена (Т. 7. С. 412) – испорченных.
(обратно)187
А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 24. С. 183.
(обратно)188
Пётр Григорьевич Заичневский (1842 – 1896) – русский революционер, основатель якобинского направления в общественном движении пореформенной России. Происходил из среднепоместного дворянства Орловской губернии. В 1858 г. поступил в Московский университет и сразу же стал активным участником студенческого, а затем революционного движения, входил в «Библиотеку казанских студентов». Вместе с П. Аргиропуло организовал революционный кружок, напечатавший ряд нелегальных изданий. Был одним из активных деятелей воскресных школ. Встречался с Н. Г. Чернышевским. Обладая ораторским талантом, в революционных речах на студенческих сходках и собраниях пропагандировал идеи утопического социализма, воспринятые им от А. И. Герцена. Летом 1864 г. выступал перед крестьянами Подольского и Мценского уездов, призывая их к неповиновению властям, к чёрному переделу земель и общественному владению ими. Был арестован. В заключении написал знаменитую прокламацию «Молодая Россия» (май 1862 г.), призывавшую к свержению самодержавия. Правительству не удалось открыть автора прокламации. В 1862 г. Заичневский был приговорён к 2 годам и 8 мес. каторги. В 1869 г. вернулся из Сибири. Несмотря на неоднократные высылки, продолжал пропагандистскую работу. В Орле вокруг Заичневского сгруппировался революционный молодёжный кружок якобинского направления. Последним местом ссылки был Иркутск, где Заичневский сотрудничал в газете «Восточное обозрение». В 1895 г. вернулся в Европейскую Россию. Умер в Смоленске.
Заичневский был революционером и социалистом, но главную роль в революции отводил интеллигенции и войску. Не возлагал больших надежд на революционные возможности крестьянства, подчёркивая, что массы «всегда становятся на сторону совершившегося факта». Роль политической власти и захват её занимали большое место во взглядах Заичневского. (Советская историческая энциклопедия. Т. 5. Стб. 596 – 697.)
(обратно)189
Перикл Эммануилович Аргиропуло (1839 – 1862) – русский революционер. По национальности – грек. Студент юридического факультета Московского университета. С 1859 г. – участник кружка «Библиотека казанских студентов». В 1860 – 1861 гг. с П. Г. Заичневским создал студенческий кружок, занимавшийся переводами, литографированием и распространением запрещённых книг (Л. Фейербаха, А. И. Герцена, Н. П. Огарёва и др.), устройством воскресных школ. Участвовал в приобретении типографского станка для тайной типографии. Арестован 22 июня 1861 г. Умер до объявления приговора. (Советская историческая энциклопедия. Т. 1. Стб. 714 – 715.)
(обратно)190
А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 193 – 206.
(обратно)191
А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 413 – 422.
(обратно)192
Александр I на Венском конгрессе в 1815 г. заявил о «даровании» Польше конституции, рассчитывая вызвать этим волнения в польских областях, принадлежавших Австрии и Пруссии, с целью воссоединения Польши под своим владычеством. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 427 – 428.)
(обратно)193
М. М. Сперанский подготовил по поручению Александра I проект государственных преобразований – «Введение к уложению государственных законов», представленный им в 1809 г. Этот проект, так же как некоторые реформы, проведенные по инициативе Сперанского, вызвал резкое недовольство дворянства, выражением чего явилась «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, написанная им в 1811 г. в противовес проекту Сперанского. (Там само. С. 428.)
(обратно)194
Грютли – швейцарская буржуазно-реформистская организация, основанная в 1838 г. и названная в честь луга в Грютли, где в 1307 г. был заключён союз между тремя кантонами, положивший начало Швейцарской республике. Тугендбунд – политическое общество, возникшее в Пруссии в 1808 г. в период французской оккупации для тайной подготовки отпора. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 428)
(обратно)195
1. Предварительный, предположительный. 2. Временный. (Словарь современного русского языка. Том 11. М. – Л.: 1961. С. 962 – 963.)
(обратно)196
Герцен имеет в виду законы 1838 – 1841 гг., так называемые реформы графа П. Д. Киселёва, реорганизовавшие управление государственными крестьянами в несколько видоизменённой, но ещё более усиливавшие подчинение крестьянской общины органам чиновничьего управления. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 428)
(обратно)197
Имеется в виду опись и оценка земель, установление крестьянских наделов и повинностей, предусмотренных реформой П. Д. Киселёва. (Там само.)
(обратно)198
Имеются в виду события в Симбирской губернии, которая, как и ряд других губерний, была по словам отчёта III Отделения, охвачена в 1839 г. «пожарами и восстанием народным»; массовый протест, которым, начиная с 1841 г., государственные крестьяне, в частности в Казанской и Вятской губерниях, ответили на реформу П. Д. Киселёва, на усиление бюрократически-полицейской опеки, некоторые крестьянские восстания, в частности 1843 г., когда крестьяне «под предводительством бессрочно-отпускных и уволенных в отставку нижних чинов с оружием в руках встретили посланные для усмирения их воинские команды и только усиленными отрядами приведены в повиновение». (Крестьянское движение 1827 – 1869 гг. Соцэкгиз, 1931, в. 1, с. 32, 53, 57). (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 429.)
(обратно)199
По библейскому преданию, – слова, начертанные огненной рукой во время Валтасарова пира и предвещавшие гибель Валтасару и его державе – Вавилону. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 428.)
(обратно)200
Имеется в виду расправа с декабристами, ознаменовавшая вступление на престол Николая I, и разгром польского восстания 1830 – 1831 гг. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 428.)
(обратно)201
Эти слова даются в буквальном переводе с французского. Слово «клиент» Герцен употребляет в том его смысле, который оно имело в древнем Риме – человек, зависимый от патрона, покровительствуемый им. (Там само.)
(обратно)202
Ни переводчиком, ни предателем (итал.). – Ред.
(обратно)203
Иван Васильевич, персонаж повести В. А. Соллогуба. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 428)
(обратно)204
Имеется в виду поэма Г. Гейне «Германия», глава III. (Там само.)
(обратно)205
Другую сторону (лат.). – Ред.
(обратно)206
Неточная цитата из «Евгения Онегина» (глава VI, строфа XVI).
(обратно)207
Пушкин познакомился с Адамом Мицкевичем в сентябре 1826 г. по приезде в Москву из Михайловского, где находился в ссылке. Мицкевич, будучи выслан из пределов Польши, жил в России в 1824 – 1829 гг. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 428.)
(обратно)208
Курс истории славянских литератур Мицкевич читал в College de France в 1840 – 1844 гг. (см. отзыв Герцена о лекциях Мицкевича в «Дневнике», записи от 12 и 17 февраля 1844 г.) (Там само. С. 429.)
(обратно)209
С производством в камер-юнкеры поздравил Пушкина не наследник, а великий князь Михаил Павлович; ответ Пушкина приведен Герценом неточно (см. в дневнике Пушкина запись от 7 января 1834 г.). (Там само.)
(обратно)210
Там, под облачным небом, где краток день, рождается племя, которому умирать не жалко (итал.). – Ред. Герцен несколько неточно цитирует два стиха канцоны Петрарки из цикла «Сонеты и канцоны на жизнь мадонны Лауры», пропуская среднюю строку «Nemica naturalmente di pace». Эти же два стиха использует Пушкин в качестве эпиграфа к шестой главе «Евгения Онегина». (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 429.)
(обратно)211
Герцен допускает тут ряд фактических неточностей.
(обратно)212
Видимо, имеется в виду евангельское сказание о гонениях, которым подверглись посланные в Иерусалим «пророки, и мудрые, и книжники» (Евангелие от Матфея, глава 23; от Луки, глава 13). (Там само.)
(обратно)213
Книга Кюстина – La Russie en 1839. Par le marquis de Custine. T. 1 – 4. Paris, 1843. О ней запрещалось упоминать в печати; книгопродавцам было предложено отослать за границу выписанные экземпляры. Но нелегальными путями книга Кюстина широко распространилась в России. О впечатлении, произведённом на Герцена книгой Кюстина, см. в Дневнике за 1843 г. (т. II наст. изд., с. 311 – 313, 315, 340). А также в статье Герцена «Россия». (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 429.)
(обратно)214
Примітка О. І. Герцена: Не без некоторого страха приступаю я к этой части моего обозрения.
Читатель поймёт, что у меня нет возможности всё сказать, а во многих случаях – и назвать имена людей; чтобы говорить о каком-нибудь русском, надо знать, что он в могиле или в Сибири. И лишь по зрелом размышлении решился я на эту публикацию; молчание служит поддержкой деспотизму, то, о чём не осмеливаешься сказать, существует лишь наполовину. (Там само, с. 214.)
(обратно)215
Николай Алексеевич Полевой (1796, Иркутск – 1856, Петербург) – русский писатель, журналист, историк, переводчик. Родился в семье купца, систематического образования не получил. Изучал французский, немецкий и древние языки. На литературном поприще выступил в 1817 г.
В 1820 г. переехал в Москву. С 1825 г. издавал журнал «Московский телеграф», закрытый правительством в 1834 г. Один из первых буржуазных идеологов в России, Полевой оставался сторонником монархической власти и не выходил за пределы либерально реформистской критики дворянского общества. Но в условиях политической реакции 1830-х гг. деятельность Полевого играла демократическую роль и расценивалась в высших цензурно-полицейских кругах как «якобинство». С 1836 г. Полевой, переехав в Петербург, взял на себя по договору с А. Ф. Смирдиным негласную редакцию «Сына отечества» и «Северной пчелы» (под контролем В. Ф. Булгарина и Н. И. Греча). В 1841 – 1842 гг. безуспешно пытался оживить «Русский вестник».
Основной проблемой художественных произведений Полевого являлся вопрос о месте русского буржуа в дворянском обществе. Любимый герой Полевого – представитель третьего сословия, наделённый лучшими с точки зрения автора качествами (религиозностью и твёрдой нравственностью), но недовольный узостью интересов и культурной отсталостью своей среды… конфликт героя с обществом кончается обычно трагически и выражен в романтической форме столкновения «мечты» и «существенности». Полевой патетически изображает переживания героя, утрирует его язык. Представители аристократического общества изображаются как безнравственные эгоисты, люди внешнего блеска и фальшивой культуры.
Им противостоит патриархальная простота и нравственная нетронутость носителей буржуазной идеологии… После репрессий, постигших Полевого в 1834 г. и лишивших его журнальной трибуны, прямые его нападки на дворянство уменьшились, но он ещё больше подчёркивал нравственную доблесть и патриотизм купечества… В 1837 г. Полевой перевёл «Гамлета» У. Шекспира. Произведения Полевого, пользовавшиеся успехом, были скоро забыты. В. Г. Белинский, хваливший его повести в 1830-е гг., резко отрицательно характеризовал их в 1840-е гг. с позиций реализма.
…Выступая против эстетики классицизма, Полевой, в противовес ей, выдвигал принцип исторической оценки искусства как органического воплощения национального самосознания в определённых «условиях жизни в обществе». Полевой противопоставлял классицизму романтизм, как течение народное, выявляющее национальную самобытность. Характерно одобрительное отношение Полевого к В. Гюго. Демократическое понимание романтизма Полевой проводил в критических статьях, которые были для своего времени выдающимся явлением в русской критике. Литературные взгляды Полевого связаны с его историческими воззрениями, на которые повлияли французские историки Ф. Гизо и О. Тьерри. Полевой выступил против аристократической концепции «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Само название основного исторического труда Полевого – «История русского народа» (т. 1 – 6, 1829 – 1833) – было полемически направлено против Карамзина.
В публицистических выступлениях Полевой защищал интересы русской национальной культуры, торговли и промышленности. Печатал переводы иностранных авторов… выпустил обширное издание «Русская Библиофика, или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики и древней русской литературы» (1833). Усиление верноподданнических тенденций у Полевого вызвало неприязнь к нему со стороны радикальных слоёв общества. После его смерти Белинский всё же оценил деятельность Полевого как прогрессивную силу в литературной борьбе конца 1820 – начала 1830-х гг. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 216.)
(обратно)216
Николай Иванович Греч (1787 – 1867) – русский журналист, писатель, филолог. Родился в семье чиновника. В 1804 г. окончил юнкерскую школу, затем состоял вольнослушателем педагогического института. В 1805 г. начал печататься. В 1812 – 1839 гг. – редактор-издатель (с 1825 г. совместно с Ф. В. Булгариным журнала «Сын отечества», который до середины 1820-х гг. был связан с передовыми декабристскими кругами. Однако в 1825 г. Греч, по собственному признанию, «уже вытрезвился от либеральных идей» и вскоре стал ярым монархистом и реакционером. В 1831 – 1859 гг. совместно с Булгариным издавал газету «Северная пчела», пользовавшуюся покровительством 3-го отделения (ведавшего политическим сыском), в течение всей последующей жизни вёл активную борьбу с передовым направлением русской литературы. Именно за эту деятельность Н. А. Добролюбов назвал Греча «поборником лжи и мрака». Греч – автор романа в письмах «Поездка в Германию» (1854), очерков о странах Западной Европы. Наибольшую известность получил роман «Чёрная женщина»… Гречу принадлежит «Учебная книга русской словесности» (1819 – 1822), «Опыт краткой истории русской литературы» (1822) – первая книга по истории литературы в России… В журналах 1860 – 1870 гг. печатались мемуары Греча «Записки о моей жизни»… содержащие обширный литературно-исторический и бытовой материал. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. Стб. 339 – 340.)
(обратно)217
Фаддей Венедиктович Булгарин (1789 – 1860) – русский журналист и писатель. Родился в семье польского шляхтича. До 1825 г. сотрудничал в «Полярной звезде» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева, сохранил постоянную дружбу с А. С. Грибоедовым. Позднее превратился в крайнего реакционера и беспринципного журналиста. В 1825 – 1860 гг. издавал (с 1831 г. совместно с Н. И. Гречем) реакционную газету «Северная пчела», в 1822 – 1828 гг. – журнал «Северный архив» (с 1825 г. совместно с Гречем), в 1825 – 1839 гг. также совместно с Гречем – «Сын отечества». Дидактически-правописательные романы Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и «Пётр Иванович Выжигин» (1831) имели, по выражению В. Г. Белинского, «… успех только минутный», т. к. при своём появлении в некоторой мере отвечали потребностям русского общества в повестях и романах из русской жизни. Булгарин одним из первых начал публиковать отличавшиеся наблюдательностью нравоописательные т. н. физиологические очерки – жанр, который несколько позднее, в 1840-х гг., стал весьма популярным в русской литературе. Однако большая часть очерков Булгарина проникнута благонамеренными, верноподданническими идеями. Романы Булгарина «Дмитрий самозванец» (1830), «Мазепа» (ч. 1 – 2, 1833 – 1834) носят псевдоисторический характер и изобилуют мелодраматическими эффектами. Как литературный критик Булгарин выступал против А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского и реалистического направления 1830 – 1840-х гг., которое он назвал в одной из полемических статей натуральной школой… Был постоянным осведомителем политической полиции («3 отделения»), писал доносы на писателей. Против Булгарина вели борьбу А. С. Пушкин, В. Г. Белинский, Н. А. Некрасов, позднее Н. А. Добролюбов, считая его олицетворением политической реакции и продажности в литературе и журналистике. Булгарин – автор «Воспоминаний», представляющих некоторый интерес. (Краткая литературная энциклопедия Т. 1. Стб. 770.)
(обратно)218
Устаревшее. Управляющий технической частью типографии (в дореволюционной России). (Словарь современного русского литературного языка. Т. 16. С. 1215.)
Агитационные произведения декабристов (революционные воззвания, оды, сатиры, массовые песни, памфлеты) распространялись только в рукописных копиях и к печати никогда не предназначались. Ни одной печатной прокламации не вышло из рядов тайного общества ни в пору междуцарстия, ни в самый день 14 декабря. В типографии же Н. И. Греча, как ныне установлено, нелегально печатались не революционные воззвания, а масонские уставные документы и листовки… Возможно, что к печатанию этих материалов имел отношение «фактор и распорядитель типографии Греча» Е. Фридрих, убитый и ограбленный в Петербурге в 1821 г. В пору следствия над декабристами широкое распространение получили слухи о том, что Фридрих был убит вовсе не с целью грабежа, а по заданиям членов тайного общества… Политическая беспринципность Булгарина и Греча, как литературных дельцов, связанных в своё время с писателями-декабристами, а после их гибели с органами тайной полиции, объясняет появление их имён в легенде, передаваемой Герценом… (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 429 – 430.)
(обратно)219
Иван Иванович Дмитриев (1760 – 1837) – русский поэт. Родился в семье помещика. В 14 лет начал военную службу рядовым, в 1796 г. – вышел в отставку полковником. В 1796 – 1814 гг. занимал различные посты – оберпрокурора Сената, министра юстиции и др. Выступал в печати с 1777 г. Наиболее интенсивный период творчества – 1784 – 1805 гг., в дальнейшем почти не выступал. Был дружен с Г. Р. Державиным и особенно с Н. М. Карамзиным. Поэзия Дмитриева – типичный образец русского дворянского сентиментализма. Отвергая присущую классицизму иерархию жанров и стилей, Дмитриев стремился выработать единый для различных жанров литературный язык на основе светской разговорной речи. Однако язык Дмитриева сохранял условность и книжность. Дмитриев – по преимуществу сатирик, разрабатывавший светские и нравоучительные темы… Его сатира «Чужой толк», высмеивавшая риторическую оду, стала одним из программных произведений карманизма. Многочисленные басни Дмитриева поэтичны и изящны, стиль их отмечен салонной сглаженностью. Большой известностью пользовались переложенные на музыку песни Дмитриева, в которых фольклорная традиция перерабатывалась в духе камерной сентиментальности («Стонет сизый голубочек» и др.). Драматическая поэма «Ермак» – первый в русской поэзии опыт романтической трактовки национально-исторического сюжета. Значительное место в творчестве Дмитриева занимают переводы и переложения французских поэтов… Дмитриев оказал влияние на поэтов «Арзамаса» П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова. Его записки «Взгляд на мою жизнь» содержат ценные общественнолитературные сведения. А. С. Пушкин относился к поэзии Дмитриева отрицательно; в письмах 1824 г. он полемизировал с П. А. Вяземским, автором апологетической статьи о Дмитриеве: «Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова…» «Дмитриев, несмотря на всё старое своё влияние, не имеет, не должен иметь более весу, чем Херасков». Отмечая ограниченность творчества Дмитриева, В. Г. Белинский указывал и на его историческое значение, как этап на «пути сближения с простотою и естественностью, словом – с жизнью и действительностью…» (Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. Стб. 704 – 705.)
(обратно)220
По должности (франц.). – Ред.
(обратно)221
После революции 1848 года цензура стала манией Николая. Не удовлетворённый обычной цензурой и двумя цензурами, которые он учредил за пределами своих владений, в Яссах и Бухаресте, где по-русски не пишут, он создал ещё вторую цензуру в Петербурге, мы склонны надеяться, что эта двойная цензура будет полезней, чем простая. Дойдя до того, что будут печатать русские книги вне России, это уже делают, и, как знать, кто окажется более ловок, свободное слово, или император Николай. (Примітка О. І. Герцена.)
О введении русской цензуры в Яссах и Бухаресте не обнаружено. Возможно, что Герцен имеет в виду оккупационный режим, введённый в Молдавии и Валахии русскими властями на основе Балта-Лиманской конвенции 1849 г. с Турцией; эта конвенция предусматривала совместную борьбу против всяких привилегий революционного движения. В Петербурге 28 февраля 1848 г. была организована правительственная комиссия под председательством Меншикова, преобразованная 2 апреля в комитет под председательством Бутурлина для высшего надзора над журналистикой и наблюдающими за ней учреждениями. Затем был создан комитет под председательством Блудова для рассмотрения заключений комитета 2 апреля. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 430.)
(обратно)222
Александр Иванович Полежаев (1804 – 1838) – русский поэт. Отец – пензенский помещик Струйский; мать – крепостная девушка Аграфена, после рождения «незаконного» младенца обвенчанная с саранским мещанином Полежаевым, который вскоре бесследно исчез. Мать Полежаева возвратилась в среду дворовых Струйского и умерла, оставив 5-летнего сына. В 10-летнем возрасте отец отвёз его в Москву и определил в частный пансион швейцарца Визара. Во время обучения мальчика Струйский за жестокое обращение с крепостными был сослан в Сибирь, где и умер. В 1820 г. Полежаев поступил вольнослушателем на словесное отделение Московского университета. Помощь Струйских «незаконному» внуку была нерегулярной. Горькая нужда вызывала частые перерывы в обучении. В университете Полежаев сошёлся с родственным ему кругом студентов из разночинной среды; здесь по рукам ходили запретные рукописи, складывались революционные кружки. В этой атмосфере возникала поэзия Полежаева… В духе декабристской поэзии написано стихотворение «Балтасар», подражание 5-й главе пророка Даниила – легенда о гибели восточного деспота, как отклик на коронацию Николая I.
Кроме стихов, печатавшихся в «Вестнике Европы», в альманахах, Полежаев создал несколько повестей в стихах, распространявшихся в студенческой среде. В их числе была поэма «Сашка». Написанная в 1825 г., она стилизована в духе только что напечатанной первой главы «Евгения Онегина». Поэма полна своеобразного юмора, реалистических черт, остроумных общественных характеристик, сатирических выпадов по адресу университета, необычайно резких – против «столпов» и «устоев» самодержавного порядка. В противовес скептическому «баричу» Онегину, Сашка – студент, плебей, разбитной малый, которому автор сообщил некоторые черты собственного темперамента. «Сашка» – это поэтический протест против реакционных порядков, утвердившихся в университете, против социального уклада в целом, против царя, церкви, невежества, лицемерной морали дворянского общества. Вместе с тем это – стихийный порыв порабощённой личности к раскрепощению. В иронической манере гиперболизирован разгул кружка студентов, служителей «буйственной» свободы.
В июне 1826 г. по доносу И. П. Бибикова рукопись «Сашки» была доставлена Николаю I. Заставив автора прочитать свою поэму вслух, царь воскликнул: «Это всё ещё следы, последние остатки, я их искореню!» и приказал только что окончившего университет Полежаева отдать в солдаты без права выслуги. В 1828 г. Полежаев томился в подземном каземате при Спасских казармах, обвинённый по делу тайного общества братьев Критских. В тюрьме написана поэма «Арестант», содержащая атеистические мотивы. В эти годы (1826 – 1828) творчество Полежаева достигло полной зрелости. Сопротивление деспотизму стало содержанием его лирики, оно же подняло его веру в себя, как поэта. Для выражения напряжённых переживаний поэт находит резкую и острую форму. Таковы и символика его образов, и могучие ритмы стиха, и сильные эмоциональные и патетические средства самовыражения в лирике, своеобразной по стихотворным размерам, короткой строке, сплошным мужским рифмам. В лирике Полежаева преобладают мрачные, кандальные песни («Песнь пленного Ирокезца»), исполненные гнева и протеста, или скорбные жалобы («Вечерняя зоря», «Ожесточённый).
Почти четыре года (1829 – 1833) поэт пробыл на Кавказе, участвуя в боях в Дагестане и Чечне. Вырвавшись из казармы и тюрьмы, поэт жил несколько вольнее в походах и на стоянках в станицах кубанских, терских и гребенских казаков, вслушиваясь в их песни, что отразилось в стихотворениях «Ночь на Кубани», «Казаки», «Русские песни». Впечатления войны отражены в кавказских поэмах «Эрпели» (1830) и «Чир-Юрт» (1832), почти документальных по своей правдивости и реализму. В лирических стихах «Герменчугское кладбише» (1833), «Акташ-Аух», «Мёртвая голова» и других поэт остаётся глубоко человечным в своих чувствах к порабощаемому населению Чечни и Дагестана. Поклонник Дж. Байрона в своих антивоенных призывах Полежаев верен завету великого поэта «заставить говорить кровавые обломки и камни». Одно из лучших стихотворений Полежаева – «Чёрная коса»:
Там, где свистящие картечи Метала бранная гроза, Лежит в пыли на поле сечи В три грани чёрная коса…Полежаев ввёл в русскую поэзию образ рядового солдата. Большое место в его наследии занимают поэтические переводы, преимущественно из французских писателей: Вольтера, А. Ламартина, В. Гюго, К. Делавини и др. Наиболее значителен перевод «Прощания с жизнью» Вольтера. В октябре 1831 г. за участие в боях под Гимрами, проявив «отличное мужество», Полежаев был представлен к производству в офицеры, однако «высочайшего» утверждения не последовало. Возвращение с Кавказа в Москву в 1833 г. не оживило в Полежаеве прежних надежд на освобождение от солдатчины. Преследования продолжались. Доносы, предательства чередовались с омертвляющей работой цензуры. Литературный труд составлял единственную радость поэта: «Одно под сердцем есть добро – неочинённое перо», – говорил он своим друзьям. Цензурой изуродованы были прижизненные книги стихов Полежаева. Несколько лет цензура запрещала сборники «Разбитая арфа» (опубликован под названиев «Арфа», 1838) и «Часы выздоровления» (1842). Большая часть литературного наследия Полежаева сохранена его другом А. П. Лозовским. Муштра, военный суд, годичное заточение в подземелье положили начало развитию чахотки. Самовольный побег из полка на несколько дней завершился жестоким наказанием розгами. В сентябре 1837 г. Полежаев был отправлен в Лефортовский военный госпиталь, где через несколько месяцев скончался. Похоронен на Семёновском кладбище. Могила не сохранилась.
Место Полежаева в русской поэзии – между творчеством декабристов и гражданской лирикой М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова. Песни и романсы Полежаева многократно привлекали внимание русских композиторов. Популярнейший «Сарафанчик» известен с музыкой А. А. Алябьева и А. Л. Гурилёва. Тексты Полежаева обрабатывались в гитарных песенниках. Способствовали распространению стихов Полежаева и сведений о его судьбе А. И. Герцен и Н. П. Огарёв в своих зарубежных изданиях. После Октябрьской революции поставлены памятники Полежаеву в городах Саранске (1940) и Грозном (1950). (Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. Стб. 838 – 840.)
(обратно)223
Критские, братья: Василий (1810 – 1831), Михаил (1809 – 1836) и Пётр (1806 – после 1885) – основатели политического кружка. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 456.)
(обратно)224
Очевидно, имеется в виду так называемый «сунгуровский заговор» 1831 г., – дело, по которому была осуждена группа студентов Московского университета, обвинявшаяся в недонесении правительству о намерении Н. П. Сунгурова создать тайное революционное общество. (Там само. С. 430.)
(обратно)225
Виділено нами. – Автори.
(обратно)226
Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800 – 1858) – русский писатель, журналист, востоковед. Член-корреспондент Академии наук (с 1828 года). Родился в старинной польской шляхетской семье. После окончания Виленского университета (1819) совершил путешествие по Ближнему Востоку и Африке. Блестяще изучив многие восточные языки, Сенковский с 1822 по 1847 год был профессором Петербургского университета по кафедре арабского, персидского языков. Позднее он изучил китайский, монгольский, тибетский языки. Сенковский опубликовал ряд работ по истории, этнографии, филологии мусульманского Востока на французском и польском языках и переводы арабских классиков. В юности Сенковский был близок к деятелям польского освободительного движения: А. Мицкевичу, А. Снядецкому, И. Лелевелю. Сотрудничал в первой половине 1820-х гг. в альманахе «Полярная звезда» А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева.
В 1834 – 1847 гг. (номинально – до 1846 г.) Сенковский редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения», в котором печатал под псевдонимом Б арон Брамбеус свои художественные произведения и статьи. В 1856 – 1858 гг. вёл в журнале «Сын отечества» отдел «Листок барона Брамбеуса». В 1858 г. незадолго до смерти начал редактировать журнал «Весельчак».
Личность Сенковского противоречива и сложна. Один из основателей русского востоковедения, путешественник и дипломат, предприимчивый журналист-коммерсант, Сенковский вместе с тем известен пренебрежительным отношением к воле авторов, печатавшихся в его журнале. «Библиотека для чтения» положила начало т. н. «торговому направлению» в русской журналистике, завоевав популярность преимущественно в провинциальных читательских слоях многообразием и пестротой публикуемых материалов, лёгкостью и занимательностью изложения. Ещё до «Библиотеки для чтения» в польской газете «Balamut», издаваемой в Петербурге в 1830 – 1836 гг., создателем которой был Сенковский, проявились характерные для него черты журналиста-сатирика. Иронический непринуждённый слог, характерный для этой газеты, перешёл затем в беллетристическое творчество Сенковского, когда он стал писать на русском языке. Сенковский писал «восточные», светские, психологические, сатирические повести, очерки о путешествиях по азиатским и африканским странам. Сторонник экспериментального естествознания, он создал жанр научно-философской повести. Тонкий критик и эссеист, Сенковский по двум прочитанным главам «Пиковой дамы» оценил прозу А. С. Пушкина как начало новой эпохи в русской литературе. Сенковский настаивал на опубликовании комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», много лет ходившей в списках. Обладая литературным талантом, эрудицией, лёгкостью слога, он, однако, не создал ничего долговечного в художественной литературе.
В многочисленных литературных критических статьях и рецензиях Сенковский обнаружил консервативность воззрений. Будучи сторонником теории «чистого искусства», отрицательно относился к Н. В. Гоголю и реалистическому направлению. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 65. Стб. 759 – 760.)
(обратно)227
В 1834 г. О. И. Сенковский основал ежемесячный журнал «Библиотека для чтения», издателем которого был А. Ф. Смирдин.
(обратно)228
Приветствие Николаю, напечатанное Пушкиным, – стихотворение «Герой» («Да, слава в прихотях вольна»), поводом для которого явилось прибытие царя в Москву во время холерной эпидемии 1830 г. Два политических стихотворения – «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России». (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 430.)
(обратно)229
«Выбранные места из переписки с друзьями».
(обратно)230
Нечто вроде Латинского квартала, где живут главным образом литераторы и артисты, не известные в других частях города. (Примітка О. І. Герцена.)
(обратно)231
Пётр Яковлевич Чаадаев (1794 – 1856) – русский мыслитель. Из дворян (мать – дочь историка князя М. М. Щербатова). В 1808 – 1811 гг. учился в Московском университете, где сблизился с А. С. Грибоедовым, И. Д. Якушкиным, Н. И. Тургеневым. В 1812 г. поступил в лейб-гвардию; участник Бородинской битвы и заграничного антинаполеоновского похода. Подобно многим будущим декабристам прошёл через масонство; в 1821 г. согласился вступить в Северное общество декабристов; в марте 1820 г. приветствовал бескровную революцию в Испании. Облик и умонастроения Чаадаева на рубеже 1810 – 1820 гг. частично отразились в стихотворении «К портрету Чаадаева» и трёх поэтических посланиях (1818 – 1824) А. С. Пушкина, с которым он подружился в 1816 г. Многие факты биографии Чаадаева остаются загадочными: уже при жизни о нём ходили противоречивые легенды и слухи, чему способствовал сам характер и образ жизни Чаадаева, человека гордого и замкнутого. В 1820 г. он неожиданно подал в отставку; по свидетельству близких пребывал в состоянии «гипохондрии»; в 1825 г. уехал в Европу; в 1825 г. встречался и вёл философские беседы с Ф. Шеллингом (его «философия тождества» и учение о свободе воли воздействовали на убеждения Чаадаева). В 1826 г., через 8 месяцев после разгрома декабристов возвратился в Россию и вёл затворническую жизнь до 1831 г.; в этот период завершилось становление нового религиозного мировоззрения Чаадаева.
В 1829 – 1831 гг. написал «Философические письма» (1-е опубликовано в журнале «Телескоп», 1836, № 15; 6-е и 7-е в России впервые опубликовано в «Вопросах философии и психологии», 1906, кн. 92 и 94, а 2 – 5-е и 8-е лишь в 1935 г. в «Литературном наследстве», т. 22 – 24). За 1-е письмо, прозвучавшее, по выражению автора, «обвинительным актом» против России, Чаадаев «высочайше» объявлен сумасшедшим и лишён права печататься. Письмо исполнено пессимистических мотивов в оценке прошлого, настоящего и будущего России, в суждениях о её социальном, умственном и духовном состоянии (акцентированы: неразвитость представлений о «долге, справедливости, праве, порядке» и отсутствии какой-либо самобытной общечеловеческой «идеи», содействующей мировому прогрессу: «ни одна великая истина не вышла из нашей среды»). В последующих письмах раскрыты истоки чаадаевского отрицания – его религиозные, философские, историософские и социальные идеи в их единстве (последнее станет характерной чертой русской философской мысли.
Первоосновою и лейтмотивом суждений Чаадаева является «христианское учение», но не столько его метафизическая и трансцедентная сущность, сколько его социально-устроительная роль (историческое становление «земного царства») и прежде всего – в историческом развитии Запада, достигшего высокого уровня культуры (мысли и нравственности) и цивилизации («свободы и благосостояния»), – отсюда исходит предпочтение католицизма православию. Чаадаев усматривает в христианстве также глубину постижения добра и зла в человеке, дух самоотвержения, преодоление индивидуализма («уничтожение своего личного бытия и замена его бытием социальным»), враждебность всякому рабству, «отвращение от разделения, страстное влечение к единству» всех людей, сословий, наций и, наконец, утверждение возможности и долга человеческой личности преобразоваться посредством свободной «самодеятельности». Такое истолкование христианства (А. И. Герцен называет его «революционным католицизмом») послужило Чаадаеву основой тотальной критики всей истории и всего строя России: от принятия православия до «громадного несчастья» – декабристского восстания, от полного подчинения всей духовной жизни политическим властям до «физического рабства» (крепостничества), от «порабощения личности и мнений» до «пустоты души», «умственного бессилия» и «мёртвого застоя» современной России.
Впрочем, пафос обличения России перед лицом христианского Запада, доходящий до национального «самоотрицания» в 1-м письме и других письмах трактата и особенно в дальнейших суждениях Чаадаева («Апология сумасшедшего», 1837, в России опубл. в 1906 г., переписка 1830 – 1840 гг. с русскими и зарубежными современниками) умеряется критикой современной западной культуры, а с другой стороны – нахождением потенциальных преобразующих сил России. В современной Европе Чаадаева настораживает нарастание «груды искусственных потребностей», хаоса частных интересов, позитивистских концепций человека (как существа обособленного и конечного, «т. е. «насекомого-подёнки»). В духовном же (религиозно-нравственном и психологическом) образе русских он открывает (не без воздействия своих оппонентов-славянофилов) ряд достоинств, точнее, позитивные стороны тех качеств, которые прежде казались ему преимущественно негативными для исторического творчества и самобытности «социального принципа»: способность к «отречению» во имя общего дела, «смиренный аскетизм», «бескорыстие сердца», «личная совестливость» и простодушие. В самой социально-исторической незначительности прошлого и неразвитости современной России он видит негативные приметы «непочатости» и нераскрытости её сил; а что силы таятся немалые – свидетельствует явление трёх гениев – Петра I, М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина – в течение одного века. К тому же русское общество не сковано многовековыми традициями и может воспользоваться всеми достижениями Европы – залог широкого выбора завтрашнего исторического пути. Из всего этого Чаадаев выводит возможность всемирных, даже мессианских свершений России в недалёком будущем: «…Мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей… ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество…» Но непременным условием пробуждения России и осуществления её призвания Чаадаев всегда полагал освоение достижений европейской культуры, духовное единение с католическим Западом и созидание новой религиозно-философской системы (наподобие шеллингианской сочетавшей, по Чаадаеву, «откровение», философию и науку).
Проникнутое утверждением единства духа и материи, религии и философии, общества и природы, вечности («божественного промысла») и истории, и одновременно – жаждой практического всемирного единения народов при сохранении самобытности их социальноисторического облика, умозрение Чаадаева оказалось необычайно синкретичным. Оно непосредственно пробудило два влиятельнейших противоборствующих направлений русской идеологии – западничество и славянофильство, которые с равным правом могут считать его «своим» и «чужим» (в частности «духовный» Запад Чаадаева противоположен светскому, в основе – просветительскому Западу русских «европейцев»); оно выдвинуло ряд кардинальных проблем, над разрешением которых будут биться многие крупнейшие представители русской общественной мысли (в том числе революционные демократы В. Г. Белинский и А. И. Герцен), философии (в том числе К. Н. Леонтьев и особенно В. Соловьёв), литературы (Пушкин, Достоевский).
Верность христианской первооснове определила художественные пристрастия Чаадаева. В античном искусстве, начиная с Гомера, ему претит «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земному (подобные пороки Л. Н. Толстой найдёт в новоевропейском искусстве – трактат «Что такое искусство?»); возрождение современного человечества невозможно, по Чаадаеву, без разрушения всемирного культа «нечистой красоты», созданного античной традицией. Культуру Возрождения за «возврат к язычеству» он называет историческим заблуждением. Просвещение критикует за религиозную индифферентность, отсутствие историзма и мрачные домыслы, искажающие высокую культуру средневековья. Для объяснения и подкрепления заветных идей Чаадаев прибегал к авторитету Платона, Данте, Т. Тассо, Б. Паскаля, к ссылкам на И. В. Гёте, немецких романтиков. В русской литературе высоко чтил заслуги Н. М. Карамзина (в том числе его «Историю…»), Н. В. Гоголя («резко высмеивал нашу грешную сторону») и особенно Пушкина – его «грациозный гений» и историческую мысль (в том числе в стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».
Чаадаев явился первым самобытным властителем дум мыслящей России, до него ориентирующейся на авторитеты Запада. Сильное воздействие на самосознание русского общества оказали не только его «Философические письма», но и живое слово его «салонного просветительства», дружеских бесед, эпистолярных излияний (ср. аналогичное влияние Н. В. Станкевича, позже Ф. И. Тютчева); его убеждения, как и вся его личность, пробуждали у современников стоицизм, «любовь к высокому» (Пушкин), стремление к нравственной свободе, способствовали повышению духовной атмосферы общества в мрачную эпоху официального благополучия. Под влиянием Чаадаева складывалось мировоззрение Пушкина; его облик и идеи явились «прообразами» Евгения Онегина (его ирония и «резкий охлаждённый ум», – одноименный роман Пушкина), Чацкого («Горе от ума» Грибоедова), Версилова («Подросток» Достоевского). Чаадаевские моменты ощутимы в гражданской лирике, в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова («Дума», «Родина», образ Печорина). Многие идейно-тематические линии романов Достоевского могут быть поняты только с учётом его отношения к Чаадаеву: имя Чаадаева не раз возникало в качестве прообраза героя в замыслах писателя («Бесы», «Подросток», поэма о «великом инквизиторе», замысел «Жития Великого Грешника»).
Испытавшие влияние Чаадаева не стали его последователями; он явился для них и для всей русской мысли не «учителем», а мощным «катализатором» идей и убеждений». (Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. Стб. 417 – 420.)
(обратно)232
В «Философическом письме» Чаадаев писал: «Мы жили, мы живём, как великий урок для отдалённых потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумения». (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 430.)
(обратно)233
Имеется в виду послание Ф. Ф. Вигеля, занимавшего в то время должность управляющего департаментом духовных дел иностранных вероисповеданий, митрополиту Серафиму, написанное по поводу публикации «Философического письма» Чаадаева. Это послание носило характер политического доноса. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 430.)
(обратно)234
Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805 – 1827) – русский поэт, критик. Родился в старинной дворянской семье. Получил отличное домашнее образование. Серьёзно занимался музыкой и живописью. В качестве вольнослушателя посещал лекции в Московском университете.
Сдав экзамены в университете в 1824 г., поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел. В октябре 1826 г. переведен на дипломатическую службу в Петербург, где и умер. Необычайная одарённость Веневитинова проявилась очень рано и поражала современников своей глубиной и разносторонностью. Веневитинов был одним из инициаторов «Общества любомудрия» (основано в 1823 г.), занимавшегося изучением философии, главным образом немецкой (Ф. Шеллинг, Л. Окен и др.). В 1826 г. Веневитинов разработал план литературно-философского журнала нового типа, частично реализованный в журнале «Московский вестник»; вместе с А. С. Пушкиным он был одним из участников первого номера (1827). Небольшое по объёму литературное наследие Веневитинова выделяется среди романтической поэзии 1820-х гг. своей философской направленностью и социальной значительностью. По характеристике В. Г. Белинского «в его стихах просвечивается действительно идеальное, а не мечтательно-идеальное направление; в них видно содержание, которое заключало в себе самодеятельную силу развития». В поэзии Веневитинова отразились вольнолюбивые идеи эпохи декабристов («Песнь грека», «Освобождение скальда», «Евпраксия», «Смерть Байрона»). Тема древней новгородской вольницы отражена в стихотворении «Новгород», дважды запрещавшемся цензурой. Цикл стихов посвящён культу дружбы – чувству, которое Веневитинов возвышал до всеобъемлющей любви к людям-братьям. Высокому назначению поэзии и поэта посвящены многие стихи и теоретические высказывания Веневитинова в его статьях. Философские мотивы лирики Веневитинова получили дальнейшее развитие в поэзии Б. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. Веневитинову принадлежат переводы в стихах и прозе с латинского (Вергилий), французского (Ж. Б. Грессе, Ш. Мильвуа) и немецкого языков (Э. Т. А. Гофман и др.). Лучшими являются переводы Веневитинова из Гёте (отрывки из «Фауста», из трагедии «Эгмонт», драмы в стихах «Земная участь художника» и «Апофеоз художника»). Среди критических статей Веневитинова выделяется «Разбор статьи о «Евгении Онегине», высоко оценённый А. С. Пушкиным. Веневитинов писал также о живописи, музыке. В эстетике он выдвигал идею исторического усложнения форм искусства, противостоя нормативности эстетики классицизма. Выступая за народность и самобытность искусства, он призывал поэта к гражданскому служению (статья «Ответ г. Полевому» и др.). В философских статьях («О состоянии просвещения в России», опубликованной под названием «Несколько мыслей в план журнала», 1831) Веневитинов оперирует диалектическими категориями, видя в борьбе противоречий источник движения и развития. Ранняя смерть Веневитинова, «задушенного» по словам А. И. Герцена, «грубыми тисками русской жизни», вызвала поэтические эпитафии А. А. Дельвига, А. В. Кольцова, А. И. Одоевского, Лермонтова и др. Н. Г. Чернышевский писал о нём: «Проживи Веневитинов хотя десятью годами более – он на целые десятки лет двинул бы нашу литературу…» (Полн. собр. соч., т. 2, 1940, с. 926). (Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. Стб. 910 – 912.)
(обратно)235
Цитата из трагедии французского драматурга Ротру «Венцеслав». Была использована в качестве эпиграфа в некоторых списках стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 430.)
(обратно)236
Стихи, посвящённые Лермонтовым памяти князя Одоевского, одного из осуждённых по делу 14 декабря, умершего на Кавказе солдатом. (Там само. С. 225.)
(обратно)237
Стихотворения Лермонтова превосходно переведены на немецкий язык Боденштедом. Существует французский перевод его романа «Герой нашего времени», сделанный Шопеном.
(обратно)238
Имеются в виду сентиментально-любовные романсы и псевдонародные песни, созданные Н. П. Николаевым, И. И. Дмитриевым, Ю. А. Нелединским-Мелецким и другими. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 431.)
(обратно)239
Имеется в виду известная античная скульптурная группа (I век до н. э.), изображающая смерть жреца Лаокоона и его двух сыновей, обречённых велением богов на неизбежную гибель, – задушенных змеями. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 437)
(обратно)240
Русский дипломат времён Алексея, отца Петра I; опасаясь преследований царя, и был обезглавлен в Стокгольме за убийство. (Примітка О. І. Герцена.)
(обратно)241
Близкие по смыслу высказывания содержатся у Гоголя в «Мёртвых душах» (часть I, гл. 7), в «Театральном разъезде после представления в новой комедии» и в «Развязке «Ревизора». (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 431.)
(обратно)242
Начальник главного штаба князь П. М. Волконский (1776 – 1852)… генерал-фельдмаршал (1843). С 1801 г. занимал ответственные штабные должности… После Тильзитского мира 1807 г. командирован во Францию для ознакомления с организацией франц. генштаба и управлением армией… Поддерживал передовые взгляды на ведение войны против Наполеона. В Отечественную войну 1812 г. находился при императоре для выполнения особых поручений. В заграничном походе 1813 – 1814 гг. был начальником штаба при М. И. Кутузове, а после его смерти – при Александре I. Участвовал в работе Венского конгресса 1814 – 1815 гг. С основанием в 1815 г. Главного штаба первый его начальник… (Советская военная энциклопедия. Т. 2. М., 1976. С. 335 – 336) писал тогда П. Д. Киселёву, что «государь остался весьма доволен ясным изложением всех подробностей этого дела»… Декабрист Н. И. Лорер сообщает, что Александр I, прочитав доклад Пестеля, сказал с гордостью: «Вот какие у меня служат в армии полковники…»
К характеристике ума и одарённости Пестеля, составленной Пушкиным, можно прибавить подобные же отзывы участников Тайного общества. Н. В. Басаргин писал: «Павел Иванович Пестель был человек высокого, ясного и положительного ума. Будучи хорошо образован, он говорил убедительно, излагал свои мысли с такою логикою, такою последовательностью и таким убеждением, что трудно было устоять против его влияния…» «Я узнал его коротко и могу сказать про него, что он был один из замечательнейших людей своего времени… Пестель имел громадную память» (см. «Записки декабриста Н. И. Лорера». М., 1931. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 2. С. 168).
(обратно)243
Див.: Практические начала политической автономии. Там само. С. 9 – 72.
(обратно)244
«Русская Правда» П. И. Пестеля – большой труд социально-политического содержания, над которым он работал приблизительно 10 – 12 лет. Пестель начал эту работу вскоре после окончания Отечественной войны 1812 – 1814 гг.: составлял наброски по отдельным частям будущей конституции России в самых различных областях экономической, политической, общественной и административной жизни страны. Затем отрывки стали превращаться в стройную систему. «Русская Правда» обсуждалась членами Тайного общества, Пестель принимал во внимание критические замечания, привлекал товарищей по Тайному обществу к участию в составлении проекта. То или иное участие в работе над «Русской Правдой» принимали Н. И. Тургенев, Н. С. Бобрищев-Пушкин, А. П. Юшневский, С. И. Муравьёв-Апостол, Н. А. Крюков, В. Н. Лихарев, Н. Ф. Заикин. Сам Пестель заявил во время следствия, что составить «Русскую Правду» его особенно приглашали Е. И. Оболенский и М. П. Муравьёв-Апостол…
К 1823 г. «Русская Правда» вчерне была написана во всех её основных частях, и Пестель приступил к окончательной отделке проекта. «Название же «Русской Правды» дал я моему плану Конституции в 1824 году…»
Содержание всего произведения Пестеля, как оно задумано было автором, изложено в его показании Следственной комиссии. Кроме того, сжатый конспект «Русской Правды» с некоторыми отличиями от основного текста представляет собой помещённый в данном издании очерк Пестеля «Конституция. Государственный завет».
В настоящее время рукопись П. И. Пестеля хранится в ГЦИА в переплетённом «Собрании правил и законов, составленных членами тайных обществ». В этом «Собрании» труд Пестеля занимает листы 50 – 144 по штемпельной нумерации, перечисляющей страницы с оборотом одной цифрой… Рукопись Пестеля была после его ареста сшита без логической последовательности, отдельные части труда перепутаны, листы подобраны без всякого порядка. В таком виде «Русская Правда» была опубликована в 1906 г. и с тех пор не переиздавалась полностью. Подробная, обоснованная ссылками на подлинную рукопись рецензия этого издания опубликована В. И. Семевским…
Только после Великой Октябрьской социалистической революции началось приведение в порядок этого замечательного труда русской политической мысли первой четверти XIX столетия. По заданию Центрального архивного управления СССР группа специалистов подготовляет труд П. И. Пестеля к печати. Работа велась начиная с 1925 г., но не могла быть завершена по различным обстоятельствам до 1941 г. и возобновлена лишь в 1948 г. – после окончания Великой Отечественной войны…
В настоящем издании приведены наиболее значительные извлечения по изданию 1906 г. и названного сборника «Декабристы. Отрывки из источников», также после просмотра рукописи П. И. Пестеля с учётом критических замечаний в специальной литературе о «Русской Правде». (Избранные… произведения декабристов. Т. 2. С. 516 – 517.)
(обратно)245
Киевские контракты – ежегодная торгово-промышленная, многолюдная ярмарка во второй половине января. Здесь членам Тайного общества удобно было устраивать свои совещания. (Там само. Т. 2. С. 522.)
(обратно)246
Сергей Григорьевич Волконский (1788 – 1865, с. Вороньки, ныне Черниговской обл.) – декабрист, генерал-майор (1817). Военную службу начал в 1805 г. в кавалергардском полку. Участник кампании 1806 – 1807 гг. в период наполеоновских войн, войны с Турцией 1806 – 1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русских войск 1813 – 1814 гг. Участвовал более чем в 50 сражениях. Особо отличился при Пултуске (1806), Прейсиш-Эйлау (1807), Батине (1810) и под Калишем (1813). С 1820 г. член тайного общества декабристов – «Союз благоденствия», с 1821 г. – Южного общества декабристов. Вместе с В. Л. Давыдовым руководил Каменской управой Южного общества. Устанавливал связи с Северным обществом декабристов.
В 1825 г. участвовал в переговорах с представителями тайного революционного польского общества о выработке планов совместных действий. После восстания декабристов был арестован и приговорён к смертной казни, замененной каторгой. В 1827 г. к месту каторги Волконского добровольно отправилась его жена Мария Волконская, дочь героя Отечественной войны 1812 г.
генерала от кавалерии Н. Н. Раевского. В 1856 г. Волконский вернулся из Сибири. До конца жизни сохранил верность революционным воззрениям. Резко критиковал реформы 1860-х гг. за их половинчатость. Одобрял взгляды А. И. Герцена и Н. П. Огарёва, с которыми встречался в конце 1850 – начале 1860-х гг. за границей. (Советская военная энциклопедия. Т. 2. С. 336.)
(обратно)247
М. В. Нечкина. Движение декабристов. Том I. М., 1955. С. 396 – 397.
(обратно)248
Це і наступнi чотири видiлення курсивом – нашi. – Авт.
(обратно)249
Избранные… произведения декабристов. Т. 2. С. 522. Курсив наш. – Авт.
(обратно)250
Курсив наш. – Авт.
(обратно)251
Избранные… произведения декабристов. Т. 2. С. 75 – 85.
(обратно)252
Избранные… произведения декабристов. Т. 2. С. 162.
(обратно)253
М. В. Нечкина. Движение декабристов. Т. 2. С. 33 – 34.
(обратно)254
Сергей Иванович Муравьёв-Апостол (1796 – 1826)… Окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. На военной службе с 1810 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничних походов русской армии 1813 – 1814 гг. Один из основателей «Союза спасения», член коренной управы «Союза благоденствия». В 1820 г. после восстания в Семёновском полку, в котором Муравьёв-Апостол служил командиром роты, он был переведён командиром батальона в Черниговский пехотный полк. В январе 1822 г. был введён П. И. Пестелем в состав Южного общества декабристов, в котором возглавил Васильковскую управу (отделение), а впоследствии стал членом Тульчинской директории. В 1823 г. вместе с М. П. Бестужевым-Рюминым установил связи с польским Патриотическим обществом, а в сентябре 1825 г. присоединил к Южному обществу Общество соединённых славян. В сотрудничестве с М. П. Бестужевым-Рюминым составил революционную прокламацию «Православный катехизис», призывавшую к свержению самодержавия и установлению республики (впоследствии она читалась перед восставшим Черниговским полком). Несколько экземпляров её Муравьёв-Апостол пытался распространить в других воинских частях. Будучи по своим убеждениям республиканцем и противником крепостничества, Муравьёв-Апостол в 1823 – 1825 гг. предложил ряд планов вооружённого восстания в армии, которую декабристы рассматривали как основную силу переворота; поддерживал идею цареубийства, выдвинутую Пестелем. Используя солдат бывшего Семёновского полка, переведенных в Украину, развернул революционную пропаганду в войсках. В начале ноября 1825 г. назначен третьим диктатором Южного общества; вёл пропаганду вооружённого восстания в воинских частях, дислоцированных на юге России. Пользовался большой популярностью среди солдат. Узнав о поражении декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, предпринял попытку поднять восстание в войсках на Украине. 29 декабря поднял и возглавил восстание Черниговского полка, однако оно не было поддержано другими частями. 3 января 1826 г. восставший полк потерпел поражение у деревни Ковалёвка. Раненный картечью в голову Муравьёв-Апостол был схвачен на поле боя. С большим достоинством и мужеством вёл себя во время следствия. Приговорён к смертной казни. Повешен в числе пяти руководителей восстания декабристов. (Советская военная энциклопедия. Т. 5, С. 450.)
(обратно)255
Матвей Иванович Муравьёв-Апостол (1793 – 1886) – декабрист, брат С. И. Муравьёва-Апостола. Учился в корпусе путей сообщения. На военной службе с 1811 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничних походов русской армии в 1813 – 1814 гг. В 1823 г. вышел в отставку в чине подполковника. Муравьёв-Апостол – один из основателей первого тайного политического общества декабристов – «Союза спасення», член коренной управы «Союза благоденствия» и Южного общества декабристов, представителем которого был в Петербурге (май 1823 – август 1824); вёл переговоры об объединении Южного и Северного обществ. Вместе со своим братом участвовал в восстании Черниговского полка… Приговорён к 20 годам каторги, сокращённой затем до 15 лет. По амнистии 1856 г. вернулся из Сибири, до 1863 г. жил в Твери, затем в Москве. Сохранил верность декабристским идеалам, сотрудничал с передовой интеллигенцией 1850 – 1870 гг. За три года до смерти продиктовал свои воспоминания о пребывании в Сибири. (Советская военная энциклопедия. Т. 5. С. 450.)
(обратно)256
Курсив наш. – Авт.
(обратно)257
Н. Н. Сухинов – поручик гусарского полка; член Общества соединённых славян; участвовал в восстании Черниговского полка; после разгрома его скрылся; арестован 15 февраля 1826 г. в Кишинёве; осуждён на каторгу вечно. В Зерентуйском руднике участвовал в возмущениях каторжан и ссыльных; приговорён к расстрелу; повесился до прихода за ним конвойных. (Избранные… произведения декабристов. Т. 2. С. 529.)
(обратно)258
А. Д. Кузьмин – поручик Черниговского пехотного полка, ротный командир; член Общества соединённых славян; участвовал в восстании полка, ранен картечью в плечо навылет; арестованный, застрелился. (Там само. С. 529.)
(обратно)259
М. А. Щепилло – поручик Черниговского полка, член Общества соединённых славян; ротный командир; убит в сражении во время восстания Черниговского полка. Царь велел прибить его имя к виселице. (Там само. Том 3. С. 410 – 411.)
(обратно)260
Василий Карлович Тизенгаузен (1781 – 1857) – командир Полтавского пехотного полка, где служил Бестужев-Рюмин; член Южного общества с 1824 г. Осуждён в каторгу на 2 года, был в Нерчинской каторге; в 1828 г. вышел на поселение; в 1853 г. разрешено вернуться на родину; умер в Нарве.
(обратно)261
Павел Дмитриевич Киселёв (1788 – 1872) – русский государственный деятель. Участник Отечественной войны 1812 г. С 1814 г. – флигель-адъютант Александра I. В 1816 г. представил царю записку о постепенном освобождении крестьян от крепостной зависимости. С 1819 г. был начальником штаба 2-й армии, расквартированной в Украине, где под его начальством служили декабристы Южного общества. Несмотря на близкие отношения с ними, Киселёв не знал о существовании тайного общества. После Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. Киселёву было поручено управление Молдавией и Валахией. С 1835 г. Киселёв – постоянный член всех секретных комитетов по крестьянскому делу. Николай I называл Киселёва «начальником штаба по крестьянской части». В 1835 г. секретный комитет под руководством Киселёва выработал план постепенной ликвидации крепостного права (личное освобождение крестьян и государственное регулирование крестьянских наделов и повинностей), который встретил сопротивление помещиков-крепостников. С 1837 г. Киселёв – министр вновь образованного Министерства государственных имуществ. В 1837 – 1841 гг. провёл реформу управления государственными крестьянами. Реформа Киселёва несколько упорядочила систему административных органов, но и усилила бюрократическую опеку над крестьянами. В 1856 – 1862 гг. Киселёв – русский посол в Париже. С 1862 г. – в отставке и политической роли не играл. (Советская историческая энциклопедия. Т. 7. Стб. 293 – 294.)
(обратно)262
Общество соединённых славян было основано на юге в 1823 г. независимо от Южного общества. Учредители его братья П. и А. Борисовы и Ю. К. Люблинский; это общество было самым демократическим по своему составу: мелкопоместные и безземельные дворяне, офицеры в чине прапорщика и подпоручика, мелкие военные чиновники.
Иван Иванович Горбачевский (1800 – 1869) – автор «Записок» – одного из ценных первоисточников по истории Общества соединённых славян; сын военного чиновника; учился в Витебской гимназии, затем – в Военной школе; в 1820 г. – офицер артиллерии (в НовоградВолынске). В Тайное общество вступил в 1823 г.; об этом – в его «Записках» и показаниях. По данным Следственной комиссии, был начальником артиллерийского округа Общества соединённых славян. «Говорил в разное время с нижними чинами в возмутительном духе… угрожал смертью тому из членов, кто подаст малейшее подозрение в отречении от Общества …говорил, что для установления конституции необходимо истребление всей августейшей фамилии» (см. «Восстание декабристов», т. VIII, c. 70). Присуждён к отсечению головы, «помилован» Николаем, сослан в вечную каторгу. А 1839 г. вышел на поселение. После амнистии 1858 г. остался в Петровском Заводе, в Сибири, главным образом за недостатком средств на переезд в Россию. «Что я туда поеду? – говорил он. – Там прогресс, всё идёт вперёд, а я… отстал». Умер в Петровском Заводе.
О значении «Записок» Горбачевского как исторического документа Б. Е. Сыроечковский заявляет: «Записки» эти представляют не личные мемуары Горбачевского, а повествование, основанное на рассказах многочисленных участников событий, и только отчасти на собственных воспоминаниях автора. Составителем их проделана большая предварительная работа сопоставления и критической оценки различных вариантов изустной традиции, – некоторые замечания и ссылки в тексте вскрывают эту работу. Прошедший через эту проверку материал связан затем в искусно построенный рассказ с продуманным до деталей планом и с определённым, проводимым чрез всё изложение истолкованием излагаемых событий. Мемуары Горбачевского вырастают, таким образом, в научное исследование, в научную монографию». – См. «Записки и письма декабриста И. И. Горбачевского». М. 1925, с. 31. (Избранные … произведения декабристов. Т. 8. С. 407 – 408).
«Записки» Горбачевского опубликованы без его фамилии в 1882 г. («Русский Архив» № 2). По напечатании журнала цензура потребовала сделать из «Записок» выкидки. В Государственной исторической библиотеке (в Москве) и в библиотеке Московского университета сохранились экземпляры журнала № 2 «Русского Архива» без вырезок. По этому тексту «Записки» были изданы Б. Е. Сыроечковским в 1916 и 1925 гг. В последнее издание внесены поправки из других источников.
Борис Евгеньевич Сыроечковский (1881 – 1961) – историк и архивист. Окончил Московский университет (1906 г.). До 1922 г. учительствовал. В 1926 – 1957 гг. преподавал в вузах Москвы. Главная область научных исследований – история декабризма. Опубликовал много ценных материалов, в том числе следственные документы П. И. Пестеля и С. И. Муравьёва, «Записки и письма» декабриста И. И. Горбачевского и др. Раннему Пестелю посвящены работы Сыроечковского «П. И. Пестель и К. Ф. Герман», «Балканская проблема в политических планах декабристов» (в сборнике «Очерки по истории движения декабристов», М., 1954). (Советская историческая энциклопедия». Т. 13. Стб. 1003.) У 1969 р. побачило світ посмертне видання праці Б. Є. Сироєчковського «Из истории движения декабристов».
(обратно)263
Избранные … произведения декабристов. Т. 3. С. 49 – 51.
(обратно)264
Иван Фёдорович Вадковский – полковник Семёновского полка, батальонный командир. После восстания в Семёновском полку был заключён в Витебскую тюрьму, где просидел до 1826 г.; затем переведен на Кавказ; оставил интересные записки о восстании 1820 г. (и декабристском. – Авт.). (Избранные … произведения декабристов. Т. 1. С. 723.)
(обратно)265
М. В. Нечкина. Движение декабристов. Т. 2. С. 71.
(обратно)266
Про інтенсивні перемовини членів Товариства об’єднаних слов’ян та Південного товариства, темою яких була проблема їх об’єднання, див.: Из «Записок» Ивана Ивановича Горбачевского. «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов». Т. 3. C. 11 – 51.
(обратно)267
Краткое изложение догматов христианского вероучения в вопросах и ответах; книга, содержащая изложение этих догматов. (Словарь современного русского литературного языка. Т. 5. С. 871.) В умовах загальної релігійності слов’янського населення Росії декабристи використовували таке розуміння «Катехізису» для агітації серед солдатських мас.
(обратно)268
Наводимо текст, виголошений французькою мовою в перекладі на російську. А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 12. Произведения 1852 – 1857 годов. М., 1957. С. 253 – 264. Герцен выступил на митинге в Лондоне во время Крымской войны как представитель передовой России; это придавало самому факту его выступления особую остроту. Недаром Герцен говорил в своей речи о трудности своего положення во время войны, о враждебных выпадах не только английских, но и немецких, американских («Moniteur» – официальный орган французского правительства) газет.
Речь Герцена на митинге в St. – Martin’s Hall оказалась в центре внимания и произвела огромное впечатление на аудиторию.
В брошюре «27 февраля 1855 г. Народный сход…» приведен перевод речи Э. Джонса, который закончил её словами: «В доказательство, что мы совершенно отвергаем раздоры между народами, что, воюя против деспотов, мы дружны с народами… знаете ли, кто хочет поддержать своей речью наши мнения – русский (рукоплескания). Русский этот уже известен в Европе своими сочинениями, в России он испытал царскую власть, он пять лет был в ссылке около Уральского хребта, он представляет одну из надежд революционной партии в России, – Александр Герцен желает держать речь». Составитель брошюры (Энгельсон, судя по инициалам «В. А.» под подстрочными примечаниями) продолжает: «Когда А. Герцен явился на трибуне, рукоплескания и одобрительный крик усилились до того, что он некоторое время не мог говорить; глубоко тронутый, он три раза поклонился публике, гром рукоплесканий удвоился и вдруг сменился совершенной тишиной». Далее приводится перевод речи, после чего составитель брошюры отмечает:
«А. Герцен возвратился на своё место после оглушительных рукоплесканий. Молодая англичанка взошла на помост и подала ему букет цветов с словами: «Русскому гражданину от английских сестёр». При виде этого публика возобновила свои одобрительные крики».
«Герцен, – рассказывает М. Мейзенбург, – поднялся на трибуну и был встречен с восторгом. Его речь часто прерывали бурными криками одобрения. Когда он кончил, радостным приветствиям, которыми встретили его благородные, справедливые мысли, не было конца. Поляки окружили его, чтобы пожать ему руку, одна польская дама преподнесла букет. Он вышел ещё раз и показал публике этот смысл примирения двух братских племён, разделённых правительственным деспотизмом. Ликующая публика неистовствовала» (М. Мейенбург. Воспоминания идеалистки, гл. VII. C м. также письма Герцена к М. К. Рейхель от 28 февраля 1854 г. и к Мишле от 2 марта 1854 г.). Речь Герцена примыкает к циклу его произведений конца 1840-х – первой половины 1850-х годов, знакомивших передовое западноевропейское общество с Россией народной, с Россией мыслящей и революционной. В речи кратко сформулированы положения, которые Герцен развивал в таких произведениях, как «Россия», «О развитии революционных идей в России», «Русский народ и социализм», «Крещённая собственность», «Старый мир и Россия» и др., – положения о России и Западе, об исторической природе русского содержания и русского крепостного права, о соотношении между образованным меньшинством дворянского класса и народом, о русской сельской общине как зерне будущего социалистического общества и т. д. Как и в других произведениях Герцена этого периода, в речи сказались как сила его революционного и демократического протеста, так и ошибочность и слабость теории русского социализма.
Брошюра «27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г.» дошла до молодого Добролюбова. 15 января 1857 г. Добролюбов записывает в дневнике: «Для меня (же) идеал на земле ещё не существует, кроме демократического общества, митинг которого описал Герцен (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч.: в 6 т. М., 1939. С. 453).
(обратно)269
Герцен имеет в виду свою натурализацию в 1851 г. в Швейцарии, во Фрейбургском кантоне (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 12. С. 534).
(обратно)270
Анахарсис Клоотс, проповедник идеи всемирной республики. 19 июня 1790 г. явился во французское Национальное собрание во главе 36 иностранцев (Клоотс был родом немец) в национальных костюмах. От имени этой группы Клоотс потребовал для неё права на официальное участие в знаменитом празднике Федерации, назначенном на 14 июля 1790 г. Речи, произнесённой им по этому поводу в Собрании, Клоотс обязан своим прозвищем «оратора рода человеческого». На празднике Федерации Клоотс возглавлял «депутацию рода человеческого». Придворные круги распустили слух, что под видом представителей разных народов фигурировали домочадцы Клооса. Этот вымысел привился в исторической литературе, и ему доверился даже Герцен. (Там само. С. 534 – 535.)
(обратно)271
В 1855 г. информация Герцена о декабристах была ещё недостаточной; она пополнилась впоследствии, с возвращением уцелевших декабристов из Сибири, с появлением мемуарных материалов, в опубликовании которых Герцен принимал самое деятельное участие. Сказанное Герценом о декабристах не имеет фактической достоверности. Это относится и к словам Муравьёва-Апостола и Пестеля, и к истории Муравьёва, Юшневского и Аврамова (Герцен называет его Абрамовым). В заговоре декабристов принимали участие семь Муравьёвых: Сергей, Матвей и Ипполит Муравьёвы-Апостолы, Никита Михайлович, Александр Михайлович, Александр Николаевич и Артамон Захарович Муравьёвы. Герцен, очевидно, имеет в виду Артамона Муравьёва, командовавшего Ахтырским гусарским полком. Артамон Муравьёв умер в 1846 г. в деревне Малой Разводной, близ Иркутска. А. П. Юшневский, генерал-интендант 2 армии, умер в 1844 г. в деревне Оек Иркутской губернии, на похоронах декабриста Ф. Ф. Вадковского. П. В. Аврамов, полковник казанского пехотного полка, умер в Акшинской крепости ещё в 1836 г. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 12. С. 535.)
(обратно)272
В 1854 г. в Париже вышла книга «Nicolas et la sainte Russie», на титульном листе которой указано, что автор её Gallet de Kulture – ex secretaire particulier de prince Demidoff… («бывший личный секретарь князя Демидова»). Речь идёт об Анатолии Демидове, который женился на племяннице Наполеона III принцессе Матильде, купил княжество Сан-Донато и стал именоваться за границей князем Демидовым Сан-Донато. Из предисловия Кюльтюра к его книге явствует, что он был секретарём Демидова вплоть до Крымской войны. В книге Кюльтюра критика русского царизма сочетается с совершенно искажёнными представлениями о жизни русского народа и общества. (Там само. С. 535.)
(обратно)273
«Николай и Русь святая».
(обратно)274
И. П. Липранди, чиновник особых поручений при министре внутренних дел, по поручению последнего осуществлял тайное наблюдение за кружком Петрашевского. Впоследствии Липранди представил специальную записку следственной комиссии по делу петрашевцев, которую возглавлял генерал-адъютант И. А. Набоков. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 12. С. 535)
(обратно)275
Герцен имеет в виду указ Николая I об обязанных крестьянах, опубликованный 2 апреля 1842 г. Согласно этому указу помещик мог до известной степени предоставить крестьянам личную свободу, сохраняя при этом право собственности на землю; часть этой земли он давал в пользование взамен повинностей и оброка, точно определённых по каждому имению (система инвентарей). Воспользоваться новым законом предоставлялось «единственно доброй воле и влечению собственного сердца» помещика. Эта неясно сформулированная полумера не нашла почти никакого практического применения. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 12. С. 614 – 615.)
(обратно)276
Автор книги «Россия в 1839 году».
(обратно)277
Август Гакстгаузен (1792 – 1866) – барон, прусский чиновник. Известен как автор сочинения об аграрном строе предреформенной России и русской общине, написанного в результате путешествия по центральной земледельческой и степной Южной России (1843). Пользовался поддержкой Николая I и содействием Министерства государственных имуществ во главе с П. Д. Киселёвым и консультацией А. П. Заблоцкого-Десятовского. Сочинение Гакстгаузена имело сугубо консервативный характер, доказывая неподготовленность России для перехода к вольнонаёмному труду. Гакстгаузен – сторонник ограничения и постепенности отмены крепостного права в России, видел в общине средство прикрепления крестьян к земле, а также возможность предупреждения возникновения пролетариата. Считал общину патриархальным институтом, а помещика главой общины. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский резко критиковали монархические взгляды Гакстгаузена. На реакционность выводов Гакстгаузена указывали К. Маркс и Ф. Энгельс… Работа Гакстгаузена содержала конкретные сведения и общие рассуждения о крестьянской общине, вследствие чего использовалась в народнической литературе. Гакстгаузену принадлежат также работы о государственном строе России, русском расколе и пр. (Советская историческая энциклопедия. Т. 4. Стб. 47.)
(обратно)278
Имеется в виду книга немецкого зоолога Иоганна Генриха Блазиуса «Reise im europeischen Russland in den Jaren 1840 – 1841» («Путешествие по европейской России в 1840 – 1841 гг.»). (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 12. С. 536.)
(обратно)279
Калька с французского выражения entre chien et loup, означающего в сумерки; здесь употреблено в смысле – «промежуточный».
(обратно)280
В марте 1848 г. народ заставил прусского короля Фридриха Вильгельма IV обнажить голову перед телами убитых на берлинских баррикадах. (А. И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 24. С. 536.)
(обратно)281
Герцен имеет в виду положение Франции при деспотическом режиме Наполеона III. (Там само.)
(обратно)282
Там само.
(обратно)283
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 69.
(обратно)284
Ян Станіславович Димовський – управитель кирилівського маєтку П. Енгельгардта. Шевченко був деякий час у Димовського за хлопчика до послуг, аж поки його не взяли до двору пана. У поета залишилися про Димовського добрі згадки, він листувався з ним, але ці листи до нас не дійшли… (Шевченківський словник. Т. 1. С. 190.)
(обратно)285
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 15 – 16.
(обратно)286
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 17 – 18.
(обратно)287
Ф. П. Пономарёв. Тарас Григорьевич Шевченко // Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 60.
(обратно)288
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 4. С. 241.
(обратно)289
Там само. С. 190.
(обратно)290
Тарас Шевченко. Документи і матеріали. С. 6.
(обратно)291
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 69 – 70.
(обратно)292
Там само. С. 70.
(обратно)293
Там само. С. 70 – 71.
(обратно)294
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 71.
(обратно)295
Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. С. 59.
(обратно)296
В. В. Ковалёв. Воспоминания о Т. Г. Шевченко // Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. С. 64 – 65.
(обратно)297
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 73.
(обратно)298
Там само. С. 74.
(обратно)299
Там само.
(обратно)300
Там само. С. 76.
(обратно)301
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 76 – 77.
(обратно)302
Там само. С. 78 – 80.
(обратно)303
Там само. С. 78.
(обратно)304
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 75 – 76.
(обратно)305
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 78.
(обратно)306
Там само. С. 79.
(обратно)307
Там само. С. 80.
(обратно)308
Очевидно, маються на увазі три обрані напрямки. – Прим. Авт.
(обратно)309
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 32.
(обратно)310
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 32 – 33.
(обратно)311
Цертелєв (Церетелі) Микола Андрійович – український і російський фольклорист. Один з перших почав досліджувати і видавати українську народну поезію («Опыт собрания старинных малороссийских песней», СПБ, 1819). Як попечитель Харківського учбового округу допомагав Шевченку. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 333.)
(обратно)312
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 33.
(обратно)313
Тарас Шевченко. Там само. С. 34.
(обратно)314
Складачі збірника «Воспоминаний» уточнюють: «Шевченко предпринял (объявил на него подписку) весной 1844 г.; первый и единственный выпуск, вышедший в конце того же года, заключал шесть эстампов (не «гравюры иглой», как пишет Ковалёв, а офорты): «Дары в Чигирине», «Сватанье», «Судная рада» («Мирская сходка»), «Сказка» («Солдат и смерть»), «В Киеве», «Выдубецкий монастырь». (Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников, М., 1962. С. 411.)
(обратно)315
Там само. С. 65 – 66.
(обратно)316
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 81.
(обратно)317
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 81 – 82.
(обратно)318
Там само. С. 85 – 86.
(обратно)319
Там само. С. 86.
(обратно)320
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 91.
(обратно)321
Там само. С. 92.
(обратно)322
Там само. С. 91.
(обратно)323
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. С. 92.
(обратно)324
Там само. С. 29.
(обратно)325
Там само. С. 29 – 31.
(обратно)326
Там само. С. 93.
(обратно)327
Там само. С. 32.
(обратно)328
Там само. С. 93 – 94.
(обратно)329
Вираз самого Шевченка. (Авт.)
(обратно)330
«Перебендя» – вірш Шевченка, написаний орієнтовно 1839 р. у Петербурзі… Твір уперше надрукований у «Кобзарі» 1840 р. з присвятою Є. Гребінці. В наступних виданнях присвяту знято. В «Перебенді» відобразилися літературно-естетичні погляди молодого Шевченка, його думки про місце поета в суспільстві. В центрі твору – образ народного співця, кобзаря Перебенді. До теми поета часто звертались письменники від Горація до А. Міцкевича, О. Пушкіна, М. Лермонтова. В українській літературі до Шевченка образи народних співців створили М. Маркевич, Л. Метлинський, Є. Гребінка та інші. Аналізуючи вплив літературних джерел на створення образу Перебенді, І. Франко відзначав, що Шевченко зумів «впливи ті щасливо перетопити в одну органічну і глибоко поетичну цілість». Образ Перебенді складний. У першій частині вірша показано тісні зв’язки поета з народом. Він знає запити людей, його пісенний репертуар широкий, розрахований на різні прошарки села, на різні випадки життя. Це пісні веселі й сумні, побутові й історичні. За свою натхненну творчість, яка людям тугу розганяє», Перебендя користується народною любов’ю і повагою. Тут його постать, за висловом І. Франка, наскрізь реальна. В другій частині твору образ народного співця переростає в узагальнений образ поета, він наділений романтичними рисами. Жадоба пізнання, волі і натхнення веде його на простори, де «степ, як море широке, синіє», де «думка край світа на хмарі гуля». Втеча Перебенді від людей є відображенням суперечності між поетом і людським загалом, якому чужа поетична мрія. У вірші є натяки на соціальну зумовленість цієї суперечності. Однак протест митця проти тогочасного суспільства ще романтично абстрактний. Образ «божого слова» в поезії позбавлений релігійного змісту і виступає символом народної правди (подібно до образу «божественного глагола» у вірші О. Пушкіна «Пророк»)…». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 89.)
(обратно)331
Листи до Тараса Шевченка. К., 1993. С. 5 – 6.
(обратно)332
Башуцький Олександр Павлович (1803 – 1876) – російський письменник, видавець, журналіст. Із дворян Чернігівської губернії. В 1824 – 1832 рр. – ад’ютант петербурзького військового губернатора, з 1841 р. – помічник статс-секретаря Державної ради по департаменту законів. Був одружений з племінницею Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Марією Андріївною. Ініціатор і упорядник альманаху «Наши, списанные с натуры русскими», до участі в якому залучив В. І. Даля, Г. Ф. Квітку-Основ’яненка, Є. П. Гребінку, В. Сологуба, І. І. Панаєва. Цей альманах Г. Ф. Квітка-Основ’яненко називає «мудрою книжкою». (Листи до Тараса Шевченка. С. 192.)
(обратно)333
Нарис Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, написаний для видання О. П. Башуцького. Нарис надруковано з ілюстрацією, виконаною Шевченком. (Там само.)
(обратно)334
Нарис Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, написаний для видання О. П. Башуцького. Нарис надруковано з ілюстрацією, виконаною Шевченком. 8 – 9.
(обратно)335
Корольов Пилип Миколайович (1821 – 1894) – викладач 2-ї Харківської гімназії. Захопившись поезією Шевченка, поширював серед харків’ян передплатні квитки на видання його творів. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 218.)
(обратно)336
Нарис історії української літератури. К., 1945. С. 135 – 138.
(обратно)337
Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. С. 70 – 73.
(обратно)338
Художник – друг Шевченка.
(обратно)339
Іван Дзюба. Тарас Шевченко. Життя і творчість. К.: Видавничий дім «Київсько-Могилянська академія», 2008. С. 93.
(обратно)340
Михайло Чалий. Життя і творчість Тараса Шевченка. С. 93.
(обратно)341
Невідомий Петро Мартос. Нові матеріали про видавця «Кобзаря» 1840 р. С. 36 – 46.
(обратно)342
Синхронні відгуки див.: (Минаев Д. Д.) Дневник тёмного человека // Русское слово. 1863, № 7. Отд. 3. С. 40 – 42; М. Лазаревский. Ответ на статью П. М-са о Шевченке. // Санкт-Петербургские ведомости. 1863. 18 сент. (Неповний передрук в українському перекладі див: Спогади про Шевченка. К., 1958. С. 255 – 257.)
(обратно)343
Див. С. Венгловський. Шевченко, Гоголь та геростратова слава Петра Мартоса. // Книжник, 1990, № 3. С. 36 – 45.
(обратно)344
Павло Максимович Федченко (народився 12 липня 1920 р.) – український радянський літературознавець. Автор праць про Шевченка: «Слово про Кобзаря» (К., 1961) в книзі «Світова велич Шевченка», (т. 2) і «Тарас Шевченко – великий співець дружби народів» та ін. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 300.)
(обратно)345
П. Федченко. Доля Кобзаря. // Літературна Україна. 1990. 24 травня.
(обратно)346
Валерія Леонідівна Смілянська (1935) – український радянський літературознавець. Автор розділу «Дослідження біографії» колективного твору «Шевченкознавство. Підсумки і проблеми» (К., 1975) та циклу робіт з історії створення наукової біографії Шевченка. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 226.)
(обратно)347
І. Франко. Твори: у 50 т. К., 1984. Т. 41. С. 276.
(обратно)348
Нарис історії української літератури. С. 138 – 139.
(обратно)349
М. Т. Яценко. Українська романтична поезія 20–60 років ХІХ ст. Українські поети-романтики. Поетичні твори. К., 1987. С. 18. Далі цитуються викладені у передмові до збірника наукові положення автора.
(обратно)350
Про них розповідає в 14-й главі своєї праці «Мазепа» М. І. Костомаров, який пише: «Мужики, возбуждаемые универсалами гетьмана Скоропадского, стали составлять шайки и нападать на шведов; и мы, – замечает Адлерфельд, – неожиданно очутились в необходимости постоянно драться с жителями того края, куда мы вошли. Это сильно огорчало старика Мазепу, который пришёл в неописуемую скорбь, когда услышал, что русские овладели в Белой Церкви его сокровищами, а он на них возлагал надежды. (Примітка Костомарова: «Спостережливий шведський мемуарист побачив, що Мазепу більше засмутила втрата ще однієї скарбниці, ніж вибух народного гніву проти загарбників. Але для Карла ХІІ і його оточення початок всенародної війни проти них виявився цілковитою несподіванкою: ошукані Мазепою, вони повірили, що людність України підтримує їх. – М. К.).
(обратно)351
Д. Наливайко. Європейський контекст для українського романтизму // Критика, № 5. 1999.
(обратно)352
Історія української літератури ХІХ століття. Книга перша. К., 2005. С. 476 – 483.
(обратно)353
Отечественные записки. 1840. Т. 10. Відділ 5. С. 24. Є думка, що ця рецензія належить перу В. Бєлінського. Вперше її висловив ще проф. В. Спиридонов у «Литературной газете» 1939 р. (№ 13), але найбільш аргументована стаття на користь такого припущення належить проф. Ф. Приймі («Рецензія В. Г. Бєлінського на «Кобзар» 1840 р.», «Збірник праць першої і другої шевченківських конференцій»).
(обратно)354
Петро Олександрович Корсаков (1790 – 1844) – поет, перекладач, цензор С. – Петербурзького цензурного комітету, разом з С. Бурачком редагував журнал «Маяк», автор позитивної рецензії на Шевченків «Кобзар» 1840 р. (Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. К., 1964. С. 379.)
(обратно)355
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 22.
(обратно)356
Там само. С. 34.
(обратно)357
«Никита Гайдай» – трагедія Шевченка, написана російською мовою у 1841 р. в Петербурзі. Автограф невідомий. Опублікований лише уривок твору (3-я дія), вперше – в журналі «Маяк» (1842, № 9), вдруге – в журналі «Киевская старина (1857, № 10). В листі до Г. КвіткиОснов’яненка 8.ХІІ поет писав, що «перемайстрував» «Н. Г.» у драму «Невеста». «Н. Г.» – історична трагедія, події якої відбуваються в добу Б. Хмельницького. Герой твору – Микита Гайдай, подібно до героїв історичних поезій К. Рилєєва – виразник патріотичних і волелюбних ідей автора. Зміст 3-ї дії «Н. Г.» становлять переважно патетичні волелюбні монологи головного героя. Поряд із патріотичними ідеями Шевченко вклав в уста Микити й свої думки про братнє єднання слов’янських народів; «Славяне! несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей крови междоусобными ножами. Ужели вам вечно суждено быть игралищем иноплеменников?..» (Подібні думки поет тоді висловлював і в поемі «Гайдамаки».) У творі помітний вплив російської поетичної традиції, зокрема поезії декабристів. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 49.)
(обратно)358
Інша назва «Тризна».
(обратно)359
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 27. У виданні творів Шевченка 2003 року цей лист відсутній.
(обратно)360
Там само. С. 24 – 25.
(обратно)361
Іван Іванович Панаєв (1812 – 1862) – російський письменник і журналіст. З 1847 р. разом з М. Некрасовим видавав і редагував журнал «Современник». Виступав під псевдонімом «Новий поет». У «Літературних спогадах» (1861) писав про зустрічі з Шевченком на літературних вечорах у Є. Гребінки та в О. Струговщикова. В серії «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта» («Современник, 1859, № 3; 1860, № 3, 11; 1861, № 3, 5) є відомості про переклади творів Шевченка російською мовою О. Плещеєвим, про вихід у світ «Кобзаря» у 1860 р. у перекладі російських поетів, про смерть і похорон Шевченка, про видання Л. Жемчужниковим на пам’ять про поета серії офортів «Живописная Украйна». Як і Шевченко, він був одним із членів і організаторів Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 82.)
(обратно)362
И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Ленинград, 1950. С. 103.
(обратно)363
Там само.
(обратно)364
Там само. С. 380.
(обратно)365
Див. Воспоминания о Тарасе Шевченко, с. 81 – 85.
(обратно)366
Микола Андрійович Маркевич (1804 – 1860) – український письменник і етнограф. Батько А. Маркевича, замолоду був знайомий з О. Пушкіним, Є. Баратинським, В. Кюхельбекером, захоплювався волелюбною поезією К. Рилєєва. В 1831 р. у Москві видав поетичну збірку «Украинские мелодии», на якій позначилось велике замилування минулим. Вплив цієї збірки простежується в деяких ранніх творах Шевченка («Перебендя», «До Основ’яненка» та ін.). Разом з іншими історичними творами Шевченко вивчав п’ятитомну «Историю Малороссии» Маркевича… де подано документальні матеріали й огляди джерел.
Познайомились Шевченко і Маркевич навесні 1840 р. у Петербурзі. Поет, ймовірно, бував у маєтку Маркевича в Турівці. Зберігся жартівливий лист до Маркевича, який підписав Шевченко разом з Я. де Бальменом, В. Закревським та іншими. Про зустрічі з Шевченком у Петербурзі й на Україні, про перше видання «Кобзаря», про революційну пропаганду, яку проводив Шевченко серед селян, Маркевич писав у своєму щоденнику. В 1847 р. поклав на музику вірш Шевченка «Нащо мені чорні брови» і популяризував його як народну пісню. Шевченко присвятив Маркевичу вірш «Н. Маркевичу». З роками в світогляді Маркевича все більше виявлялись консервативні риси. Поступово вони віддалялися один від одного й після повернення Шевченка з заслання приятельських стосунків не поновили. «Кобзар» 1860 р. вийшов без вірша «Н. Маркевичу». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 382.)
(обратно)367
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 1. С. 60.
(обратно)368
Там само. С. 133.
(обратно)369
Там само. С. 131.
(обратно)370
Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. С. 409 – 410.
(обратно)371
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 204
(обратно)372
Федір Леонтійович Ткаченко працював в артілі Ширяєва, відпущений на волю разом з братами, друг і співучень Шевченка в Академії мистецтв у Брюллова. Шевченко і Ткаченко в 1841 – 1842 рр. жили на одній квартирі. Листувалися між собою до смерті поета.
(обратно)373
Листи до Т. Г. Шевченка. 1840 – 1861. К., 1962. С. 18.
(обратно)374
Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка. К., 1984. С. 28.
(обратно)375
Звісно, що Шевченка привіз уперше до кн(язя) Рєпніна Олексій Вас(ильович) Капніст, син автора «Оды на рабство». Той Капніст, у купі з родичем своїм Іл(лею) Петр(овичем) Капністом, звісні були серед полтавських панів своєю освітою і «англоманією» і записками про емансипацію крестян. Я сам у хлоп’ячі роки свої перед емансипацією (1856 – 1857) мав нагоду замічати вплив їх обох на краєвих панів і різночинців (попів, лікарів і т. ін.). В обох Капністів були добрі бібліотеки, а ще більша в Рєпніна, де були збори найліпших письменників європейських XVIII – ХІХ ст. В селі одного з Капністів був навіть піп, котрий не виговорював у французькій книзі всі букви, але прекрасно знав ліберальну літературу французьку XVIII ст. Син його означався лібералізмом серед харківських студентів 1857 – 1859 рр.
(обратно)376
Виступи проти кріпацтва не були в часи Шевченка новиною і в російській поезії. Так Пушкін ще в 1819 р. написав свою прекрасну поезію «Деревня». Власне, коло 1840 р., коли виступив Шевченко, в Росії і серед освіченого панства, і навіть в урядових кругах знов піднялись розмови про волю кріпаків, затихші було після 1825 р. – Див. книгу В. Семевського. (Примітка М. П. Драгоманова). Про історика народницького напряму В. Семевського див. «История исторической науки в СССР». Том III. M., 1963. Глава V. C. 279 – 367.
(обратно)377
Один з псевдонімів Б. Д. Грінченка.
(обратно)378
Див.: Шевченківський словник. Т. 2. С. 247.
(обратно)379
Там само. Т. 1. С. 103.
(обратно)380
Там само, с. 171.
(обратно)381
«Друг» – літературно-публіцистичний і науковий журнал-двотижневик, заснований як орган москвофільської студентської організації «Студентський кружок». Видавався 1874 – 1877 рр. у Львові. Публіцистичні листи М. Драгоманова до редакції та поява в редколегії І. Франка й М. Павлика (липень 1876 р.) зміцнили демократичні тенденції «Друга», і з першого півріччя 1877 р. він виходив як революційно-демократичний журнал. Ідейне обличчя і спрямування «Друга» найяскравіше відображав відділ белетристики. В критично-наукових матеріалах журналу порушувалися питання суспільної ролі літератури, науки, преси, значення творчості Т. Шевченка й усної народної творчості тощо. Друкувалися твори українських, російських і зарубіжних літераторів – І. Франка, М. Чернишевського, М. Лермонтова, Г. Успенського, М. Салтикова-Щедріна, Г. Гейне, Е. Золя, Г. Флобера та ін., наукові праці, матеріали з історії, етнографії, звіти про діяльність студентських товариств, бібліографії. Після арешту І. Франка і М. Павлика у 1877 р. журнал перестав видаватися. (Енциклопедія історії України. Т. 2. К., 2004. С. 468. «Наведені статті М. П. Драгоманова опубліковано в журналі «Друг» 1875 – 1876 рр. Передруковані з помітками І. Франка… Подаються за публікацією І. Франка. (М. П. Драгоманов. Літературнопубліцистичні праці. Т. 1. С. 513.)
(обратно)382
Один з псевдонімів М. П. Драгоманова.
(обратно)383
М. П. Драгоманов. Літературно-публіцистичні праці. С. 397 – 401.
(обратно)384
У майбутньому (лат.). – Ред.
(обратно)385
Так званих (франц.). – Ред.
(обратно)386
Хрия (греч. Chreia) – речь, рассуждение, составленное по заданным правилам. (Толковый словарь русского языка. Т. 4. М.: 1940. С. 1190.)
(обратно)387
Див.: Шевченківський словник. Т. 2. С. 173.
(обратно)388
«Народ», 1894, № 5. С. 77.
(обратно)389
М. Драгоманов. На увагу українолюбцям у Росії. // Народ. 1890, № 10. С. 153.
(обратно)390
Микола Васильович Гербель (1827 – 1883) – російський поет, перекладач і видавець. Познайомився з Шевченком 1846 р. в Ніжині, коли був на другому курсі ліцею, згодом зустрічався з ним в Петербурзі. Шевченко написав Гербелю в альбом (1846) початок свого вірша «Гоголю» і подарував йому (1860) автограф вірша «Л.» («Поставлю хату і кімнату»)… Гербель вмістив у журналі «Библиотека для чтения» (1856) свій переклад вірша «Думка» («Нащо мені чорні брови»), що був першим опублікованим російською мовою перекладом з Шевченка. Поет прочитав його в Новопетрівському укріпленні й у листі 22.IV.1857 р. просив Маркевича подякувати Гербелю. З кінця 1850 р. Гербель активно перекладав твори Шевченка. В 1860 р. видав за своєю редакцією «Кобзарь» Тараса Григорьевича Шевченка в переводе русских поэтов», де зібрав переклади О. Плещеєва, М. Михайлова, М. Курочкіна, В. Крестовського, Л. Мея, а також умістив 11 своїх перекладів («Тополя», «Перебендя», «Тарасова ніч», «Катерина», «Доля», «Не додому вночі», «Пустка», «Заворожи мене, волхве») та ін. і бібліографію опублікованих на той час творів Шевченка й російських перекладів, яку сам склав. Примірник книжки з написом «Тарасу Григоровичу Шевченкові від шанувальників його таланту від перекладача та видавця його творів Миколи Гербеля» подарував авторові… У доповненому й доопрацьованому вигляді перевидав цей «Кобзар» 1869 і 1876 рр. Усього переклав 18 творів Шевченка, зокрема, поему «Гайдамаки», балади та ліричні вірші. Багатьом перекладам Гербеля властиве недоречне «облітературювання стилю й віршової техніки оригіналу або штучна підробка під «народність». «Кобзар» за редакцією Гербеля, незважаючи на художню нерівноцінність зібраних у ньому перекладів, був протягом ХІХ – початку ХХ ст. одним з основним джерел знайомства російських читачів з поезією Шевченка». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 152 – 153.)
(обратно)391
Я думав і думаю, що, з маленькою зміною фраз, великі психологічні драми Шекспіра, як «Гамлет», «Макбет», «Лір», «Отелло» можна і слід давати нашим мужикам читати і грати перед ними, і завше плачу, чому Кропивницький і Заньковецька не попробували грати, наприклад, «Гамлета» в перекладі Старицького.
(обратно)392
Розрізнені члени (лат.). – Ред.
(обратно)393
На свій захист (лат.). – Ред.
(обратно)394
Виділено нами. – Автори.
(обратно)395
Т. Г. Шевченко. Біографія. С. 110 – 112.
(обратно)396
Варвара Миколаївна Рєпніна (1808 – 1892) – дочка героя Вітчизняної війни 1812 р. генерал-лейтенанта князя М. Г. Рєпніна-Волконського, племінниця декабриста С. Г. Волконського.
Друкувала статті в журналі «Русский архив», залишила спогади про Гоголя. Була близько знайома з Шевченком, високо цінила його талант, допомагала розповсюджувати його «Живописную Украйну», піклувалась про поліпшення долі поета під час його заслання і довгий час листувалася з ним. В. М. Рєпніна брала участь в упорядкуванні могили Кобзаря. Текст, який надруковано в збірнику спогадів – частина листа-сповіді Варвари Миколаївни своєму духівнику, датований 27 січня – 1 березня 1844 р. Переклад з французької.
(обратно)397
Олексій Васильович Капніст – підполковник, учасник руху декабристів, син відомого поета і драматурга – друга Костянтина Федоровича Радищева – Василя Васильовича Капніста, знайомий Шевченка з 1843 р., якого тоді ж представив у Яготині родині Рєпніних.
(обратно)398
Глафіра Іванівна Псьол (1823 – 1886) – художниця, приятелька В. М. Рєпніної. Жила у Рєпніних, де й познайомилася з Шевченком.
(обратно)399
Эти письма до сих пор неизвестны. (Прим. составителей сборника.)
(обратно)400
Горячее чувство В. Н. Репниной к Шевченко не нашло в нём ответа. Но дружеские их отношения продолжались много лет. Когда Шевченко был уже в ссылке, он переписывался с Репниной, а она обращалась с ходатайствами об облегчении участи поэта-солдата к своему дальнему родственнику – начальнику III Отделения А. Ф. Орлову (разумеется, безуспешно).
Помимо письма-исповеди, Репнина подробно рассказывает о Шевченко (под именем Березовского) в неоконченной повести без заглавия, писавшейся в начале весны 1844 г., вскоре после отъезда Шевченко с Украины в Петербург. Здесь Репнина говорит: «Он был из малого числа избранных, которые, будучи богато одарены провидением, не имеют нужды принадлежать ни к какому сословию общества и бывают приняты всеми с особенным вниманием. Он был поэт… Поэт во всей обширности этого слова: он стихами своими побеждал всех, он выжимал из глаз слушающих его слёзы умиления и сочувствия, он настраивал души на высокий диапазон своей восторженной лиры, он увлекал за собою старых и молодых, холодных и пылких. Читая дивные свои произведения, он делался обворожительным; музыкальный голос его переливал в сердца слушателей все глубокие чувства, которые тогда владычествовали над ним. Он одарён был больше чем талантом, ему был дан гений, и душа его, чувствительная и добрая, настраивала его цевницу на высокое и святое. Молва разносила печальные слухи о его детстве и юности, говорили, что он много страдал, что он купил ужасными испытаниями право громить сильных…» (Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. С. 416.)
(обратно)401
Речь идёт о Платоне Лукашевиче, помещике села Березани, лютом крепостнике. (Прим. авторов.)
(обратно)402
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. Том шостий. Замітки, статті, листи, записи народної творчості, «Букварь» К., 1957. С. 46 – 50.
(обратно)403
В. Н. Репнина. (Шевченко в Яготине). Шевченко в воспоминаниях современников. С. 108 – 121.
(обратно)404
Так зване «мочемордие» приховувало насправді серйозні настрої соціально-політичного невдоволення, що знайшли вираз, наприклад, у тому, що брати Закревські (Віктор та Михайло) на представницькому обіді у тієї ж Тетяни Густавівни Вольховської, у 1848 році проголосили тост: «Да здравствует Французская республика!» Див.: А. Козаченко. До історії ліберального руху 40-х рр. Діло поміщиків Закревських. (За сто літ. Кн. 2. 1928. С. 103 – 106.)
Інші матеріали про це коло знайомих і приятелів Шевченка (див: «Собрание сочинений в шести томах». Т. 5. М., 1957. С. 129 – 169). – Див.: С. 413 «Воспоминаний».
(обратно)405
(Наводимо примітку до цієї особи, одночасно звертаючи увагу на окрему неточність у посиланні на ім’я та по-батькові двох осіб, про яких йдеться. За логікою, другий ініціал сина мав би бути першим ініціалом батька. В даному разі цього немає – Р. С.) «За народним переказом, це був Трепов Федір Федорович (1812 – 1889), уланський офіцер, переведений пізніше в жандармський полк. Дослужився до чину генерал-ад’ютанта, займав у 1866 – 1878 рр. посаду оберполіцмейстера, градоначальника Петербурга. Він батько петербурзького генерал-губернатора Ф. Д. (насправді Д. Ф.) Трепова, товариша міністра внутрішніх справ, ганебно відомого тим, що в жовтні 1905 р. віддав наказ під час розгону демонстрації: «холостих залпів не давати, патронів не шкодувати». Інший син Ф. Ф. Трепова – А. Ф. Трепов у 1916 р. – прем’єр-міністр Росії.
(обратно)406
Збереглося 9 листів Шевченка до В. Рєпніної та 18 листів княжни до поета. (Прим. редакції.)
(обратно)407
У перекладі на українську мову. – Авт.
(обратно)408
Правильно: Мойсівка – маєток Т. Г. Волховської на Полтавщині – місце «вільних зустрічей» верхів тодішнього поміщицтва України.
(обратно)409
П. Дуніним-Борковським.
(обратно)410
Імовірно, йдеться про записку Шевченка від 8 – 10 червня 1844 року.
(обратно)411
Михайло Чалий. Життя і твори Тараса Шевченка. С. 34.
(обратно)412
Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 т. Т. 6. С. 214.
(обратно)413
М. Горький. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 27. М., 1953.
(обратно)414
Іван Франко. Твори: в 20 т. Т. 15. С. 118.
(обратно)415
Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. С. 41.
(обратно)416
Там само.
(обратно)417
Роберт Бернс.
(обратно)418
Т. Г. Шевченко був добре обізнаний з творчістю найбільшого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна, знав і щиро шанував його.
(обратно)419
Пантелеймон Куліш. Переднє слово до громади. Погляд на українську словесность. Вибрані твори. К., 1969. С. 514 – 516.
(обратно)420
Павло Тичина. Твори в двох томах. Т. 1. К., 1976. С. 59.
(обратно)421
К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. М.: Соцэкгиз. 1931. С. 384.
(обратно)422
Шевченко и мировая культура. К 150-летию со дня рождения. 1814 – 1964. М., 1964. С. 11 – 23.
(обратно)423
Шевченко – поэт-новатор. С. 68 – 95.
(обратно)424
Живописное наследие Т. Г. Шевченко. С. 96 – 112.
(обратно)425
Поэтический стиль Т. Шевченко в мировой поэзии. С. 113 – 132.
(обратно)426
Шевченко и Россия. С.133 – 156.
(обратно)427
На путях к мировому признанию.
(обратно)428
Є. П. Кирилюк. Т. Г. Шевченко. Життя і творчість. К., 1959. С. 77.
(обратно)429
У своїх автобіографічних творах Микола Іванович Греч не згадав про ставлення до творів Т. Г. Шевченка. Автор післямови до виданих у 1990 р. спогадів Греча наводить показове місце з рецензії на перше видання його спогадів: «Хотя Греч был писатель и журналист, его записки меньше всего дают сведения о ходе и судьбах литературы». («Записки о моей жизни». С. 349.)
(обратно)430
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 12 т. Т. 1. Поезія. 1837 – 1847. К., 1990. С. 63.
(обратно)431
Див.: Іван Франко. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Твори: в 20 т. Т. 17. К., 1955. С. 465 – 471, а також «Історія української літератури ХІХ ст.».
(обратно)432
Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 77.
(обратно)433
Критика. Березень-квітень, 2010.
(обратно)434
Саме так прагнули бачити селяни пам’ятник своєму народному поетові.
(обратно)435
Іван Франко. Твори: у 20 т. Т. 17. С. 7.
(обратно)436
Іван Франко. Твори: у 50 т. Т. 27. С. 297.
(обратно)437
Про народного поета Шотландії див.: І. П. Симоненко. Поезія Роберта Бернса.
(обратно)438
Іван Франко. Твори: у 50 т. Т. 28. С. 388.
(обратно)439
Іван Франко. Твори: у 50 т. Т. 34. С. 388.
(обратно)440
Там само. Т. 27. С. 305.
(обратно)441
Іван Франко. Твори: у 50 т. Т. 34. С. 388.
(обратно)442
Там само. Т. 41. С. 183.
(обратно)443
Раніше наводився більш переконливий, побудований на незаперечних фактах, аналіз справжньої освіченості Шевченка, який доводить легковажність подібних вражень осіб, які дивились на поета з висоти знань, здобутих у різного роду дворянських учбових закладах, або ж приватних іноземних учителів. Слід було б і уважніше придивитись і до переписки каторжника Шевченка, його прохань надіслати йому ті або інші книги й праці та реакцію засланця після їх одержання. В пропонованому тексті ведемо й інші дані про непересічний інтелект поета-революціонера, про відповідність історії його творів, про серйозність та обґрунтованість його історичних поглядів.
(обратно)444
Йдеться про ніби «хвалителя Шевченка» – українського вченого ХІХ – початку ХХ століття Федора Кіндратовича Вовка, якому належать об’єктивні твори, написані з великою повагою і любов’ю до поета.
(обратно)445
У цьому, на нашу думку, також аж ніяк не можна погодитись через властивий М. П. Драгоманову (безумовно, глибокому й видатному знавцю, аналітику й критику літератури) «аристократизм думки», категоричне заперечення права й майстерності Т. Г. Шевченка на сатиричне зображення верхів царської Росії. Дещо суперечливим виглядає й його трактування повістей Тараса Григоровича (Р. С.).
(обратно)446
Йдеться про мотивацію виступів львівської «Газети школьної» разом з «Рускім Сіоном», які підтримали заборону катехітом Огоновським брати участь у пам’ятному вечорі з нагоди 15-річчя роковин смерті Т. Г. Шевченка.
(обратно)447
Антон Андрійович Глушановський (1815 – рік смерті невідомий) – юрист, знайомий Шевченка. В 1844 – 1850 рр. був чиновником у судових справах (синдиком) при Київському університеті. Поет познайомився з Глушановським у Києві, приятелював з ним і не раз згадував у листах. Згадувався Глушановський і в листуванні друзів Шевченка. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 157 – 158.)
(обратно)448
Михайло Володимирович Юзефович (1802 – 1889) – помічник куратора Київського учбового округу (1842 – 1858). Родич В. Тарновського (старшого). За рекомендацією Д. Бібікова в 1844 р. працював за сумісництвом членом Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві. 1857 – 1889 рр. був її головою. Знайомий з М. Костомаровим і М. Максимовичем, приятелював з П. Кулішем. 28.ІІ.1847 р. провокатор О. Петров доповів Юзефовичу, а 3.ІІІ в його присутності написав доноса кураторові округу О. Траскіну про існування в Київському університеті Кирило-Мефодіївського товариства. Юзефович брав безпосередню участь в арештах і обшуках квартир товариства (зокрема М. Костомарова). В листі 19.IV.1847 p. повідомив правителя канцелярії київського генерал-губернатора М. Писарєва про місцеперебування запідозрених у належності до товариства (зокрема й Шевченка). Поет був знайомий з Юзефовичем, зустрічався під час роботи Тимчасової комісії 1846 – 1847 рр. у Костомарова. В «Щоденнику» 6.V.1858 p. назвав Юзефовича «предателем». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 399.)
(обратно)449
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. Замітки, статті, листи… 1839 – 1861. К., 1957. С. 38.
(обратно)450
Тарас Шевченко. Документи і матеріали. С. 32 – 33.
(обратно)451
Тарас Шевченко. Документи і матеріали. С. 28 – 29.
(обратно)452
Київ, 1990.
(обратно)453
Кирилло-Мефодиевское общество (1846 – 1847). М.: Издательство Московского университета, 1959.
(обратно)454
Г. Я. Сергієнко. Декабристи і Шевченко. К., 1983.
(обратно)455
Г. Я. Сергієнко. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. К., 1983.
(обратно)456
Микола Іванович Гулак (1822 – 1899) – український революційний демократ, педагог і вчений. У 1843 р. закінчив юридичний факультет Дерптського (нині Тартуського) університету.
В 1844 р. здобув вчену ступінь кандидата права. В 1845 – 1847 рр. чиновник канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора. В грудні 1845 – січні 1846 р. разом з М. Костомаровим і В. Білозерським заснував Кирило-Мефодіївське товариство. Належав до його лівої, революційно-демократичної групи, очолюваної Шевченком. Гулак був прихильником збройного повалення самодержавства, повного знищення поміщицького землеволодіння й заміни його суспільною власністю на землю, обстоював необхідність політичного об’єднання всіх слов’янських народів у формі демократичної федеративної республіки. У філософії стояв на позиціях матеріалізму, однак, допускався ідеалістичних помилок. У 1847 р. Гулака арештували і ув’язнили в Шліссельбурзькій фортеці. В 1850 р. його вислали до Пермі під суворий нагляд поліції. Після закінчення строку заслання 1857 – 1887 рр. вів педагогічну й наукову роботу в Україні, в Грузії та Азербайджані. Як учений відомий працями з історії, математики, філології та юриспруденції. Перекладав з грузинської та азербайджанської літератури. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 176.)
(обратно)457
Іван Якович Посяда (Посяденко) (1823 – 1894) – український громадський і культурний діяч, педагог. Селянин за походженням. У 1843 р. вступив на філософський факультет Київського університету. В 1846 р. став членом Кирило-Мефодіївського товариства. Належав до його лівого крила, очолюваного Шевченком. У 1847 р. Посяду заарештували й заслали під нагляд поліції до Казані, де він 1849 року закінчив університет із званням кандидата філософських наук. Того ж року його призначили помічником правителя канцелярії рязанського губернатора. В 1856 – 1866 рр. перебував за кордоном. Після повернення на батьківщину працював учителем в Україні, в Воронежі та Оренбурзькій губернії. Шевченко згадав Посяду в «Щоденнику» 13.ІХ.1857 р. (Там само. Т. 2. С. 139).
(обратно)458
Микола Іванович Савич (1808 – 1892) – член Кирило-Мефодіївського товариства, належав до його революційно-демократичного крила. Закінчив Харківський університет. У 1831 – 1834 рр. навчався в Парижі. Повернувшись на батьківщину, жив у Полтавській губернії. У 40-х рр. ХІХ ст. зблизився з фундаторами Кирило-Мефодіївського товариства. Шевченко познайомився з Савичем у 1846 р. Савич був одним з найактивніших членів т-ва. Обстоював скасування кріпацтва, повалення в Росії монархії й заміни її республікою. В 1847 р. передав у Парижі А. Міцкевичу автограф поеми «Кавказ». Цього ж року Савича відкликали з-за кордону, заарештували й вислали у його маєток на Полтавщині. (Там само. Т. 2. С. 189.)
(обратно)459
«Книга народа польского и пилигримства польского» А. Мицкевича цитируется нами по изд. 1917 г., Москва, перевод Виноградова; «Закон божий» – по экземпляру на русском языке, находящемуся в деле Гулака, переписанному его рукой». – Примітка П. Зайончковського.
(обратно)460
Цензурный пропуск. Подразумевается Екатерина II.
(обратно)461
Цензурный пропуск.
(обратно)462
Киевская старина. 1883. Кн. ІІ. С. 226 – 227.
(обратно)463
Воспоминания Кентжицкого не были известны ни одному из исследователей Кирилло-Мефодиевского общества, в том числе и польскому историку Голомбеку. (Примітка П. Зайончковського.)
(обратно)464
П. А. Зайончковский. Кирилло-Мефодиевское общество (1846 – 1847). С. 5 – 21.
(обратно)465
Михайло Максимович Попов (1800 – 1871) – начальник 1-ї (секретної) експедиції ІІІ Відділу, літератор. У 1821 р. закінчив Казанський університет. З 1830 р. на службі в ІІІ Відділі. Допомагав керуючому відділом Л. Дубельту вести слідство Кирило-Мефодіївського товариства. 17.IV.1847 р. видав розписку квартальному наглядачеві Київської поліції Гришкову про те, що «художника Шевченка з його паперами та речами одержав… ІІІ Відділ». 15.ІХ.1857 р. поет з відразою згадав його в «Щоденнику». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 132.)
(обратно)466
Русская старина. 1886. Кн. І. (Примітка П. Зайончковського.)
(обратно)467
В. И. Семевский. Кирилло-Мефодиевское общество 1846 – 1847 гг. Изд. журнала «Голос минувшего», б/г. С. 45 – 46.
(обратно)468
П. А. Зайончковский. Кирилло-Мефодиевское общество (1846 – 1847). С. 112.
(обратно)469
Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. К., 1990.
(обратно)470
Це стосується й одного з авторів нинішньої праці.
(обратно)471
Олексій Михайлович Петров (1823 – 1883) – студент Київського університету. В 1846 р. з провокаційною метою став членом Кирило-Мефодіївського товариства і спершу М. Юзефовичу (усно), а 3.ІІІ.1847 р. письмово доповів О. Траскіну про існування цього товариства. З Шевченком особисто не був знайомим, однак, знаючи про нього від О. Навроцького, в своєму доносі назвав серед інших членів товариства і поета й переказав зміст його творів: поеми «Сон» і послання «І мертвим, і живим…». Пізніше Петров був деякий час співробітником ІІІ Відділення». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 104.)
(обратно)472
Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. Т. 3. С. 406.
(обратно)473
Микола Еварестович Писарев (1806 – 1884) – правитель канцелярії київського, волинського і подільського генерал-губернатора. Шевченко знав Писарева з 1845 р. по роботі в Археографічній комісії, яку той очолював. 19.VII.1857 р. в «Щоденнику» поет назвав Писарева «гениальным взяточником», маючи на увазі участь Писарева в слідстві Кирило-Мефодіївського товариства. Гостро сатиричну характеристику Писарева містить поема «Юродивий». У цій же поемі Шевченко використав і скандальний випадок з Писаревим, коли той, будучи цивільним губернатором у Петрозаводську, дістав прилюдного ляпаса від чиновника Матвєєва (в поемі ляпас переадресовано Бібікову). (Шевченківський словник. Т. 2. С.106.)
(обратно)474
Дмитро Гаврилович Бібіков ( 1792 – 1870) – російський державний діяч. У 1837 – 1852 рр. – київський військовий губернатор, київський, подільський і волинський генерал-губернатор. Активний провідник реакційної політики Миколи І в Україні, брав участь у розгромі Кирило-Мефодіївського товариства. Бібікову була підпорядкована Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві, в якій Шевченко працював художником. В поемі «Юродивий» Шевченко затаврував Бібікова, назвав його «капралом п’яним», «старим сатрапом». (Там само. Т. 1. С. 67.)
(обратно)475
Пантелеймон Олександрович Куліш (літературні псевдоніми – Хуторянин, Панько Казюка, Данило Ус та інші.; 1819 – 1897) – український буржуазний письменник, історик, фольклорист, критик і перекладач. Політичні погляди Куліша розвивалися від поміщицько-буржуазного лібералізму до буржуазного націоналізму, реакційного слов’янофільства й вірнопідданського схиляння перед царизмом. Протягом усієї діяльності від 1840 до 1890-х рр. поступово формувалася антидемократична основа світогляду і творчого методу Куліша.
Шевченко й Куліш познайомилися в 1843 р. в Києві, разом брали участь у діяльності КирилоМефодіївського товариства, в якому Куліш стояв на ліберально-буржуазних позиціях. Появу «Кобзаря» і «Гайдамаків» Куліш зустрів прихильно, але одразу ж почав нав’язувати Шевченкові свої ідейно-естетичні уподобання. Він радив значні виправлення в текст «Катерини», «Івана Підкови», «До Основ’яненка». Майже всі його поради Шевченко відхилив. Це були ознаки класових та ідейнохудожніх розходжень, що поставили згодом Шевченка й Куліша на протилежні суспільно-політичні і творчі позиції. В листі 25.V.1846 р. Куліш пропонував Шевченкові пригасити революційний пафос поеми «Гайдамаки». Шевченко позитивно оцінив перше видання «Граматики» Куліша і особливо його «Записки о Южной Руси». В 1857 р., коли твори українського поета заборонялися, Куліш помістив у «Записках о Южной Руси» його поему «Наймичка» (без підпису), а в своїй «Граматиці» – окремі твори циклу «Псалми Давидові». З участю Куліша опубліковано кілька поезій Шевченка в альманасі «Хата» (1860), а в журналі «Основа» (1861 – 1862) драму «Назар Стодоля» та частину поеми «Мар’яначерниця» без присвяти Оксані Коваленко. Куліш був одним з переписувачів творів Шевченка, що поширювалися в рукописах. У друкарні Куліша друкували «Кобзар» 1860 р. В 1850 – 1860 рр. Куліш виступав зі статтями «Про відношення малоросійської словесності до загальноруської», «Погляд на малоруську словесність…», «Чого стоїть Шевченко, яко поет народній» та ін.), в яких високо оцінював твори Шевченка на родинно-побутові й лірично-фольклорні теми, вказував на плідне навчання українського поета в О. Пушкіна. Водночас у поглядах Куліша виявились і відверто консервативні, реакційні тенденції. Вважаючи, що справжню народність в українській літературі започаткував Г. Квітка-Основ’яненко, Куліш з цих позицій оцінював народність Шевченка, зводячи її фактично до етнографічності. На перший план він ставив вимогу етнографічно-побутової вірогідності й обстоював абстрактні, позакласові поняття душі, добра, національного «духу». Різко негативно ставився Куліш до політичної, викривальної поезії Шевченка, гудив і відкидав її. З кінця 1850-х рр. суспільнополітичні, ідейно-творчі розходження між Шевченком і Кулішем поглибилися. В той час як Шевченко послідовно відстоював мистецтво високої ідейності, надаючи йому високого суспільно-перетворюючого значення, Куліш дедалі войовничіше нав’язував літературі відхід від гострих соціально-політичних проблем, виступав проти критичного реалізму, революційно-демократичних традицій Шевченка («Соборное послание галичанам»). Його вимоги відображати відсталі національні риси, дотримуватися стилізації під фольклор, голого побутописання передбачали відрив української літератури від суспільної боротьби, визвольного руху, від передової російської культури. Спотворюючи багатовікову історію взаємин двох братніх народів, Куліш витлумачував українсько-російські літературні зв’язки в націоналістичному дусі, вороже ставився до дружби поета з передовими діячами Росії. Він знецінював поезію Шевченка останнього періоду та його російські повісті. Якщо раніше Куліш стримано критикував «Гайдамаки» і не радив друкувати «Неофітів», то в 1870 – 1880 рр. він намагався довести антиісторизм творів поета історичного змісту, в блюзнірській формі осуджував революційну поезію Шевченка, зокрема поему «Сон». З полемічними статтями проти Куліша виступили Д. Мордовець («За крашанку – П. Ол. Кулішеві». СПб, 1882) та М. Костомаров («Крашанка г. Кулиша». «Вестник Европы», 1882, № 8), які різко осудили прошляхетську орієнтацію Куліша та його зневажання поезії Шевченка. Реакційну суть суспільно-політичних та ідейно-естетичних поезій Куліша викрив І. Франко в статті «Хуторна поезія Куліша». З ним солідаризувався П. Грабовський, зазначивши, що Куліш був «прихильник православія та реакціонер з боку громадсько-політичного; до самої смерті він остався певний сьому реакціонерству…» П. Грабовський. Зібрання творів. Т. 3. К., 1960. С. 293. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 334 – 335.)
(обратно)476
Василь Михайлович Білозерський (1825 – 1899) – один з організаторів Кирило-Мефодіївського товариства, редактор журналу буржуазно-ліберального напряму «Основа» (1861 – 1862).
Шевченко познайомився з ним у 1844 р. в Києві, коли Білозерський учився в університеті. В Кирило-Мефодіївському товаристві Білозерський стояв на ліберально-реформістських позиціях. Весною 1847 р. за участь в товаристві його заарештували і заслали до Петрозаводська. Збереглося три листи Білозерського до Шевченка.
В «Основі» вперше побачили світ багато поезій Шевченка. Білозерський замовчував революційний характер діяльності Шевченка, прагнув показати, що творчість поета має вузько національний характер». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 71.)
(обратно)477
На полі проти слів «в Полтаве несколько благородномыслящих офицеров» примітка О. Ф. Орлова «Об сих двух офицерах я снесусь с военным министром». – Примітка документа.
(обратно)478
На полі проти слів «насчёт Кулиша сделано распоряжение» примітка О. Ф. Орлова: «О сём распоряжении я умалчиваю перед министром народного просвещения, дабы Кулиш с большей уверенностью своей независимости возвратился в Россию». – Прим. документа.
(обратно)479
Микола Андрійович Долгоруков (1792 – 1847) – чернігівський, полтавський, харківський генерал-губернатор, князь. Проводив реакційну політику царизму в Україні, за що Шевченко затаврував його в поемі «Юродивий». 16.І.1845 р. Шевченко звернувся до Долгорукова з листом, у якому просив сприяти передплаті на «Живописную Украйну». Як видно з листа, Шевченко бачився з Долгоруковим у Петербурзі й подарував йому три естампи з «Живописной Украйны», щоб зацікавити своїм виданням. Долгоруков дав розпорядження губернаторам і губернським предводителям дворянства організувати передплату на «Живописную Украйну», але це розпорядження конкретних наслідків не дало. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 194.)
(обратно)480
Іван Іванович Фундуклей (1804 – 1880) – київський цивільний губернатор (1830 – 1852). Цікавився історією та археологією. Шевченко познайомився з ним у 1845 – 1846 рр. під час роботи в Археографічній комісії. 5.IV.1847 р. Фундуклей брав участь в арешті Шевченка. Під час арешту він відібрав у поета рукописи, альбоми, малюнки та інші речі. Спочатку Фундуклей передав до «Третього відділу» лише частину їх (збірник «Три літа», інші рукописи, листи, альбоми), а решту (малюнки, пакет з паперами й скриньку з фарбами) залишив у себе. 15.VII.1847 р. Шевченко написав з Орської фортеці Фундуклею листа з проханням повернути йому речі. На цей лист Фундуклей не відповів. А всі речі поета він ще раніше переслав до «Третього відділу», про що Шевченко не знав. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 316.)
(обратно)481
Сергій Семенович Уваров (1786 – 1855) – президент Російської академії наук (1818 – 1855), міністр народної освіти Росії (1833 – 1855), граф. Освіту підпорядкував реакційним принципам православ’я, самодержавства й офіційної «народності». Д. Бібіков надіслав Уварову клопотання Шевченка, в якому він просив призначити його вчителем малювання Київського університету. Про це клопоталась родичка Уварова – дружина М. Рєпніна-Волконського. В лютому 1847 р. Уваров повідомив куратора Київської шкільної округи про призначення Шевченка на цю посаду, а в червні 1847 р. написав наказ про його звільнення. 2.VI i 5.VII.1847 р. дав розпорядження цензурному відомству про заборону «Кобзаря» і згадки про нього в пресі. За записаною О. Матовим розповіддю наглядача в Новопетровському укріпленні М. Бажанова Шевченко нібито намалював у Орській фортеці алегоричну картину, на якій Уваров прикривав шинеллю українське село від променів сонця – уособлення освіти. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 285.)
(обратно)482
Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. Т. 3. С. 337.
(обратно)483
Н. И. Костомаров. Автобиография. К 190-летию со дня рождения. К., 2007. С. 90 – 92.
(обратно)484
Микола Аркадійович Рігельман (1817 – 1888) – чиновник канцелярії київського генералгубернатора, співробітник Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві. Був запідозрений у приналежності до Кирило-Мефодіївського товариства, притягався до слідства. Шевченко познайомився з ним у 1840 р. в Петербурзі. В лютому 1857 р. допоміг поету матеріально. Того ж року виступив з рецензією на «Записки о Южной Руси», в якій високо оцінив поему Шевченка «Наймичка». (Шевченківський словник. Т. 2. С.167.)
(обратно)485
Петро Омелянович Чуйкевич (1815 – близько 1875) – учитель, збирач народних пісень. У 1843 р. закінчив Київський університет. Друг П. Куліша, М. Костомарова, О. Бодянського. Був під слідством у справі Кирило-Мефодіївського товариства, звільнений через брак доказів. Шевченко познайомився з Чуйкевичем у червні 1843 р. в Києві в П. Куліша, а потім кілька разів зустрічався з ним у М. Костомарова. В 1846 р., коли Шевченко перебував в Кам’янці-Подільському, де вчителював Чуйкевич, останній записав в альбом поета пісні «Зійшла зоря із вечора, да й не назорилась», «Пливе щука з Кременчука, пливе собі стиха», «Ой, Кармелюче, по світу ходиш». Першу з них Шевченко використав у повістях «Близнецы», «Прогулка с удовольствием и не без морали» та в поемі «Марина». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 349.)
(обратно)486
Федір Васильович Чижов (1811 – 1877) – російський математик, письменник, близький до слов’янофілів. Учень М. Остроградського, вчитель Г. П. Ґалаґана. Був арештований і притягався до слідства в справі Кирило-Мефодіївського товариства в травні 1847 р., але звільнений за браком доказів. Шевченко зустрічався з Чижовим у 1840 р. на вечорах у М. Маркевича. Згадав Чижова у листі до В. Г. Шевченка (7.ХІІ.1859 р.), коли збирався купити на Україні землю до садиби. (Там само. С. 345 – 346.)
(обратно)487
Точна назва: «Повесть об украинском народе».
(обратно)488
Георгій (Юрій) Львович Андрузький (1827 – рік смерті невідомий) – член Кирило-Мефодіївського товариства, громадський діяч, учений і поет. Учився в Київському університеті. В 1846 р. вступив до Кирило-Мефодіївського товариства, належав до його революційно-демократичного крила. Обстоював скасування кріпацтва і станів, республіканський спосіб правління. 30.ІІІ.1847 р. його заарештували й вислали під нагляд поліції в Казань, а потім – у Петрозаводськ. У 1850 – 1854 рр. перебував в ув’язненні в Соловецькому монастирі. В 1856 р. йому дозволено повернутись у Полтавську губернію. Шевченко познайомився з Андрузьким у 1846 р. Вплив поета позначився на віршах Андрузького, в яких відчуваються соціальні мотиви. На допитах у «Третьому відділі» виявив легкодухість.
Свідчення Андрузького під час слідства в справі Кирило-Мефодіївського товариства були використані «Третім відділом» як один з матеріалів для звинувачення Шевченка». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 38.)
(обратно)489
Шевченківський словник. Т. 1. С. 339 – 343.
(обратно)490
Левко Іванович Боровиковський (1808 – 1888) – український поет, фольклорист і етнограф. Опрацьовував фольклорні сюжети, звертався до народної поетики й ритміки. Боровиковський відійшов від бурлескної манери і був одним з перших українських романтиків. Розвинув в українській літературі жанри на народній основі. Історичні події висвітлював у дусі ідей «офіційної народності». Шевченко читав твори Боровиковського в альманасі «Ластівка», зокрема й ті, які вилучив цензор (останні читав у рукописі), можливо, й в «Отечественных записках» та «Вестнике Европы». Особисто Шевченко й Боровиковський не були знайомі. В Боровиковського є лише згадка в листі до І. Срезневського від 24.V.1840 р. про перший «Кобзар». «Особливо хвалять журнали «Кобзар», що недавно вийшов, – не знаю чий». Мотиви трагічного кохання, тема народного співця, характерні для деяких творів Боровиковського («Молодиця», «Бандурист»), простежуються і в ранніх романтичних творах Шевченка («Причинна», «Перебендя»)». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 84.)
(обратно)491
Это та самая книга Кулиша, в которой он поместил мысли о прежнем духе казачества и вольности малороссиян, везде замечая, что дух этот доселе таится в Малороссии». – Примечание документа.
(обратно)492
Осип Максимович Бодянський (літературні псевдоніми М. Бода-Варвинець, Ісько Материнка, І. Мастак та інші; 1808 – 1877) – український та російський філолог, історик, письменник і перекладач, один із засновників славістики в Росії. В питаннях вітчизняної і слов’янської історії та культури стояв на ліберальних позиціях. Пропагував ідею народності в мистецтві. Ще до особистого знайомства з Шевченком добре знав його ранні твори. Видаючи в 1843 р. в російському перекладі «Слов’янський народопис» П. Шафарика, Бодянський доповнив автора, назвавши серед українських письменників і Шевченка. Популяризував творчість Шевченка серед слов’янських народів. У 1844 – 1845 рр. надіслав В. Ганці, П. Шафарикові і Празькому музеєві «Тризну», «Гамалію» та «Чигиринський Кобзар» і «Гайдамаки». «Тризну» й «Гамалію» разом з іншими книжками надіслав і хорватському поету С. Бразу.
Познайомилися Шевченко і Бодянський у лютому 1844 р. в Москві, коли поет повертався до Петербурга після першої подорожі в Україну, зустрічалися в 1845, 1858 і 1859 рр., листувались (збереглося 6 листів Шевченка і два – Бодянського), обмінювалися думками про поему «Гамалія» та серію офортів «Живописная Украйна». Шевченко запропонував Бодянському писати тексти до історичних сюжетів «Живописной Украйны» і давати теми для малюнків. Від Бодянського він одержав відомості про чеських і словацьких будителів, зокрема про П. Шафарика, й ці матеріали використав у поемі «Єретик» з посвятою Шафарику.
Бодянський клопотався, щоб полегшити долю поета на засланні, надсилав йому книжки. Шевченко надіслав йому 3.ХІ.1854 р. автопортрет, намальований в Новопетровському укріпленні (не зберігся). 27 квітня 1861 р. (9 травня за н. ст.) Бодянський був серед москвичів, які приходили на Арбат попрощатися з прахом Шевченка. (Шевченківський словник, том перший, с. 78.)
(обратно)493
Олександр Олександрович Навроцький (1823 – 1892) – український громадський і культурний діяч революційно-демократичного напряму, поет і перекладач. У 1847 р. закінчив філософський факультет Київського університету. Під впливом свого двоюрідного брата М. Гулака вступив до Кирило-Мефодіївського товариства, приєднавшись до його революційно-демократичного крила. Виступав за встановлення в майбутній республіці народного правління. Шевченко познайомився з Навроцьким навесні 1846 р. у Києві, бачився з ним під час зустрічей з членами Кирило-Мефодіївського товариства. Навроцький захоплювався творами Шевченка, поширював списки їх. В 1847 р. Навроцького заарештовано і засуджено до 6-місячного ув’язнення, яке відбував у Вятці. З лютого 1848 р. переведений на заслання в Єлабугу. Потім у різний час жив у Петербурзі, Темір-Хан-Шурі (тепер м. Буйнакськ Даг. АРСР), в Єревані, Миколаєві та інших містах.
На поетичній творчості Навроцького позначився вплив Шевченка. Ремінісценції з Шевченкового «Заповіту» є у вірші Навроцького «Остання воля», надрукованому в журналі «Основа» (1861, № 8). На смерть Шевченка відгукнувся віршами «То не стогне вітер в полі» та «Не втихомирилась душа», обидва – в журналі «Основа», 1861, № 6).
(обратно)494
Не виключено, на наш погляд, що в такий спосіб член Товариства Андрузький мав на меті полегшити долю арештованого першим М. І. Гулака.
(обратно)495
Опанас Васильович Маркович (1822 – 1867) – український фольклорист і етнограф. Чоловік письменниці Марко Вовчок. Під час навчання в Київському університеті (закінчив у 1846 р.) зустрічався з Шевченком у О. Навроцького. В 1847 р. за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві та за знайдені під час обшуку «стихи возмутительного содержания», зокрема поему Шевченка «І мертвим, і живим…», Марковича вислали до м. Орла. Після великої перерви, наприкінці 1858 р., Маркович листовно відновив зв’язок з Шевченком (лист про літературні справи Марка Вовчка), а з квітня 1859 р. у Петербурзі відновилися й їхні безпосередні зустрічі. У квітні 1861 р. Маркович організував у Петербурзі концерт, присвячений пам’яті поета. Зібрані кошти передані родичам Шевченка. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 383.)
(обратно)496
Шевченківський словник. Т. 1. С. 344 – 346.
(обратно)497
Шевченківський словник. Т. 1. С. 347 – 348.
(обратно)498
Шевченківський словник. Т. 1. С. 349.
(обратно)499
Листи до Тараса Шевченка. К., 1993. С. 45.
(обратно)500
Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. Т. 3. С. 34.
(обратно)501
Василь Васильович Тарновський (старший, 1810 – 1866) – український поміщик, громадський діяч. Знайомий Шевченка. В 1826 р. закінчив Ніжинський ліцей князя Безбородька, де вчився разом з М. Гоголем і дружив з ним, а потім Московський університет. Після смерті дядька Г. Тарновського у 1853 р. одержав у спадок села Потік і Качанівку і віддався культурно-освітній діяльності. Тарновський належав до ліберально-поміщицьких кіл, які виступали за звільнення селян від кріпацтва за викуп. Брав участь у підготовці селянської реформи 1861 р. Шевченко познайомився з Тарновським у 1845 р. в Потоці. Разом з М. Костомаровим і В. Білозерським бував у Тарновського і в Києві. Тарновський знав і цінував поезію Шевченка, цікавився його долею. Шевченко підтримував зв’язки з родиною Тарновських, не раз бував у них у Петербурзі. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 254.)
(обратно)502
Григорій Степанович Тарновський (1788 – 1853) – український поміщик, дядько В. Тарновського (старшого). В своєму маєтку в Качанівці зібрав велику бібліотеку, створив картинну галерею. В різний час у нього бували М. Гоголь, М. Глинка, С. Гулак-Артемовський, Л. Жемчужников, М. О. Максимович, М. Маркевич, В. Штернберг та інші діячі культури. Шевченко познайомився з Тарновським у 1839 р. в Петербурзі. В 1843 р. гостював у нього в Качанівці, в 1845 р. – в Потоці. На замовлення Тарновського художник виконав кілька малярських творів (зокрема «Катерину»), листувався з ним. Спостереження Шевченка над побутом Качанівки дали йому матеріал для написання антикріпосницької повісті «Музыкант», в якій він вивів Тарновського під іменем поміщика Арновського. (Там само. С. 254.)
(обратно)503
Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. К., 1958. С. 36.
(обратно)504
Яків Васильович Тарновський (1825 – 1913) – український поміщик, брат В. Тарновського (старшого).
В листі від 23.ХІІ.1860 р. Шевченко просив Тарновського взяти на роботу до свого маєтку Варфоломія Григоровича Шевченка, але без наслідків. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 254.)
(обратно)505
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 12 т. Повісті. К., 2003. Т. 4. С. 155 – 156.
(обратно)506
Петро Дмитрович Селецький (1821 – 1880) – поміщик, у 1858 – 1866 рр. – київський віцегубернатор, брат М. Селецької. Шевченко познайомився з ним у 1843 р. в Яготині в маєтку Рєпніних, Шевченко подарував Селецькому видання поеми «Гамалія» (СПБ, 1844) з власноручним написом. У серпні 1859 р., перебуваючи під наглядом поліції в Києві, поет звернувся до Селецького з проханням відпустити його до Петербурга. В «Киевской старине» (1884, № 8) надруковано «Записки П. Д. Селецкого», в яких він згадував про Шевченка, про свої зустрічі з ним у Яготині і не дуже схвально відзивався про Шевченка як про художника. Поет не любив Селецького і не приховував цього (лист до В. Г. Шевченка від 23.ХІІ.1860 р.). (Шевченківський словник. Т. 2. С. 303.)
(обратно)507
Василь Васильович Тарновський (молодший; 1837 – 1899) – український поміщик… Вчився в Москві й Петербурзі, закінчив Київський університет. Хлопчиком у 1845 р. познайомився з Шевченком, коли той приїздив до його батька в село Потік. В 1857 р. купив 17 Шевченкових малюнків гір Каратау та краєвидів Новопетровського укріплення. Вдруге зустрівся з поетом у 1859 р. в Качанівці. Листувався з ним, збирав його рукописи, автографи, малюнки, офорти і все, що стосувалося його особи. На основі цих матеріалів створено Музей української старовини в Чернігові, де провідне місце посіла шевченківська колекція з 758 експонатів (Тарновський подарував її для музею Чернігівського губернського земства – тепер Чернігівський державний історичний музей). Дбав про відкриття пам’ятника Шевченкові в Києві. (Там само. С. 254 – 255.)
(обратно)508
Віктор Миколайович Забіла (1808 – 1869) – український поет-романтик. Шевченко знав Забілу через В. Штернберга і в 1842 р. переслав йому, щоб заочно познайомитись, окреме видання поеми «Гайдамаки». Особисто познайомилися вони в 1843 р. в Качанівці, зустрічалися в Мойсівці в маєтку Т. Волховської. Взимку 1847 р. Шевченко відвідав Забілу на хуторі Забілівщині і намалював його портрет (не зберігся. Забіла є прототипом Віктора Олександровича в повісти Шевченка «Капитанша». Збереглося жартівливе послання Забіли до Шевченка. У паперах, відібраних у Шевченка при арешті, були вірші Забіли, які в протоколі допиту поета в «Третьому відділі» 26/IV.1847 p. названо пасквільними. Під впливом Шевченка посилилися соціальні мотиви у поезії Забіли. В 1861 р. Забіла супроводив домовину поета від Борзни до Канева, брав участь у похороні, разом з селянами впорядкував Шевченкову могилу на Чернечій горі. (Там само. Т. 1. С. 226.)
(обратно)509
Іван Михайлович Корбе (1800 – 1868) – генерал-майор. Шевченко познайомився з Корбе не пізніше як у 1840 р. в Петербурзі; зустрічався з ним тут у 1843 – 1844, 1858 – 1861 рр. У 1844 – 1847 рр. бачився з ним в Україні, зокрема в Київщині, а також в маєтку Корбе, в селі Вейсбахівці, де збирались друзі поета Я. де Бальмен, В. Закревський, М. Маркевич та інші. Разом з Шевченком та іншими Корбе підписав жартівливого листа до М. Маркевича 22.І.1844 р. В 1852 р. через казанську комісаріатську комісію, очолювану Корбе, Шевченко отримав гроші, надіслані йому С. Гулаком-Артемовським. Шевченко згадував про Корбе у «Щоденнику» 8 і 11.IV.1858 p. i в листах до Тарновського (1842 р.) і С. Гулака-Артемовського (1852 р.). (Шевченківський словник. Т. 1. С. 316 – 317.)
(обратно)510
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 22 – 23.
(обратно)511
Катерина Федорівна Юнге (1843 – 1913) – дочка віце-президента Петербурзької акажемії мистецтв Ф. Толстого. В 1863 р. взяла шлюб з професором Медико-хірургічної академії Е. Юнге. До 1887 р. жила в Києві, у 1882 р. організувала тут жіночу рисувальну школу і керувала нею. Поет часто бував у Петербурзі в Толстих. Юнге вчилася у нього малювати, слухала його розповіді, перекладала його розмови з А. Олдріджем. 6.ХІІ.1859 р. поет записав їй в альбом вірш «Подражаніє Едуарду Сові». Юнге надрукувала спогади про Шевченка (1883, 1905 рр. Повністю опубліковані у 1913 р.). Ними зачитувався Л. Толстой. Про роль поета Юнге писала й в 1898 р. в листі до О. Кониського. Її спогади цінні для вивчення останніх років життя Шевченка. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 398.)
(обратно)512
Якого саме Дарагана має на увазі Шевченко – невідомо. Можливо, це Максим Якович Дараган, який у 1834 р. закінчив Ніжинську гімназію (служив у міністерстві державних маєтків) і з яким Шевченко міг зустрічатися у знайомих. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 389.)
(обратно)513
Григорій Карпович Михайлов (1814 – 1867) – російський художник, учень і послідовник Венеціанова, академік Петербурзької академії мистецтв (з 1855 р.). Вчився разом з Шевченком у К. Брюллова. Автор жанрових картин, портретів, інтер’єрів. Шевченко не раз згадував Михайлова у повісті «Художник» і в « Щоденнику» як свого товариша по Академії й улюбленого учня К. Брюллова. (Там само. Т. 1. С. 404.)
(обратно)514
Іван Максимович Скобелєв (1778 – 1849) – письменник реакційного напряму, генерал. Писав у жартівливо-розповідній манері під псевдонімом «Русский инвалид». З 1849 р. – комендант Петропавловської фортеці. Шевченко знав Скобелєва особисто і в листі до Г. Тарновського 26.І.1843 р. писав, що Скобелєв «випросив» у нього картину, намальовану минулого літа. Яка це була картина і де вона тепер, невідомо. В «Щоденнику» 8.VII.1857 р. Шевченко згадував «известного балагура Русского, инвалида Скобелева». (Шевченківський словник. Т. 2. С. 214.)
(обратно)515
«Катерина» (полотно, олія), що її намалював Шевченко влітку 1842 р. в Петербурзі… Картину виконано на тему однойменної поеми, яка на той час була вже широко відомою. В живописному полотні художник не прагнув ілюструвати свій власний поетичний твір, а дав темі нове ідейнообразне трактування.
Використавши сюжет поеми, Шевченко намалював видатний твір побутового жанру, вперше в українському образотворчому мистецтві наповнивши його соціально-викривальним змістом. Спираючись на досягнення в живописі брюлловської школи, зокрема перебуваючи ще під впливом романтичних захоплень свого вчителя, він і темою соціальної несправедливості, і утвердженням моральної краси й чистоти простої української дівчини-селянки й елементами правдивої, предметно переконливої зображувальної мови (особливо у трактуванні колоритної фігури діда-ложкаря біля куреня) закладав основи критичного реалізму в українському мистецтві. Картина сповнена глибокого ліризму, палких почуттів і любові до простої людини, співчуття до її страждань. З великою майстерністю в ній відтворено характерний український пейзаж, холоднувате тло якого в контрасті зі світлими і яскравими акцентами в одягу дівчини (білосніжна сорочка, барвиста плахта й червоні фартух і стрічки) посилюють емоційний лад твору. Картина стала одним з найпопулярніших творів українського живопису. Зберігається в Домі-музеї Шевченка. (Там само. Т. 1. С. 284 – 285.)
(обратно)516
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 26 – 27.
(обратно)517
Микола Михайлович Білозерський (1833 – 1896) – український фольклорист і етнограф ліберально-буржуазного напряму. Брат В. Білозерського. В статті «Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831 – 1861 гг.), («Киевская старина», 1882, № 10), опублікував спогади знайомих Шевченка – В. М. Забіли, В. В. Тарновського (старшого), О. Ф. Сенчила-Стефановського, А. І. Лизогуба, М. М. Лазаревського та інших. У статті є цінні біографічні відомості про Шевченка. Проте вона має і фактичні неточності. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 71.)
(обратно)518
Микола Данилович Білозерський (1800 – 1879) – поміщик з Чернігівщини. В 1824 – 1841 рр. – борзненський повітовий суддя. Шевченко познайомився з ним у січні 1847 р. на хуторі Мотронівці, тоді ж побував на його хуторі Миколаєві під Борзною. В «Щоденнику» 22.І.1858 р. поет так згадував про Білозерського: «Этот филантроп-помещик так оголил своих крестьян, что они сложили про него песню… Бодай же його побила // Лихая година… Наивное, невинное мщение!» (Шевченківський словник. Т. 1. С. 71.)
(обратно)519
Хроніка 2000. 1997. С. 127 – 128.
(обратно)520
Прикра помилка: йдеться про лист, написаний роком пізніше, про який вже йшлося. Див.: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 26 – 27.
(обратно)521
Дружина Григорія Тарновського, уроджена Алексєєва, померла в грудні 1853 р. в один день з чоловіком.
(обратно)522
Сучасне шевченкознавство не володіє фактами, які підтверджували б перебування поета у Варшаві.
(обратно)523
«Жизнь Куліша» – це автобіографія письменника… хоча її авторство для читачів було таємницею.
(обратно)524
Шевченко, українофіли й соціалізм // М. П. Драгоманов. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні».). К., 1991. С. 344 – 346.
(обратно)525
Шевченко, українофіли й соціалізм // М. П. Драгоманов. Вибране. С. 30 – 32.
(обратно)526
Cергей Щёголев. История «украинского» сепаратизма. М., 2004. С. 48 – 49; С. Н. Щёголев. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма. Киев, 1912.
(обратно)527
Так завжди буває (лат.). М. П. Драгоманов. Вибране. С. 340 – 341.
(обратно)528
Так, напр., у листі «До Основ’яненка» читаємо: «Поборовся б з кацапами». А внизу стоїть «Поборовся б з москалями (з власн. рукоп. Шевченка)». «З кацапами – чиє ж це слово? Чи Шевченкове, чи львівських видавців? Таких примірів немало.
(обратно)529
Два слова й про це женевське видання. Назване воно «Кобзарь Тараса Шевченка. Частина перша» (Женева, печатня «Громади», 1878). Видання це ще менше може замінити потрібний порядний збір творів Шевченка. Назначено воно, як кажуть, «для цілі «пропаганди» і в нього вибране саме «нецензурне» з «Кобзаря» вже без усякого часового порядку, так що в кінці в читача стає дуже темно об тім, що справді думав Шевченко, хоч би й про віру: бо напр., на стор. 80 Шевченко хоче «люльки з кадил закуряти», а на стор. 114 сердиться на тих земляків, що кажуть: «Нема ні пекла, ані раю!»
(обратно)530
П’єса Н. Кукольника.
(обратно)531
Софія Олександрівна Закревська (1798 – рік смерті невідомий) – російська письменниця, знайома Шевченка. Сестра П. Закревського та В. Закревського. Познайомилася з Шевченком улітку 1843 р. в Мойсівці і зустрічалася з ним, коли поет відвідував Березову Рудку. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 228.)
(обратно)532
Яків Петрович де Бальмен (1813 – 1845) – український художник-аматор, офіцер. Загинув на Кавказі. Шевченко познайомився з Бальменом 29.VI.1843 р. в селі Мойсівці. Бував у Бальменів у селі Линовиці. Пізніше вони не раз зустрічались. Бальмен і М. Башилов виконали по 39 ілюстрацій, заставок, кінцівок і заголовних літер до рукописного «Кобзаря» Шевченка (1844). Цю збірку Бальмен 20.VII переслав В. Закревському для передачі Шевченкові. Бальмен, зокрема, ілюстрував поеми «Гайдамаки» та «Гамалія». Шевченко присвятив йому поему «Кавказ». (Там само. С. 65.)
(обратно)533
Віктор Олександрович Закревський (1807 – 1858) – український поміщик, один із власників села Березової Рудки. Брат П. Закревського і С. Закревської. Ротмістр у відставці. Організатор і «старійшина» «товариства мочемордія», яке, за словами І. Франка, сприймалося як елементарна, часто цинічна реакція «проти усієї тієї фальші шляхетсько-панського життя, що виробилася віками, та особливо при кінці XVIII і на початку ХІХ ст. дійшла до найвищого ступеня…» (І. Франко. Король балагулів // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1904. Т. 57, С. 19). Шевченко познайомився з Закревським 29 або 30 червня 1843 р. на балу у Т. Волховської. Нерідко бував у нього, листувався з ним. У грудні того ж року на згадку про знайомство він намалював портрет Закревського. На портреті праворуч унизу дата й авторський підпис: «1843. Декабря в ночи. Т. Шевч.». Твір зберігається в Домі-музеї Шевченка. (Шевченківський словник, Т. С. 228.)
(обратно)534
Шевченківський словник. Т. 1. С. 106.
(обратно)535
Там само. Т. 3. С. 200 – 303.
(обратно)536
Там само. Т. 2. С. 304 – 308.
(обратно)537
Там само. С. 105.
(обратно)538
Шевченківський словник. Т. 2. С. 105 – 106.
(обратно)539
Шевченківський словник. Т. 2. С. 107 – 108.
(обратно)540
Там само. С. 43.
(обратно)541
Шевченківський словник. Т. 2. С. 103 – 104; Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. Т. 2. К., 1990. С. 198 – 200.
(обратно)542
Т. Г. Шевченко вводить слідство в оману. Про ілюстратора його віршів відомо таке: «Башилов Михайло Сергійович (1821 – 1870) – художник-ілюстратор. Закінчив Харківський університет. Т. Г. Шевченко познайомився з ним 1843 р., ймовірно в Линовищі. Башилов разом з Я. П. де Бальменом ілюстрував рукописного «Кобзаря» Шевченка (1844); кожний з них виконав по 39 ілюстрацій: заставок, кінцівок і заголовних літер. На першій сторінці книжки Башилов намалював портрет Шевченка.
(обратно)543
Шевченківський словник. Т. 2. С. 324 – 328.
(обратно)544
Там само. С. 310 – 324.
(обратно)545
Там само. С. 324.
(обратно)546
Шевченківський словник. Т. 2. С. 304 – 308. – (Курсив авт.)
(обратно)547
Там само. С. 332 – 333.
(обратно)548
Дмитро Миколайович Ісаєв (1790 – 1848) – комендант Орської фортеці, полковник, згодом генерал-майор. В Орській фортеці служив з 1830-х рр. Шевченко познайомився з Ісаєвим у червні 1847 р., коли прибув до Орської фортеці. Комендант ставився до опального поета співчутливо, зокрема дозволив йому жити на приватній квартирі. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 259 – 260.)
(обратно)549
Нижче автор сам уточнює наведене положення.
(обратно)550
Олексій Флорович Сенчило-Стефановський (1808 – 1866) – український художник. У 1840 – 1860 рр. – учитель малювання в Київській повітовій школі на Подолі, співробітник Тимчасової комісії для розбору давніх актів у Києві. Шевченко познайомився з Сенчило-Стефановським у 1843 р. й між ними встановилися дружні взаємини. Сенчило-Стефановський разом з Шевченком у 1846 р. брав участь у археологічних розкопках могили Переп’ятихи поблизу Фастова.
Дев’ять малюнків, які він виконав для альбому «Могила Переп’ятихи та археологічні знахідки в ній» (К., 1846) помилково приписували Шевченкові. Сенчило-Стефановський – один з розповсюджувачів «Живописной Украйны» в Києві. В 1859 р., перебуваючи в Києві, поет гостював у Сенчило-Стефановського. За відомостями М. М. Білозерського, в Сенчило-Стефановського було близько двадцяти листів Шевченка, але вони не збереглися… (Шевченківський словник. Т. 2. С. 204.)
(обратно)551
Платон Білецький. Сторінки образотворчого Щоденника Тараса Шевченка на засланні. «Київська старовина», 1997, № 3/4. С. 3 – 6.
(обратно)552
У документальних збірниках – «Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. К., 1950.» і «Тарас Шевченко. Документи і матеріали. К., 1963.» вказано іншу дату.
(обратно)553
Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. Т. 1. С. 67 – 68, 331 – 333.
(обратно)554
Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. С. 334.
(обратно)555
Там само.
(обратно)556
Там само. С.335.
(обратно)557
Там само.
(обратно)558
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. К., 1939. С. 40 – 41.
(обратно)559
Андрій Іванович Лизогуб (1804 – 1864) – знайомий Шевченка, брат І. Лизогуба. В 30-х рр. ХІХ ст. залишив державну службу й оселився в своєму маєтку в Седневі. Ще до зустрічі з Шевченком (1846) був обізнаний з його творчістю, високо цінував її. Поет гостював у Лизогуба весною 1846-го і 1847 р. Тут він написав поему «Відьма» і передмову до нездійсненого видання «Кобзаря», намалював три краєвиди Седнева («Коло Седнева», «Чумаки серед могил» і «В Седневі») і портрет Лизогуба. Портрет був в альбомі, що належав Лизогубу і як окремий твір вперше демонструвався на Республіканській виставці в Києві у 1939 р. Тепер зберігається в Домі-музеї Шевченка. Лизогуб листувався з Шевченком-засланцем, йому Шевченко надіслав автопортрети в солдатському мундирі (1847 і 1849). Під час обшуку 1850 р. в поета знайдено 7 листів від Лизогуба і передано їх до «Третього відділення». На вимогу О. Орлова чернігівський цивільний губернатор Гессе того ж року викликав Лизогуба до Чернігова й О. Орлов, який тоді був тут, іменем царя заборонив йому листуватися з Шевченком. У 1850 р. Лизогуб просив В. Перовського поклопотатися перед урядом про полегшення поетової долі. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 353.)
(обратно)560
Кузьма Трохимович – головний персонаж повісті Квітки-Основ’яненка «Салдатський патрет».
(обратно)561
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 39.
(обратно)562
Листи до Тараса Шевченка. С. 51.
(обратно)563
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 10 т. Т. 6. С. 47.
(обратно)564
Київська старовина. 1997. № 3 – 4. С. 7 – 9.
(обратно)565
Аральська описова експедиція – експедиція, яку в 1848 – 1849 рр. організувало Військове міністерство для знімання й промірювання Аральського моря та вивчення його природних ресурсів і умов майбутнього судноплавства.
(обратно)566
Олексій Іванович Бутаков (1816 – 1869) – російський мореплавець і географ, дослідник Аральського моря, контр-адмірал. У 1848 – 1849 рр. – капітан-лейтенант флоту, начальник Аральської описової експедиції. За клопотанням Бутакова до її складу було включено як художника й Шевченка. Поет познайомився з Бутаковим, мабуть, у травні 1848 р. в Орській фортеці перед виходом експедиції. Під час цієї експедиції вони разом були на шхуні «Константин», жили в одній каюті. Дружні взаємини між Бутаковим і поетом підтримувалися протягом усього аральського періоду, а потім в Оренбурзі, де на прохання Бутакова Шевченка залишили для остаточної обробки матеріалів експедиції. «Добре, братське», за висловом поета, ставлення Бутакова до нього полегшило на якийсь час його долю на засланні. На Кос-Аралі між 20.ХІ.1848 р. і 6.V.1849 р. Шевченко виконав малюнок «О. Бутаков і фельдшер О. Істомін під час зимівлі на Кос-Аралі». На альбомному аркуші під малюнком, можливо, рукою дружини Бутакова напис «Раб. Т. Шевченко. А. И. Бутаков и фельдшер Истомин в комнате укрепления Кос-Арал». Постать Бутакова зображена спиною до глядача. Малюнок зберігається в Домі-музеї Т. Г. Шевченка. На Бутакова за порушення заборони Шевченкові малювати було накладено стягнення. Шевченко ще раз зустрівся з Бутаковим у м. Владимирі (запис у «Щоденнику» 10.ІІІ.1858 р.). Про Бутакова поет тепло писав у листах до В. Рєпніної, Б. Залеського, С. Левицького. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 96 – 97.)
(обратно)567
Логвин Іванович Федяєв (1794 – ?) – командир першої бригади 23-ї піхотної дивізії Окремого Оренбурзького корпусу, генерал-майор. За спогадами К. Герна і Е. Нурдатова Федяєв прагнув полегшити долю Шевченка, сприяв його заняттям живописом. У 1848 р., коли Федяєв прибув до Раїму, він привіз Шевченкові набір фарб. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 300.)
(обратно)568
Раїм – укріплення на р. Сирдар’ї, засновано 1847 р., ліквідовано 1854 р. (тепер на цьому місці рибальське селище. (Там само. C. 154.)
(обратно)569
Там само. С. 52.
(обратно)570
Олексій Іванович Макшеєв (1822 – 1892) – російський географ, дослідник Середньої Азії. Був близький до гуртка петрашевців. Брав участь як офіцер в Аральській описовій експедиції. До цієї експедиції включено й Шевченка. Протягом кількох місяців Шевченко жив разом з Макшеєвим. Між ними встановилися дружні взаємини. У кінці жовтня – на початку листопада 1848 р. Макшеєв залишив експедицію й виїхав до Оренбурга. 26.ІІІ.1849 р. поет написав йому теплого листа. В 1860 р. вони зустрічалися в Петербурзі. В родині Макшеєвих був зошит-альбом з віршами й малюнками Шевченка (не зберігся). Макшеєв – автор спогадів про Шевченка. В Paїмі між 19.V і 25.VI.1848 р. Шевченко виконав акварельний портрет Макшеєва. Про це Макшеєв згадував у книжці «Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю» (СПБ, 1896). Він писав, що твір не був завершений, і тому пізніше його домальовував О. І. Чернишов – брат художника О. П. Чернишова. До 1920 р. портрет зберігався в родині Макшеєвих. Де він тепер – невідомо. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 376.)
(обратно)571
Юхим Матвійович Матвєєв – підполковник Уральського козачого війська. У 1847 – 1850 рр. – офіцер для особливих доручень при командирі Окремого Оренбурзького корпусу. Шевченко познайомився з Матвєєвим у 1847 р. одразу після прибуття до Оренбурга. Впливовий офіцер – син простого козака – прагнув полегшити службу поета в Орській фортеці. При сприянні Матвєєва його призначено до Аральської описової експедиції (1848 – 1849). Перебуваючи у Раїмському укріпленні, Шевченко повсякденно зустрічався з Матвєєвим, який кілька місяців виконував обов’язки начальника укріплення. Їхні добрі взаємини тривали і в Оренбурзі восени-взимку 1849 – 1850 рр. Увагу Матвєєва поет відчував і в Новопетровському укріпленні. Матвєєв не раз згадується в листах Шевченка. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 386.)
(обратно)572
Олександр Трохимович Богомолов – поручик 4-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. Допомагав організувати роботу Аральської описової експедиції 1848 – 1849 рр. В 1848 р. – начальник Кос-Аральського форту, 1849 р. – командир роти, до якої був зарахований Шевченко під час Аральської експедиції. За спогадами Е. Нудатова, Шевченко зустрічався з Богомоловим і в неофіційній обстановці. (Там само. С. 77.)
(обратно)573
На стор.18 цитованого тексту вміщено чорно-біле зображення акварелі Т. Г. Шевченка «Місячна ніч на Кос-Аралі».
(обратно)574
Томаш Вернер (Хома) – польський політичний засланець. За поширення антиурядової літератури й підбурювання ремісників до повстання Вернера у 1844 р. віддано рядовим в Окремий Оренбурзький корпус. З 1849 р. – унтер-офіцер. З 1859 р. – офіцер. Шевченко познайомився з Вернером в Орській фортеці перед початком Аральської описової експедиції. В цій експедиції Вернер брав участь як геолог. Під час плавання 1848 – 1849 рр. на шхуні «Константин» вони здружилися, жили в одній каюті, а між плаваннями – в одній кибитці. Дружні відносини підтримували й в Оренбурзі, де разом опрацьовували матеріали експедиції. Шевченка і Вернера зображено на малюнку О. П. Чернишова «Т. Г. Шевченко серед польських засланців». Поет згадував Вернера в листах до Б. Залеського 6.VI.1854 р. і 10.ІІ.1855 р. Очевидно, Шевченко листувався з Вернером, але їхні листи не збереглися. В 1849 р. в Оренбурзі Шевченко виконав портрет Вернера… Оригінал не знайдено. В Домі-музеї Т. Г. Шевченка зберігається фотографія портрета. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 111.)
(обратно)575
Броніслав Залеський (1820 – 1880) – польський історик і художник, діяч польського визвольного руху. В 1838 р. – член таємного студентського руху при Дерптському (Тартуському) університеті. Майже два роки був в ув’язненні, потім висланий під нагляд поліції до Чернігова. В 1845 р. повернувся на батьківщину і жив у Вільні. За конспіративну діяльність та зв’язки з польськими революційними гуртками в 1846 р. заарештований і в 1848 р. засланий рядовим до Окремого Оренбурзького корпусу. Разом з З. Сєраковським входив до революційного гуртка польських політичних засланців. У 1853 р. дістав чин прапорщика; у 1856 р. служив в редакційних комісіях (у Мінську та Москві) по підготовці селянської реформи 1861 р. В 1860 р. емігрував з Росії до Франції. В 1863 р. допомагав закупити зброю для учасників польського визвольного повстання 1863 – 1864 рр. Співробітничав в емігрантських виданнях. З Шевченком познайомився і заприятелював у листопаді 1849 р. в Оренбурзі. Як художник Залеський був прикомандирований допомагати Шевченкові завершувати малюнки, що їх поет виконав під час Аральської описової експедиції. В 1851 р. вони разом брали участь у Каратауській експедиції. У цей час український митець намалював Залеського на картині «Шевченко серед товаришів»… З 1853 р. листувалися. Збереглося 16 листів Шевченка до Залеського і 11 Залеського до поета. Шевченко надсилав Залеському свої малюнки і Залеський, бажаючи матеріально допомогти поетові, продавав їх. Востаннє вони зустрілися у 1859 р., коли Залеський у службових справах приїздив до Петербурга. В статті «Польські вигнанці в Петербурзі»… Залеський присвятив низку сторінок Шевченку. В Парижі 1865 р. видав французькою мовою альбом офортів «Життя киргизьких степів», де відтворив кілька малюнків Шевченка. Примітки Залеського до листів Шевченка опублікував І. Франко. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 228 – 229.)
(обратно)576
Зеленка (Зельонка) Михайло Тадейович (в чернецтві Кандид, 1797 – 1860) – польський політичний засланець, ксьондз оренбурзької римсько-католицької церкви. Після польського визвольного повстання 1830 – 1831 рр. його за «участь у зловмисних намірах польських бунтівників» 1833 р. заслали в Оренбурзьку губернію. Тут він жив до кінця життя. Шевченко познайомився з ним у 1849 – 1850 рр. Поет поважав Зеленку і довіряв йому. В листуванні прихильно називав його «отець-префект». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 240.)
(обратно)577
Олексій Пилипович Чернишов (1824 – 1863) – російський художник, академік Петербурзької академії мистецтв (з 1860 р.). Автор жанрових картин. Познайомився з Шевченком, очевидно, ще навчаючись в Академії мистецтв. Зустрічався з ним в Оренбурзі в червні 1847 і 1849 – 1850 рр. Відомі три листи до поета. Листи Шевченка (зокрема, 24.Х.1847 р. і 7.ІІІ.1850 р.) не збереглися. Шевченко переслав через Чернишова до Петербурга кілька клопотань про полегшення свого становища на засланні. Шевченко згадував Чернишова в листі до М. Лазаревського 20.ХІІ.1847 р. Чернишов створив малюнок «Т. Г. Шевченко серед польських політичних засланців». (Там само. Т. 2. С. 339.)
(обратно)578
Людвік Зигмунтович Турно (1805 – рік смерті невідомий) – рядовий 3-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу, польський політичний засланець. Син учасника польського визвольного повстання 1830 – 1831 рр. В 1848 р. за намір приєднатися до краківських повстанців його віддано в солдати й заслано до Оренбурзького корпусу. В 1849 – 1850 рр. познайомився з Шевченком, в 1851 р. під час Каратауської експедиції вони жили в одному наметі. В цей час Шевченко змалював Турно. Разом з українським поетом і польськими засланцями Турно зображений на малюнку О. П. Чернишова. В 1853 – 1856 рр. поет тепло згадував Турно в листах до Б. Залеського. В 1859 р. у чині поручика Турно увільнено від служби. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 283.)
(обратно)579
Документально причина нового ареста Шевченко (в апреле 1850 г., в Оренбурге) доныне не установлена. В возникшем в это время следственном «деле» никакого письменного доноса нет. Арестован он был в ночь с 22 на 23 апреля, содержался на главной гауптвахте, причём ни в одном документе не было сказано, за что состоит под арестом. 12 мая Шевченко был освобождён из-под ареста и затем отправлен в Орскую крепость; вдогонку командир корпуса Обручев шлёт строжайшее предписание командующему 5-м батальоном (в Орской крепости) об усилении надзора за Шевченко, за его поведением и особенно – перепиской… Ничего по-прежнему не говорится о причине, вызвавшей все эти меры, – и перевод в Орскую крепость, и усиленный надзор. Только 23 мая 1850 г. (спустя месяц после ареста Шевченко) направляет Обручев рапорт за № 353 в Петербург военному министру Чернышеву с изложением происшедшего, но всё-таки в довольно заувалированной форме: «Ныне мне сделалось известным, что будто бы означенный рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской одежде, занимается рисованием и составлением стихов… После этого началось расследование в Петербурге, послали следователя в Орскую крепость, стали изучать изъятые у Шевченко письма… При этом несомненно, что в своём рапорте министру Обручёв сразу же основательно покривил душой, когда написал: «Ныне мне сделалось известным…» (Примітка редакторів збірника.)
(обратно)580
Михайло Семенович Александрійський (народився 1810 р. – рік смерті невідомий) – чиновник Орської прикордонної комісії. У 1833 р. закінчив медичний факультет Казанського університету. Шевченко познайомився з ним 1847 р. в Орському укріпленні, бував у Александрійського, користувався його допомогою, листувався з ним. З їхнього листування зберігся лист Александрійського до поета від 16.VIII.1848 р. Найчастіше вони зустрічалися у 1849 – 1859 рр. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 31.)
(обратно)581
Володимир Петрович Обручов (1793 – 1866) – оренбурзький генерал-губернатор, командир Окремого Оренбурзького корпусу (1842 – 1851), генерал від інфантерії. Почав службу 1805 р., брав участь у битвах проти Наполеона І, у Російсько-турецькій війні 1828 – 1829 рр. та в придушенні польського визвольного повстання 1830 – 1831 рр. Близько чотирьох років заслання Шевченка (1847 – 1851 рр.) припало на час губернаторства Обручова. На прохання поетових друзів Обручов погодився включити Шевченка до складу Аральської описової експедиції, після повернення експедиції дозволив йому малювати в Оренбурзі. Донос прапорщика М. Ісаєва докорінно змінив ставлення Обручова до Шевченка. За його наказом Шевченка вдруге заарештували, відправили до каземату Орської фортеці, а потім – до Новопетровського укріплення. В «Щоденнику» 3.ІХ.1857 Шевченко назвав Обручова «гнусным ефрейтором». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 61.)
(обратно)582
Никакого отношения к «бунту киргизов» указанное письмо не имело; в нём говорилось о революции 1848 г. в Западной Европе. (Шевченко в воспоминаниях современников. С. 435.) Єдиний лист Александрійського, що зберігся, див: Листи до Тараса Шевченка. С. 61 – 62.
(обратно)583
Мемуарист ошибается: шефу жандармов сообщил о событиях в Оренбурге военный министр по рапорту начальника корпуса. (Примітка редакторів збірника.)
(обратно)584
Київська старовина. 1997. № 3/4. С. 20.
(обратно)585
Федір Матвійович Лазаревський (1820 – 1890) – чиновник Оренбурзької прикордонної комісії: третій з шести братів Лазаревських; з 1854 р. – чиновник з особливих доручень при петербурзькому генерал-губернаторі, перший, хто, за словами Шевченка, «не устыдился… серой шинели» поета і 1847 р. розшукав його в Петербурзі, допомагав йому.
Поет-засланець часто бував у домі Лазаревського, намалював його портрет і портрет Лазаревського з братом Михайлом… Після переведення Шевченка до Новопетровського укріплення (1850) їхні взаємини обриваються аж до зустрічі в Петербурзі 1858 р. Востаннє вони бачилися у 1859 р. під час третьої подорожі Шевченка в Україну, разом відвідали матір Лазаревського у с. Гірявці. Поет записав кілька поезій в альбомі Лазаревського (1840 – 1850) і подарував йому «Кобзар» (СПБ, 1860) з власноручним написом, автопортрет (1849) та офорт «Вірсавія». (Шевченківський словник. Т. 1. С. 341).
(обратно)586
Карл Іванович Герн (1816 – рік смерті невідомий) – квартирмейстер Окремого Оренбурзького корпусу, відомий картограф Оренбурзького краю, автор військово-статистичних праць, будівничий укріплень. Шевченко познайомився з Герном у 1848 р. 1849 р. зустрічався з ним у Раїмі. Особливо близькими були їхні взаємини у 1849 – 1850 рр. в Оренбурзі. Кілька місяців поет квартирував у Герна, приймав там друзів, писав вірші й малював. У 1849 – 1850 рр. працював над портретом Герна і його дружини. Перед обшуком 1850 р. він спалив портрет разом з паперами. Протягом усього заслання Герн всіляко сприяв йому, зокрема допоміг зберегти «Малу книжку» й альбом акварельних рисунків. Багато цінних відомостей про перебування Шевченка на засланні є в спогадах Герна. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 153.)
(обратно)587
Ксенофонт Єгорович Поспєлов (1820 – 1860) – прапорщик корпусу флотських штурманів, член експедиції О. Бутакова. Брав участь у топографічному зніманні берегів Аральського моря. Шевченко познайомився з ним у травні 1848 р. На шхуні «Константин» вони жили в одній каюті. В 1849 р. – командир шхуни «Николай». Знайомство переросло в дружбу. Спілкувався з Шевченком в Оренбурзі восени 1849 р. – весною 1850 р. Після арешту поета у 1850 р. Поспєлова також
(обратно)588
Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. С. 179 – 181.
(обратно)589
Микола Григорович Ісаєв (1829 – рік смерті невідомий) – прапорщик. Родом з Полтавщини. Шевченко познайомився з Ісаєвим восени-взимку 1849 – 1850 рр. У лютому 1850-го він намалював портрет Ісаєва. В час створення портрета Шевченко жив у Гернів, де часто бував Ісаєв, який залицявся до дружини К. Герна. Шануючи честь свого друга, Шевченко розповів йому про це. Щоб помститися Шевченкові, Ісаєв зробив донос про те, що поет порушує заборону писати й малювати. Це привело до обшуку в поета в квітні 1850 р., арешту й відправлення його до каземату Орської фортеці. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 260.)
(обратно)590
Григорій Васильович Чигир – командир 2-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. 10.VI.1847 р. Шевченка доставили в Оренбурзі до Чигиря, який тоді виконував обов’язки командира бригади. З його наказу поета призначили в 5-й батальйон, командир якого Д. Мєшков відправив Шевченка в Орську фортецю. В 1850 р. Чигирю було доручено провести якнайсуворіше слідство в справі порушення Шевченком заборони писати і малювати, після чого поета відправили в Новопетровське укріплення. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 345.)
(обратно)591
Штабс-капітан, командир 4-ї роти 1-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. Перший ротний командир Шевченка в Новопетровському укріпленні. Відомий як самодур. У 1850 р. Потапову було доручено здійснювати суворий нагляд за Шевченком. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 139.)
(обратно)592
Київська старовина, 1997, № 3/4, с. 20.
(обратно)593
Олексій Федорович Орлов (1786 – 1861) – шеф жандармів і головний начальник «Третього відділу» у 1844 – 1856 рр. З 1856 р. – голова державної ради і кабінету міністрів. Керував слідством у справі Кирило-Мефодіївського товариства й сам допитував Шевченка. На пропозицію Орлова цар жорстоко покарав поета. На неодноразові звертання військового командування з Оренбурга з пропозицією перевести Шевченка в унтер-офіцери та дозволити йому малювати Орлов кожного разу заперечував. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 68.)
(обратно)594
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. К., 1950. С. 128; Тарас Шевченко. Документи і матеріали. 1814 – 1863. К., 1963.
(обратно)595
Панас Омелянович Толмачов в 1848 р. підтримав клопотання про дозвіл Шевченкові займатися малюванням, а 1849 р. відкомандирував його в розпорядження О. Бутакова до Оренбурга «для остаточної обробки мальовничих краєвидів» після закінчення Аральської експедиції. (Шевченківський словник. Т. 2. С. 271 – 272.)
(обратно)596
Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. К., 1950. С. 128 – 129; Тарас Шевченко. Документи і матеріали. 1814 – 1863. С. 57.
(обратно)597
Леонтій Васильович Дубельт ( 1792 – 1862) – начальник штабу Окремого корпусу жандармів. У 1839 – 1856 рр. – керуючий «Третім відділом». Один з найреакційніших діячів періоду царювання Миколи І. Дубельт вів політичні справи гуртка О. Герцена, Кирило-Мефодіївського братства, петрашевців та ін.
За свідченням сучасників, Дубельт був жорстокою і підступною людиною. Шевченко з Орської фортеці двічі (1847 р. і 10.І.1850 р.) звертався до Дубельта з проханням поклопотатися перед царем про дозвіл для нього малювати. У дозволі було відмовлено. Шевченко згадував Дубельта в листі до М. Лазаревського (20.ХІІ.1847 р. та в «Щоденнику» 15.ІХ.1857 р.). У пізніших (уже по смерті поета) нотатках Дубельта є різкі вихватки проти Шевченка. (Шевченківський словник. Т. 1. С. 199.)
(обратно)598
Т. Г Шевченко в документах і матеріалах. С. 129 – 130.
(обратно)599
Ф. А. Ястребов. Революционные демократы на Украине. К., 1960. С. 67.
(обратно)600
Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 т. Т. 5. К.: 2003. С. 19 – 20.
(обратно)601
Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 т. Т. 2. С. 47.
(обратно)602
Там само. С. 48.
(обратно)603
Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 т. Т. 1. С. 48.
(обратно)604
Там само.
(обратно)605
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: у 12 т. Т. 2. С. 76.
(обратно)606
Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. Т. 2.
(обратно)607
Там само. С. 81.
(обратно)608
Ф. А. Ястребов. Революционные демократы на Украине. К., 1960. С. 67 – 70.
(обратно)
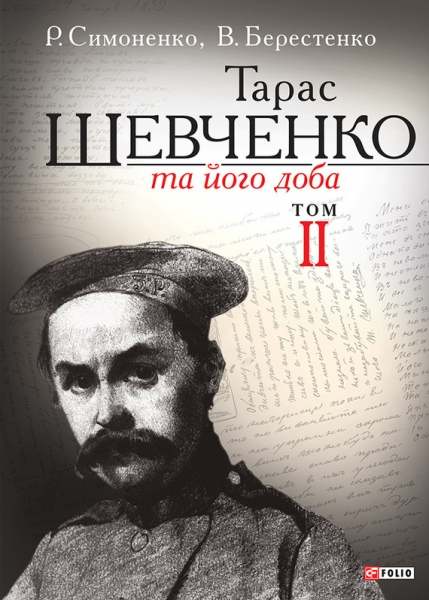

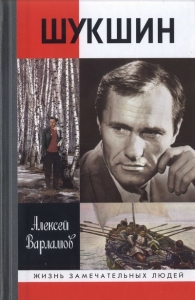

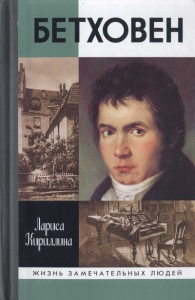
Комментарии к книге «Тарас Шевченко та його доба. Том 2», Рем Георгиевич Симоненко
Всего 0 комментариев