Арсений Тишков ДЗЕРЖИНСКИЙ
Часть первая ТОВАРИЩ ЮЗЕФ
Глава I Путь в революцию
1
Ученик 7-го класса 1-й Виленской гимназии Феликс Дзержинский шел на свидание с доктором Домашевичем. Андрей Домашевич был одним из основателей литовской социал-демократии. Он познакомил Феликса с марксизмом и снабжал его социал-демократической литературой. Некоторые из книг, полученных от Домашевича, Дзержинский читал на собраниях ученического кружка самообразования. Недавно его выбрали руководителем кружка, и он этим очень гордился. Сейчас во внутреннем кармане кителя лежала небольшая книжка с длинным названием «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Имя автора на обложке не значилось, но Домашевич сказал, что она написана молодым петербургским марксистом Ульяновым.
Времени в запасе было достаточно, и Феликс решил немного покружить по городу. Скоро рождество, а за ним и Новый год. Мысли его как-то невольно обратились к пережитому. Этот, 1894 год Дзержинский считал переломным в своей жизни: он окончательно порвал с религией. Как это было мучительно и трудно — отречься от бога, олицетворявшего для него любовь, правду, доброту и справедливость. Первые сомнения — парадоксально, но факт — зародились у него, когда дядя-ксендз отговаривал его посвятить себя служению господу. Ксендз напирал на его неподходящий характер, но Феликсу показалось, что дядюшка сам не очень верит в бога и боится, чтобы и он не проник в тайну его небытия. В четырнадцать лет Феликс с обостренным вниманием прислушивался к разговорам о далеко не праведном житье служителей божьих, а потом горячо молился, чтобы бог спас его от дьявольского искушения. В пятнадцать пришло увлечение книгами по естествознанию и философии; поколебалась вера в библейские и евангельские мифы и легенды. В шестнадцать знакомство с марксизмом окончательно развеяло его сомнения, он разуверился не только в догматах церкви, но в самом существовании божественного начала, стал материалистом и безбожником. Три года внутренней борьбы и поисков истины! Феликс обрел новую веру, веру в историческое призвание рабочего класса изменить мир и в неизбежную победу рабочих. Он готов был хоть сейчас, немедленно отдать жизнь, если этим можно было бы приблизить победу.
В условленном месте показался Домашевич. Он был па нелегальном положении, часто менял квартиры и встречался с Дзержинским чаще всего в тихих переулках, убедившись заранее, что за ними нет слежки.
Домашевич не спеша, с безразличным видом прошел мимо Дзержинского, у перекрестка осмотрелся и, не увидев ничего подозрительного, повернулся и догнал продолжавшего свой путь Феликса.
Поздоровались. Феликс расстегнул шинель, достал книгу.
— Ну как? — спросил Домашевич.
— Замечательно! Всю ночь читал не отрываясь.
— Да, Ульянов, несомненно, талантлив: и полемист превосходный, и в логике силен. Народникам теперь нелегко будет «ниспровергать» марксизм.
— Вы правы, доктор, все это, несомненно, так, но меня, признаться, больше увлекли практические выводы, сделанные Ульяновым для социал-демократов.
— Ну и что же вы этим хотите сказать? — поинтересовался Домашевич.
— Я решил уйти из гимназии и целиком отдаться распространению среди рабочих идей научного социализма.
Домашевич посмотрел на Феликса с нескрываемым удивлением.
— Послушайте, Феликс, — наконец сказал он, — зачем это? Разве мало людей и учатся и занимаются революционной деятельностью?
— А я не могу так, наполовину, — упрямо отвечал Дзержинский. — Я считаю, что за верой должны следовать дела.
Дзержинский смутился. Получилось высокопарно. Но он говорил искренне то, что думал.
Домашевич был гораздо старше Феликса, и он тоже искренне считал, что Дзержинский по своей молодости и горячности хочет сделать шаг, о котором потом будет жалеть всю жизнь. Сказал как можно мягче:
— Подумайте хорошенько, Феликс. Революция такой жертвы от вас не требует.
— Ах, при чем тут жертвы! Гимназия готовит верных слуг царя. Зачем мне она? Только время отнимает. По правде говоря, я давно бы с ней расстался, если бы не мать. Она тяжело больна и не перенесет такого удара.
— Вот видите. Тем более не следует бросать учение. Надеюсь поздравить вас с университетским дипломом.
Поговорив немного о делах кружка, они разошлись.
«За верой должны следовать дела» — так Феликс сказал Домашевичу. И он глубоко убежден, что истинный революционер должен поступать именно так. И вот его убеждения столкнулись с другим могучим чувством — любовью к матери. Исполнить долг, перешагнув через любовь, не хватало сил. Он так надеялся на поддержку Домашевича и не нашел ее. Остался гордиев узел, который рано или поздно ему предстоит разрубить.
2
Слетали листки с календаря, что висел над письменным столом в маленькой комнатке Феликса в доме бабушки на Поплавах, где он жил вместе с семьей своей тетки Софии Пиляр. Дни складывались в недели, недели в месяцы, а все как будто бы оставалось по-прежнему. Феликс по утрам ходил в гимназию, вечерами и ночами занимался самообразованием, вел кружок.
Вместе с развитием капитализма росло и рабочее движение. В феврале 1895 года в Петербурге состоялось совещание членов социал-демократических групп Петербурга, Москвы, Киева и Вильно. Было принято важное решение о переходе от пропаганды марксизма в узких дружках к массовой политической агитации и об издании популярной литературы для рабочих. В начале сентября проездом из Швейцарии в Петербург Вильно посетил Владимир Ильич Ульянов. Он поделился с виленскими социал-демократами привезенной из-за границы нелегальной марксистской литературой и условился о поддержке заграничного издания сборника «Работник».
Этой же осенью помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов объединил все марксистские кружки Петербурга в единую политическую организацию — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Подобные союзы и организации начинают возникать и в других городах России. В 1895 году и в Вильно был создан подпольный центр литовской социал-демократии.
Осенью 1895 года в ряды литовской социал-демократии был принят Феликс Эдмундович Дзержинский. Его кружок по содержанию занятий становится социал-демократическим. Феликс читает там теперь «Эрфуртскую программу немецких социал-демократов» и «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханова. Но не забывает, как и прежде, декламировать Мицкевича и Пушкина, Конопницкую и Некрасова.
На каникулах Дзержинский отправился в Варшаву.
Феликс взял билет в вагон 3-го класса. Было тесно и душно.
Дзержинский не мог позволить себе роскошь ехать во 2-м классе. Но не потому, что не было денег. Родные его кормили, обували и одевали. Кроме того, уже с 15 лет он давал уроки и имел свои деньги. Однако из своего заработка Феликс почти ничего не тратил на себя, а помогал нуждающимся товарищам. Теперь же все заработанные деньги отдавал на нужды социал-демократической организации. Купить билет 2-го класса для Дзержинского было бы равносильно тому, что взять и истратить на свои прихоти энную сумму из партийной кассы.
Тетя Зося, сестра и все его родные и близкие знали, что Феликс поехал в Варшаву навестить больную мать, лежавшую в одной из варшавских клиник. Так оно и было. Дзержинский всегда, как только представлялась возможность, стремился в Варшаву повидать Елену Игнатьевну. Но на этот раз у Феликса было в Варшаве и другое дело, о котором никто из родных не знал. Там собирался тайный съезд нелегальных ученических организаций Королевства Польского. Такие съезды проводились в Варшаве ежегодно, но в 1895 году на съезд впервые были приглашены делегаты от некоторых городов, расположенных вне пределов Королевства Польского. Феликс
Дзержинский был избран делегатом от объединенной организации ученических кружков города Вильно.
С вокзала Феликс поехал прямо в больницу. До открытия съезда оставалось несколько часов, и он радовался, что успеет наговориться с матерью да еще побродить по городу, собраться с мыслями перед заседанием.
Елена Игнатьевна, извещенная о приезде сына, постаралась сделать все, что возможно в больничных условиях, чтобы произвести на него хорошее впечатление. Она шутила, уверяла его, что ей уже почти хорошо и что в следующий раз Феликс сможет взять ее из больницы. А он видел, что ей плохо, но тоже говорил, что она заметно поправилась и что он рад ее выздоровлению. Так мать и сын, всегда ценившие правду, лгали, чтобы подбодрить и утешить друг друга.
На квартиру богатого варшавского адвоката Дзержинский пришел, когда почти все делегаты были уже в сборе. Его встретил сын хозяина квартиры, высокий белобрысый студент, и, сверившись со списком делегатов, провел в просторный, обставленный дорогой мебелью адвокатский кабинет, превращенный в зал заседаний съезда.
Задачи ученических кружков на предстоящий год — таков был единственный вопрос, вынесенный на обсуждение делегатов.
Первые же выступления выявили политическую неоднородность состава съезда. Сразу обозначились резкие расхождения во взглядах. Необходимость борьбы с царизмом признавали все. А вот как бороться и что делать дальше? — тут большинство делегатов показали себя ярыми шовинистами.
— Все поляки без различия сословий и имущественного положения должны объединиться. Только так мы можем возродить независимость и свободу Польши! — патетически восклицал очередной оратор в новеньком, с иголочки, гимназическом мундире.
Ему шумно аплодировали. Особенно усердствовали гимназистки.
Еще не умолкли аплодисменты, а между стульями к столу президиума уже пробирался с поднятой рукой Дзержинский. На скулах выступил румянец, глаза горели.
Подавив волнение, Феликс начал:
— Разве может быть объединение между рабочими, которые гнут спину по 12–14 часов в сутки и голодают вместе со своими семьями, и капиталистами, присваивающими их труд? Это совершенно нереально! А призыв к полякам одним выступить против русского царя не только не реален, но и губителен. Нас разбили бы так же, как в 1863 году.
Шум и выкрики прервали речь Дзержинского. Какой-то толстый гимназист топал ногами и орал:
— Долой! Хватит!
Напрасно Дзержинский апеллировал к председателю. Тот для порядка вяло позванивал колокольчиком, а сам, обратясь к Дзержинскому, разводил руками, как бы говоря: «Что же я могу сделать, если делегаты не желают вас слушать?»
Но Дзержинский решил не сдаваться. Он стоял, стиснув зубы так, что желваки ходили под кожей, и смотрел на своих противников в упор сузившимися от гнева глазами. Прошло несколько минут, и, странное дело, шум постепенно стих, председатель сказал, что регламент господина Дзержинского еще не истек, и попросил его продолжать.
— Только тесный союз польских и русских рабочих приведет к свержению самодержавия, к социальному и национальному освобождению польского народа. Передовая учащаяся молодежь Польши и Литвы должна поддержать лозунг социал-демократов — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — этим призывом Феликс закончил свою речь, вызвав новый взрыв возмущения.
После Дзержинского взял слово один из «нигилистов». Так окрестил Феликс неряшливо одетых, длинноволосых студентов.
Не без ехидства начал он с того, что, мол, господин Дзержинский представляет здесь город, не входящий в Королевство Польское. Сам Дзержинский поляк, но на нем, очевидно, сказывается влияние русских, белорусов, литовцев и евреев, которых много в Вильно.
Смех, вызванный очередным язвительным выпадом оратора, взорвал Дзержинского.
— Неужели у вас за душой нет более серьезных мыслей?! — крикнул он с места.
Но тут вмешался председатель. Резким звонком он призвал Дзержинского к порядку и ледяным тоном напомнил, что господину Дзержинскому, который только что требовал спокойствия от аудитории, не подобает самому нарушать порядок.
«Уйти, что ли?» — устало подумал Феликс. Но тут неожиданно пришла поддержка.
К столу президиума вышел ученик 8-го класса Келецкой гимназии Бронислав Кошутский.
— Я поляк из Королевства Польского, — заявил он, — но я полностью согласен с Дзержинским. Национальная обособленность и национальная вражда ни к чему хорошему польский народ не приводили и не приведут. Только в лице русских, украинских, белорусских рабочих и пролетариев других народностей, населяющих Россию, польские рабочие и все трудящиеся поляки найдут своих надежных союзников…
Кроме Кошутского, Дзержинского поддержали еще только двое. И немудрено. Большинство делегатов были детьми дворян, фабрикантов, торговцев или тесно связанных с ними интеллигентов. Немногие из них были способны понять и принять идеологию пролетариата.
После закрытия заседания к Кошутскому подошел председатель общества «Братская помощь» Варшавского университета.
— Ваш Дзержинский — чистое золото, — сказал он.
Кошутский передал этот разговор Феликсу.
— Так уж и золото, — попытался все обратить в шутку сильно смутившийся Феликс. Но в душе обрадовался. Значит, все-таки не зря выступал. Отзыв старшего по возрасту товарища, стоявшего во главе крупной университетской организации, был для него важнее оскорбительных выпадов маменькиных сынков, какими являлись, по убеждению Дзержинского, большинство делегатов.
3
В январе умерла Елена Игнатьевна. Так начался новый год.
Возвратившись с похорон, Феликс заперся в своей комнате, упал ничком на кровать и долго лежал так, не раздеваясь и не зажигая огня. Он чувствовал страшную усталость во всем теле и внутреннюю опустошенность.
Феликс думал о матери. Не о той, что лежала в гробу, холодная и незнакомая, а о живой, энергичной и веселой, задумчивой и грустной, иногда сердитой…
Почему, только став взрослыми, мы начинаем понимать, сколько хлопот, волнений и огорчений причиняли в детстве самому дорогому человеку — своей матери? Как плохо, что осознаем это так поздно.
Трудно было маме. Отец умер, когда ей было 32 года. На руках осталось восемь детей. Старшей, Альдоне, — двенадцать, младшему, Владиславу, — немногим более года. Хозяйничать в крохотном имении Дзержинове некому, пришлось сдать землю в аренду за 42 рубля в год. Эти 42 рубля да скудная вдовья пенсия — вот и весь доход. Спасибо родственникам — помогали. В детстве ему казалось естественным, что кто-то из братьев и сестер постоянно гостит у бабушки или у других родственников, но теперь-то он знает, что «в гости» мама собирала их от нужды. Вот и сейчас он живет у тети на хлебах. Тетя Зося ни разу ни словом, ни взглядом не упрекнула его, но недавно ему довелось случайно услышать, как одна ее гостья говорила: «Эдмунду не следовало заводить такую семью, если он не мог ее прокормить». Неужели и до мамы доходили эти ужасные пересуды?
И снова возник образ матери, рассказывающей уже повзрослевшим детям историю своего замужества.
«Вашего отца привел в наш дом старый сапожник, шивший обувь для нашей семьи. Эдмунд случайно повстречался с ним на улице, когда после окончания Петербургского университета приехал в Вильно искать работу. Вакансий в Виленских гимназиях не оказалось, и Эдмунд не знал, что же делать дальше.
«Я вижу, студент ищет работу, а что он умеет делать?» Эдмунд рассказал, кто он, и поведал о своих трудных обстоятельствах. «Я могу вас проводить до профессора Янушевского, он как раз ищет учителя математики для своей дочери, но сначала пану учителю надо привести себя в порядок», — сказал старик, критически оглядывая дыру и отставшую подметку на левом ботинке «пана учителя». Эдмунд признался со стыдом, что у него нет денег, чтобы заплатить за починку. «Ничего, — ответил добрый гений, — я сам починю, а деньги отдадите, когда будут».
Диплом и скромность Эдмунда понравились вашей бабушке, и со следующего дня он уже начал давать мне уроки. Прошло время, мы полюбили друг друга и поженились».
Работы в Вильно все не было, и профессор Янушевский через свои связи выхлопотал зятю место в Таганрогской гимназии, за тысячу верст от родного дома.
«Вот такой «богач-помещик» был ваш отец», — закончила мама свой рассказ. Феликс видел добрую и немного грустную улыбку, озарявшую тогда ее лицо.
Вспомнились Феликсу и чудесные вечера в Дзержинове, когда под мерный шум вековых сосен вся семья собиралась вокруг матери. Музицировали, декламировали стихи любимых поэтов, а затем Елена Игнатьевна рассказывала детям о польском восстании 1863 года, зверски подавленном царскими войсками, о непомерных налогах и контрибуциях, взимаемых властями с населения.
«Милая моя мамочка, — обращался к ней как к живой Феликс, — ты и не подозревала, как твои слова повлияли на то, что я избрал тот путь, по которому сейчас иду. Уже тогда мое сердце и мозг чутко воспринимали всякую несправедливость, всякую обиду, испытываемую людьми, и я ненавидел зло».
После смерти матери ничто не удерживало Феликса в ненавистной гимназии. Но стоит ли уходить за несколько месяцев до окончания? В конце концов, аттестат зрелости тоже мог пригодиться революционеру. Сомнения разрешились внезапным взрывом, который, впрочем, давно назревал.
Феликс шел по коридору гимназии, когда его внимание привлекла кучка гимназистов, сгрудившихся у вывешенного на стене объявления. Подойдя поближе, Феликс прочел: «Настоящим доводится до сведения господ гимназистов, что разговаривать в классах, коридорах и иных помещениях вверенной мне гимназии разрешается только на русском языке. Виновные в нарушении сего предписания будут строго наказываться». Объявление было написано рукой учителя русской словесности Рака, подписал директор.
Кровь бросилась Феликсу в голову. Он сорвал объявление и в следующую минуту ворвался в учительскую.
Несколько преподавателей сидели вокруг большого овального стола, пили чай, разговаривали, просматривали тетради.
Глаза Феликса остановились на Раке. Он швырнул на стол перед ним листок бумаги.
— Вот ваше предписание, — высоким, прерывающимся от волнения голосом говорил, почти кричал Дзержинский, — вы сами готовите борцов за свободу! Неужели вы не понимаете, что национальное угнетение ведет к тому, что из ваших учеников вырастут революционеры?!
Разрядка произошла. Феликс круто повернулся и вышел, хлопнув дверью. Не нарочно, просто так получилось.
Ошеломленные преподаватели застыли на своих местах. Это напоминало финальную сцену из гоголевского «Ревизора». А Феликс уже закрыл за собой дверь гимназии, зная, что никогда больше не переступит ее порога.
Дома Софья Игнатьевна упрекала его, взывая к памяти отца и матери, говорила о том, что без аттестата зрелости невозможно поступить в университет.
— Черт с ним, с аттестатом зрелости! Буду работать, — устало ответил Феликс и ушел к себе в комнату.
Наутро тетя Зося отправилась к директору гимназии. Ей удалось уговорить его не исключать Феликса, а считать выбывшим из гимназии по ее просьбе. Ехала домой довольная собой. Сумела постоять за племянника. Все-таки не «исключен за плохое поведение», а «выбыл по просьбе…». Только вот оценит ли он когда-нибудь ее заботу?
О своем уходе из гимназии Феликс рассказал Домашевичу.
— Жаль. Я думал, вы повзрослели и будете учиться дальше, — доктор смотрел на Феликса с явным осуждением.
— Да. Я повзрослел и буду учиться. Но не так, как раньше. Я хочу быть ближе к рабочей массе и с ней самому учиться, — ответил Дзержинский.
Рубикон был перейден. Мосты сожжены. Дорога, уготовленная ему от рождения — гимназия, университет, служба, — закрыта. Отныне Феликс Эдмундович Дзержинский встал на новый путь, тернистый путь профессионального революционера. Путь, с которого больше никогда и никуда не свернет.
4
Дзержинский перешел жить к сестре Альдоне.
Теперь Домашевич часто приходил к нему. У Феликса не было своей комнаты, где бы он мог без помех принимать гостей. Они забирались куда-нибудь в свободный уголок и тихо беседовали.
Альдона держалась с Домашевичем подчеркнуто сухо.
Она знала, что Домашевич «нелегальный», и очень боялась, что его могут арестовать у нее. Как бы это не отразилось на судьбе братьев Игнатия и Владислава, находившихся у нее на воспитании. И так после скандала, который учинил Феликс перед уходом из гимназии, ребятам приходилось туго. Директор прямо заявил: «Пусть едут доучиваться в другой город, в Виленской гимназии аттестат зрелости им не получить».
Феликс заметил и понял смятение сестры. Чтобы освободить ее от страха и развязать руки себе, он с сапожником Францем Корчмариком снял комнату на Заречной улице. Комнатушка была маленькая, под крышей.
Эта мансарда на рабочей окраине вполне устраивала Феликса. Он вел занятия в кружках ремесленных и фабричных учеников и тут, на Заречной, был действительно «ближе к массе».
Яцек — такая подпольная кличка была у него теперь — уже не мог довольствоваться лишь ролью пропагандиста, он хотел стать организатором масс, не только звать, но и вести их на борьбу.
Приближалось 1 мая 1896 года. Виленская социал-демократическая организация готовилась встретить этот день рабочими массовками. Дзержинский попросил поручить ему организацию первомайского праздника среди ремесленных и фабричных учеников. Доктор Домашевич согласился. К удовольствию Феликса, на него возложили еще одно важное дело — выпуск и распространение первомайских листовок.
У Феликса уже был опыт. Это он создал подпольную типографию в Заречье, а в Снепишках и за железнодорожной станцией наладил размножение листовок на гектографе. Верным помощником ему был рабочий Вацлав Бальцевич. Они вместе писали листовки, печатали, а когда наступала ночь, расклеивали на улицах города.
Чтобы не провалиться, квартиры, где печатались листовки, приходилось часто менять. Вот и сейчас Яцек нанял новую квартиру на Снеговой улице. Бальцевич был занят, и Яцек ждал там, когда придет новый помощник Гульбинович. Андрей Гульбинович, молодой рабочий, так же как и Бальцевич, был товарищем по партийной работе и близким другом Феликса.
— А, поэт, — говорил Дзержинский, открывая дверь и пропуская в комнату Гульбиновича, — это что же, вдохновение помешало вам явиться вовремя?
— Брось, Яцек, — добродушно отвечал Андрей, — нехорошо смеяться над человеческими слабостями. А опоздал я потому, что не сразу решился к тебе идти. Смотрю, рядом полицейский участок. Я уж думал, что дом перепутал. Ну скажи, пожалуйста, как это тебя угораздило именно здесь печатать прокламации? Такая работа у самой волчьей пасти не очень-то безопасна!
— А я так думаю, — ответил Дзержинский, — что им и на ум не придет искать рядом с собой нелегальщину.
К восьми часам вечера все было готово. Пришли Вацлав Бальцевич и Мария Войткевич. Гульбинович роздал каждому по пятьдесят прокламаций, клей и по пачке махорки — бросать в глаза полицейскому, если понадобится.
В четыре часа утра все вновь собрались в условленном месте. Последним пришел Яцек. Увидев его, Андрей и Вацлав расхохотались. Уж очень комично он выглядел. Пятна засохшего клея были на лице, на руках, даже на ботинках.
— М-да! — процедил Андрей. — В отсутствии усердия тебя не упрекнешь. Но если бы ты попался, то не выкрутился бы!
— Глупости, — ответил Яцек, — у меня была твоя махорка и мои длинные ноги.
Над Заречьем медленно вставало солнце, освещая убогие рабочие хибарки. Они взялись за руки — профессиональный революционер Феликс Дзержинский, рабочие Вацлав Бальцевич, Андрей Гульбинович и гимназистка Мария Войткевич.
Они были молоды, голодны, утомлены и счастливы.
Вечером ученики-ремесленники собрались на маевку в Каролинском лесу. Шел оживленный разговор о прокламациях, расклеенных по городу. Говорили, что в Снепишках они были так добротно приклеены, то полицейским и дворникам пришлось здорово попотеть, соскабливая их со стен и заборов. «Моя работа», — Дзержинский был удовлетворен.
На середину поляны вышел Гульбинович.
— Слово имеет товарищ Яцек!
Встал стройный, как тополек, юноша, красивый, ладный. На щеках выступил румянец.
Многие из присутствовавших знали Яцека, ему зааплодировали. Зашептались между собой девушки-швеи. На них зашикали.
Дзержинский начал выступление с разъяснения значения первомайского праздника. Он говорил, что день международной пролетарской солидарности должен расшевелить и ремесленных учеников.
— Мы сильны, молоды, физических сил нам достаточно. Давайте же разъяснять своим братьям-рабочим их интересы и способы борьбы с эксплуататорами, — призывал Яцек.
В Литве вела тогда агитацию среди рабочих и Польская социалистическая партия (ППС).
— Эта партия не является рабочей, — говорил Дзержинский, — она состоит преимущественно из интеллигентов, оторванных от рабочего движения. Классовую борьбу пролетариата ППС пускает на самотек, и потому ее программа не подходит для рабочих.
Голос Яцека окреп и зазвенел, когда он перешел к любимой своей теме — рабочей солидарности.
— Без единства рабочих всех национальностей и вероисповеданий мы ничего не добьемся. Без ясного понимания своих классовых интересов рабочее движение осуждено на гибель.
После Дзержинского выступил Гульбинович. Их речи так взволновали молодежь, что аплодисментов показалось мало, ораторов принялись качать.
Затем пели хором революционные песни.
В город возвращались всей гурьбой. Веселые, возбужденные.
Несколько дней спустя Дзержинский стоял у окна своей чердачной комнатушки и наблюдал, как по Заречной медленно удалялся Домашевич.
Только что у них закончился жаркий спор. По старой дружбе оба не стеснялись в выражениях и наговорили друг другу много колкостей. Последнее время их встречи все чаще оканчивались, к сожалению, так.
Недавно прошел съезд Литовской социал-демократической партии. Домашевич, Моравский и другие ее лидеры представили проект программы партии. В проекте очень туманно и расплывчато говорилось о целях и задачах рабочего движения Литвы, зато в качестве главной задачи партии выдвигалась борьба за отделение от России и создание федеративной республики в составе Литвы и Польши.
Феликса удивляло и возмущало, что проект программы литовской социал-демократии был гораздо ближе к программе националистической Польской социалистической партии, чем к социал-демократии Королевства Польского. А ведь именно социал-демократы, а не члены ППС были наследниками славных революционных традиций первых польских марксистских партий — «Пролетариата» и «Союза польских рабочих»[1].
Домашевич доказывал, что, только завоевав национальную независимость, литовский рабочий класс сумеет успешно бороться за свои права. Как, в сущности, это было похоже на рассуждения большинства делегатов ученического съезда в Варшаве. Но там были школяры, даже не нюхавшие марксизма, а здесь собрались солидные люди, именовавшие себя марксистами.
Дзержинский долго готовился к съезду. Доводы о необходимости бороться совместно с русским пролетариатом он подкреплял ссылками на работы Маркса и Энгельса, на блестящие статьи Розы Люксембург и Адольфа Барского в «Справа работнича» [2]. И все-таки ему не удалось убедить делегатов. Съезд утвердил путаную, пропитанную националистическим духом программу.
— Не понимаю, Феликс, — говорил Домашевич, — здесь, рядом с вами, страдают свои виленские рабочие, а вас, кажется, больше волнует судьба петербургских и московских. Поверьте, о них и без вас есть кому позаботиться.
— А я не понимаю, как это вы, образованный марксист, можете идти на поводу у демагога Зюка[3].
— Так, — с обидой в голосе заговорил Домашевич. — Спасибо. Но мне кажется, Дзержинский, вы забываетесь. Это я учил вас марксизму, а теперь вы пытаетесь учить меня.
— Ошибаетесь, доктор. Вы действительно познакомили меня с марксизмом, за это приношу вам огромную благодарность, но марксизму я учился не по Домашевичу, а по Марксу, Энгельсу, Плеханову!
Наступил 1897 год.
Как-то в конце января в комнату к Дзержинскому вошел, нет, не вошел, а буквально ворвался Бальцевич.
— Яцек, бросай к черту свои книжки! Победа! Огромная победа! Забастовка в Петербурге закончилась. Правительство сдалось. С апреля рабочий день будет ограничен по всей стране.
Феликс бросился обнимать Вацлава.
— Ты понимаешь, Вацлав, какую весть ты принес, — говорил Дзержинский. — Петербургские рабочие добиваются сокращения рабочего дня не только для себя, а и для Риги, Варшавы, Баку, Вильно, Киева… Они думают обо всех. Какой прекрасный ответ нашим домашевичам и моравским!
— Разбираемся помаленьку, — усмехнулся Бальцевич. — Чем меня здесь агитировать, пойдем-ка лучше посоветуемся с товарищами, чем и как мы можем ответить русским рабочим.
По виленским фабрикам, заводам и мастерским прошел сбор средств в помощь петербургским забастовщикам. Вместе с деньгами в Петербург пошло приветственное письмо «Адрес литовских рабочих». В этом адресе, в частности, были и такие строки: «…Нынешняя ваша забастовка с ее результатами вызвала у нас неописуемый восторг. Вот как нужно бороться рабочим за свои интересы!» И далее: «Вы и ваш активный «Союз»[4] встали на первое место в нашей общей борьбе… За вами стоим мы все, рабочие разных национальностей и стран, мы, ваши братья, страдающие от наших общих врагов: эксплуататоров и правительства».
Виленские социал-демократы в эти дни часто выступали перед рабочими, призывая к забастовкам. Но больше других работал Феликс. Товарищи удивлялись его одержимости. Когда он только спит! А Дзержинский и в самом деле почти не спал. Днем он давал уроки — надо было на что-то жить, — писал листовки, готовился к выступлениям, вечером его видели на собраниях или на квартирах у рабочих, а ночами оборудовал подпольные типографии и печатал прокламации, брошюры, листовки.
Потом, когда волна забастовок прокатилась по Вильно, Дзержинский торжествовал. Радостно было сознавать, что усилия его и товарищей по партии дали свои плоды.
Последнее время Дзержинский и Гульбинович были неразлучны. Феликса и Андрея сблизила и общая революционная работа, и любовь к поэзии. Андреи писал стихи и часто читал их товарищам. Феликс с детства хорошо знал и ценил польскую и русскую поэзию. Оп тоже писал стихи, но считал их слабыми и не предавал огласке.
— Яцек, дай почитать, — говорил Андрей, листая томик Некрасова. Он впервые столкнулся с этим поэтом, и стихи ему понравились.
— Возьми, пожалуйста, совсем. На память. Однако нам пора. Не забудь, что после кожевников надо побывать еще у железнодорожников.
По дороге юноши обсуждали предстоящее выступление Яцека. Гульбинович подсказывал Феликсу примеры из собственной жизни.
Вот и пустырь, а за ним рабочие казармы, где в одной из каморок их ждут. Внезапно им преградили путь четверо парней. В нос ударил специфический резкий запах кожи, Дзержинский ощутил сильный удар. Голова наполнилась звоном. Ударил широкоплечий кривой парень. И тут остальные набросились на Яцека и Андрея. Били молча. Гульбинович упал. Его пнули раз, другой и оставили в покое. Их наняли бить Яцека.
К удивлению кривого и всей его шайки, худенький и хлипкий на вид «студент» не просил пощады и не старался удрать. Он встал спиной к забору и яростно дрался. Получая и нанося удары, Феликс думал только об одном: во что бы то ни стало удержаться на ногах. Знал, если упадет — пропал, затопчут.
Словно в тумане Феликс увидел, как один из нападавших выхватил нож, Дзержинский упал, обливаясь кровью. Нападающих как водой смыло.
Пришедший в себя Гульбинович кое-как перевязал Феликсу голову и с помощью прохожих довел до дома, где жил Домашевич.
К счастью, Домашевич оказался дома. Он обработал и зашил раны Феликса и уложил его на несколько дней в постель.
Дзержинского не оставляла мысль: кто и почему так жестоко поступил с ним? Он не верил, что напали вот так просто, ни с того ни с сего.
Ответ принес тот же Гульбинович. Один из социал-демократов, работавший на кожевенном заводе у Гольдштейна, рассказал, как кривой, пьяный вдребезги, похвалялся в корчме, что так отделал какого-то «студента», что тот теперь и дорогу к заводу забудет. А гуляет он на деньги, которые за это получил от хозяина.
Когда Феликс немного окреп, он снова появился у кожевников. Влияние социал-демократов на заводе росло. Гольдштейн понял, что потратился зря, и, как человек практический, повторять эксперимент не стал, а поехал к полицмейстеру. Они долго о чем-то разговаривали, запершись в кабинете, и, по-видимому, остались довольны друг другом.
5
Феликс готовился к отъезду. Оставаться в Вильно было опасно. Дважды он с трудом уходил от филеров. Из тюрьмы арестованные товарищи сообщили, что жандармы на допросах усиленно интересуются Яцеком. Поэтому руководство партии приняло решение направить Дзержинского в Ковно, где Яцека не знали. В то время в Ковно не было социал-демократической организации, и Дзержинскому поручалось ее создать. Это было несомненным признанием организаторских способностей молодого революционера. Феликс и гордился порученным заданием, и волновался — справится ли?
В комнату один за другим вошли Бальцевич, Гульбинович, Грабар и еще несколько социал-демократов, решивших устроить Феликсу небольшие проводы.
Стульев на всех не хватило. Придвинули стол к кровати. Начались, как водится, тосты с пожеланиями доброго здоровья, успехов в революционной работе.
Феликса растрогало, что его, мальчишку, интеллигента, пришли проводить и пожилые рабочие. Он прошел хорошую школу у них, а теперь ехал держать экзамен.
На вокзал Дзержинский шагал один. В вагон проскользнул, когда поезд уже тронулся. Забился в угол, подальше от окна, чтобы кто-нибудь из знакомых, случайно оказавшихся среди толпы провожающих, не увидел, не узнал. Прощай, Вильно!
В Ковно Дзержинский приехал 18 марта 1897 года. По объявлению, приклеенному к окну, снял маленькую комнатку в доме господина Кильчевского.
Сразу встал вопрос: на что жить? Дзержинский поступил работать в переплетную мастерскую. Это позволило ему иметь хоть мизерный, но постоянный заработок, а главное, сразу войти в рабочую среду.
В выборе места работы не последнюю роль сыграло и желание овладеть переплетным мастерством. Феликс прекрасно понимал, что такое ремесло нужно подпольщику. И впоследствии не раз с успехом выступал в роли переплетчика.
Феликс и в Вильно видел тяжелую жизнь рабочих. Но беззаконие и произвол хозяев в Ковно потрясли его.
Рабочие рассказывали Дзержинскому, как из-за несоблюдения правил безопасности на фабрике Шмидта погиб рабочий Китцельман, как молотом отрубило палец рабочему Гату; он узнал, что в казенных механических мастерских в Верхней Фрейде рабочему Шулку оторвало обе руки, а на фабрике Розенблюма в Алексоте девушку, получившую увечье, выбросили за ворота даже без компенсации. Скорбный список увеличивался с каждым днем.
На тайной сходке рабочих фабрики Шмидта «Переплетчик» — под этой кличкой Дзержинский работал в Ковно — посвятил свою речь тяжелым условиям труда.
— Но если, работая на фабриканта, наживешь увечье, — говорил он, — тогда попрощайся, рабочий, с надеждой и примирись с адом на земле… Теперь ты калека, работать больше не можешь, значит, не можешь больше обогащать капиталиста, значит, ты больше не нужен. Выбросят тебя ни с чем или с мелкой подачкой. Что же делать? Бороться. Бороться за свои права, за свою свободу. А для этого объединяться.
Ушел «Переплетчик», а рабочие долго еще не расходились. Разбередил он их раны, растревожил души. Факты, о которых рассказывал он, разумеется, были известны им и раньше. Но никто не сумел сделать из них таких ясных выводов.
В этот вечер на фабрике Шмидта появилась ячейка социал-демократической партии Литвы.
Феликсу приходилось туго. Он работал четырнадцать часов в сутки. Зарабатывал мало, питался скверно. После многочасового изнурительного труда бежал на явки или на собрания или заходил потолковать к знакомым рабочим. Когда его приглашали к столу, отказывался, зная, что у хозяев и у самих негусто.
Возвращался домой таким измученным, что едва хватало сил перекусить и дотащиться до кровати. И все-таки, проспав несколько часов, вставал и садился за литовский язык. Вскоре он уже читал неграмотным литовским рабочим книги на их родном языке.
Из Вильно приехал Иосиф Олехнович и вскоре стал ближайшим помощником Дзержинского. Однажды, поглядев критически на ввалившиеся глаза, обострившиеся скулы и нос Феликса, Олехнович решительно заявил:
— Ты совсем извелся. Так дальше работать нельзя. Свалишься, а выиграют от этого только наши враги.
— Не в этом дело, — отмахнулся Феликс. — Но вот, что больше так работать нельзя, — это ты прав. Наше движение охватывает все более широкие массы, а агитаторов не хватает. Значит, нам нужна своя газета. И она будет. И не позднее чем через неделю.
— А чем я могу помочь? — спросил Олехнович, увлеченный идеей Дзержинского, но не очень-то веривший в возможность такого чуда.
— Можешь, Иосиф, да еще как! Ты должен найти безопасную квартиру и помочь мне перенести туда бумагу, которую я намерен «позаимствовать» у хозяина.
Как и где Феликсу удалось раздобыть гектограф, осталось тайной даже для Олехновича. Но ровно через неделю, 1 апреля 1897 года, Феликс и Иосиф передавали на явках связным с ковенских заводов и фабрик пачки с экземплярами первого номера «Ковенского рабочего». А еще через две недели Дзержинский приехал нелегально в Вильно и представил свое детище на суд товарищей по партии.
Перед членами комитета лежала газета на польском языке, небольшого формата, на восьми страницах, размноженная на гектографе. Товарищи обратили внимание на то, что первые страницы были написаны четко, разборчиво, а последние менее старательно, мелким почерком, близким к скорописи.
Дзержинский смутился.
— Дело в том, товарищи, что у меня было очень мало времени. Сам списал, сам печатал, сам распространял да еще на фабриках агитировал.
Поражало, как это Дзержинский менее чем за две недели после приезда в незнакомый город сумел издать газету, но главное — глубина материала.
Особенно всем понравилась статья «Как нам бороться?». По форме статья, а фактически — практическое наставление по организации стачек.
Через несколько дней Дзержинский, окрыленный похвалами товарищей, снова был в Ковно.
Приближалось Первое мая, и он засел за листовку. С чего начать? Конечно, с истории и значения этого пролетарского праздника.
«Это — праздник борьбы и нашего освобождения от ига богачей и правительства, это — праздник братства рабочих всех стран без различия вероисповедания для совместной борьбы; это — праздник нашего пробуждения от многолетнего сна, праздник правды, и в то же время этот наш праздник является угрозой, кошмаром для господ и правительства, для сильных мира сего, которые столь долгие годы сосут нашу кровь».
Листовка получилась довольно длинная. Ничего не поделаешь. Надо было рассказать, как рабочие Петербурга, Вильно, Варшавы и других городов сумели добиться улучшения жизни и работы; сравнить это с положением в Ковно, где до сих пор если рабочие и боролись, то не систематически, без организации. Феликс писал, что праздник 1 Мая должен способствовать, «чтобы и мы не отставали от других, а принялись за борьбу, которая приведет нас к победе». Концовка звучала как набат:
«Да погибнут тираны, да погибнут кровопийцы, да погибнут предатели и да здравствует наше святое рабочее дело! Смелее на борьбу, и победа будет за нами. Дружно, братья, вперед!»
Феликс приступил к организации забастовки в пригороде Ковно Алексоте на фабрике Розенблюма. Его выбор был не случаен. Там эксплуатация и произвол хозяина были сильнее, чем на других ковенских предприятиях, сильнее было и брожение среди доведенных до отчаяния рабочих.
На собрание пришли почти все рабочие и — главное — работницы. На фабрике Розенблюма работали, как правило, женщины.
Большинство собравшихся видели «Переплетчика» впервые, поэтому встретили сначала настороженно.
— Говоришь ты складно, да все чего-то вокруг да около. Говори прямо, что делать-то нам, чтобы жить лучше, — прервала оратора пожилая работница с изможденным лицом. Видно, жизнь крепко измотала эту женщину. Глядя ей прямо в лицо, Феликс отчетливо произнес, слегка повысив голос, чтобы хорошо слышали все:
— Лучшее средство — это бросить работу. Стачка!
Наступила тишина.
— Правильно! — раздались голоса. Это поддержали «Переплетчика» социал-демократы. Они еще вчера слушали доклад Дзержинского и приняли решение поднять рабочих на забастовку.
Начался спор. Молодежь настаивала на забастовке.
— А что жрать будем, чем детей кормить? — возражали семейные.
Спорили долго. Забастовка была объявлена. И закончилась победой. Рабочие фабрики Розенблюма добились сокращения рабочего дня на три часа.
Успех рабочих в Алексоте послужил примером для других предприятий. Руководимые вездесущим «Переплетчиком», ковенские социал-демократы организовали еще несколько удачных стачек.
Впоследствии Дзержинский написал в автобиографии о ковенском периоде своей жизни:
«Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда. Тогда на практике научился организовывать стачку».
6
Начальник ковенского жандармского управления полковник Шаншилов в кабинете с зашторенными окнами просматривал донесения, поступившие за день от агентуры. Ага! Вот опять о «Переплетчике». Агент «Черный» сообщает, что «Переплетчик» намерен передать новую партию брошюр для распространения среди рабочих фабрики Тильманса.
Шаншилов даже привстал от удовольствия. Он уже несколько месяцев следил за деятельностью «Переплетчика» и все более убеждался, что это и есть исчезнувший из Вильно Феликс Эдмундович Дзержинский, социал-демократ, известный ранее под кличкой «Яцек».
Шаншилов вызвал своего помощника.
— Когда у вас встреча с «Черным»?
— Сегодня в восемь вечера, господин полковник.
— Так вот, ротмистр. Я совершенно убежден, что господин Дзержинский и «Переплетчик» — одно и то же лицо. Соблаговолите сделать засаду и прихлопнуть этого молодчика с поличным.
Шанпшлов бросил взгляд на календарь — 16 июля 1897 года. На следующий день, вечером, в сквере у военного собора на лавочке сидел паренек. На вид ему можно было дать лет 15–16. По одежде и въевшейся в кожу металлической пыли и ссадинам на руках нетрудно было определить, что это рабочий-металлист, вероятно ученик слесаря. Парень явно нервничал, поминутно озирался.
Ровно в семь тридцать на скамейку подсел «Переплетчик», весело поздоровался. У связного дрожали губы. Он попытался выдавить ответную улыбку, но ничего не получилось.
— Михась, что случилось? Почему у тебя такой взволнованный вид?
Не успел Дзержинский закончить свой вопрос, как увидел, что к ним бегут полицейские и филеры в штатском. Мысль заработала с лихорадочной быстротой. Привести их за собой он не мог, в этом Феликс был абсолютно уверен. Значит, его предал Михась.
— Иуда! — крикнул Феликс, замахиваясь для удара. Но в тот же момент оказался в руках полицейских.
Изъятые при обыске на квартире у Дзержинского вырезки из газет и других официальных изданий со статьями по рабочему вопросу мало его беспокоили. Нелегальные брошюры, находившиеся при нем, тоже не волновали: Феликс твердо решил ни при каких обстоятельствах не говорить, от кого они были получены и кому предназначались. Хуже было то, что в руки жандармов попала его памятная книжка и список принадлежавших ему книг. Литературы было мало, и он записывал, какую книгу и кому он дал читать.
Опасения Дзержинского были не напрасны. Около года велось следствие. Он никого не назвал, никого не выдал. И все-таки Шаншилову удалось арестовать по его делу 12 человек. У некоторых из них при обыске нашли книги Феликса. Он проклинал себя за неосторожность.
Альдона узнала об аресте брата из газет. Написала ему в тюрьму письмо. В нем было все: горечь, отчаянно и горячее сочувствие. Она умоляла его раскаяться, бросить «юношеские заблуждения».
«Ты называешь меня «беднягой», — читала она ответное письмо от брата, — крепко ошибаешься. Правда, я не могу сказать про себя, что доволен и счастлив, но это ничуть не потому, что я сижу в тюрьме. Я уверенно могу сказать, что гораздо счастливее тех, кто «на воле» ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы… Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом». Далее Феликс сообщал, что благодаря заботам старшего брата Станислава он имеет книги и все необходимое, и… давал советы Альдоне, как воспитывать ребенка.
«Нет, Фелек все такой же. Он неисправим».
Феликс вел в тюрьме весьма деятельную жизнь. Много читал, занимался немецким языком, писал и ухитрялся пересылать на волю статьи для нелегальных рабочих изданий. В виленской газете «Эхо рабочей жизни» появляется статья Дзержинского с описанием тяжелых условий, в которых содержатся заключенные, и призывом бороться с жандармами и угнетателями.
В тюрьме Феликс узнал, что литовская социал-демократия отказалась от участия в I съезде Российской социал-демократической партии. Он написал Домашсвичу гневное письмо, называя этот шаг «величайшим грехом».
Между тем дознание подходило к концу. Полковник Шаншилов писал прокурору Виленской судебной палаты о том, что Дзержинский «как по своим взглядам, так и по своему поведению и характеру личность в будущем опасная».
10 июня 1898 года начальник ковенской тюрьмы Набоков объявил Дзержинскому о том, что «государь император высочайше повелеть соизволил» выслать его под гласный надзор полиции на три года в Вятскую губернию.
Альдоне удалось узнать, что партия каторжан и ссыльных, с которой Дзержинскому предстояло следовать по этапу к месту ссылки, отправляется из ковенской тюрьмы 1 августа, и она решила проводить брата.
Всю ночь до рассвета прождала она вместе с другими женщинами у ворот тюрьмы. Наконец в окружении конвойных показалась партия заключенных. Большинство из них было заковано в кандалы.
Феликс шел с гордо поднятой головой. Альдона бросилась к нему, но конвойный солдат грубо оттолкнул ее. Альдона заплакала и тут услышала голос брата:
— Успокойся, не плачь, видишь, я силен.
Глава II Тоска кайгородская
1
Во второй половине августа 1899 года в Нолинске появился новый ссыльный. В глухом уездном городишке, где все друг друга знали, Феликс Эдмундович Дзержинский сразу привлек внимание местных жителей и ссыльных. Одет он был в темный, сильно поношенный костюм, рубашку с мягким отложным воротником, бархатный шнурок повязан вместо галстука.
Но не одежда, а его одухотворенное лицо и внимательный открытый взгляд заставляли нолинских жителей спрашивать друг друга, кто это и что он тут делает.
А Дзержинский, в свою очередь, знакомился с городом, где ему предстояло провести три долгих года.
Все здесь чужое. И природа, и дома, и люди. Приспособиться к новой жизни было трудно. Феликс отводил душу в письмах к Альдоне. Он не жаловался. Даже пытался иронизировать.
«…Дорога была чрезвычайно «приятная», — писал он, — если считать приятными блох, клопов, вшей и т. п. По Оке, Волге, Каме и Вятке я плыл пароходом. Неудобная эта дорога. Заперли нас в так называемый «трюм», как сельдей в бочке. Недостаток света, воздуха и вентиляции вызывал такую духоту, что, несмотря на наш костюм Адама, мы чувствовали себя как в хорошей бане. Мы имели в достатке также и массу других удовольствий в этом же духе…»
Когда Альдона вновь и вновь перечитывала эти строки, написанные таким знакомым ей мелким, угловатым почерком, она ясно представляла себе, какие физические и моральные муки пришлось пережить Феликсу.
«Я нахожусь теперь в Нолинске, где должен пробыть три года, если меня не возьмут в солдаты и не сошлют служить в Сибирь на китайскую границу, на реку Амур или еще куда-либо. Работу найти здесь почти невозможно, если не считать, здешней махорочной фабрики, на которой можно заработать рублей 7 в месяц…»
«Нолинск, Нолинск!» — Альдона с трудом разыскала его на карте.
«Население здесь едва достигает 5 тысяч жителей, — продолжала она читать. — Несколько ссыльных из Москвы и Питера, значит, есть с кем поболтать, однако беда в том, что мне противна болтовня, а работать так, чтобы чувствовать, что живешь, живешь не бесполезно, здесь негде и не над кем».
Альдона вспоминает, как, получив это письмо, она немедленно написала брату. Одно за другим отправила два письма. Постаралась вложить в них всю свою любовь, боль и опасения за его судьбу. Снова она умоляла Феликса стать «благоразумным», жить как все.
И вот его ответ: «Дорогая Альдона! Ты совсем не понимаешь и не знаешь меня. Ты знала меня ребенком, подростком, но теперь, как мне кажется, я могу уже называть себя взрослым, с установившимися взглядами человеком, и жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому как буря валит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я не могу ни изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно вернуться назад. Условия жизни дали мне такое направление, что то течение, которое захватило меня, для того только выкинуло меня на некоторое время на безлюдный берег, чтобы затем с новой силой захватить меня и нести с собой все дальше и дальше, пока я до конца не изношусь в борьбе, т. е. пределом моей борьбы может быть лишь могила…»
Альдона перечитывала письма Феликса. Письма длинные, а о себе, о своей жизни, здоровье пишет мало, несколько скуповатых строк. В последнем письме мимоходом обронил: «У меня пышная трахома». Можно ли вылечить ее там, в Нолинске? Еще ослепнет, чего доброго. «Ах, Феликс, Феликс! Сколько волнений и горя ты уже причинил. И сколько причинишь еще». Она негодовала на Феликса и восхищалась им, его глубокой верой в свое дело, в будущее. Не потому ли этот малопонятный и далекий Феликс ей ближе и дороже других братьев?
2
Нолинск утопал в грязи.
Осенью городок рано погружался в темноту. Тусклый свет редких керосиновых фонарей на перекрестках лишь сильнее подчеркивал густую темноту вокруг. Фонари служили скорее ориентиром для прохожих, чем источником света. И потому с наступлением темноты жизнь в городе замирала. Тишину пустынных улиц лишь изредка нарушали песни и крики пьяных да отчаянный лай собак им вслед.
Долгие вечера для ссыльных были особенно мучительны. Острее чувствовалось безденежье, отсутствие деле тоска по свободе и родному дому.
Свобода, равенство, братство, революция — все это некоторым ссыльным начинало представляться прекрасной, но далекой и, увы, несбыточной мечтой.
Но был в этом неуютном городишке светлый уголок, где ссыльные собирались, спорили, пели, пили чай и, наконец, просто могли поговорить по душам о делах житейских, ближе узнать друг друга. Словом, дать разрядку своим мыслям и чувствам, укрепить свои нравственные силы.
Таким уголком была маленькая светелка в доме Калитина по Яранской улице, где жила Маргарита Федоровна Николева. Курсистка-бестужевка, она была сослана в Нолинск за участие в студенческих беспорядках. У нее-то по средам и собирались ссыльные.
Сегодня среда. Раньше других к Николевой пришла ее подруга Катя Дьяконова, тоже ссыльная. Уже здесь, в ссылке, Дьяконова вышла замуж за ссыльного социал-демократа, родила ребенка. Но чтобы «не закиснуть», Катя редкую среду не бывала у Николевой. Разве только заболеет кто-либо из близких.
Так повелось: кто оказывался при деньгах, приносил к Николевой фунт дешевой колбасы, связку баранок или кулек конфет. Бывало, что какой-нибудь «богач» с гордым видом вытаскивал из кармана и бутылку вина. Но так как никто этих приношений заранее не заказывал, то иногда получалось, что не хватало заварки или сахару. А без хорошего чая и вечер не в вечер. Хозяйственная Катюша Дьяконова решила эту заботу взять на себя.
В дверь постучали. Вошел, зябко потирая руки, Александр Иванович Якшин.
— Ну, великий народник, — смеясь, обратилась к нему Дьяконова, — теперь вам несдобровать. Сегодня мы, социал-демократы, получили подкрепление. Придет Дзержинский. Он вам покажет, где раки зимуют!
— Не пугайте, Катенька, — так же шутливо отвечал Якшин, — русский мужик все выдюжит. Посмотрим, что за птица ваш Дзержинский. С тех пор как он появился в Нолинске, только и разговору что о нем. — А впрочем, — добавил он уже серьезно, — рад буду познакомиться с интересным человеком.
Комната постепенно наполнилась. Стало шумно. Женщины накрывали на стол.
Все уже расселись, когда в дверях появился молодой человек. Его воспаленные глаза щурились от света лампы.
— Господа, позвольте представить вам нашего нового товарища: Феликс Эдмундович Дзержинский, — говорила Николева, усаживая Феликса рядом с собой. — Почему вы опоздали? Что с вашими глазами? — спрашивала Маргарита Федоровна, наливая ему чай.
— Проклятая грязь, — отвечал Феликс, — не чаял, как добраться до вас. А глаза… Профессиональная болезнь табачников. Глаза чешутся от табачной пыли, рабочие трут их грязными руками. И вот результат: большинство рабочих нашей фабрики больны трахомой.
— Бог знает, что вы говорите. Зачем же вы пошли на эту фабрику?
— Ну, во-первых, надо где-то хлеб зарабатывать, а вы знаете, что в Нолинске найти работу трудно, а во-вторых, там я среди рабочих и могу хоть чем-нибудь быть им полезен.
Постепенно мирная беседа стала переходить в споры.
Обсуждали главным образом волновавшую весь город новость — проект постройки железной дороги. Вскоре эта тема захватила всех, и разговор стал общим.
— Дорога выгодна только купцам да лесопромышленникам. Они уже заранее подсчитывают барыши! — слышался молодой запальчивый голос.
— Не скажите, окрестные крестьяне тоже надеются на хорошие заработки, — отвечал ему другой.
— Железная дорога — бич для здешних мест, — услышал Дзержинский за своей спиной. Обернулся и увидел Якшина. — Она приведет к развитию промышленности, а значит, и к разорению крестьянства, — продолжал Якшин.
— Нельзя видеть в железных дорогах только отрицательную сторону, — вмешался наконец Дзержинский. — Промышленность объединяет людей, дает возможность рабочему бороться, придает ему силы и несет свет на смену забитости.
Тут в спор, кажется, включились все разом.
— Но почему, Дзержинский, вы говорите только о рабочих? — спросила Катя.
Дзержинский досадливо махнул рукой.
— Я не вижу, чем мы можем сейчас помочь реально крестьянской бедноте. Крестьянство в массе своей консервативно. Это наша Вандея. Правда, в деревне идет расслоение, бедняка эксплуатируют лесопромышленники, ростовщики, купцы… В существующих условиях даже организация крестьянских товариществ не исключает эксплуатации… Несостоятельны народники со своими «устоями». Пусть же капитализм шагает как можно быстрее и усилит нашу рабочую армию!
Ответить Кате не удалось. Раздались звуки гитары, сильный приятный голос перекрыл голоса спорщиков.
Замучен тяжелой неволей, Ты славною смертью почил. В борьбе за народное дело Ты голову честно сложил…Грустная и торжественно-волнующая мелодия наполнила комнату. Феликс впервые услышал эту песню и старался не пропустить ни одного слова. Хор молодых голосов звучал все мощнее.
— Понравилось? — спросила Катя.
— Очень! Чья это песня?
— Автора, честно говоря, не знаю. А запевал и аккомпанировал мой муж, Иван Яковлевич Жилин.
— А ну, ребята, что приуныли? — раздался голос Жилина. Он лихо, с перебором ударил по струнам и запел «Камаринскую».
Иван Яковлевич оказался прекрасным певцом и музыкантом. За «Камаринской» последовали другие песни. Революционные и народные. Пели все с увлечением. Захваченный общим порывом, пел и Дзержинский. И на душе у него было радостно.
3
Стоял в центре Нолинска двухэтажный дом, окрашенный в желтый цвет, традиционный для царских государственных учреждений. Возвышавшаяся над крышей каланча лучше всякой вывески говорила о том, что здесь помещается пожарная часть. В другом крыле здания размещалась полиция: канцелярия нолинского уездного исправника и околоток.
Пожарный на каланче смотрел, чтобы огонь не охватил дома и сараи нолинских обывателей, а недреманное око господина исправника, коллежского асессора Золотухина бдительно следило, чтобы в их головы не запала искра свободомыслия.
Ссыльные, за которыми исправник по долгу службы обязан был осуществлять гласный и негласный надзор, вели себя Довольно мирно. Положение изменилось с появлением в городе Дзержинского. Этот «вредный полячишка», как именовал его господин исправник, сломал невидимую стену, отделявшую ссыльных от жителей Нолинска. Поступил работать на махорочную фабрику и сразу оказался в гуще рабочих, заделался их другом-товарищем.
В последний приезд исправника в Вятку начальник канцелярии губернатора в ответ на жалобы исправника дал понять, что его превосходительство губернатор Клингенберг не прочь будет запрятать этого смутьяна куда-нибудь подальше.
Уже пожилой, поднаторевший в полицейском сыске исправник сразу смекнул, чего от него ждут. Его превосходительству нужны «основания». Поразмыслив в дороге, он даже обрадовался. Представлялся случай убить двух зайцев: избавиться от беспокойного ссыльного и угодить его превосходительству.
Вернувшись в Нолинск, Золотухин немедленно вызвал к себе околоточного надзирателя Кандыбина. В его околотке находилась махорочная фабрика и жил Дзержинский.
Кандыбин, или попросту Кандыба, обладал типично полицейской внешностью: одутловатое лицо, острые глазки, буравящие собеседника, порыжевшие прокуренные усы.
— Здравия желаю, ваше благородие! — отчеканил Кандыба, вытягиваясь у порога и щелкая каблуками огромных яловых сапог.
— Садись, Кандыбин. Докладывай, как Дзержинский? Забыл, что я тебе говорил? — строго спрашивал исправник.
— Имею сведения, верные люди говорят, — понизив голос почти до шепота, хрипел Кандыбин, — мутят они фабричных. Бастовать, говорят, надо, а царя… Извиняюсь, невозможно даже вслух произнести.
— Что царя? Что ты тянешь? — прикрикнул капитан.
— Спихнуть надо! — выпалил Кандыба и опасливо оглянулся на закрытую дверь.
— А еще, — продолжал околоточный, — в среду у госпожи Николевой они, то есть господин Дзержинский, всех ругали. Хватит, мол, болтать попусту. Народ подымать надо. Против властей, значить…
— Ого! А это откуда тебе известно? — спрашивал исправник, удивляясь неожиданной осведомленности такого неуклюжего и туповатого на вид околоточного.
— Так что, ваш бродь, кухарка господина Калитина слышала. Я и то говорю: «Дуреха, может, не он ето говорил?» А она мне: «Точно, — грит, — он. Я ево еще, как пришел, приметила. Новенький. Да и слова вроде бы русские, а произносит как-то по-особенному, не по-нашему».
Отпустив Кандыбу, исправник закурил и принялся ходить по кабинету. Постепенно в его голове сложился план, с помощью которого он надеялся упрятать Дзержинского, «куда Макар телят же гонял».
— Вас просят зайти к их благородию, — сказал Дзержинскому делопроизводитель, когда Дзержинский и Якшин пришли в канцелярию исправника. С недавних пор они поселились вместе, в том же доме, что и Николева, только на первом этаже. Как лица, состоящие под надзором, они обязаны были в установленные дни отмечаться в полиции.
Отметка в полиции сводилась обычно к чисто формальной процедуре, и занимались ею делопроизводитель или писарь, а тут вдруг к исправнику.
— К чему бы такая честь? — Феликс вопросительно посмотрел на Якшина.
— Сейчас узнаем. — Александр Иванович решительно открыл дверь, пропустил вперед Дзержинского и сам вошел вслед за ним.
Появление Якшина не входило в планы исправника. Он совсем уже собрался попросить его из кабинета, но потом мелькнула мысль: «Пусть останется, лишний свидетель, да еще сам из ссыльных, не помешает».
— Позвольте узнать, господин Дзержинский, — лицо исправника сохраняло учтивость, — с какой целью вы устроились работать на махорочную фабрику?
— Это что — допрос? — запальчиво спросил Феликс.
— Пока нет. Вы же знаете, что состоите под надзором полиции. Вот я и интересуюсь, как живут, чем дышат мои подопечные. По долгу службы, так сказать.
— Извольте, господин исправник. Цель простая — заработать на свое существование, — пожимая плечами, ответил Дзержинский.
— Странно, странно, — исправник взял у писаря бумагу и как бы в задумчивости побарабанил пальцами. — Если вы действительно нуждаетесь в заработке, то зачем же подбивать других бросать работу?
Дзержинский молчал.
— Не позволю! — вдруг заорал Золотухин, хлопая ладонью на столу. Стоявший рядом писарь вздрогнул от неожиданности.
— Забываешься, — переходя на «ты», продолжал кричать исправник, — тебя сюда прислали наказание отбывать, а не людей мутить! Чтоб духу твоего на фабрике не было!
— Не смейте мне «тыкать», — бледный от возмущения отвечал Дзержинский, — что касается работы, прошу не указывать, Где хочу, там и работаю. Да и откуда вам известно, о чем я говорю с рабочими? — Феликс попытался заставить исправника приоткрыть свои карты.
— Нам многое известно, молодой человек; Известно, например, что вы здесь собираетесь сил набираться, чтобы быть готовыми бунтовать, когда «настанет время». Не выйдет! — опять повысил голос исправник:
Он почти дословно цитировал строки из последнего письма Феликса к Альдоне.
«Как он смеет читать мои письма?!» — эта мысль заслонила все. Самообладание оставило его.
— Мерзавец, негодяй! — вскипел Дзержинский. — Он читает мои письма, — пояснил Феликс Якшину.
— Господа? Будьте свидетелями, как ссыльный Дзержинский оскорбляет меня при исполнении служебных обязанностей, — напирая на последние слова, провозгласил исправник.
Тут только Дзержинский заметил, что в темном углу кабинета примостилась на стуле еще какая-то фигура. Настолько бесцветная, что потом, как ни старался Феликс, так и не мог восстановить в памяти ее внешность.
— И вы, господин Якшин, все слышали и, надеюсь, не откажетесь засвидетельствовать, — добавил Золотухин.
Александр Иванович молча наблюдал всю эту сцену. Когда Дзержинский бросил в лицо полицейскому свои гневные «мерзавец, негодяй», Якшин, к великому своему изумлению, заметил, что Золотухин совсем не возмутился. В его глазах промелькнуло злорадство и — Якшин готов был поклясться, что это так, — блеснула даже радость. Это было так нелепо: человека оскорбляют, а он радуется! Призыв исправника к нему засвидетельствовать слова Дзержинского мгновенно все прояснил. Якшин понял, что Золотухин нарочно провоцировал Дзержинского на скандал, понял и то, какую гнусную роль навязывал он ему, заставляя свидетельствовать против своего товарища ссыльного.
— А вы, господин исправник, действительно подлец! — отчетливо прозвучал в наступившей тишине голос Александра Ивановича.
…Был составлен протокол об оскорблении ссыльными Дзержинским и Якшиным нолинского исправника при исполнении им своих служебных обязанностей. Протокол подписали свидетели: писарь и «случайно оказавшийся» в кабинете господина исправника «проситель». Они подтвердили также, и то, что означенные ссыльные «от подписания протокола отказались».
В тот же день Золотухин засел за составление рапорта губернатору. «Вспыльчивый и раздражительный идеалист, питает враждебность к монархии», — писал исправник о Дзержинском. К донесению приложил «основания» — заявление махорочного фабриканта и протокол.
Его превосходительство был несказанно возмущен поведением Дзержинского и вполне удовлетворен представленными документами. В Петербург к министру внутренних дел полетела депеша. Клингенберг сообщал, что «Феликс Эдмундович Дзержинский проявляет крайнюю неблагонадежность в политическом отношении и успел приобрести влияние на некоторых лиц, бывших доныне вполне благонадежными», ввиду чего он решил выслать Феликса Эдмундовича Дзержинского на 500 верст севернее Нолинска, в село Кайгородское Слободского уезда. Туда же его превосходительство «справедливости ради» распорядился выслать и Александра Ивановича Яншина.
4
— Вот и приехали, — говорил Якшин, вылезая из саней у здания кайгородского волостного правления.
Из избы вышли жандарм, сопровождавший их от Нолинска, и кайгородский урядник. Урядник хмуро оглядел ссыльных и, помусолив карандаш, расписался в книге, протянутой ему жандармом.
Жандарм захлопнул книгу, засунул ее за пазуху и подошел к саням.
— Ну, господа хорошие, скидайте полушубки. Я их обратно в Нолинск повезу, — сказал он.
Якшин начал раздеваться.
— Что вы делаете, Александр Иванович? Мы же замерзнем здесь без полушубков, — возразил Дзержинский. Сам он стоял совершенно спокойно, будто и не слышал, что говорит жандарм.
— А, черт с ними! Пусть подавятся, — Якшин снял свой полушубок и кинул его в сани.
— Пусть в таком случае давятся вашим, а мне он самому нужен, — спокойно сказал Феликс и направился к избе. — Скажи исправнику — Дзержинский не отдал. — И Феликс скрылся в волостном правлении.
О перипетиях, связанных с прибытием Дзержинского в Кайгородское, в тот же день узнало все село. Урядничиха постаралась, да еще, как водится, кое-что приукрасила.
В дом крестьянина Шанцина, где поселились Дзержинский и Якшин, потянулись местные жители. Приходили к хозяину, одни вроде бы по делу, другие просто так. Становились у притолоки или садились на лавку. Молчали, разглядывали главным образом, конечно, Феликса.
Дзержинский и Якшин познакомились со стариками Лузяниными. Приветливые и словоохотливые, Терентий Анисифович и Прасковья Ивановна понравились ссыльным, и они перебрались жить к ним.
Прасковья Ивановна хотела было все хлопоты по хозяйству взять на себя, да Феликс воспротивился: «Что вы, бабушка, мы сами!»
Новый, 1899 год встречали вчетвером. Дзержинский и Якшин разложили на столе остатки яств, собранных им в дорогу Маргаритой Федоровной, пригласили хозяев.
Терентий Анисифович поставил бутылку водки.
Когда висевшие на стене ходики показали двенадцать, Александр Иванович и Терентий Анисифович выпили. Дзержинский от водки отказался и с удовольствием выпил кофе. Он давно на него покушался, да Александр Иванович не давал, приберегая к Новому году.
На новом месте Феликс Эдмундович ревностно принялся за занятия. Прежде всего он прочел книгу Милля.
— Субъективист и догматик, — говорил он о Милле Якшину.
Покончив с Миллем, Дзержинский увлекся работой Булгакова о рынках.
— Эта книга, — говорил он Якшину, — очень полезна марксисту. Особенно для споров с вами, народниками. Прочтите Булгакова, а потом мы с вами поспорим.
Но Якшин читать Булгакова не стал и от теоретических споров уклонился.
Дзержинский заинтересовался теорией прибавочной стоимости и образованием прибыли. Он чувствовал, как ему не хватает экономических знаний для пропаганды среди рабочих. К счастью, среди книг, взятых из Нолинска, нашелся второй том «Капитала» Маркса. За его изучением Феликс иногда забывал о лежавших на нем обязанностях по дому. Зато Александр Иванович увлекся хозяйством. Ему доставляло удовольствие стряпать, кормить Феликса и вообще заботиться о нем. И скучать за хозяйственными хлопотами было некогда, и время проходило незаметнее. Одно огорчало Александра Ивановича: трудно было с продуктами. Кайгородское — село большое, а купить что-нибудь, особенно мясо и яйца, негде. Все живут своим натуральным хозяйством, продавать не хотят, а если соглашаются, то норовят сорвать втридорога. Приходилось закупать провизию в окрестных деревнях. За это дело взялся Дзержинский.
Хорошо было скользить на лыжах по лесам и замерзшим болотам, окружавшим Кайгородское. Простор и новые впечатления создавали иллюзию свободы, дома же все раздражало, особенно люди, вечно толкавшиеся в избе в мешавшие занятиям. Даже когда никого из посторонних не было, мешали Александр Иванович и спившийся ссыльный, которого все жителя села звали попросту Абрашка. Он под влиянием Дзержинского и Яншина старался избавиться от своего порока и с утра до вечера сидел у них.
Местные крестьяне приходили к ним в избу — поговорить, посетовать на свою судьбу. Разговаривал с ними обычно Александр Иванович. Феликс в этих беседах участвовал редко. Он сидел в углу, читал.
Но вот однажды, когда один из посетителей рассказал о том, как бессовестно его обсчитал мельник, Дзержинский не выдержал.
— Вы должны подать на него жалобу мировому судье, — резко сказал он.
— Да ить как подать-то, — горестно ответил мужик. — Сам я неграмотный, люди говорят, надоть в Слободской, к адвокату ехать. А деньги где?
Феликс молча достал бумагу, придвинул чернила и, побившись часа два, составил жалобу.
С того дня и повелось — за советом или жалобу нависать шли кайгородские мужики к Дзержинскому.
— Помоги, Василий Иванович!
И «Василий Иванович» — так окрестили Дзержинского крестьяне, чтобы не произносить трудного, его имени, — никогда не отказывал.
Феликсу было, конечно, приятно сознавать, что и здесь, в Кае, он хоть чем-то может быть полезен обездоленным, забитым людям, но принести удовлетворение его деятельной натуре такая жизнь не могла.
А тут еще и с занятиями остановка. Он быстро справился с книгами, привезенными из Нолинска, а новых, нужных ему не было.
В поисках литературы забрел Феликс в школу. Молоденькая учительница порекомендовала «Овод».
Вечером он начал читать, да так и не мог оторваться. Прочел запоем всю книгу.
Вместе с «Оводом» он заново пережал потерю любимой матери, а затем все муки и страдания, которые выпали на долю Артура.
Проснулся Феликс поздно, с тяжелой головой. Отчаянно резало больные глаза.
— Проснулся, миллионер, — пробурчал Александр Иванович и начал выговаривать Феликсу за то, что тот жжет керосин, совершенно не считаясь с их бюджетом.
Дзержинский вспылил.
Товарищи основательно поругались. Оба сознавали, что ссора вспыхнула из-за пустяков, и потому весь день ходили сумрачными, стыдясь смотреть в глаза друг другу.
Ночью Дзержинского мучила бессонница. Пришло письмо из Вильно. Утешительного мало. Старшие товарищи сидят по тюрьмам, отправлены в ссылку или вынуждены были сами уехать из Литвы, спасаясь от ареста. Уцелели лишь некоторые. Их мало, и им очень трудно.
Феликс чувствовал, какая отчаянная там идет борьба. «А я тут что? Здесь даже самообразованием заниматься невозможно. И дело не только в отсутствии книг. Умственная моя работа требует общества. В обществе мой мозг лучше работает, чем в одиночестве, а здесь его нет. Вот та причина, что, в сущности, мешает мне заниматься», — думал он.
Феликс встал, оделся и вышел на воздух. Александр Иванович заворочался, приподнял голову, но ничего не сказал.
Дзержинский шагал по спящей улице Кайгородского. Мысли о побеге приходили ему в голову еще в Нолинске, теперь они оформились, стали решением.
Вернулся в избу успокоенный. Его встретил вопрошающий взгляд Якшина.
— Александр Иванович, простите меня. Утром я наговорил вам много глупостей. А ведь я вас люблю, честное слово, люблю! — неожиданно вырвалось у Феликса.
— Да что вы, Феликс Эдмундович! Я и думать-то забыл о том разговоре. Я-то ведь тоже хорош. Не мы с вами виноваты, ссылка виновата, — ответил растроганный Якшин.
5
Вьюжным февральским утром пришел урядник.
— Собирайтесь, господин Дзержинский, завтра поедете в Слободской. Его благородие уездный воинский начальник вызывают, — сказал он, протягивая Феликсу повестку.
В повестке значилось, что Дзержинский должен был явиться для прохождения врачебного осмотра «на предмет определения годности к воинской службе».
Перспектива попасть в солдаты вовсе не устраивала Феликса. И не без оснований. Это означало бы еще на 6 лет оторваться от жизни, оказаться где-нибудь еще дальше Кая, под неустанным надзором унтеров и фельдфебелей, подвергаться ежедневной муштре, изнуряющей тело и душу. Бежать же из части было труднее, чем из ссылки. Побег обнаружится на первой же утренней или вечерней поверке.
— Надо немедленно бежать! — сказал Феликс, как только калитка захлопнулась за полицейским.
— Чепуха, — ответил Александр Иванович. — Бежать сейчас невозможно. Задержат на первом же станке, в первом же селе. Или замерзнешь где-нибудь в лесу, на болоте. Да и нечего горячку пороть, призыв-то только осенью будет.
Выехал Дзержинский из Кайгородского на почтовых. По дороге попали в метель, до Слободского добирались двое суток.
В солдаты его не взяли. Наоборот, вовсе освободили от военной службы «по болезни».
Из Слободского он писал в Нолинск Николевой:
«У меня трахома все сильнее, полнейшее малокровие (распухли железы от этого), эмфизема легких, хронический катар ветвей дыхательного горла. В Кае от этого не излечишься… Я постараюсь устроить свою жизнь короткую так, чтобы пожить ею наиболее интенсивно». Феликс чуть-чуть не приписал — «для революции», но вовремя вспомнил, что письма его читает полиция, и после слова «интенсивно» поставил точку. Маргарита Федоровна и так поймет.
По приезде в Кай немедленно отправился к местному врачу. Тот долго выслушивал и выстукивал его и наконец сказал:
— Никакой эмфиземы, батенька мой, у вас нет. Здоровьишко, конечно, не ахти какое, но ничего угрожающего, по крайней мере на ближайшее время, я не вижу.
— Но как же комиссия могла так ошибиться? — усомнился Дзержинский.
— А, навыдумывали, чтобы бунтовщика в солдаты не брать!
Дзержинский решил воспользоваться заключением врачебной комиссии, чтобы добиться перевода в уездный город. Предлог — «для лечения», а фактически, чтобы облегчить и ускорить побег,
Но тут перед ним встала дилемма, как писать.
— Просить униженно не буду, а иначе не переведут, — заявил Феликс Яншину.
Долго од трудился над коротким заявлением. Писал, рвал и опять писал. Наконец облегченно вздохнул: заявление было написано достаточно убедительно и с чувством собственного достоинства.
«Оставить без последствий», — собственноручно начертал красными чернилами губернатор.
Однако последствия были. В Кайгородское прикатил слободской исправник с приказанием его превосходительств» привлечь Феликса Эдмундовича Дзержинского к уголовной ответственности за занятие адвокатурой, «ему не разрешенной».
Долго в волостном правлении орал он на свидетелей, добиваясь нужных показаний, но так и уехал ни с чем.
«Дзержинский платы с просителей никакой не брал и в дома к ним не ходил, а последние сами приходили к нему на квартиру», — вынужден был написать исправник в своем заключении.
Через месяц Николева получила новое письмо от Дзержинского. «Я боюсь за себя. Не знаю, что это со мной делается. Я стал злее, раздражителен до безобразия», — писал Феликс. Далее были и такие строки: «Кай — это такая берлога, что минутами невозможно устоять не только против тоски, но даже и отчаяния…»
Маргарита Федоровна взволновалась. Прибежала с этим письмом к Дьяконовой.
Они тут же написали прошение все тому же Клингенбергу о разрешении ссыльной Маргарите Федоровне. Николевой выехать в село Кайгородское для свидания с больным Феликсом Эдмундовичем Дзержинским.
Разрешение было получено только в июне, и Маргарита Федоровна, нагруженная книгами, журналами, письмами и всякой снедью, отправилась в дальний путь.
В Кайгородском Николева пробыла недолго. Когда она возвратилась в Нолинск, ее светелка наполнилась ссыльными. Всем не терпелось узнать, как живут Дзержинский и Якшин.
— Живут наши каевцы скверно, — рассказывала Маргарита Федоровна, — жизнь ведут самую строгую. Белый хлеб у них редкость, едят главным образом продукты своей охоты или рыбной ловли. Феликс Эдмундович исхудал страшно, и малокровие у него, доходящее до головокружения. Оба скучают от безлюдья.
Усталый вид и взволнованность Николаевой не укрылись от внимания гостей. Светелка быстро опустела.
— Ну как? Выяснили вы свои отношения? — спросила Катя, когда все ушли.
— Феликс заявил мне, что не может здесь искать счастья, когда миллионы мучаются, борются и страдают. Вот так мы и выяснили наши отношения, — закончила грустно Маргарита Федоровна. — И он был искренен. Он хочет целиком отдать себя революции. Я буду помнить его всю жизнь.
…Маргарита Федоровна Николева умерла в 1957 году, 84 лет от роду. После ее смерти была найдена шкатулка с письмами Дзержинского.
6
Дзержинский настойчиво готовил побег.
Когда настало время, он открыл свой замысел Якшину.
— Все в округе знают, какой я страстный охотник, — говорил Дзержинский. — Я пропадаю на охоте по два, по три дня. И это тоже все знают, даже урядник. Помните, как он вначале ерепенился, а потом привык, успокоился. Теперь надо будет приучить его к более длительным моим отлучкам, а вы, Александр Иванович, потом прикроете мой побег своим спокойствием и уверенностью в моем возвращении с «охоты». Мне предстоит пройти на лодке несколько сот верст. Тут главное — выиграть время. Ваша помощь будет просто неоценима.
Подготовка к побегу пошла полным ходом. Дзержинский довел свои отлучки на охоту до пяти дней. Он уплывал далеко вниз по течению Камы, разведывал окружающую местность и речной фарватер. Всякий раз Феликс привозил домой много дичи и рыбы. И никто не удивлялся, видя, как Александр Иванович и Абрашка вялили, коптили и солили его добычу, заготовляли продукты впрок, на зиму. Значительно сложнее обстояло дело с сухарями. Заготовка сухарей ссыльными в ту пору считалась явным признаком подготовки к побегу. Дзержинский решился попросить Пелагею Ивановну — пусть сушит ему сухарики на охоту. Старушка согласилась. Брал он у нее сухари небольшими порциями, вернувшись с охоты, даже возвращал «остаток». На самом же деле часть сухарей шла в запас…
В конце августа установилась ясная, сухая погода. Все приготовления были окончены, и долгожданный день наступил. Еще с вечера Феликс примерно в версте от села запрятал в кустах у реки мешок с одеждой, в которую он должен был переодеться, когда настанет время расстаться с лодкой. Там же хранился и основной запас провизии.
Утром Феликс собрался «на охоту». С хозяевами распрощался у избы. До реки провожали его Александр Иванович и Абрашка.
Александр Иванович и Феликс Эдмундович молчали, погруженные каждый в свои думы. Они проговорили почти всю ночь. Под утро распрощались, расцеловались даже. Зато ничего не подозревавший Абрашка болтал всю дорогу, пересказывая кайгородские новости.
Все было как обычно. Только перед тем, как сесть в лодку, Дзержинский крепче и дольше обычного пожимал руки друзьям по ссылке. Да Александр Иванович затуманившимся взглядом провожал Дзержинского до тех пор, пока лодка не скрылась за поворотом реки.
Прошло три дня. В дом Лузянина заявился урядник.
— А где же господин Дзержинский?
— Как всегда, на охоте, — ответил Якшин, стараясь говорить как можно более безразличным тоном.
— Чтой-то не нравятся мне эти охоты, — строго говорил урядник. — Уж скольки разов говорил я, што более чем на сутки отлучаться не положено!
— Так ведь сами же знаете, охота дело такое, раз на раз не приходится.
— Ну ладноть, — наконец произнес урядник, — однако прошу передать господину Дзержинскому, штоб явился ко мне, когда вернется.
Прошло еще два дня. Опять нагрянул урядник. На этот раз Александр Иванович, Абрам и старики Лузянины подверглись форменному допросу.
— Отвяжись, леший, — возмутилась наконец Прасковья Ивановна, — никуда «Василий Иванович» не денется. Не иначе как к своей барышне в Нолинск поехал.
Так урядник и отписал в уезд слободскому исправнику.
Еще сутки были выиграны. По расчетам Дзержинского и Яншина, это были решающие сутки.
Глава III Тюремные университеты
1
Спешили по проводам телеграммы. Из Слободского в Вятку, из Вятки в Петербург, в министерство внутренних дел — «бежал из ссылки Феликс Эдмундович Дзержинский». А в ответ департамент полиции слал предписание виленскому, казанскому, вологодскому, пермскому, костромскому, уфимскому губернаторам и московскому полицмейстеру: «разыскать, обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение вятского губернатора, уведомив о сем департамент полиции». По всем пристаням и станциям, вплоть до Вильно, полицейских и жандармов снабдили приметами беглеца: «рост средний, волосы на голове и бровях светло-русые, лицо чистое, бороды и усов нет».
«Гороховые пальто»[5] и переодетые полицейские все еще шныряли по поездам и пароходам, приглядываясь к «подозрительным» пассажирам, а Дзержинский уже был в Варшаве.
Он сидел в бедной квартире рабочего-сапожника, социал-демократа Яна Росола и слушал его рассказ.
— Все наши социал-демократические организации в Варшаве разгромлены. Партии как таковой нет, — говорил Росол, — работу среди пролетариата ведут только ППС и Бунд. Есть, правда, отдельные социал-демократы, но они ничем, кроме критики ППС, не занимаются.
— Плохо. Но неужели в Варшаве не найдется сознательных рабочих, на которых можно опереться, чтобы восстановить организацию? — допытывался Феликс.
— Есть! — подумав, решительно ответил Росол. — Рабочие не забыли, чему учили их «Пролетариат» и «Союз польских рабочих». Многие рабочие мыслят правильно, а если и состоят в ППС, то только потому, что нашей организации нет,
— Я убежден в этом. Да и как могло быть иначе, когда вы сами, дядюшка Ян, вместе с Варынским создавали «Пролетариат»? Я потому и пришел к вам, что вы живая традиция «Пролетариата», — горячо говорил Феликс. — А ты, Антек, как думаешь? — обратился он к сыну Яна Росола,
Восемнадцатилетний Антон, ученик Варшавских рисовальных классов, формально не состоял ни в какой организации, но так же, как отец, мать и старший брат, считал себя социал-демократом.
— Вы правильно говорите. Надо лишь энергично взяться, — ответил Антек, поглядывая на отца.
Антек признался, что он уже создал кружок самообразования из молодых рабочих и мечтает с помощью легальной и нелегальной польской и русской литературы сделать из них агитаторов и положить начало новой социал-демократической организации в Варшаве.
Дзержинский посмотрел на него с изумлением.
— Это же замечательно! — воскликнул Феликс. — Вот видите, товарищ Росол, — обратился он к Яну, — мы с вами только еще обсуждаем, можно ли воссоздать социал-демократическую организацию, а Антек уже на практике этим занимается.
Начался общий разговор. Дзержинский расспрашивал Яна и Антона о положении рабочих. Он жадно интересовался всеми подробностями.
Ко времени появления Дзержинского в Варшаве Королевство Польское было одним из наиболее развитых в промышленном отношении районов Российской империи. Лодзь славилась своими текстильными фабриками, в Домбровском бассейне сосредоточена каменноугольная и металлургическая промышленность, в Варшаве — металлообрабатывающие, кожевенно-обувные, швейные и пищевые предприятия.
Уже чувствовалось приближение экономического кризиса 1900–1903 годов, и предприниматели, особенно мелкие и средние, старались удержаться от разорения за счет рабочих. Рабочие отвечали забастовками.
— Хуже всех приходится сейчас нам, сапожникам, — говорил Ян, работаем по 14–18 часов в день. И жены и дети с нами работают, а зарабатываем в месяц 20–25 рублей. Едва на пропитание хватает. Бороться с хозяевами трудно. Сапожники не металлисты. Не на заводе работаем, а большей частью дома. Раскиданы поодиночке, в лучшем случае человек по десять-двадцать, в маленьких мастерских.
— Вот и начнем с сапожников. Создадим среди них крепкую социал-демократическую организацию, поднимем на забастовку. Я сапожников еще по Вильно хорошо знаю. Народ боевой, надо только помочь им сорганизоваться, — сказал Дзержинский. И, верный своей привычке никогда ее откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, попросил свести его с кем-нибудь из наиболее сознательных и надежных рабочих.
— Есть у меня на примете один такой. Лесневский. У Эйзенхорна работает. Антек проводит, — отвечал старый Росол.
Он с нежностью поглядел на сына.
— Старший-то мой в тюрьме, жена ожидает приговора, верно, и Антеку не избежать. Такова наша рабочая доля, — сказал Ян.
— А отец-то пять лет ссылки в Архангельской губернии отбыл. Только недавно вернулся, — сказал Антек Дзержинскому уже на улице.
Они вошли в обшарпанное парадное двухэтажного кирпичного дома, спустились по грязной лестнице с выщербленными кирпичами в полуподвал и остановились перед дверью. На стук вышел хозяин и, увидев Антека, приветливо поздоровался и пригласил гостей в комнату.
— Знакомьтесь, — сказал Антек, — Ян Лесневский. А это Астрономек, — представил он Дзержинского. Они заранее договорились об этом новом подпольном имени. Беглый ссыльный, проживавший в Варшаве нелегально, должен был скрывать свое подлинное имя.
Антек ушел, а Феликс и Ян долго проговорили в тот вечер. Лесневский не состоял тогда в партии, но всей своей тяжелой трудовой жизнью был подготовлен к восприятию социал-демократических идей. Не прошло бесследно и его общение с Яном Росолом. Поэтому они с Дзержинским быстро нашли общий язык.
— Рабочие у Эйзенхорна дошли до отчаяния и готовы бастовать, — рассказывал Лесневский.
— Забастовка — мощное оружие, — отвечал ему Дзержинский, — но сначала мы должны подготовить к этому сапожников, работающих и у других хозяев. Без их поддержки вас разобьют.
Договорились, что в ближайшее воскресенье у Лесневского соберутся наиболее сознательные рабочие из разных фирм.
Вскоре Дзержинскому удалось организовать три кружка среди сапожников, в которых участвовали и пекари, кружок столяров и кружок металлистов. Ему помогали Ян и Антон Росолы и Ян Лесневский.
Настал день, когда Росолы и Лесневский впервые повели Дзержинского на собрание рабочих. Это были сапожники фирмы Эйзенхорна. Помещения для собраний у них не было. Сошлись за городом, на свежем воздухе.
Стояла золотая осень. Окрашенные во все тона желтизны красовались березы и осины, горели багрянцем клены, темной зеленью выделялись среди них дубы. Октябрьское солнце подсушило землю, уже покрытую пожухлой листвой, и пригревало расположившихся на поляне людей.
Собралось человек двести. Старые и молодые, но все с серыми, испитыми лицами, узловатыми, натруженными руками, с навечно въевшейся от сажи и дратвы грязью.
— Знаешь что, — сказал Феликсу Ян Росол, когда они подходили к лесу, — представлю я тебя Франеком. Для рабочих так будет понятнее и проще. А то придумал какого-то Астрономека.
Так Ян Росол и представил Дзержинского собранию.
Сапожники долго аплодировали Франеку. Хорошо он сказал о том, что рабочих Эйзенхорна должны поддержать рабочие других фирм — русские, поляки, евреи, все, без различия национальностей и вероисповедания. Сила рабочих в единении. Решение о забастовке приняли дружно. Тут же выработали свои требования к хозяину: установить 12-часовой рабочий день, увеличить оплату труда на 30 процентов, разместить надомников в мастерских. Выбрали забастовочный комитет. Вошел в него и Лесневский.
Франек не обманул. Рабочих фирмы Эйзенхорна поддержали другие сапожники. Агитаторы, подготовленные Дзержинским, поднимали на борьбу одну за другой обувные фабрики, фирмы и мастерские. Вскоре забастовка сапожников Варшавы стала всеобщей, И закончилась победой.
Непосредственным результатом этой победы было то, что все сапожники, состоявшие ранее в ППС, перешли к социал-демократам. Вслед за ними стали откалываться от ППС и примыкать к социал-демократам наиболее сознательные рабочие других профессий — столяры, пекари, металлисты.
После собрания сапожников фирмы Эйзенхорна среди варшавских рабочих разнесся слух, что есть какой-то «литовчик», который хорошо знает рабочую жизнь и уж очень понятно разъясняет, в чем суть эксплуатации рабочего класса капиталистами.
К Росолам и Лесневскому стали обращаться с просьбами привести «литовчика», но те решили больше Дзержинского на общие собрания не пускать. Слишком велика опасность провала, да и в кружках у него дел по горло. Дзержинский сам вел занятия почти во всех кружках. Больше было некому.
Очень трудно было работать из-за отсутствия социал-демократической литературы. Ян Росол вытащил из тайника экземпляр брошюры Розги[6] «Независимость Польши и рабочее дело», да еще у одного старого социал-демократа нашлось два комплекта газеты «Справа работнича» — вот и все. Недостаток литературы пришлось восполнить широкой устной агитацией и собственным творчеством.
Феликс Эдмундович написал статью, где в популярной форме критиковал ППС и излагал задачи социал-демократии. Эту статью агитаторы на очередном занятии кружка добросовестно переписали и в рукописи распространили по всему городу. Во время забастовки сапожников Дзержинский написал и сам же издал гектографированную Прокламацию.
Старый Росол рассказал Дзержинскому о своей беседе с рабочим Штефанским, недавно перешедшим к ним из ППС.
— Пилсудский очень раздражен. Среди близких ему людей он прямо говорит: «Надо раз и навсегда покончить с этой социал-демократией». Его очень интересует, кто скрывается под именем Франек и Астрономек. Боюсь, не пахнет ли здесь какой-нибудь провокацией.
— От этого типа всего можно ждать. Я ему в Вильно много крови попортил, — ответил Феликс.
Руководители ППС стали направлять на занятия рабочих кружков, созданных социал-демократами, своих агитаторов.
На занятия кружка столяров явился пепеэсовец Лыхосяк, известный по кличке Козак. Лыхосяк был рабочим-столяром и неплохим оратором. Руководители ППС надеялись, что столяры скорее поддержат «своего», чем пришлого интеллигента Франека. Однако их расчеты не оправдались. В горячей дискуссии Дзержинский разгромил все доводы своего оппонента.
После окончания занятий, когда Феликс уже ушел, как всегда торопясь куда-то, Лыхосяк схватился с Антеком.
— Ну погодите. Мы еще с вами рассчитаемся! — грозил Козак.
Когда Антек рассказал Дзержинскому об этой стычке, тот не придал большого значения угрозам пепеэсовцев.
В декабре 1899 года представители социал-демократических кружков Варшавы постановили образовать «Рабочий союз социал-демократии». Так менее чем три месяца спустя после приезда Дзержинского в Варшаву там была воссоздана социал-демократическая организация.
— Товарищи! — говорил Дзержинский на одном из первых заседаний правления союза. — Наш союз — неотъемлемая часть социал-демократии Королевства Польского. Но мы пойдем дальше по пути к объединению социал-демократии Королевства Польского с социал-демократией Литвы, а затем и России в единую, мощную пролетарскую партию.
— Меня очень беспокоит Литва, — продолжал Феликс. — Когда я после побега приехал в Вильно, новые руководители литовской социал-демократии — старые товарищи были уже в ссылке — вели переговоры с ППС об объединении. Мы не можем отдать литовских рабочих националистам. Поэтому я прошу разрешить мне незамедлительно поехать в Вильно для переговоров об объединении польских и литовских социал-демократов.
— Насчет объединения предложение правильное, а вот стоит ли ехать в Вильно Астрономеку, надо подумать. Его там все шпики знают, недолго и с тюрьмой «объединиться», — рассуждал Ян Росол.
Феликс настоял на своем. И действительно, другой, более подходящей кандидатуры не было. Он знал местные условия и многих рядовых социал-демократов, сохранившихся от арестов. И его там знали, и ему верили.
— Осторожнее, синод, ты нам нужен здесь, а не в тюрьме, — говорил старый Росол, обнимая Феликса перед отъездом.
Варшавский поезд прибыл в Вильно рано утром.
Феликс решил совместить приятное с полезным: полюбоваться на знакомые места, а заодно еще раз проверить, нет ли за ним наблюдения. Весь день он бродил но городу, отдавшись воспоминаниям детства и юности, а как только начало темнеть, направился на квартиру к Эдварду Соколовскому.
Соколовского он знал еще по объединенному ученическому кружку. Эдвард вступил в партию на год позднее Дзержинского, однако сейчас, после арестов организаторов Литовской социал-демократической партии, стал одним из ее руководителей.
Последняя проверка — кажется, все в порядке, и Дзержинский нажал кнопку звонка. Дверь открылась почти мгновенно, и Эдвард, предупрежденный заранее о приезде Феликса, крепко обнял гостя.
Спустя минуту они уже сидели в уютной гостиной и перед ними дымился, постепенно остывая, душистый чай.
— Здорово живешь, а я уже давно отвык от такой роскоши, — усмехался Феликс, с удовольствием погружаясь в мягкое кресло.
— Живем пока, — напирая на слово «пока», — отвечал Эдвард.
Старые друзья проговорили до поздней ночи.
— Объединить с вами в одну партию всю литовскую социал-демократию вряд ли удастся. Слишком велики, я бы сказал, традиционные, националистические тенденции, привитые Домашевичем и Моравским, — говорил Соколовский.
— Знаю, — отвечал Дзержинский. — Ведь не зря же вы не пустили меня к рабочим, а постарались поскорее сплавить за границу, когда я бежал из ссылки. А я вот опять в Вильно, и все с той же идеей.
Соколовский поморщился.
— Честь тебе и слава, — сказал он иронически, — но из Вильно тебя сплавили для твоего же блага. Ты здесь и месяца не продержался бы на свободе.
— Не будем спорить. — Дзержинский не хотел отвлекаться от главного.
— Предположим, нельзя объединить всех, но ведь есть же у вас товарищи, стоящие на интернационалистических позициях! Так давай их соберем, — добивался своего Феликс.
На том и порешили.
На совещании, созванном в Вильно в декабре 1899 года, идея объединения одержала победу. Для практического осуществления плана создания объединенной партии и выработки устава был избран организационный центр (Совет). В его состав вошли Ф. Дзержинский, Я. Росол, Э. Соколовский, С. Трусевич (К. Залевский) и М. Козловский.
Дзержинский торжествовал. Самое трудное позади. Оставалось добиться решения об объединении от социал-демократического «Рабочего союза Литвы». Союз этот был создан в 1896 году революционными рабочий и частью интеллигентов, стоявших на интернационалистических позициях. Они откололись от Литовской социал- демократической партии, недовольные половинчатостью и непоследовательностью ее программы.
В начале января 1900 года в Минске должен был состояться съезд «Рабочего союза Литвы», и Дзержинский отправился туда.
Как и предполагал Феликс, идея объединения с польскими. социал-демократами была здесь горячо поддержана. Съезд подтвердил решения декабрьского совещания. В избранный на съезде Центральный Комитет вошли Ф. Дзержинский, М. Козловский и С. Трусевич (К. Залевский).
На декабрьском совещании и на съезде подготовка программы Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) — так предполагалось называть новую, объединенную партию — была возложена на варшавский «Рабочий союз социал-демократии». В феврале намечалось провести объединительный съезд.
Такие радостные вести привез Дзержинский в Варшаву. Всего несколько дней понадобилось ему, чтобы составить и издать проект программы. За основу он взял программу социал-демократии Королевства Польского, а необходимые дополнения были давно им обдуманы и выстраданы.
Казалось, все шло как нельзя лучше, когда на Дзержинского обрушился постоянно ожидаемый и все-таки всегда неожиданный провал.
23 января 1900 года на квартире у сапожника Грациана Маласевича Феликса Эдмундовича Дзержинского арестовала полиция. Вместе с ним были арестованы еще девять человек.
Дзержинский очутился в одиночной камере X павильона Варшавской цитадели. Утешала только одна мысль: он арестован, но агитаторы его на свободе.
Арест Дзержинского лишь немного отдалил подготовленное им объединение социал-демократии Польши и Литвы в единую партию. Оно состоялось в августе 1900 года на съезде в Отвоцке.
2
Ротмистр Пухловский готовился к первому допросу Дзержинского. Он внимательно изучал лежавшее перед ним дело с агентурными донесениями. «На сходке, созванной 2-го сего января по приглашению Нурковского, участвовало 20 рабочих. Руководителем сходки был дворянин Феликс Дзержинский, известный под кличкой «Переплетчик», который произнес речь о необходимости слияния польской рабочей партии, в видах низвержения царизма, с русскими социал-демократами, причем обещал снабдить присутствующих нелегальной литературой с. — петербургского издания. «Переплетчику» возражал столяр Степан Бурак», — ротмистр удивленно поднял брови. «При чем тут «Переплетчик»? Все другие данные говорят, что Дзержинский выступает под кличками Франк, Франек или Астрономек.
Ах да! Это же пишет осведомитель, специально вызванный из Ковно, а там Дзержинский был ему известен как «Переплетчик».
Пухловский еще раз перечитал донесение и подчеркнул синим карандашом то место, где говорилось об обещании Дзержинского снабжать рабочих «нелегальной литературой с. — петербургского издания». Затем раскрыл лежавшую на столе тетрадь и записал: «Просматривается прямая связь с литературой, найденной на Иерусалимских аллеях. Допросить, откуда получает с. — петербургские издания».
Пухловский снова вернулся к донесениям. Сообщение особой канцелярии предупреждало, что 23 января 1900 года в 10 часов утра должна состояться сходка на квартире сапожника Грациана Маласевича, на которой ожидается Франек, пропагандирующий среди рабочих социал-демократические идеи. Здесь-то полиция и арестовала Дзержинского, Маласевича и всех других участников сходки.
Пухловский взял в руки протокол обыска. «У господина Дзержинского изъяты при обыске: книга на русском языке под заглавием «Происхождение семьи, частной собственности и государства», сочинение Ф. Энгельса, гектографированное воззвание к «Товарищам рабочим фабрики Брохиса», призывавшее их к стачке, две тетради со статьями «Очерк программы социал-демократии Королевства Польского» и «Наше отношение к борьбе за независимость Польши и за самоуправление Края», в обеих статьях излагаются задачи международного социализма и указываются наиболее целесообразные способы борьбы польского пролетариата с капиталистами и самодержавием в виде совместного с рабочим классом всей России движения».
«Неплохой наборчик! — Пухловский был удовлетворен материалами. — Посмотрим, что по этому поводу скажет нам господин Дзержинский».
В кабинет ввели Дзержинского. Посадили напротив следователя. Арестованный сидел спокойно, положив руки на колени. Ни тени страха или смятения во взгляде.
— К какой партии принадлежите? — спросил ротмистр после положенного выяснения личности арестованного.
— Я являюсь социал-демократом. Мои взгляды изложены в отобранной у меня при обыске программе и других рукописях.
— Назовите имена руководителей вашей партии, — спешил закрепить «успех» следователь.
— Видите ли, господин ротмистр, — Феликс старался говорить как можно убедительнее, — никакой партии вовсе не существует. Я писал листовки от имени партии, чтобы придать своим словам больше веса, чтобы иметь возможность сослаться перед рабочими на стоящую якобы за мной солидную организацию.
Пухловский посмотрел на Феликса, встретил его ясный и твердый взгляд и решил не настаивать пока на этом вопросе.
— Вас задержали в доме номер семь по улице Каликста. Расскажите, как вы туда попали и что вам известно о хозяине квартиры.
— Меня привел туда один неизвестный человек, с которым я познакомился в трактире. Он вызвался ввести меня в рабочую среду. Попал я в эту квартиру в первый раз и хозяина не знаю.
Эту легенду Феликс составил еще по дороге к Маласевичу. Придумал на всякий случай, по конспиративной привычке, и вот она пригодилась. Он спокойно, без запинки: отвечает на вопросы следователя.
— Столяр Сенкевич заявил на допросе, что он и другие лица, задержанные у Маласевича, специально собрались, чтобы послушать вашу «науку», господин Дзержинский, и что вы говорили о необходимости слияния польской партии с русскими социал-демократами и обещали снабдить их нелегальной литературой санкт-петербургского издания. Что вы на это скажете?
— Содержание моего выступления Сенкевич передает приблизительно правильно. Я ведь уже признал, что являюсь социал-демократом. Я действительно пропагандирую социал-демократические идеи среди рабочих. Насчет санкт-петербургских изданий Сенкевич что-то напутал, откуда они у меня?
— Вот это-то мы и желали бы от вас услышать. Откуда? — И Пухловский засыпал Феликса вопросами: от кого получил нелегальные издания, отобранные при обыске? С кем был в сношениях? У кого проживал? Кто из знакомых, проживает на Иерусалимских аллеях?
Давать показания арестованный отказался.
Шли новые обыски и новые аресты. Допрашивались и передопрашивались однодельцы Дзержинского и свидетели. Допрашивали много раз и самого Дзержинского. Менялись следователи, но не менялись его показания. Пробовал «разгрызть орешек» и сам начальник Варшавского жандармского управления полковник Иванов, но и ему это не удалось.
В обвинительном заключении полицейские власти признали в Дзержинском одного из руководителей возникшей в 1900 году польской революционной организации, пропагандирующей среди польских рабочих международную социалистическую программу и стремящейся соединить «рабочих всей России в один общий союз и при помощи революции» ниспровергнуть верховную власть, добиться переустройства всей страны «в духе социалистического строя».
В ожидании суда Феликса Эдмундовича Дзержинского перевели в Седлецкую тюрьму. Там в одной с ним камере оказался ж Антек Росол.
По ночам Антека мучил кашель. Он заболел туберкулезом в мрачной тюрьме «Павиак». После настойчивых требований Росолу наконец «оказали милость» — перевели в Седлецкую тюрьму. Считалось, что там условия немного лучше. Но несчастья не оставляли Антека и здесь. Быстро прогрессировал туберкулез. Разболелась нога. Тюремный врач сделал операцию, но плохо. Больному нужен был воздух. А Антек после операции совсем не мог выходить из камеры, даже на короткие тюремные прогулки.
Дзержинский нежно ухаживал за другом. С ужасом наблюдал, как Антек на глазах угасает.
Хуже и хуже чувствовал себя и Феликс. Температурил. Слабость разливалась по всему телу. Ночью просыпался от удушья, в липком поту. Настал день, когда тюремный врач объявил и ему приговор — туберкулез!
Вечером после очередного приступа кашля Антек совсем обессилел. Он лежал мертвенно-бледный, с заострившимися скулами, и кровавая струйка тянулась от угла рта к подушке.
А на следующий день заключенные, выходившие на прогулку, увидели, как по железным ступеням тюремной лестницы медленно спускался Дзержинский. На руках у него был Антек Росол.
Во дворе он нашел место, где было больше солнца, и посадил там Росола. Устроив Антека поудобнее, Феликс занял свое место в цепи шагающих по кругу заключенных.
Кровь пульсировала в жилах, кружилась голова от перенесенного напряжения, но всякий раз, когда Феликс проходил мимо Антека и видел, как тот улыбается, прикрыв глаза от солнца, щемящая радость переполняла его сердце.
Изо дня в день Дзержинский выносил на прогулку больного. Так продолжалось до июля 1901 года, когда Антона Росола ввиду его безнадежного состояния освободили из тюрьмы на попечение матери, высланной из Варшавы в Ковно.
— Отпустили его, отняв жизнь, чтобы избавиться от хлопот, — говорил Дзержинский.
Тюрьма постепенно отнимала жизнь и у него самого. Поэтому Феликс даже обрадовался, когда наконец после почти двухлетнего пребывания в тюрьме на положении подследственного ему объявили приговор. На этот раз его ссылали на пять лет в Восточную Сибирь.
3
В ожидании исполнения приговора Феликс засел за письма. Только что закончился срок очередного наказания; он был лишен права переписки и свиданий. Свидания и письма приносили с собой жизнь, возможность общения с близкими людьми, родными по крови или по духу. Пусть общение это было урезанным, ограниченным рамками тюремных правил, иногда даже вызывало страдания, но все же давало ему возможность чувствовать, что творится там, за тюремными решетками. Лишение переписки и свиданий было для Дзержинского тяжелее карцера, приносившего лишь физические мучения.
Дзержинский с жадностью набросился на письма, накопившиеся за месяц, перечитывал, писал ответы.
Прежде всего, конечно, Альдоне. Эх Альдона! Альдона! Какое удовольствие доставляют ему ее письма, проникнутые материнской заботой и любовью, как приятно узнавать о семейных новостях, радостях и заботах и как горько сознавать, что старшая сестра по-прежнему не понимает тебя! В который раз ему приходится объяснять ей, что он доволен своей судьбой и иной жизни не хочет.
Спохватился, что опять забыл написать о себе: как живет, как со здоровьем. Не любил он распространяться на эту тему. Да и к чему? Все равно Альдона ничего в его положении изменить не может. Но она требует, хочет обязательно все знать.
Феликс вздохнул, и снова перо забегало по бумаге. «Что касается меня, то я надеюсь, что не более как через два месяца буду, вероятно, выслан в Якутский округ Восточной Сибири. Здоровье мое так себе — легкие действительно начинают меня немного беспокоить. Настроение переменчиво: одиночество в тюремной камере наложило на меня свой отпечаток. Но силы духа у меня хватит еще на 1000 лет, а то и больше…»
Он только собирался взяться за новое письмо, как загремел засов, дверь отворилась, и высокий, всегда хмурый надзиратель, привыкший за долгую службу не говорить лишних слов, пробасил:
— Выходи на свидание. — Прочел недоумение на лице Дзержинского. Добавил: — Сестра приехала.
«Альдона, милая», — думал Феликс, ловя себя на том, что идет слишком быстро и надзиратель едва поспевает за ним.
Он открыл дверь в комнату для свиданий и… остолбенел. Перед ним за барьером, разделявшим комнату на две части, стояла Юлия Гольдман.
С Юлией он познакомился еще в Вильно, через ее братьев Михаила и Леона, принимавших участие в работе социал-демократической организации. В то время Юлия только искала свой путь в революцию и была где-то на перепутье между Бундом и социал-демократами. Феликс горячо взялся за обращение ее в убежденную последовательницу революционного марксизма. Он едко высмеивал национальную ограниченность Бунда и доказывал преимущества лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Письма товарищей иногда доносили до него в Кайгородское кое-какие сведения о Юлии. Она пошла по его пути, стала социал-демократом, агитатором среди рабочих. В далекой ссылке Феликс тепло вспоминал о Гольдман. Ему было приятно думать, что вот живет в Вильно девушка-революционерка и что в ее становлении и он сыграл не последнюю роль.
Юлия нашла его в Седлецкой тюрьме. Началась переписка. И Феликс заметил, что с особым нетерпением ждет ее писем, радуется им и тоскует, когда их долго нет.
И вот она сама, живая Юлия, стоит перед ним, и большие ее глаза лучатся радостью. Но что это? Седая прядь серебрится в ее пышных черных волосах.
— Феликс, не узнал? Это же я, Юлия, твоя двоюродная сестра, — услышал он наигранно веселый голос.
— Юлия! Как ты выросла за эти годы, не сразу и узнаешь, — подхватил игру Феликс.
Они стояли и не могли наглядеться друг на друга. А разговор не клеился. В комнате сидел надзиратель. Говорить при нем о том, что волновало их, было нельзя. Приходилось объясняться намеками.
— Наши родные живут плохо, — говорила «сестра», — кто болеет, а кто уехал искать работу.
И Феликс понимал, что «родные» — это социал-демократы, «болеют» — сидят в тюрьме, «уехали» — высланы или сосланы. Затем следовали приветы и поклоны от «родственников» и «знакомых» — товарищей по партии, называемых, разумеется, по кличкам или именам. Это значит — живы, здоровы, работают.
Ему хотелось услышать от Юлии, как она жила и как живет сейчас, чем дышит, о чем думает. Но перед бдительным взором надзирателя стояла «двоюродная сестра», что могла она рассказать о революционерке Юлии Гольдмая?
— Свидание окончено! — возвестил надзиратель, а они ничего так и не успели сказать друг другу.
Юлия не пропускала ни одного свидания. Чтобы быть ближе к Феликсу, она переехала из Вильно в Седльце. Конечно, без разрешения полиции: и теперь значилась в рубрике «преступников, скрывшихся из-под надзора».
Возвращаясь с очередного свидания, Дзержинский метался по камере под напором чувств, обуревавших его. Он любит, и он любим. Счастье переполняло его. Но — проклятие палачам! — они с Юлией не могут даже сказать в полный голос о своей любви. Юлия хочет разделить с ним ссылку, но и это невозможно. Разве может он позволить, чтобы ради него она бросила дело, которому посвятила жизнь! Феликс сам попросил Юлию не приходить больше к нему. Они поклялись найти друг друга, как только он вырвется на свободу.
Постепенно Феликс начал успокаиваться. Но тут пришло письмо от Альдоны. Сестра собиралась приехать попрощаться с ним. Феликс ответил: «Не приезжай — не стоит без нужды увеличивать свои страдания. Я знаю это лучше всего из собственного опыта: у меня здесь было несколько свиданий с одним очень дорогим мне человеком; больше уже не получу свиданий, и судьба разлучила нас на очень долго, может быть, навсегда. Вследствие этого мне пришлось очень много пережить, и сегодня, через полтора месяца после нашего последнего свидания, я не могу еще обрести душевного равновесия».
Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и Юлии Гольдман суждено было встретиться еще раз в конце 1902 года в эмиграции, в Швейцарии. Оба они были больны туберкулезом. Юлия простудилась и умерла от воспаления легких у него на руках. Феликс заставил себя жить.
4
В селе Александровском, что лежит в верстах 70 от Иркутска, в корпусах бывшего винокуренного завода разместился знаменитый на всю Сибирь, да что там Сибирь — на всю Россию — Александровский каторжный централ, а при нем, в одном из корпусов, отгороженных от остальных зданий деревянным забором, центральная пересыльная тюрьма.
Начало мая 1902 года выдалось солнечным. Пользуясь довольно свободным режимом — весь день камеры в пересыльной тюрьме были открыты, — большинство ссыльных с утра и до вечера находились во дворе. Одни проводили время в беседах с земляками или товарищами, другие искали новых знакомств или просто блаженствовали, греясь на весеннем солнышке и отдыхая от утомительного этапного пути.
Феликс Эдмундович Дзержинский прибыл сюда несколько дней назад, но уже успел определить, что большинство содержавшихся в тюрьме ссыльных принадлежит к социал-демократам или к социалистам-революционерам. Именовались они для краткости и удобства произношения первые — эсдеками, а вторые — эсерами. Кроме эсдеков и эсеров, были здесь еще и пепеэсовцы, и бундовцы, и анархисты, но их было относительно мало.
Настроение у Дзержинского боевое, приподнятое. Еще бы! По пути в Сибирь и здесь, в Александровской тюрьме, он перезнакомился с социал-демократами из самых разных мест: с Украины и Кавказа, из центральных русских губерний и из Бессарабии, из Риги и Пскова. Работая в Варшаве, он, конечно, знал о существовании социал-демократических организаций в различных пунктах Российской империи, однако только сейчас воочию убедился, как широко и глубоко проникли в массы социал-демократические идеи. Дзержинского радовало и то, что большинство ссыльных социал-демократов считает себя «искровцами». Он и сам причислял себя к «искровцам», и был в свое время рад узнать, что «Искрой» руководит Владимир Ульянов.
Николай Алексеевич Скрыпник, товарищ по этапу, рассказал, что Ульянов в партийной среде больше известен как Ленин — псевдоним, которым он подписывает теперь многие свои работы.
В Александровской пересыльной тюрьме Дзержинский встретил ссыльных, сидевших там по десять месяцев. Это был вопиющий произвол.
— Послушайте, Сладкопевцев, — обратился Феликс к эсеру, непременному участнику всех дискуссий между ссыльными, — давайте на время оставим наши теоретические разногласия и выступим совместно. Ведь от произвола администрации страдают все.
— Давайте, — согласился Сладкопевцев. — Откровенно говоря, живое дело мне тоже приятнее разговоров.
Поддержка эсеров и других политических была обеспечена. Оставалось уговорить уголовников, содержавшихся вместе с политическими ссыльными. Среди ссыльных-уголовников нашлось несколько из Варшавы и Вильно. С помощью «земляков» Феликс быстро сговорился и с остальными.
6 мая 1902 года в Александровской пересыльной тюрьме произошло событие, никакими тюремными правилами не предусмотренное: состоялось общее собрание ссыльных. Председательствовал Дзержинский.
— Товарищи! Нас держат здесь незаконно. Мы все приговорены к ссылке, а не к тюремному заключению. Предлагаю предъявить начальнику тюрьмы требование: немедленно сообщить нам, кто и куда будет сослан и когда отправлен.
Предложение было принято единогласно.
— Никаких требований не признаю. Прошу разойтись по камерам — таков был ответ начальника тюрьмы Лятоскевича.
— Администрация не желает с нами разговаривать, но мы заставим ее считаться с нами, — заявил Дзержинский. — Выкинем из тюрьмы всех надзирателей и не пустим никого до полного удовлетворения наших требований.
— То есть как это выкинем? — опешил от такого неслыханного предложения кто-то из ссыльных.
— А так. Возьмем за шиворот и выкинем. Надзирателей внутри тюрьмы единицы, дежурят без оружия и сопротивляться не будут.
Эта мера, как крайняя, была заранее обусловлена Дзержинским с его товарищами социал-демократами. После небольших колебаний присоединились к нему и все остальные ссыльные.
У надзирателей отобрали ключи и выставили их за ворота. Ворота заперли, да еще и забаррикадировали.
Утром над воротами тюрьмы гордо развевался красный флаг с надписью: «Свобода». Вблизи собралась порядочная толпа. Глазели на флаг как на чудо, пока не показалась рота солдат и молодой поручик не пропел фальцетом: «Р-р-разойдись!»
Отогнав на приличное расстояние любопытных, рота развернулась в цепь и окружила тюрьму.
Передав командование усатому унтеру, поручик отправился к Лятоскевичу. Он доложил, что имеет секретный приказ: оружия не применять. Что же делать, если бунтовщикам взбредет в голову выйти из тюрьмы?
Этот непонятный для начальника тюрьмы и присланного ему в помощь офицера приказ был вызван отнюдь не человеколюбием генерал-губернатора. У того были свои резоны.
Взять тюрьму штурмом труда не представляет: она отгорожена от женского корпуса Александровского централа простым частоколом, а ссыльные безоружны, полагал чиновник. Но какой разразится скандал! Во-первых, не обойдется без жертв, а это значит — огласка на всю Россию; во-вторых, начнутся протесты в беспорядки среди политических заключенных в ссыльных по всей Восточной Сибири, а может быть, и в других местах. Понаедут разные комиссии, и кто знает, может быть, и с губернаторским креслом придется расстаться.
Вот почему, подучив донесение от Лятоскевича и взвесив все обстоятельства, его превосходительство изволил приказать: «Этому идиоту» — так генерал-губернатор именовал начальника тюрьмы, — урезонить бунтовщиков и уладить дело мирным путем; в помощь Лятоскевичу послать солдат, но только для «устрашения», а огня без его ведома и указания не открывать.
Еще его превосходительство распорядился в официальных бумагах события в Александровской пересыльной тюрьме именовать не бунтом, а «демонстрацией политических ссыльных». Главное же, что сделал предусмотрительный иркутский генерал-губернатор, — это послал телеграфный запрос губернатору якутскому с просьбой срочно, телеграфом, сообщить места поселения ссыльных, содержащихся в Александровской тюрьме.
А в Александровском солдаты, выставив у тюрьмы караулы, отправились спать. Ушел домой, шатаясь от усталости, Лятоскевич. В течение дня он несколько раз пытался «урезонить» бунтовщиков. Переговоры велись самым позорным для начальника тюрьмы образом — через щель в заборе. Ссыльные вручили Лятоскевичу заявление на имя прокурора Иркутской судебной палаты с жалобой на неудовлетворение их законных требований. Заявление подписали Дзержинский и еще пять ссыльных.
Тюрьма не спала. Ссыльные с минуту на минуту ждали, что солдаты и надзиратели попытаются овладеть тюрьмой. Еще вечером появление солдат напугало кое-кого. Начались разговоры: не следовало-де заниматься самоуправством и не лучше ли теперь же кончить эту волынку. Дзержинский, Урицкий, Скрыпник, Сладкопевцев и другие, более решительные, уговаривали колеблющихся держаться стойко.
Поздно ночью в самую большую камеру, где собрались все ссыльные, вбежал запыхавшись один из дежурных. Только что в ту же самую щель, через которую днем велись переговоры с Лятоскевичем, кто-то просунул иркутскую газету «Восточное обозрение». В газете под крупным заголовком сообщалось об убийстве министра внутренних дел Сипягина.
Нервное напряжение, царившее до этого, разрядилось пением революционных песен.
Караульные солдаты удивлялись: чему это радуются арестанты? По их солдатскому разумению, этим «бунтовщикам» за захват тюрьмы грозила если не виселица, то уж, наверное, каторга, а они поют.
Наступило утро восьмого мая. Второе утро существования вольной республики ссыльных в Александровской пересыльной тюрьме. У ворот тюрьмы остановилась тройка. Из коляски с трудом вылез вице-губернатор.
Его превосходительство распорядился предупредить ссыльных, чтобы открыли дверь: он сам придет беседовать с ними.
Лятоскевич отправился выполнять приказание. В ожидании возвращения начальника тюрьмы вице-губернатор прикидывал: если его переговоры окажутся безрезультатными, то в открытую для него дверь войдут солдаты. Он уже дал указание поручику подтянуть к воротам свою команду. Но… все его хитроумные замыслы повисли в воздухе.
— Передайте вашему превосходительству, — Дзержинский подчеркнул слово «вашему», — что дверь мы не откроем. Если он желает разговаривать, пусть подойдет к забору.
Беседовать через щель вице-губернатор не пожелал. По его приказу рота была построена в две шеренги перед тюрьмой. Надзиратели принесли заготовленные за ночь лестницы, встали на левом фланге.
— Господа! — раздался зычный голос его превосходительства. — Генерал-губернатор приказал передать, что ваша просьба о скорейшем направлении к месту ссылки будет удовлетворена. Прошу немедленно открыть ворота и дать возможность персоналу тюрьмы беспрепятственно исполнять свои обязанности.
— Передайте генерал-губернатору, что ваша тюрьма нам совершенно не нужна. Наоборот, мы хотим поскорее избавить вас от своего присутствия. Как только мы получим обещанное вами уведомление, персонал тюрьмы будет немедленно допущен к исполнению своих обязанностей, — отвечал из-за тюремной стены звонкий, молодой голос с заметным польским акцентом.
Вице-губернатор снял фуражку, вытер вспотевшую лысину. Затем медленно водворил фуражку на место и что-то сказал стоявшему рядом поручику. По полю разнеслась протяжная команда, ссыльные услышали клацанье затворов.
— Даю вам двадцать минут. Если ворота не будут открыты, прикажу стрелять, — как только мог твердо отчеканил вице-губернатор и быстрыми шагами направился прочь.
Вице-губернатор сознавал, что оказался в глупейшем положении. Пригрозив открыть огонь, он шел ва-банк, не видя иного выхода для поддержания престижа власти. И вот и престиж власти, и его собственный престиж оказались под угрозой. Время бежит, а ссыльные не выказывают признаков покорности. Привести свою угрозу в исполнение он не может: связан категорическим запрещением генерал-губернатора.
Между тем в тюрьме разыгрались драматические события.
Вспышка энтузиазма, вызванная сообщением об убийстве Сипягина, давно прошла. Сказались две ночи, проведенные без сна, голод и жажда. Уже не чувствовалось единой, сплоченной массы. Угроза вице-губернатора, воплощенная в солдатах с заряженными винтовками в руках, подействовала на многих.
Первой к воротам двинулась группа уголовников. Их вид не оставлял никаких сомнений: еще минута, и они разбросают баррикаду.
Путь им преградил Дзержинский.
— Чего вы испугались? Вице-губернатор не может стрелять в людей, которые требуют только одного: соблюдения ими же установленных законов!
— Начхать ему на законы! Захочет и всех перестреляет. Ему еще и орден на шею повесят.
— Захватить тюрьму постановили все ссыльные на своем общем собрании, — твердо заявил Дзержинский. — Открывать ли ворота или держаться до полной победы — тоже будем решать все сообща. Мы не позволим никому нарушать общую волю!
Дзержинский чувствовал себя теперь увереннее. Подошли и встали рядом Урицкий, Скрыпник и другие социал-демократы. Уголовных было мало, политических больше.
Для подготовки собрания времени не требовалось. Все и так были во дворе.
Начались горячие прения…
В кабинете начальника тюрьмы слышно было только тиканье настенных часов, напоминавшее о том, что время идет. Тяжелое раздумье вице-губернатора прервал стук в дверь. У порога вытянулся старший надзиратель.
— Депеша, ваше превосходительство! — отрапортовал он, протягивая бумагу.
Генерал-губернатор сообщал для объявления ссыльным места поселения и сроки их направления.
Вице-губернатор едва удержался, чтобы не перекреститься.
Своеобразное восстание в Александровской пересыльной тюрьме закончилось победой ссыльных. Жизнь в тюрьме вошла в свою обычную колею. Только надзиратели стали, пожалуй, более вежливыми. Твердость и смелость ссыльных вызвали и у них что-то похожее на уважение.
Дзержинский получил назначение в город Вилюйск, одно из самых дальних, глухих и суровых в климатическом отношении мест, куда царское правительство ссылало своих политических противников.
На память об этих событиях в полицейском деле ссыльного Ф. Э. Дзержинского осталась запись: «Принимал участие в демонстрации в Александровской пересыльной тюрьме в мае 1902 года».
5
На берегу Лены у деревни Качуг было шумно. Только что прибыла из Александровской пересыльной тюрьмы первая весенняя партия ссыльных. Партия была большая, около ста человек.
От Качуга Лена становилась судоходной, и здесь ссыльным предстояло погрузиться на паузок, чтобы вслед за прошедшим льдом отправиться вниз по реке дальше на север, к местам их ссылки.
По традиции для встречи первой «весенней» партии в Качуге собрались ссыльные со всего Верхоленского уезда. Генрик Валецкий, пепеэсовец из Варшавы, разыскивая земляков, бродил по берегу, где в ожидании погрузки лагерем расположился этап. Кто-то из ссыльных указал Валецкому на Дзержинского.
— Так это вы и есть Дзержинский? А я Генрик Валецкий. Мы вместе с вами сидели в феврале девятисотого в X павильоне, — говорил Валецкий, протягивая руку Феликсу. — Я был арестован раньше и узнал, что вы там, по «книжной почте»[7]. Очень рад познакомиться с вами лично.
— И я рад. Приятно встретить земляка за тысячи верст от родного дома. — Дзержинский крепко пожал руку Валецкому.
Двое суток Валецкий провел в лагере ссыльных на берегу Лены. Дзержинский расспрашивал его об условиях жизни в верхоленской ссылке. Особенно же интересовало его все, что касалось Вилюйска и предстоящего пути к этому городу.
Валецкий охотно делился своими сведениями.
Не обошлось и без старых споров; Валецкий-то был из ППС! Но он принадлежал к ее левому крылу, и Дзержинский убедился, что во многом их точки зрения очень близки между собой.
На исходе вторых суток Феликс отвел Валецкого в сторону и сказал:
— Генрик, я твердо решил бежать. Посоветуйте, откуда и как это лучше сделать.
— Из Вилюйска побег почти невозможен, хотя бы из-за его отдаленности, — отвечал Валецкий. — С паузка тоже не сбежишь, остановки короткие, все у охраны на глазах — мигом спохватятся.
— Значит, отсюда! — подвел итог размышлениям Валецкого Дзержинский.
— Да, отсюда. Но не сейчас. Вам надо «на законном основании» отстать от этапа. Сделаем это так: завтра перед посадкой на паузок вы скажетесь больным, а местный фельдшер подтвердит. Оставят вас в Верхоленске до следующей партии, а вы не будете ее дожидаться: отдохнете, наберетесь сил, и… счастливого вам пути! О фельдшере не беспокойтесь, — сказал Валецкий, заметив недоумение в глазах Дзержинского, — я попрошу его. Он нам сочувствует, да и против правды не очень-то погрешит. Вид-то у вас — в чем только душа держится!
На прощанье Валецкий посоветовал за ночь подыскать напарника. Вода полая, река широкая и бурная, одному не справиться.
Валецкий пошел в село, а Феликс направился к берегу.
У своего костра он нашел Урицкого. Тот сидел ссутулившись, худой, всей своей фигурой и длинным крючковатым носом напоминал какую-то огромную сказочную птицу.
— Хорошо, что ты не спишь, Моисей. Пойдем погуляем, — предложил Дзержинский.
Они подошли к реке и остановились у самой воды. Дзержинский осмотрелся. Поблизости нет никого. Шумит Лена. Можно откровенно поговорить.
Выслушав Дзержинского, Урицкий ответил:
— Спасибо, Феликс, я очень ценю твое предложение, но бежать с тобой не могу.
— Почему же?
— Потому что не хочу связывать тебе руки. Я близорук и без очков как слепой котенок. Представь себе, что будет, если в пути я потеряю или разобью свое единственное пенсне? К тому же совершенно не умею плавать.
Урицкий посмотрел на реку и поежился. У их ног взбухшая Лена катила свинцовые волны. По реке неслись льдины, стволы деревьев и всякий мусор.
— А что же Валецкий? — спросил Урицкий.
— Валецкий — «старик», за ним надзор слабее, и паспорт у него подготовлен. Он может бежать и по тракту, — ответил Дзержинский.
— Тогда возьми Михаила Сладкопевцева. Он террорист, человек решительный, энергичный и сложения крепкого. Как раз то, что нужно.
Сладкопевцев сразу и без колебаний согласился.
Первая часть плана прошла как по маслу.
Фельдшер долго осматривал Дзержинского, качал неодобрительно головой, а затем во всеуслышание категорически заявил, что «в таком состоянии» продолжать путь нельзя. Здоровяку Сладкопевцеву фельдшер посоветовал разыграть приступ аппендицита, что тот и исполнил довольно талантливо.
Начальник конвоя сдал «больных» под расписку верхоленскому исправнику, наблюдавшему за погрузкой, и даже пошутил: «Баба с возу, кобыле легче».
С этого дня в Верхоленске не было ссыльных более тихих и смирных, чем Дзержинский и Сладкопевцев. Они ежедневно ходили отмечаться в полицию, ревностно принимали лекарства, которыми их снабжал фельдшер, читали, помогали хозяину по дому, иногда удили рыбу.
Такая идиллия продолжалась около двух недель.
Вечером 12 июня Дзержинский и Сладкопевцев сидели в своей горнице, читали. Вернее, делали вид, что читают, а сами напряженно прислушивались к тому, что делается на хозяйской половине.
На церковной колокольне пробило полночь.
— Пора, — сказал Дзержинский.
Они вылезли через окно во двор и замерли в ожидании. В избе было тихо.
От избы к избе, от амбара к амбару крались они по деревне. Взошла луна, и беглецы старались подольше находиться в тени строений и деревьев. Наконец подошли к реке. Тут их ожидало новое испытание: у лодки, облюбованной для побега, оказался рыбак. Пришлось спрятаться и ждать, пока тот расставит сети и уйдет.
А теперь быстрее в лодку! Потеряно много драгоценного времени, на исходе короткая июньская ночь, а до рассвета им надо уплыть как можно дальше.
Лодка, подхваченная быстрым течением, неслась как птица.
— Что это? — спросил Сладкопевцев, услышав гул, похожий на шум водопада. Гул все возрастал и наконец перешел в грохот.
Раздумывать было некогда, Сладкопевцев направил лодку к берегу. Они причалили к большому острову.
Впереди оказалась мельница. Вода с шумом перекатывалась через плотину, образуя водопад. Плыть обратно против течения и искать на авось проход между скалами? Невозможно! Месяц спрятался за тучу, поднялся предрассветный туман. Оставался единственный выход — попробовать перебросить лодку волоком через остров.
Потащили. Лодка большая, тяжелая. Сладкопевцев сильнее Дзержинского, но и ему тяжело.
— Давай передохнем, — предлагал Сладкопевцев через несколько шагов. Феликс с благодарностью принимал приглашение, но ни разу первым не попросил отдыха. «Вот черт упрямый!» — весело думал Сладкопевцев.
Выбиваясь из последних сил, они столкнули лодку в реку на противоположной стороне острова. Некоторое время плыли, повалившись на дно лодки, и, отдавшись течению, отдыхали.
Уже рассвело, но густой туман не рассеивался. Хорошо бы пристать к берегу, переждать. Нет, нельзя! Надо спешить, пока побег не обнаружен. И лодка вслепую неслась по течению, все ускоряя и ускоряя ход под ударами весел.
Страшный удар, и Феликс не успел даже сообразить, что произошло, как оказался в воде. Ватное пальто набухало и гирей тянуло вниз, связывало движение рук и ног. Вынырнув, казалось, в последний раз, Феликс увидел руку, протянутую Сладкопевцевым, и с его помощью выбрался на берег.
Сладкопевцеву повезло. Когда лодка со всего разгона налетела на полузатопленное дерево и торчавший под водой сук пробил обшивку, он успел прыгнуть на какой-то пень, а с него на сушу.
Беглецы разожгли костер — просто счастье, что спички оказались не у Феликса, а у Михаила. Дзержинский выжимал и сушил одежду, бегал, чтобы согреться.
Когда туман наконец рассеялся, они увидели, что находятся на маленьком островке посреди Лены. Вокруг простирались пустынные берега.
— Чем не робинзоны, — пробовал шутить Феликс. Он никак не мог согреться, зубы все еще отбивали дробь.
После нескольких часов работы на веслах ужасно хотелось есть. Но есть было нечего. Скудные их запасы вместе с лодкой поглотила река.
— А вот и спасители не заставили себя ждать, — Сладкопевцев показал на проплывавшую мимо лодку. Крестьяне, сидевшие в ней, заметили костер и людей на острове и направились к ним.
«Потерпевших кораблекрушение» отвезли в ближайшую деревню. Они условились, что Феликс будет выдавать себя за купца, направлявшегося в Якутию за мамонтовой костью, а Сладкопевцев сыграет роль его приказчика. Дзержинский видел, что кое-кто из спасителей довольно скептически относится к их рассказу.
Тогда Феликсу пришла в голову блестящая мысль.
— Мишка! Выдай нашим спасителям пять рублей за труды, — распорядился «купец».
Сладкопевцев неодобрительно покосился на Дзержинского. У них на двоих было всего-то шестьдесят рублей, и такие непредвиденные траты казались ему излишними.
Мужики заметили его колебания, обозлились.
— Давай пятерку, раз его степенство господин купец, такое одолжение обществу делают. Нечего зажиливать!
Тут же послали за водкой. А когда изрядно выпили за здоровье «господина купца», захмелевший бородач полез к Феликсу обниматься, бормоча: «Мне што. Хучь купец, хучь барин, может, ишшо кто, а главное, человек ты хороший».
В надежде на хороший заработок мужики снарядили подводу, и беглецы, очень довольные собой, отправились дальше.
На почтовом тракте ямщики и лошади менялись через каждые 6—10 часов. Легенда о «кораблекрушении» богатого купеческого сынка мчалась вместе с ними, обрастая все новыми подробностями.
Благополучно добравшись до железной дороги, Феликс и Михаил сердечно распрощались. Дальше ехать вместе было бы неразумно…
Поезд подходил к Варшаве. Феликс стоял у окна и с волнением смотрел на хорошо знакомые ему варшавские пригороды. «Путь от Верхоленска до Варшавы занял у меня всего 17 дней, а туда, в ссылку, царские сатрапы везли нас четыре месяца», — подвел итог своему путешествию в Сибирь Дзержинский.
Никто его на вокзале не встретил. И он был рад этому: встречать могли только полицейские филеры, а их-то ему совсем не хотелось видеть.
Две недели варшавские рабочие прятали Дзержинского. Ему постоянно приходилось менять адреса; днем отсиживался где-нибудь в укромном месте, передвигался по городу только с наступлением темноты. Полиция искала его. Об активной партийной работе нечего было и думать. Он понял, что на этот раз надо на время исчезнуть. Знакомые бундовцы помогли переправиться через границу.
Глава IV Рождение Юзефа
1
Феликс шел по улицам Берлина на свидание с Розой Люксембург. У нее на квартире должны были собраться и другие члены Главного правления социал-демократической партии Польши и Литвы.
Берлин Дзержинскому не понравился. Много больших, монументальных, порой даже величественных зданий. Но все какое-то казенное. Преобладал серый цвет — серые здания, серая брусчатка на улицах; холодно, мрачно.
Он знал: Берлин — оплот и олицетворение прусско-бранденбургской реакции. А разве сравнишь его политический климат с Варшавой? Здесь, в Берлине, свободно живут и работают основоположники польской социал-демократии Роза Люксембург, Адольф Барский, Юлиан Мархлевский, Ян Тышка (Леон Иогихес). И польскими делами занимаются, и в деятельности германских социал-демократов активно участвуют. И никто их за это не преследует. Да и он сам идет по улицам Берлина свободно, спокойно, не опасаясь слежки и ареста, как в Варшаве.
И всё-таки Варшава для него лучше! Там его настоящая жизнь, борьба.
Чем ближе Дзержинский подходил к дому, где жила Роза, тем большее волнение охватывало его. Приближалась минута, когда он воочию увидит тех, кто сыграл такую большую роль в его жизни, чьи статьи и брошюры он с жадностью читал еще мальчишкой в гимназическом кружке. Как-то они встретят его?
В маленькой квартире Розы Люксембург хозяйка и гости тоже готовились к встрече с Дзержинским. Никто не знал его лично, но от эмигрировавших из Польши товарищей члены Главного правления слышали, что не без воздействия Дзержинского выросла революционная сознательность и жажда действия в широких рабочих кругах Варшавы, слышали легенды о его стойкости в тюрьмах и дерзких побегах и поэтому ждали его с нетерпением.
Дзержинский вошел и в смущении остановился у дверей. Роза, радушно улыбаясь, пошла ему навстречу, крепко, по-мужски пожала руку, познакомила с Мархлевским, Барским, Тышкой, усадила за стол подле себя.
Феликс ждал заседания Главного правления, готовился сделать доклад и ошибся. Ничего официального. Шла общая, непринужденная беседа. Конечно, его закидали вопросами. Ответы перемежались репликами, воспоминаниями. Иногда вспыхивали короткие споры, которые вскоре же гасились новыми вопросами.
Феликс с интересом наблюдал своих собеседников. Тридцатилетняя хозяйка, худенькая, с пышной прической и тонкими чертами лица, была обаятельна. Мархлевский, Барский, Тышка старше Розы, но Дзержинский видел, что за сердечным, товарищеским отношением их к ней скрывается и огромное уважение. Именно Роза была душой этого маленького тесного кружка. «Редкое сочетание женственности с огромной эрудицией и силой воли», — отметил он про себя.
Вначале разговор крутился вокруг суда, побега, жизни в ссылке. Вспоминались общие знакомые, прошлые дела. Когда речь зашла о его работе в Варшаве, Феликс почувствовал, что наступил наконец момент сказать о том, что он думает о деятельности Главного правления.
— Вы все здесь мои учителя. Я очень уважаю вас. Но в 1899 году, когда варшавские рабочие воссоздавали социал-демократическую организацию, им так не хватало литературы и политического руководства. И то и другое могли и должны были дать вы, однако никакой связи с Главным правлением у нас не было. Мы работали на ощупь.
Дзержинский заметно волновался, говорил быстро, сбивчиво.
— Сейчас, когда спустя два года я приехал в Варшаву, застаю примерно ту же картину. Литературы мало, и поступает она главным образом через русских товарищей из Петербурга. Своей, польской, почти нет, и регулярной связи с Главным правлением опять нет. Нам необходима своя боевая польская социал-демократическая газета, такая, как ленинская «Искра», — продолжал Дзержинский. — Нужна постоянная связь между Главным правлением и краевыми организациями.
— Все это легче сказать, чем сделать, — перебил его Тышка. — Кто и где наладит издание газеты? Кто сумеет организовать транспортировку ее через границу? Кто?
— Я, — просто ответил Дзержинский. — Конечно, если вы мне доверите и поможете, — поспешно добавил он.
— Вы, вероятно, думаете, что мы и в самом деле сидим здесь в безопасности и ничего не хотим предпринимать для помощи краю, — вмешался Варский. — Увы! Все наши попытки, к сожалению, кончались провалами. Царские жандармы свой хлеб не зря едят.
Роза пристально смотрела на Феликса грустными глазами. Он чувствовал, как краснеет от смущения за свою дерзость.
— Не будем сейчас упрекать друг друга, — мягко сказала Люксембург. — Соберем в ближайшие дни заседание Главного правления, и пусть Дзержинский изложит там свои предложения более обстоятельно.
— Простите за то, что я опять возражаю вам, но вещи, о которых мы сейчас говорим, настолько важны, что было бы лучше обсудить их на более представительном собрании. Я предлагаю созвать конференцию.
Тышка сердито хлопнул себя ладонью по коленке.
— Слушайте, Дзержинский! Вы только что обвинили нас в отсутствии связи с краевыми организациями, а теперь требуете созвать конференцию, да еще срочно. Да вы думаете, что говорите?
Тут раздался спокойный голос Мархлевского.
— Не кипятись, Лео. Правление партии в любое время вправе и созвать конференцию, и определить ее состав. Здесь, в Берлине, есть Ганецкий и Уншлихт[8]. Они только недавно приехали из Польши. Вместе с Дзержинским они могут представлять краевые организации, а мы с вами — Главное правление и заграничную часть партии.
— Пусть будет конференция, — положила конец спору Люксембург. — Я прошу вас, Феликс, — она впервые назвала Дзержинского по имени, — напишите письменный отчет о своей работе в Варшаве и подготовьтесь к докладу на конференции.
Она помолчала, пристально вглядываясь в его лицо. Вид плохой: круги под глазами, худ, лихорадочный румянец на щеках.
— А после конференции поезжайте в Швейцарию, вам надо хорошенько отдохнуть и подлечиться, — заключила Роза, зябко кутаясь в пуховый платок. На дворе конец июля, жара, а ей холодно. Начинался озноб.
— Я не для этого бежал из ссылки, — запальчиво ответил Дзержинский. — После конференции я немедленно вернусь в Польшу.
— Но вы же больны!
— Пусть! Пусть мне недолго осталось жить. Но никто не может помешать мне отдать последние свои силы борьбе за дело социализма.
— Дзержинский хочет показать себя великомучеником, — съязвил Тышка. — Он, видите ли, жизнь свою не жалеет для социализма. Не то что некоторые эгоисты.
Феликс весь сжался от обиды. Он не находил слов для ответа, закусил губу и едва удерживался, чтобы не уйти.
— Не обижайтесь, Феликс. — Он почувствовал на плече горячую руку Розы. — Товарищ Иогихес бывает жестковат в спорах, даже жесток, но только для пользы дела. Не обижайтесь, — еще раз повторила она, — и поймите, что ваша жизнь принадлежит партии и вы не вправе единолично распоряжаться ею.
Она нарочно сказала не Тышка, а Иогихес, назвала подлинную его фамилию, желая подчеркнуть полное доверие к Дзержинскому. Он понял и оценил это. Мягкий голос Розы и прикосновение ее руки действовали успокаивающе. Дзержинский был вспыльчив, но отходчив.
.— Ну как? — спросила Роза, когда Феликс ушел. — Что касается меня, то, признаюсь, я готова влюбиться в Дзержинского.
Тышка расхохотался. Резкая складка между бровей, придававшая строгое, даже страдальческое выражение его лицу, разгладилась.
— Когда молодая пани влюбляется в Дзержинского, это не удивительно. А вот если «жестокий» Иогихес тоже готов в него влюбиться, это уже что-то значит. Этот юноша в вопросах практических нам еще сто очков вперед даст.
Роза не на шутку разболелась и не могла быть на конференции. Но конференция все же состоялась в начале августа 1902 года. По предложению Дзержинского было решено издавать газету «Червоны штандар» («Красное знамя»). Первыми ее редакторами стали А. Барский, Ю. Мархлевский и Я. Тышка. Главное правление приступило также к изданию теоретического журнала «Пшеглонд социал-демократичны» («Социал-демократическое обозрение») и другой литературы.
Для привлечения к активной работе в партии польских и литовских эмигрантов и поддержания постоянной связи с партийными организациями на территории Российской империи конференция образовала Заграничный комитет социал-демократии Польши и Литвы, подчиненный Главному правлению партии. Секретарем Заграничного комитета избрали Дзержинского. Он принял новый псевдоним «Юзеф» — старые все известны полиции, — а своим постоянным местопребыванием избрал Краков. Этот польский город входил тогда в состав Австро-Венгрии и был расположен недалеко от русской границы.
Но прежде чем приступить к работе, Дзержинскому пришлось поехать на лечение в Швейцарию. Роза Люксембург сумела настоять на своем.
2
Кошутский сквозь сон услышал стук в дверь. Посмотрел на часы: кого это принесло в такую рань? Еще и шести нет. Стук повторился. На этот раз более настойчиво. Бронислав встал, накинул белый врачебный халат, открыл дверь и… оказался в объятиях Дзержинского.
— Пусти, чертушка! Хоть бы разделся сначала, — говорил смеясь Бронислав.
Пальто на Дзержинском намокло, со шляпы, съехавшей на затылок, капало. В 1903 году январь в Кракове стоял гнилой, часто моросил дождь.
Кошутский с интересом разглядывал друга. Как он возмужал! Совсем не похож на того худенького нежного юношу, который восемь лет назад с таким пылом отстаивал социал-демократические идеи на съезде ученических кружков в Варшаве.
Несколько месяцев, проведенных Дзержинским в Швейцарии и Закопане, в санатории «Братской помощи», куда Кошутский устроил Феликса под видом учащегося зубоврачебного училища Юзефа Доманского, благотворно сказались на его здоровье. Дзержинский загорел, кожа уже не обтягивала скулы, как после побега из ссылки, и вообще он хорошо отдохнул и окреп.
На третьем этаже дома № 1 по улице Згода, где жил Кошутский, поселился господин Юзеф Подольский, как две капли воды похожий на Дзержинского.
Комната была хорошая, но цена показалась Дзержинскому высокой. Он стремился, чтобы его содержание обходилось партии возможно дешевле. И Феликс уговорил товарища перебраться на Флорианскую улицу и поселиться при канцелярии Народного университета имени А. Мицкевича, где Кошутский работал секретарем.
Дзержинский стосковался по работе. Нельзя сказать, чтобы он во время лечения ничего не делал. Читал запоем на русском, польском и немецком языках. Прежде всего взялся за «Искру» и был приятно изумлен, прочитав в номере за 1 сентября 1902 года сообщение о своем побеге. Он высоко ценил «Искру», и ему льстило, что в газете нашлось немного места и для его персоны. Внимательно проштудировал новую книгу Ленина «Что делать?». Ленинский план создания единой марксистской партии пришелся Дзержинскому по душе. Эта идея владела им с того момента, когда он еще в Вильно прочел «Что такое «друзья народа»…». Феликс решил сделать все, чтобы помочь Ленину в создании такой партии.
Работа ждала его здесь, в Кракове. И Юзеф с головой уходит в дела Заграничного комитета. Много времени и сил занимает издание «Червоны штандара» и «Пшеглонда». Чтобы освоить технику печатного дела, Юзеф даже поступил корректором в одну из краковских типографий.
«Штандаром» рабочие восхищены, он уже завоевал себе авторитет. «Пшеглонд» своей серьезностью и глубиной мысли возбуждает уважение и прочищает головы нашей интеллигенции», — писал Дзержинский Цезарине Войнаровской, представительнице социал-демократии Польши и Литвы в Международном социалистическом бюро.
«Адольф почти один должен обслуживать все издания. Он должен писать, переводить, вести переписку, борясь за кусок хлеба, работая в проклятой конторе, вечно недосыпая и недоедая. Нет людей, которые собирали бы деньги, писали бы, сотрудничали бы с нами. Одна лишь Роза — действительно поражаюсь ее энергии и творческому таланту — работает для нас очень много», — сообщает Дзержинский в том же письме, отдавая должное Адольфу Барскому и Розе Люксембург.
Однако, каких бы трудов ни стоил выпуск партийных изданий, их надо было еще доставить из Кракова через границу в Королевство Польское. Не раз Дзержинский сам пересекал границу с грузом нелегальной литературы, самоотверженно выполняли его поручения молодые социал-демократы.
Однажды в комнату, где Дзержинский правил материалы «Червоны штандар», ворвался Кошутский.
— Феликс, я женюсь!
— Поздравляю, Бронислав. От души поздравляю!
Глаза Феликса светились радостью за товарища.
— Скажи, Бронислав, это правда, что счастье придает человеку силы, уверенность в себе?
— Конечно, я сейчас горы могу свернуть! — воскликнул Кошутский.
— Вот и прекрасно. Повезешь очередной транспорт в Варшаву.
Кошутский был явно озадачен таким неожиданным оборотом дела. Но как тут откажешься.
— Ты будешь храбр, как лев, и мудр, как змий, ведь тебе сейчас никак нельзя провалиться, — напутствовал Бронислава Дзержинский.
«Конечно, нельзя». И действительно, все обошлось вполне благополучно. Счастливый жених с радостью доложил об этом Дзержинскому, вернувшись из Варшавы.
За границей проживало довольно много польских и литовских социал-демократов, но большинство из них были разъединены, оторваны от жизни партии. «Причина такого положения, — писал Дзержинский в Главное правление, — не случайна, а является результатом отсутствия и заграничной организации, которая бы находила, собирала и объединяла социал-демократические силы, пребывающие за границей».
За словами должны следовать дела. И уже в январе 1903 года польские социал-демократы собрались в Кракове на первое собрание своей заграничной секции. Секретарем секции они единодушно избрали Юзефа — Дзержинского.
Работать стало легче. Нашлись квалифицированные пропагандисты. Члены секции распространили в Кракове среди польских эмигрантов большое количество партийной литературы, регулярнее стал работать нелегальный транспорт.
И вот, когда все, казалось, шло так хорошо, только бы жить да радоваться, судьба нанесла Дзержинскому новый удар. Новая вспышка туберкулеза выбивает его из строя. И снова партия направляет Дзержинского в Швейцарию.
В Женеве Феликс встретил Марысю Войткевич. Встреча была неожиданной. Оба очень обрадовались. На Феликса так и пахнуло юношескими воспоминаниями: гимназический кружок, Заречье и юная Марыся, помогавшая ему клеить листовки. А Марыся с болью в сердце смотрела на него: изнуренный, ссутулившийся, с пересохшими от лихорадки губами, как не похож этот сегодняшний Юзеф на того виленского стройного юношу с нежным лицом и здоровым румянцем во всю щеку.
Марыся училась в Женевском университете, жила скромно, по-студенчески.
Феликс оглядел комнату. Посмотрел в окно на горы, поморщился.
— Тебе что-то не нравится? — спросила Марыся, перехватывая его взгляд.
— Здесь хорошо, прекрасно, — ответил Феликс, — но эти горы… Куда ни посмотришь, взор везде встречает препятствие. Кругом горы, и кажется, что ты отрезан от жизни, от родины, от братьев, от всего мира.
— Ну зачем же, Феликс, так мрачно.
Он посмотрел на нее как-то странно и ничего не ответил. Налил из кувшина, стоявшего на столе, в стакан молока, с удовольствием выпил. Захотелось пить и Марысе.
— Что ты делаешь?! — закричал Феликс, вырывая у нее из рук свой стакан. — Мне приходится умирать, — сказал он, подчеркивая слово «приходится», — а вам-то жить!
Только теперь страшная догадка — «чахотка» — потрясла Марысю. Но она постаралась взять себя в руки.
— Чепуха, Феликс. Ты обязательно выздоровеешь. И не смей даже думать о смерти. — Марыся сказала это, как могла, спокойно и твердо.
Феликс взглянул на нее с благодарностью. Он понимал, что ничего другого она и сказать не могла. Но важно было не что сказано, а как сказано. Ему, человеку мужественному, претили сюсюканье и соболезнование, он если и нуждался в поддержке, то именно в той форме, в какой это сделала Войткевич.
Месяц упорного лечения, чистый горный воздух и молоко («побольше молока») сделали свое дело, каверны зарубцевались.
3
В 1903 году по всей Российской империи все выше и выше поднимался могучий вал рабочего движения. Во многих городах страны прошли первомайские стачки и демонстрации. Более 200 тысяч рабочих бастовало летом только в Закавказье и на Украине. Приближение революции ощущалось повсюду.
Остро чувствовал это и Дзержинский. В июне 1903 года он пишет, что социал-демократы «… должны организовать и приготовить наш пролетариат к революции. ППС за время своей десятилетней крикливой работы ничего в этом отношении не сделала и не могла сделать. Подготовляла она польское восстание, а приближается не польское восстание, а общероссийская революция»,
В эти жаркие июньские дни Дзержинский приехал в Мюнхен и поселился у Адольфа Барского на Гогенцоллернштрассе, 7-а.
С января 1903 года, когда Юзеф прочел в «Искре» извещение об образовании Организационного комитета по созыву II съезда Российской социал-демократической рабочей партии, для него не было дела более важного, чем подготовка социал-демократии Польши и Литвы к объединению с Российской социал-демократической рабочей партией. С этим он и теперь приехал к Барскому.
— Мы с тобой должны взять на себя инициативу созыва нашей конференции или съезда, чтобы решить вопрос об объединении, — чуть не с порога атаковал Юзеф Адольфа.
Он знал, что из всех членов Главного правления в Барском найдет наиболее последовательного своего единомышленника.
За несколько дней они детально обсудили все, что следовало решить съезду польской социал-демократии до того, как выйти на общероссийский съезд. То в согласии, то в спорах наметили они довольно длинный список вопросов, требующих своего разрешения. Тут были: отношение к общероссийской партии, отношение к Бунду и к отколовшемуся от ППС «III Пролетариату», об организации социал-демократии Польши и Литвы в стране и за границей, о ее программе, партийных изданиях и другие.
Три недели ушло на оживленную переписку с членами Главного правления, партийными организациями и Организационным комитетом.
Организационный комитет сообщил, что сам он не правомочен пригласить на съезд представителей социал-демократии Польши и Литвы, поскольку она не входит в состав Российской социал-демократической рабочей партии, но просит быть готовыми к посылке делегатов, так как съезд, вероятно, пригласит их.
Медлить дальше было нельзя. Дзержинский и Барский взяли на себя оповещение о созыве в Берлине IV съезда социал-демократии Польши и Литвы. Было решено направить персональные приглашения Розе Люксембург, Леону Тышке, Цезарине Войнаровской и Залевскому, бежавшему недавно из Сибири и прибывшему на общероссийский съезд с мандатом от Литвы.
Съезд польских социал-демократов состоялся накануне II съезда РСДРП.
Дзержинский едва сдерживал волнение, когда съезд приступил к обсуждению вопроса об отношении к РСДРП. Ведь сейчас от решения съезда зависело, воплотится ли в жизнь его многолетняя мечта. Мечта, выношенная и выстраданная в тюрьмах и ссылке, убеждение, утвердившееся в тесном общении с рабочими Варшавы.
Феликс видит, как встает Барский и читает проект резолюции. Проект, в составлении которого принимал горячее участие и он сам. «Желательно иметь совместную социал-демократическую организацию для всего Российского государства. Это главная задача данного момента и имеет основное значение, в отношении которого организационные формы составляют вопрос деталей».
Дзержинский привстал, приготовился считать голоса, но не пришлось: резолюция была принята единогласно. Так же единогласно съезд избрал Барского, Ганецкого и Дзержинского делегатами на II съезд РСДРП.
Но уже на следующий день его ждал неприятный сюрприз. В Брюссель на съезд РСДРП поехали только Барский и Ганецкий. Съезд пригласил от социал-демократии Польши и Литвы двух делегатов.
— Не огорчайтесь, Юзеф, — улыбаясь, говорила Роза. — Примите мои искренние поздравления с избранием вас в члены Главного правления партии и приступайте скорее к исполнению своих новых обязанностей.
Несколько дней Дзержинский провел в Берлине в беседах с Люксембург, Тышкой, Мархлевским. Они подробно ввели его в круг дел и забот Главного правления. Затем Главное правление поручило ему объехать ряд стран и городов в Западной Европе, где проживали польские и литовские социал-демократы, выяснить их положение, оживить работу секций. «Это время я скитался по всей Европе», — писал Дзержинский Альдоне в декабре 1903 года.
Были у Дзержинского дела и в Мюнхене, Барский все еще не вернулся. Жена его рассказывала, что съезд из-за преследований полиции вынужден был перебраться из Брюсселя в Лондон. Она ожидает приезда Адольфа со дня на день.
Наконец Барский появился. Увидев Дзержинского, Адольф смутился. Он был без малого на десять лет старше Феликса, привык относиться к нему как старший, с высоты своего жизненного и партийного опыта, а тут вдруг почувствовал себя как провинившийся школьник и не сразу набрался мужества сказать о том, что он и Ганецкий покинули съезд, так и не договорившись с русскими товарищами об объединении.
Услышав это признание, Дзержинский побледнел, лицо, до того сиявшее радостью встречи, посуровело.
— Как вы могли?! Вы нарушили полномочия нашего съезда, его прямое указание об «основном значении» объединения.
— Все произошло из-за девятого пункта программы РСДРП. Там говорится о самоопределении наций, а мы, как сам знаешь, считаем этот лозунг совершенно неприемлемым для польских социал-демократов.
— Ах, Адольф, я и сам против самоопределения, зачем оно победившему пролетариату? Но неужели вы не могли договориться об объединении, оставив за нашей партией право на свое мнение о самоопределении?
— Пробовали. Но ты, Юзеф, не знаешь Ленина. Он создает партию нового типа. Партию, основанную на единстве взглядов и строгой дисциплине. Никаких «своих мнений» по программным вопросам. Или мы признаем программу и устав полностью и тогда можем войти в РСДРП, или нет.
— Я бы все-таки объединился, а доказывать свою правоту можно было бы и потом, в рамках единой партии.
— Мы получили от Розы телеграфное указание покинуть съезд. Это указание Главного правления партии, и мы его выполнили.
— После нашего заявления об уходе, — продолжал, помолчав немного, Барский, — съезд принял резолюцию. Вот она, я привез ее с собой для Главного правления.
Дзержинский взял листок, пробежал глазами: «Выражая сожаление, что вызванное случайными обстоятельствами оставление польскими товарищами съезда лишило съезд возможности закончить обсуждение вопроса о присоединении социал-демократии Польши и Литвы к РСДРП, и надеясь, что это присоединение есть лишь вопрос времени, съезд поручает ЦК продолжение начатых на съезде переговоров».
Теперь, где бы он ни был — в Королевстве Польском или за границей, — в своих выступлениях на собраниях и в личных беседах Дзержинский еще настойчивее стал разъяснять, что «не может быть движения пролетарского отдельных национальностей, а должно быть одно пролетарское движение — одна партия социал-демократическая, которая стремилась бы охватить весь пролетариат без различия национальностей».
Глава V На баррикадах
1
В маленьком двухэтажном домике на улице Проста, 36, Юзеф появился, как всегда, внезапно. Кто из партийных активистов, находившихся в то время в Варшаве, не знал этого домика! Хозяйка его, Ванда Краль, молодая болезненная женщина, уже с 1902 года принадлежала к социал-демократам Королевства Польского и Литвы. Свой дом она предоставила в распоряжение партии.
В мезонине размещалась небольшая нелегальная партийная типография. Там же жил Винценты Матушевский, известный в подполье под именем Мартин. Прописан он был для конспирации как дворник. Мартин печатал листовки, а Ванда держала корректуру.
Домик Ванды был удобен и надежен. Вечерами из столовой доносились звуки рояля — хозяйка дома развлекала гостей. Гостями были партийные активисты. Некоторые из них, бездомные, с чужими паспортами, а то и вовсе без паспортов, оставались ночевать. Спали в столовой на кушетке, на столе, кому не хватало «спальных мест», устраивались просто на полу. Неудивительно, что, приехав в конце 1904 года в Варшаву, Дзержинский направился сюда. Где же, как не у Ванды Краль, можно быстрее и лучше сориентироваться в обстановке?
Ванда встретила его радушно, как старого знакомого. Они и в самом деле успели хорошо узнать друг друга во время неоднократных наездов Юзефа из Кракова в Варшаву.
— А где же ночлежники? — спросил Юзеф, осматривая пустую столовую.
— Ах! Мой «отель» терпит убытки! Сегодня никто не ночевал, — с притворным огорчением отвечала Ванда.
Услышав веселые голоса, спустился сверху Мартин.
Дзержинский был рад приезду в Варшаву и ясному морозному январскому утру, радовался предстоящей работе и встрече с товарищами по партии, был в ударе и так и сыпал шутками. А вокруг, зараженные его бодростью и весельем, улыбались все: Ванда, Мартин и домработница, зашедшая в столовую к хозяйке. Даже Ядя, трехлетняя дочурка Ванды, ничего еще не понимавшая, и та поддалась общему настроению.
— Дядя Юзеф приехал! Дядя Юзеф приехал! — кричала Ядя. Она прыгала вокруг взрослых и весело смеялась.
Феликс подхватил девочку на руки и закружил по комнате. В следующую минуту Ядя оказалась уже у него на шее, а сам дядя Юзеф скакал вокруг стола.
Дзержинский вдруг посерьезнел. Осторожно разжал руки Яди, крепко ее расцеловал и поставил на пол.
— Вы очень любите детей, Юзеф?
— Не знаю, как вам это объяснить, Ванда. Часто мне кажется, что даже мать не любит детей так горячо, как я. Кажется, что я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю… В особенно тяжкие минуты я мечтаю о том, что я взял какого-то ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо…
Дзержинский помолчал, потом вздохнул и невесело закончил:
— Но это лишь мечты. Я не могу себе этого позволить, я должен странствовать все время, а с ребенком не мог бы.
За завтраком разговаривали о приближающейся революции. Война с Японией обострила все противоречия общественной жизни в России. В стране назревал революционный кризис. Близкое дыхание революции чувствовалось и в Варшаве.
— А в этот раз вы надолго к нам? — обратилась Ванда к Юзефу.
— Надолго. Сейчас, когда мы, безусловно, на пороге больших событий, мое место здесь, среди вас, а в Кракове и без меня обойдутся. Кстати, Ванда, не найдется ли у вас местечка, где бы я мог работать?
И местечко в «отеле», конечно, нашлось.
После завтрака Мартин поднялся в свой мезонин. Его властно тянула к себе маленькая печатная машина, называемая «стукалкой».
В дверь тихо постучали. Домработница подошла и что-то шепнула хозяйке. В комнату вошла Софья Мушкат.
— Знакомьтесь. Это Чарна, наша лучшая связная, а это товарищ Юзеф, — представила их Ванда друг другу.
Юзеф увидел девушку среднего роста, на вид лет двадцати — двадцати двух, с пышными черными волосами. Черные, как маслины, глаза пытливо и в то же время застенчиво смотрели на него, а яркие пухлые губы придавали немного детское выражение ее лицу. Девушка раскраснелась то ли от смущения, то ли от быстрой ходьбы по морозу.
— Рад познакомиться с вами, — Дзержинский энергично пожал руку Зоей. — Ведь это я посылал на ваш адрес из Кракова «Червоны штандар». Адрес ваш, надо сказать, действовал как часы. И мне очень приятно передать вам благодарность Главного правления и Заграничного комитета.
Дзержинскому понравилась эта скромная девушка. Он хорошо знал, какую важную, связанную с постоянным риском работу выполняла Софья Мушкат.
А Зося не могла оторвать от него глаз. Юзеф, настоящий, живой Юзеф! Зося наслышалась о Юзефе как о самом преданном партии товарище, наиболее стойком и самоотверженном. И вот он стоит перед ней, она чувствует тепло его сильной руки.
Не проронив ни слова, Зося отдала Ванде почту и поторопилась уйти. Она и так задержалась сегодня больше, чем положено.
На всю долгую жизнь запомнила Софья Сигизмундовна Мушкат эту первую встречу с Юзефом.
2
Большие события, о которых говорил Дзержинский, не заставили себя ждать. 9 января 1905 года в Петербурге на площади у Зимнего дворца была расстреляна многотысячная мирная демонстрация, организованная полицейским провокатором священником Гапоном.
«Рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского петербургского пролетариата «смерть или свобода!» эхом перекатывается теперь по всей России»[9], — писал Владимир Ильич Ленин.
И в самом деле. Только в январе 1905 года в России бастовало 440 тысяч рабочих, то есть больше, чем в предыдущее десятилетие. Забастовки сопровождались политическими демонстрациями, вооруженными столкновениями с полицией. Революция началась.
Как только весть о петербургской трагедии дошла до Варшавы, в домике Ванды Краль собрались члены Главного правления и Варшавского комитета.
— Товарищи! Только что мы получили свежий номер «Червоны штандар». Наша партия заявляет во весь голос, что «от солидарной борьбы рабочего народа России и Польши зависит осуществление политической свободы для народа». Но это общий призыв, мы же должны воплотить его в конкретные действия. Предлагаю в ответ на расстрел петербургских рабочих призвать пролетариат Варшавы к всеобщей политической забастовке!
Так говорил Дзержинский, оглядывая сидящих вокруг стола товарищей.
Многих он хорошо знал. Вот Якоб Ганецкий, член Главного правления. С ним Феликс познакомился еще в 1902 году на берлинской конференции. Рядом сидит Винценты Матушевский из Варшавского комитета. В недалеком прошлом Матушевский был одним из лучших закройщиков дамского платья. Его увлекли социал-демократические идеи, и свою вполне обеспеченную жизнь он без колебаний променял на жизнь профессионального революционера. По другую сторону стола — Здислав Ледер, хороший оратор, но любит съязвить. Взгляд Феликса потеплел, когда остановился на члене Варшавского комитета Даниеле Эльбауме. Он ценил в нем исключительную энергию и трудолюбие. Даниель вел два центральных кружка, кружок металлистов, ведал вовлечением в кружки интеллигентов да еще успевал контролировать работу других кружков.
С остальными участниками совещания Дзержинский еще не успел познакомиться. Но он знал, что большинство из них рабочие, активисты. Значит, партия растет, и рабочий класс на смену арестованным и сосланным выдвигает из своих рядов новые силы на руководящую работу.
Такую партию уже нельзя разгромить, как бывало в прошлые годы. Теперь социал-демократы могут не только призвать к всеобщей политической забастовке, но и организовать и стать во главе ее.
Это чувствовал и говорил не один Дзержинский. Возражений против забастовки не было, обсуждались лишь лозунги и практические детали.
14 января всеобщая политическая забастовка в Варшаве началась. Почин сделал рабочий район Воля. А там пошло и пошло. Остановился транспорт, погас свет. К рабочим присоединились студенты и ученики гимназий, служащие магазинов, ресторанов и кафе.
Митинги, митинги, демонстрации. И везде ведущая роль принадлежит социал-демократам. Тысячами распространяются листовки и воззвания. И всюду поспевает Юзеф.
И не только в Варшаве. Его видят в Белостоке и Вильно, в Жирардове и Домбровском бассейне, в Ченстохове и Лодзи.
Поездка в Лодзь чуть не кончилась провалом. Дзержинский и Ганецкий сидели в буфете первого класса Варшавского вокзала в ожидании поезда. Оба для конспирации были в элегантных костюмах. Под стать одежде был и дорогой чемодан, битком набитый нелегальной литературой.
— Смотри, — шепнул Ганецкий, показывая глазами на выход.
Там у дверей стоял усатый жандарм и упорно смотрел на чемодан. Проверка багажа, к чему полиция прибегала в связи с беспорядками в Варшаве и других городах, и арест неминуемы.
Оставалась минута до отхода поезда, буфет опустел, а жандарм продолжал стоять у выхода, не спуская глаз со злополучного чемодана и его хозяев.
И тут тишину опустевшего буфета разорвал резкий голос Дзержинского:
— Подойди-ка сюда, голубчик, — поманил он пальцем жандарма. — Подай пальто.
Дзержинский оделся с помощью опешившего жандарма, кивком головы указал ему на чемодан и спокойно направился к выходу. Ганецкий шел рядом, ожидая, чем все это кончится.
Жандарм послушно взял тяжелый чемодан, проводил их, усадил в вагон. Поезд тронулся.
Мимо окна купе медленно проплывала фигура жандарма с рукой под козырек. Лицо его выражало трудную работу мысли.
Появление в Лодзи Юзефа и Миколая (под этим именем работал в подполье Ганецкий) ознаменовалось всеобщей стачкой. Вскоре Дзержинский уже был в Домбровском угольном бассейне. Представители заводов и шахт избрали центральный стачечный комитет. Председателем комитета — Юзефа, его заместителем — Сэвэра (Эдвард Прухняк).
Начало забастовки назначили на 5 февраля в 2 часа дня.
В этот день все члены центрального стачечного комитета с раннего утра были на ногах. Шли последние приготовления: готовы ли ораторы, хорошо ли налажена связь с предприятиями?
И тут в помещение стачечного комитета влетел запыхавшийся Зомбковский, член комитета от железнодорожников.
— Беда, товарищ Юзеф! На станцию Стржемешице прибыла рота солдат. Они уже окружили железнодорожные мастерские и депо. Мы не сможем вывести рабочих на митинг.
Немедленно было созвано заседание стачечного комитета совместно с подпольным комитетом социал-демократии Польши и Литвы.
— Товарищи! Забастовка должна начаться в назначенное время, иначе она вообще сорвется. Надо отвлечь солдат, вызвать среди них панику. Как это сделать? — спросил Дзержинский.
— Товарищ Юзеф! Я могу раздобыть на Казимежских шахтах динамит и опытных запальщиков. Рванем где-нибудь подальше, — предложил Зомбковский.
— Устроим им концерт, дадим тревожные гудки на всех паровозах!
Предложения рабочих были приняты. В час дня за поселком раздались взрывы. Жук на своем паровозе дал первый тревожный гудок. За ним надрывно загудели все 39 паровозов, стоявших под парами на станции Стржемешице.
Ничего не понимающие солдаты стали разбегаться. Раскрылись ворота мастерских, и толпа рабочих вырвалась на улицу. Толпа превратилась в колонну, в голове ее появилось красное знамя, и рабочие с пением революционных песен направились в Сосновец. Туда же с заводов, фабрик и угольных шахт шагали рабочие колонны.
Дзержинский взошел на главную трибуну, установленную возле реального училища.
Кругом волновалась и гудела многотысячная толпа. Над головами качались плакаты: «Долой царя!», «Смерть палачам!», «Да здравствует демократическая республика!», «8-часовой рабочий день!» Лозунги социал-демократические. Видно, хорошо поработал Домбровский партийный комитет.
— Тише, товарищи! Будет говорить Юзеф.
Юзеф призывал рабочих не надеяться на царскую милость, а самим добывать себе и детям своим свободу и лучшую жизнь; вместе с рабочими всей России с оружием в руках свергнуть самодержавие и создать свою, народную власть.
— Товарищи! — говорил он. — Поднимем выше красное знамя свободы и счастья народов, чтобы оно развевалось над Польшей и всей Россией всегда, чтобы рабочие и крестьяне не стонали больше под гнетом самодержавия, капиталистов и помещиков!
Вслед за Юзефом выступили рабочий доменного цеха с завода «Домбровская Гута», забойщик из Казимежа и рабочие с других предприятий. Гнев и возмущение всех рабочих Домбровы звучали в их речах.
Так началась всеобщая забастовка на предприятиях Домбровского угольного бассейна.
Выполнив свою задачу, Юзеф и Сэвэр вернулись в Варшаву.
Глубокой ночью — иного времени Юзеф никак не мог выкроить — он писал письмо в Заграничный комитет.
«…Я был вчера у русских социал-демократов (военно-революционная организация). Налаживаю с ними связи. Надо бы нам объединиться… Наш Южный комитет развил среди войск действительно колоссальную работу, революционизировали целые полки, которые надо теперь сдерживать от преждевременного восстания.
Военно-революционные организации существуют в Вильно, Варшаве, Пулавах, Люблине, Кельцах и т. д. Они соглашаются на конференцию.
Я лично придаю этой работе огромное, прямо колоссальное значение».
Было еще одно дело, которому Юзеф придавал огромное значение, — работа среди крестьян. К сожалению, Главное правление ее явно недооценивало. Мархлевский открыто заявил, что партия «не нуждается ни в каких особых аграрных программах».
Нет, этот вопрос он должен поставить перед своими товарищами из Главного правления как можно острее. И Феликс снова берется за перо:
«Манифест для крестьян здесь нужен. Приложите все старания, чтобы выслать нам хотя бы рукописи манифестов. Это была бы кампания, которая завоевала бы нам огромные массы. Это самая первая, самая главная наша потребность, важнее «Червоного штандара», «Пшеглонда», брошюр».
Еще несколько вопросов организационного характера, и утомленная рука Дзержинского ставит последнюю точку. Надо вздремнуть хотя бы пару часов. Наступает новый трудный день.
Юзеф крепко спал в своей каморке, когда Софья Мушкат принесла поступившую для него почту.
3
В небольшой, бедно обставленной комнате сидели военный инженер, поручик Антонов-Овсеенко, артиллерист, тоже поручик, Петренко и студент Киевского университета Богоцкий. Все они были членами Российской социал-демократической рабочей партии, организаторами и руководителями Варшавской военно-революционной организации (БРО).
Ждали Юзефа. Сегодня они должны были скрепить официальным документом уже существующие «де-факто» связи между ВРО РСДРП и социал-демократией Польши и Литвы.
— Что ты о нем думаешь? — спросил Антонов-Овсеенко.
Петренко помолчал, выбирая слова.
— Думаю, что из всех, с кем нам приходилось иметь дело, только Юзеф придает должное значение работе ВРО.
— Где же он? — Антонов-Овсеенко щелкнул крышкой карманных часов.
Часы были старинные, с мелодичным боем. С последним, десятым ударом раскрылась дверь, и, появился Юзеф. Петренко рассмеялся.
— Ничего не скажешь, точность военная…
— Если вас приучила к точности военная служба, то меня — конспирация. Шпики имеют обыкновение обращать внимание на людей, кого-то или чего-то поджидающих. Вот я и стараюсь приходить всегда точно в назначенное время и место.
— Принесли текст договора? — осведомился Антонов-Овсеенко, приглашая Юзефа занять место по правую руку от себя.
— Принес. — Юзеф вынул из кармана вчетверо сложенный лист бумаги, развернул и передал его Антонову.
Антонов начал медленно, пункт за пунктом читать текст «Договора Военно-революционной организации с с. д. Польши и Литвы».
— Кто будет входить в Варшавский комитет ВРО от социал-демократии Польши и Литвы?
— Варшавский комитет нашей партии уполномочил меня быть его представителем, — ответил Юзеф.
Другие пункты — печать, транспорт, средства, отчетность — были оговорены заранее и вопросов не вызывали.
Антонов-Овсеенко и Дзержинский подписали договор. Петренко встал и вытянулся, как по команде «смирно», всем своим видом подчеркивая торжественность этой минуты. За ним поднялся и Богоцкий.
— Я очень рад, что именно вы будете членом Варшавского комитета ВРО, — сказал Антонов, — теперь мы будем иметь постоянную поддержку польских социал- демократов, а ВРО очень нуждается и в агитаторах и в литературе.
— Готовить солдат к восстанию — наша общая задача, — скромно отозвался Дзержинский.
— Я как раз хотел поговорить о восстании. Мы ждем со дня на день, что оно вспыхнет в Пулавах.
— Но ведь это преждевременно, другие гарнизоны не готовы! — воскликнул Дзержинский.
— Вероятно, Юзеф, вы правы, — ответил Антонов. — Но события выходят из-под нашего контроля. 71-й Белевский полк еще в феврале отказался подчиниться командованию, солдаты не пошли усмирять рабочих, заявили: «Душителями революции мы не будем». А теперь отказываются выступать на фронт. Это уже бунт. У них нет выхода. Или восстание, или военно-полевые суды, виселица, каторга. Это результат нашей агитации, и мы не можем бросить белевцев на произвол судьбы.
Дзержинский задумался. Вопрос был слишком серьезен.
— Постараемся вам помочь, — наконец сказал он, — но я должен обсудить все это с моими товарищами из Варшавского комитета.
Спустя несколько дней Дзержинский, Барский и Прухляк шли по улицам Пулав. Карманы их брюк и пиджаков оттягивали револьверы.
На базарной площади их ожидали рабочие и крестьяне, съехавшиеся из окрестных сел, чтобы помочь солдатам. Сигналом к выступлению должен был послужить выстрел из окна казармы.
Все трое были в приподнятом, праздничном настроении. Нервы напряжены.
И вдруг они увидели офицера, бегущего им навстречу. Дзержинский сразу узнал в нем знакомого по ВРО.
— Нас предали! — крикнул, поравнявшись с ними, офицер. — Сейчас здесь будут казаки! — И побежал дальше.
Из-за угла улицы послышался дробный цокот копыт. Положение создалось критическое. Во всех губерниях царства Польского было объявлено военное положение. Всем задержанным с оружием в руках угрожал расстрел на месте. Убежать от казаков, мчавшихся галопом, невозможно. Оставался один выход — перемахнуть через забор, пока казаки их не заметили.
Дзержинский подсаживает сначала грузного Барского, затем маленького Прухняка и лишь потом, в последнюю секунду, ободрав о высокий забор колени, перелезает сам. Мимо притаившихся в кустах чужого сада подпольщиков с гиком промчалась казачья сотня.
— Пойду на разведку, а вы меня ждите здесь, — с этими словами Дзержинский полез обратно. На этот раз было легче. С внутренней стороны забора имелись поперечные брусья, ими, как лестницей, и воспользовался Феликс.
— Что бы мы с вами делали, если бы не Юзеф? — сказал Барский.
— Он всегда вот так. Сначала поможет товарищу, а потом уже думает о себе, — отозвался Прухняк.
4
— Я тоже хочу на демонстрацию, — твердила Софья Мушкат накануне 1 мая 1905 года.
— Мало ли что ты хочешь. А партия поручает тебе более важную работу. Будешь помогать товарищу Маньке размножать на гектографе обращение к солдатам, — отрезал Матушевский.
Пришлось подчиниться и с самого раннего утра вместе с Манькой Ашкеназы корпеть над гектографом.
А в это время в Варшаве разыгрались кровавые события.
Социал-демократы призвали рабочий класс Польши и Литвы встретить Первомай мощными политическими демонстрациями. «Этот май, — писалось в листовке, выпущенной Главным правлением СДКПиЛ, — должен быть последним, который нас и наших русских братьев застает в политическом рабстве… Наступает последний бой с самодержавием, и победа уже близка».
Утром 1 Мая рабочий район Воля и прилегающие к нему улицы Холодная, Грибная, Вронья, Сенная, Железная и площадь Витковского были заполнены рабочими. Они строились в колонны и с красными знаменами и социал-демократическими лозунгами двигались к центру города.
Дзержинский и Матушевский ходили от колонны к колонне, беседовали с руководителями и рабочими.
— Ого! Приближается к двадцати тысячам. Такого Варшава еще не видела, — с гордостью говорил Дзержинский, делая пометку в записной книжке.
Колонны уже шли по Иерусалимским аллеям, когда путь им преградили шеренги солдат. Стрелять стали сразу боевыми патронами. И тут же из переулков в конном строю, с шашками наголо бросились на демонстрантов драгуны. Стреляли, рубили саблями, топтали лошадьми безоружных рабочих, их жен, даже детей, которых отцы и матери захватили полюбоваться на мирную демонстрацию.
Командовал кровавой расправой царский офицер-поляк, ротмистр граф Пшездецкий.
А Чарна и Манька продолжали спокойно работать. В своем подвале они не слышали выстрелов. День уже клонился к вечеру, когда Манька сняла с гектографа последнюю листовку.
Чарна, довольная, что поручение выполнено, отправилась домой. На Маршалковской ее встретила тишина. Все лавки и магазины были закрыты, никакого движения. Посреди мостовой валялся опрокинутый трамвайный вагон. Лишь вдали виднелся конный жандармский патруль.
Софья свернула на Иерусалимские аллеи и быстро пошла в сторону Железной улицы в надежде, что там она еще может встретить демонстрантов. И тут у себя под ногами она увидела пятна засохшей крови. Кое-где кровь еще не успела высохнуть и стояла маленькими лужицами.
Софью охватил ужас. Тут были ее товарищи. Что с ними? Всех заслонила фигура Юзефа. Помимо ее воли уже думалось не что с ними, а что с ним.
Пятна крови вели к пролому в заборе. Сквозь него в глубине пустыря виднелся сарай, вероятно, какой-то склад. У сарая Софья встретила пожилого рабочего и от него узнала все, что тут произошло.
— А вы не видела там товарища Юзефа? — спросила Софья.
Она как могла подробно описала внешность Дзержинского, даже родинку на левой щеке не забыла упомянуть.
— Нет, не видел. Да вы, барышня, прошли бы в больницу младенца Иисуса. Туда, в морг, свезли всех убитых.
Софья помчалась в морг. У дверей в прозекторий стояли полицейские, но всех желающих пропускали беспрепятственно. Видно, надеялись таким образом выяснить личность убитых.
Новый приступ страха и физическое отвращение потрясли девушку, когда она увидела ряды трупов, окровавленных, с зияющими ранами.
Голова закружилась, противная тошнота подступила к горлу. Однако она заставила себя обойти всех. Среди мертвецов она увидела знакомых социал-демократов: Мечислава Вышомирского, совсем еще юношу, гравера Кароля Шонерта и старого котельщика Зыгмунда Кемпу.
Юзефа в морге не оказалось. От сердца немного отлегло. Софья, обливаясь слезами, направилась к Ванде. Она оплакивала погибших, но сквозь темную пелену горя пробивался лучик надежды: «Юзеф, вероятно, жив».
Ванда в большом волнении металась по квартире. Она очень беспокоилась за Мартина и Юзефа. Где они, что с ними? Рассказ Софьи о посещении морга принес лишь небольшое успокоение. Подруги терялись в догадках: может быть, Мартин и Юзеф ранены? А может быть, ранены и арестованы? Хорошо, если они в больнице, а что, если лежат где-нибудь, укрывшись от полиции, и нуждаются в помощи? Куда бежать, где искать?
Поздно вечером появился Мартин. Шатающийся от усталости и голода, выпачканный в грязи и крови, но живой и невредимый.
— Где Юзеф? — Голос Софьи дрожал от волнения.
— Не знаю. Видел, как он, когда началась стрельба, бросился спасать раненых. А потом налетели драгуны, и я потерял его из виду.
Юзеф появился только на следующее утро.
— Где же вы ночевали? — спросила Ванда.
— Нигде. Просто не было времени даже подумать о ночлеге. Пятьдесят убитых, около ста раненых. Одних надо было укрыть от полицейских, других, особенно тяжелых, поместить в больницы, известить родных…
Юзеф выпил чашку молока. Не раздеваясь, повалился на кровать и тут же уснул, едва успев распорядиться созвать вечером Варшавский комитет.
По предложению Дзержинского Варшавский комитет назначил на 4 мая всеобщую забастовку протеста. Несмотря на многочисленные аресты и ретивость охранки, забастовка прошла блестяще. Встали заводы и фабрики, остановились трамваи, закрылись магазины и даже банки.
На следующий день рабочие Варшавы читали листовку-обращение Главного правления СДКПиЛ: «На царский террор ответим усилением революционной борьбы». Прокламация призывала рабочий класс, весь народ к «массовой мести — массовому террору».
— Но ведь наша партия против террора? — обратилась Ванда к Юзефу.
— Против индивидуального — да, но мы призываем сейчас к массовому. По сути дела, к началу партизанских действий против царского правительства и его аппарата власти. Это как бы промежуточный этап между стачкой и вооруженным восстанием, — пояснил Дзержинский.
Неделей позже Дзержинский докладывал на заседании Варшавского комитета о решениях III съезда Российской социал-демократической рабочей партии, только что окончившего свою работу.
— Товарищи! Третий съезд принял специальную резолюцию «По поводу событий в Польше». Съезд выразил свое негодование в связи с новыми убийствами, организованными царскими палачами 1 Мая в Варшаве и Лодзи, он приветствует мужество и решимость братского пролетариата Польши. Слышите, товарищи, так и написано — «братского»! Съезд признал подготовку пролетариата к вооруженному восстанию «одной из самых главных и неотложных задач партии». Надеюсь, и мы не отстанем от российского пролетариата.
И социал-демократия Польши и Литвы призвала рабочий класс готовиться к вооруженному восстанию. Но как его готовить — никто толком не знал и не умел. И потому, когда 22 июня 1905 года в Лодзи вспыхнуло вооруженное восстание и рабочие вышли на баррикады, оказалось, что партийная организация города не была готова к руководству восстанием.
Дзержинский и Барский от имени Главного правления выпустили листовку с призывом к рабочим всех городов вооружиться и выйти на улицы, но было уже поздно. Восстание в Лодзи было подавлено.
Состоялось заседание Варшавского комитета с участием представителей Главного правления Барского, Ганецкого и Дзержинского. Настроение у всех было подавленное. Невольно перед каждым вставал роковой вопрос: а нужно ли было браться за оружие?
— Нужно! — со всей категоричностью заявил Юзеф. — Я горжусь тем, что честь первой попытки восстания, первой массовой баррикадной борьбы с самодержавием принадлежит польскому пролетариату Лодзи!
Дзержинский отправился в Лодзь, чтобы на месте изучить опыт восстания и ознакомиться с состоянием социал-демократической организации.
Он писал оттуда в Заграничный комитет СДКПиЛ: «…материал и условия здесь очень хорошие и достаточные, не хватает только руководящей руки, ленинского «кулака», организации».
5
В корчме, у полустанка Дембе-Вельке Привисленской железной дороги, сидели жандармский ротмистр Сушков и командир эскадрона 38-го драгунского Владимирского полка ротмистр Глебов.
В корчме было жарко, душно, жужжали и роились над столом мухи, а пиво, которое пили офицеры, было теплое и кислое. Вопреки всему этому Сушков был в прекрасном настроении. Он предвкушал сегодня отличную «охоту» и надеялся поймать много крупной «дичи».
Драгуны расположились у коновязей, кто как мог, в тени деревьев на чахлой траве. Разопрев от июльского зноя, одни из них вяло ругали социалистов, другие чуть ли не в открытую материли начальство.
Общее томление нарушил прибежавший с полустанка запыхавшийся стражник.
— Дозвольте доложить, ваше благородие, — обратился он к Сушкову, — с прибывшего поезда сошли человек семьдесят, и все направились к лесу в имение Олесин- Дужий.
Сушков просиял. Жандармский осведомитель не подвел. Теперь очередь за ним, ротмистром Сушковым. Если он не промахнется, то весь актив варшавской организации социал-демократии Польши и Литвы будет захвачен.
Но Сушков не спешил. Зачем преждевременно обнаруживать себя и спугивать «дичь»? Пусть «гости» спокойно минуют поле и углубятся в лес. Пусть начнут свое собрание, и тогда драгуны и стражники возьмут их в кольцо и затянут петлю.
Команда «по коням!» подняла кавалеристов примерно через час после того, как последний из прибывших пассажиров скрылся из виду.
В лесу строй кавалеристов нарушился, и Глебов невольно подслушал разговор солдат, отделенных от него кустами.
— Молодцы белевцы! Отказались усмирять рабочих — и баста! — говорил молодой голос.
— А 37-й пехотный во время лодзинских боев целиком в казармах под замок попал. Признали «неблагонадежным». А мы все мотаемся, все усмиряем. Скоро вовсе в жандармы запишут. Доусмиряемся, пока рабочие нам головы не поотрывают, — отозвался хриплый бас, в котором, к своему удивлению, Глебов узнал взводного 2-го взвода унтер-офицера Гаврилина.
«Ого! От таких разговоров и до бунта недалеко», — подумал Глебов.
Он резко скомандовал: «Эскадрон, напра-во!» — и драгуны, повернув коней, теперь уже не змейкой, а широкой цепью начали прочесывать лес.
В лесу имения Олесин-Дужий действительно в этот день, 17 июля, проходило собрание социал-демократов. И не рядовое собрание, а Варшавская межрайонная конференция. Руководил ею представитель Главного правления товарищ Юзеф.
Заседание конференции подходило к концу, когда сквозь деревья делегаты увидели кавалеристов. И тут все услышали спокойный голос Юзефа:
— Товарищи, прошу сдать мне всю нелегальщину. В случае ареста мне терять нечего, все равно за два побега припаяют.
Всадники со всех сторон окружили большую поляну, где проходила конференция. Бежать было некуда.
Мартин хладнокровно вытащил из кармана трубочку и уселся курить под ближайшим деревом. Молодой Антон Краевский опустился на землю рядом с ним. Антон немного волновался — ведь это его первый арест! И гордился тем, что будет арестован в обществе ветеранов партии.
Сушков еще издали заметил, как многие из участников сходки что-то передают высокому мужчине, стоявшему у большого дерева. Ротмистр пришпорил лошадь и подскакал прямо к нему.
— Вы арестованы, господа. Прошу предъявить документы. У кого имеется что-либо недозволенное, извольте сдать сами, — обратился Сушков ко всем, не спуская, однако, глаз с Юзефа.
— Пожалуйста, вот мой паспорт. — И Дзержинский протянул Сушкову «липу» на имя Ивана Эдмундовича Кржечковского.
— Что вы тут делали? — спросил ротмистр, просматривая документ.
— С этими людьми у меня нет ничего общего. Не знаю, как их, а меня вы сами загнали в кучу со всеми прочими!
Краевский так и ахнул. Что же это делается? Почему Юзеф так легко отрекается от своих товарищей, а дядя Мартин даже бровью не ведет?
И как бы в ответ на свои мысли Антон услышал голос жандарма:
— А это мы сейчас проверим!
Произвели обыск. Разумеется, кроме как у Дзержинского, ничего «недозволенного» ни у кого не нашли.
«Сволочи, хотят одурачить», — выругался про себя Сушков: «дичь» без улик вроде бы и не «дичь». Ловил целую стаю, а поймал только одного,
— Вы что же, господин Кржечковский, серьезно намерены утверждать, что револьвер у ваших ног и вся найденная при вас и на земле литература принадлежит только вам?
— Совершенно серьезно, господин ротмистр, — ответил Юзеф.
Всех задержанных, а набралось их около сорока, отвели под усиленным конвоем в местечко Новоминск и поместили в небольшом доме на Варшавской улице. Вокруг дома драгуны выставили караул, в самом же помещении не было охраны, и во внутреннюю жизнь задержанных солдаты не вмешивались.
Воспользовавшись благоприятной обстановкой, делегаты закончили прерванную внезапным арестом конференцию. А затем стали развлекаться как могли. Стефания Пшедецкая рисовала портрет Матушевского, уверяя всех, что «у Мартина очень характерное лицо». Бывалые заключенные смастерили из хлебного мякиша шахматы и шашки, молодежь затеяла пение и танцы.
Под окнами собрались свободные от караула солдаты. Бросив игры и пение, арестанты принялись их агитировать. Антон видел, что самым большим успехом у солдат пользуется Юзеф, и ему было стыдно: как мог он, сопляк, хоть на минуту усомниться в Юзефе!
Под вечер, после работы, у домика собралась толпа рабочих. Теперь ораторы через головы солдат обращались к ним.
У раскрытого окна, служившего трибуной, выросла коренастая фигура Гаврилина.
— Господа, эскадронный идет. Вы уж тово, не подводите нас.
— Товарищи, всем отойти от окон! — скомандовал Дзержинский.
Когда Глебов подошел, вокруг дома царило спокойствие. На противоположной стороне улицы толпились местные жители, но вели себя мирно, тихо переговариваясь между собой. Часовые у фасада и позади дома при приближении командира вытягивались в положение «смирно» и лихо рапортовали.
Проверив, хорошо ли его подчиненные несут службу, Глебов отправился в гости к офицерам расположенного в Новоминске пехотного полка.
Митинг возобновился. Многих защитников престола потерял царь в этот вечер.
На другой день в Новоминск прибыли из Варшавы Юзеф Красный, Мариан Стахурский и Мария Альтер. По заданию оставшихся на свободе членов Главного правления и Варшавского комитета они должны были организовать освобождение Дзержинского.
В арестантском доме появился пекарь с полной корзинкой булок и всякой сдобы. Он нашел Мартина и шепнул, что на дне корзины у него лежит комплект пекарской одежды «для человека, который должен бежать».
— Давай сюда! — сказал Мартин, немедленно сообразив, о ком идет речь.
Через минуту Матушевский, Леопольд Доброчинский, Теодор Бресляуер, Стефа Пшедецкая, Антон Краевский и другие арестанты горячо убеждали Дзержинского воспользоваться случаем и бежать, переодевшись пекарем. Но он наотрез отказался.
Вечером к окну пробрался Красный.
— В чем дело, Юзеф? Почему не бежишь?
— Я должен отдаться той же участи, что и другие, среди арестованных много молодых, пусть никто не подумает, что мы создаем привилегии для партийных «генералов», — ответил Дзержинский.
В Варшаве всех доставили в следственную тюрьму «Павиак». Всех, кроме Юзефа. Его как опасного преступника сразу увезли в X павильон Варшавской цитадели.
Но на этот раз Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому не пришлось долго сидеть. Серым осенним днем дверь камеры открылась, и голос надзирателя возвестил:
— С вещами на выход!
«Неужели и вправду свобода?» — сердце екнуло от радости.
Нельзя сказать, чтобы освобождение явилось для Дзержинского полной неожиданностью. Уже два дня тюрьма жила слухами о том, что царь, напуганный небывалым размахом всероссийской политической забастовки, парализовавшей страну, издал манифест с обещанием разных реформ и амнистий политзаключенным. Но точного текста манифеста никто из заключенных не знал, и потому каждый жил в напряженном ожидании, коснется его амнистия или нет.
Дзержинский шел в канцелярию тюрьмы, нес нехитрый свой скарб и тоже сомневался: свобода или перевод в другую тюрьму? И только тогда поверил в свободу, когда расписался в толстой книге в том, что он, «Феликс Эдмундович Дзержинский, 1905-го года, октября 20-го сего дня, освобожден по амнистии и принадлежащие ему вещи и деньги получил сполна».
За воротами тюрьмы Феликса ждал Генрик Валецкий. Его освободили несколькими минутами раньше. Обнялись. Вспомнили побег из Верхоленска. Но предаваться воспоминаниям о прошлом не было времени. Бурное сегодня захватило их, закружило как в водовороте.
В Варшаве продолжалась всеобщая забастовка, не работали ни трамваи, ни извозчики, а улицы были запружены народом. То там, то тут выступали ораторы всевозможных политических партий и направлений. И ни одного полицейского.
Пришлось идти в город пешком. Навстречу попался рабочий с гармошкой. Он был немного навеселе, лихо растягивал мехи своей трехрядки и во весь голос пел:
— Царь испугался, издал манифест, Мертвым свободу, живых под арест!В следующую минуту Дзержинский уже взобрался на ближайший фонарный столб и обратился к окружавшей его толпе с горячим призывом:
— Не верьте царским подачкам! Не верьте буржуазии! У рабочих свои цели…
Тут и нашел его гонец от партийной конференции, посланный к X павильону встречать освобождаемых из тюрьмы социал-демократов.
Когда Дзержинский и другие бывшие узники появились на квартире Францишки Ляндау на улице Цегляной, в доме № 4, где проходила конференция, их встретили аплодисменты и приветственные возгласы. С трудом удалось председателю собрания Якову Гольденбергу (в подполье Станиславу) восстановить тишину. Он сказал:
— Товарищи! Предлагаю избрать председателем нашей конференции товарища Юзефа!
Первыми словами нового председателя были:
— Теперь к оружию, к оружию и только к оружию! Царю и буржуазии верить нельзя…
И эти слова вскоре оправдались: через одиннадцать дней после объявления манифеста на всей территории Королевства Польского было восстановлено военное положение с его свирепыми законами. На рабочий класс и его партию обрушились новые репрессии. «Мертвым свободу, живых под арест!»
6
Своего апогея революция достигла в декабре. Началось вооруженное восстание московских рабочих. Покрылась баррикадами Красная Пресня.
— Товарищи! Варшавский генерал-губернатор получил секретное распоряжение отправить в Москву часть войск, находящихся в Польше, — информировал членов Главного правления и Варшавского комитета Мартин.
— Будет величайшим позором, граничащим с предательством, если мы допустим это, — выразил общую точку зрения Дзержинский.
Главное правление социал-демократии Польши и Литвы призвало польских трудящихся к всеобщей забастовке солидарности с московскими рабочими. И рабочий класс Польши, бастовавший почти непрерывно вот уже около двух лет, понесший тяжелые жертвы от жестоких репрессий, вновь поднялся на борьбу. Первыми забастовали железнодорожники, затем Варшава и все другие промышленные центры Королевства Польского.
Но был район, очень важный, где забастовка запаздывала, — Домбровский угольный бассейн. Дзержинский бросился туда. В Сосновце разыскал Станислава Бобин-ского. Вопрос в упор:
— В чем дело?
— Все дело упирается в Гуту Банкову[10]. Ты у нас не впервые, знаешь, что еще издавна повелось: нигде не бросят работу, пока не остановится Гута Банкова.
— А что же там?
— Там и наше влияние, и влияние ППС. Не только остановить завод, но даже общезаводской митинг собрать не можем.
Дзержинский, Бобинский и еще несколько местных активистов направились на завод. Дзержинский и сам не знал; что он там будет делать, в голове только настойчиво билась мысль: «Надо остановить завод».
У заводских ворот Юзеф с товарищами оказались к окончанию обеденного перерыва. Привратник наотрез отказался пропустить на завод посторонних. Дзержинский стал его уговаривать, но тут кто-то из администрации приказал закрыть ворога.
Решение пришло молниеносно. Юзеф просунул сапог в оставшуюся щель и всем телом навалился на ворота. Товарищи бросились к нему на помощь, но и к сторожу подоспело подкрепление. Несколько минут борьба шла с переменным успехом, створки ворот колебались то туда, то сюда. Запереть ворота мешала нога Юзефа. Наконец, когда сопротивление защитников ворот на какую-то секунду ослабло, под дружным натиском Юзефовой дружины они распахнулись.
— На митинг, на митинг! — звали рабочих пришедшие с Юзефом социал-демократы. Видно, призыв попал на благоприятную почву. И вскоре тысячная толпа заполнила заводской двор.
Первым говорил Бобинский. После него в поддержку забастовки выступил рабочий социал-демократ из местной организации. Все шло хорошо. Но вот на трибуну поднялся худой старик с орлиным носом и обвислыми усами.
— Какое нам, полякам, дело до кацапов? — говорил он, окидывая всех грозным взглядом из-под кустистых седых бровей. — Пусть себе больше дерутся между собой, скорее свободной станет Польша!
По толпе прошел одобрительный гул.
— Кто это? — спросил Дзержинский стоявшего рядом социал-демократа.
— Павел Венцковский, прекрасный работник, уважаемый человек и, к сожалению, эндек[11].
Венцковского поддержал пепеэсовец. Положение становилось критическим. И тогда взял слово Дзержинский:
— Товарищи! Пан Венцковский спрашивал: какое нам дело до кацапов? Сейчас московские рабочие умирают на баррикадах не только за свою, но и за нашу свободу. А кто расстрелял первомайскую демонстрацию в Варшаве? Поляк, граф Пшездецкий! Теперь спросите сами себя: с кем же вам по пути — с русскими рабочими или с польскими панами? — Юзеф остановился, чтобы передохнуть, но продолжить речь ему не пришлось. Раздался крик: «Солдаты!» — и все увидели, как со стороны доменного цеха по двору бежит офицер с отрядом солдат.
— Спокойно! — зазвенел голос Дзержинского. — Голосую. Кто за забастовку?
Поднялся лес рук. А офицер с солдатами уже пробирался сквозь толпу к трибуне.
— Абсолютное большинство! — выкрикнул Юзеф и спрыгнул в толпу.
Поднялась сумятица. Одни бежали в свои цехи, к станкам. Другие, наоборот, к воротам, домой. Третьи оставались во дворе, ругались с солдатами, которые, образовав цепь, начали теснить всех в дальний угол двора.
Бобинский упустил Юзефа из вида.
— Сирена, где сирена? — услышал он голос Дзержинского.
«Вот молодец, только один Юзеф не забыл о сирене», — подумал Бобинский.
— Знаешь, где сирена? — схватил за рукав пробегавшего мимо молодого рабочего.
— Знаю.
И они вместе кинулись в один из заводских корпусов. И как раз вовремя, потому что вслед за ними у дверей встали часовые.
Через минуту мощный рев сирены всколыхнул воздух.
По улицам разъезжали казаки. Но со всех сторон уже призывно раздавались гудки заводов и шахт.
Прошло шесть дней после начала всеобщей политической стачки в Польше. В Варшавский комитет социал-демократии Королевства Польского и Литвы пришли печальные вести. Царские войска потопили в крови восстание московских рабочих. Всеобщая забастовка в Петербурге прекращена. Потеряла смысл и была прекращена всеобщая забастовка и в Польше.
7
На улицах Стокгольма весной 1906 года прохожие часто слышали русскую речь. Особенно много русских попадалось вблизи Народного дома. И неудивительно: сюда, на IV съезд Российской социал-демократической рабочей партии, съехались 112 делегатов с решающим голосом, представлявших 57 местных организаций, да еще 22 делегата с совещательным. Кроме них, были делегаты от социал-демократии Польши и Литвы, Бунда, Латышской социал-демократической рабочей партии, от Украинской социал-демократической рабочей партии и Финляндской рабочей партии. Словом, съехались социал-демократы из всех частей Российской империи.
Очередное заседание съезда еще не началось. В просторном фойе Народного дома, который шведские социал-демократы любезно предоставили в распоряжение своих русских товарищей, у большого окна стоял Феликс Эдмундович Дзержинский и с любопытством наблюдал за делегатами, которые прохаживались по залу или собирались группами, оживленно разговаривая и жестикулируя.
Феликс заметил, что делегаты группируются, как правило, по своим прежним фракциям: большевики с большевиками, меньшевики с меньшевиками. И та и другая фракции вышли на съезд со своими платформами, каждая яростно отстаивала свои взгляды на движущие силы революции, на тактику, по-своему оценивая обстановку.
Дзержинский уже знал, что среди делегатов съезда преобладают меньшевики. На 46 большевиков приходилось 62 меньшевика. Это неизбежно сказывалось и на принятых решениях: проходили предложенные меньшевиками. «Трудно ожидать, чтобы съезд в таких условиях выработал действительно четкую революционную линию, да и объединение будет, видно, чисто формальным, слишком велика пропасть…»
Его размышления прервал веселый голос:
— Здравствуйте, товарищ!
Перед Дзержинским стоял худощавый, крепко сбитый паренек лет двадцати двух — двадцати четырех. Вздернутый нос и пшеничный чуб надо лбом придавали лицу его задиристое выражение, но слегка прищуренные глаза доброжелательно улыбались.
— Говорят, вы из Польши, — продолжал он. — А я из Донбасса. Есть такой город Луганск, может, слышали?
— Ну как же, слышал. А я действительно из Польши. Меня зовут Юзеф Доманский, — представился Дзержинский. Паренек из Донбасса ему как-то сразу понравился, и лицо Феликса осветилось доброй улыбкой.
— А меня Володя. Владимир Антимеков, — отрекомендовался, в свою очередь, новый знакомый. — С чем же вы, товарищи поляки, пожаловали на наш съезд?
— Чтобы объединиться с российской социал-демократией.
— Ну, это известно из повестки дня. А вот с каких позиций будете объединяться? С большевистских или меньшевистских?
Это начинало походить на допрос. Дзержинский ответил сухо:
— Делегация социал-демократии Польши и Литвы ознакомлена со съездовскими документами и целиком поддерживает платформу большевиков.
— Вот это здорово. Это по-нашему, по-рабочему, — воскликнул Володя, и лицо его снова просияло.
— Прошу прощения, — перебил их беседу подошедший Варский, — пойдем, Юзеф, я представлю тебя Владимиру Ильичу.
Ленин сидел за столом президиума и что-то быстро писал в развернутом блокноте. Когда Варский и Дзержинский подошли, он встал и вышел из-за стола.
— Здравствуйте, здравствуйте, — говорил Ильич, протягивая руку Дзержинскому. — Очень рад с вами познакомиться, товарищ Юзеф!
Владимир Ильич часто председательствовал на заседаниях съезда, неоднократно выступал, и потому Дзержинский успел хорошо изучить его лицо, движения, жесты, манеру говорить. И сейчас Феликсу казалось, что знает он Ильича давно и что встретились они вовсе не впервые, а как добрые друзья после долгой разлуки.
— Ну как вам наш съезд? — спрашивал Владимир Ильич. — Меньшевики-то каковы. Мартынов договорился до открытого отрицания гегемонии пролетариата в революции! Что вы на это скажете? — Ленин слегка прищурился и немного отодвинулся, как бы для того, чтобы лучше видеть собеседника. Его поза, выражение лица — все говорило о живейшем интересе.
— Скажу, что это прямое предательство! — запальчиво, не задумываясь ни на минуту, ответил Дзержинский.
— Суровая оценка, но, пожалуй, правильная. — Ленин обратился к Барскому.
— Не знаю, понимает ли это сам Мартынов, но объективно Юзеф прав. Отдавать руководящую роль в революции буржуазии — это предательство по отношению к рабочему классу, к самой революции, — поддержал Дзержинского Варский.
— А их думская тактика? — снова вмешался в разговор Дзержинский. — Видеть в Думе какой-то «общенациональный политический центр», способный на борьбу с самодержавием, это же обман рабочего класса. Уверяю вас, Владимир Ильич, что все организованные рабочие в Польше отнеслись отрицательно к этой тактике.
— Мне кажется, что и у русских рабочих меньшевики не найдут поддержки, — продолжал он. — Я только что беседовал с товарищем Антимековым из Донбасса…
— Как, как вы сказали? Антимековым? — прервал его Владимир Ильич и вдруг весело, заразительно расхохотался. Он смеялся, весь откинувшись назад, повторяя время от времени: — А-а-антимеков… А-а-антимеков…
Затем достал платок и вытер уголки глаз.
— Не обижайтесь на меня, ради бога, дорогой Феликс Эдмундович. Так ведь вас зовут, товарищ Юзеф? Вы разговаривали с Климом Ворошиловым. Замечательный товарищ, твердый большевик! Так вот, вы, вероятно, слышали, что нас, большевиков, для краткости называют «беками», а меньшевиков — «меками». Вот Клим и придумал: раз он «бек», значит, против «меков», «Антимеков». Это же замечательно! — И Ленин снова рассмеялся. Теперь вместе с ним смеялись Дзержинский и Барский.
— Но как же все-таки быть? — спрашивал Дзержинский. — Ведь по всем важнейшим вопросам съезд принимает меньшевистские резолюции?
— Да, — подтвердил Ленин, — большевики пошли на объединение с меньшевиками под давлением низов, желающих на собственном опыте испытать возможность работы в рамках единой партии. Но большевики и не собираются складывать оружия. Наоборот, после съезда они поведут еще более острую идейную и политическую борьбу с меньшевиками как с проводниками буржуазного влияния на пролетариат…
Зазвенел звонок председательствующего, возвещая о начале заседания. Барский и Дзержинский направились в зал, к Ганецкому, который издали знаками приглашал их.
Съезд заседал две недели. В порядок дня было вынесено 15 вопросов. Тринадцатым в их числе рассматривалось объединение с национальными социал-демократическими организациями Польши и Литвы, Латышского края и Бундом.
Делегаты социал-демократии Польши и Литвы хотели, чтобы вопрос этот съезд рассмотрел в начале своей работы. Большевики поддержали, однако меньшевики, опасаясь, чтобы поляки и латыши, получив право решающего голоса, не оказали влияния на характер решений съезда, воспротивились этому.
Юзеф возмущался:
— Если бы мы с самого начала получили решающий голос, — говорил он своим товарищам по поводу резолюций, протаскиваемых меньшевиками, — то сказали бы во весь голос: «Долой такие резолюции!» 30 тысяч пролетариев Польши, уже принадлежащих к партии, доказали всей своей борьбой, что они против таких резолюций.
Но пока приходилось сидеть, слушать и молчать. Они ведь еще не были полноправными членами РСДРП.
Наконец свершилось. Социал-демократия Польши и Литвы вошла в состав Российской социал-демократической рабочей партии как «территориальная организация РСДРП, ведущая работу среди пролетариата всех национальностей ее района и объединяющая деятельность всех партийных организаций на этой территории».
Против такой формулировки первого пункта резолюции возражал бундовец. Он требовал, чтобы СДКПиЛ не занималась рабочими-евреями, предоставив эту работу исключительно Бунду.
Взял слово Дзержинский.
— Я должен заявить, — говорил он, — что социал-демократия Польши и Литвы вела и впредь будет вести работу среди рабочих всех национальностей — поляков, литовцев, евреев, русских, немцев.
Предложение бундовца было отвергнуто.
Условия слияния социал-демократии Польши и Литвы с РСДРП были подробно разработаны и состояли из 10 пунктов. Когда голосование окончилось, за столом президиума поднялся Ленин. От имени съезда он высказал искреннее пожелание, чтобы «это объединение послужило наилучшим залогом дальнейшей успешной борьбы».
Съезд окончен. Скорый поезд мчал Дзержинского, Барского и Ганецкого в Берлин. Феликс отвернулся к окну, задумался. Ленин. Простота, человечность, ясность мысли, характер борца влекли к Ильичу Дзержинского. Особенно импонировало ему в Ленине сочетание могучей теоретической мысли с талантом организатора- практика.
По свидетельству Ганецкого, Ленин с первой же встречи увидел в Дзержинском настоящего революционера-большевика.
…Прошел месяц. В маленьком курортном городке Закопане, спрятавшемся среди Карпатских гор на востоке Австро-Венгерской империи, на Каспрусях в июне 1906 года проходили заседания V съезда социал-демократии Польши и Литвы.
От имени Главного правления отчетный доклад сделал Дзержинский. Впрочем, мало кто из делегатов знал подлинное имя докладчика: он выступал на съезде как Франковский.
С гордостью докладывал товарищ Франковский съезду о бурном росте партийных рядов и укреплении влияния партии на рабочие массы.
В особый раздел доклада Юзеф выделил «Объединение с Российской социал-демократической рабочей партией». Он назвал объединение «главнейшим вопросом нашей внешней партийной политики».
Съезд единогласно одобрил слияние социал-демократии Польши и Литвы с РСДРП и высказался за созыв чрезвычайного съезда РСДРП в связи с тем, что избранный на IV (Объединительном) съезде партии ЦК, в котором преобладали меньшевики, не отражал взглядов большинства членов партии.
С чувством глубокого удовлетворения наблюдал за ходом съезда Вацлав Воровский, направленный на съезд Лениным от большевистской газеты «Вперед». Зато явное неудовлетворение выражали представители ЦК РСДРП: бундовец Леон Гольдман и меньшевик Отто Ауссем.
Секретарю Главного правления Дзержинскому съезд выразил благодарность «за неутомимую деятельность».
Глава VI Дневник
1
Тяжелая дверь захлопнулась. Проскрежетал задвигаемый снаружи засов, и все стихло.
Дзержинский осмотрел одиночку. Да, сомнения не могло быть. Камера та самая, в которой он сидел восемь лет назад. Где-то в груди шевельнулось теплое чувство. Феликс усмехнулся. Подумать только, как странно устроен человек. Тюремная камера, ну что в ней хорошего? А все-таки приятно, что попал в «свою», когда-то уже обжитую.
За семь лет ничего не изменилось, в этой камере X павильона Варшавской цитадели. Только серые стены стали грязнее, в синих и белых пятнах; видно, тюремщики замазывали какие-то надписи.
Дзержинский не узнавал себя. С момента ареста его охватило какое-то странное спокойствие, совершенно не соответствующее тюремным стенам. Странно, но в одном только сознании «я существую» он находил удовлетворение. Внутри все как бы застыло. Но не угасло. Он чувствовал, как в глубинах души что-то накапливается, чтобы вспыхнуть, когда настанет для этого момент. «Буду вести в тюрьме правильную жизнь, чтобы не отдать палачам свои силы. Я все выдержу и вернусь», — настойчиво внушал он самому себе.
Лишенный возможности привычного бурного действия, Дзержинский окунулся в воспоминания.
Невольно мысль прежде всего возвращалась к аресту. Последние дни он много работал вместе с Софьей Мушкат над изданием литературы к первомайскому празднику. Все было готово, отпечатано, разослано на места. Можно было уезжать из Варшавы, чтобы избежать массовых арестов, проводимых охранкой среди революционеров под Первое мая. Накануне отъезда он зашел на квартиру к Софье, простился, а на следующий день, 3 апреля 1908 года, при выходе из почтамта был арестован.
Софья была вне подозрений, и Феликс решил, что арест случаен: попался на глаза знакомым филерам, вот и все. Однако на этот раз Дзержинский ошибался.
В то время, пока он доискивался до причин своего ареста, варшавский обер-полицмейстер писал генерал-губернатору о том, что Дзержинский арестован «в числе других лиц», принадлежавших к группе социал-демократов, за которой вела наблюдение полиция.
«Дзержинский, принадлежал к районному комитету и редакционной комиссии социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы, в коей известен по кличке «Иосиф»[12], играл, в ней весьма видную роль, состоя в партийных «верхах», Дзержинский был организатором партийных съездов, на каковых сам участвовал, а также занимался, кольпортажем партийных органов, рассылая их по краю в гг. Петроков, Лодзь, Радом и др.».
Перечитав это произведение канцелярского творчества, столь лестное для Дзержинского, полицмейстер далее присовокупил», что при личном обыске у арестованного нашла заметки, по отчету Варшавской районной партийной конференции от 22 марта 1908 года и другие изобличающие его материалы;
«Сверх ceго из дел отделения, видно, что названный Дзержинский 13 декабря 1906 года был задержан в г. Варшаве по Цегляной. улице, в доме № 3, квартира 2, на социал-демократической сходке, под нелегальной фамилией Романа Карлова Рацишевского привлечен к дознанию в качестве обвиняемого в порядке 1035 ст. уст. уголовного судопроизводства и освобожден 27 мая того же года[13] под залог в тысячу рублей, но от суда и следствия скрылся».
Раздумывая над причинами ареста и теми обвинениями, которые могут ему предъявить жандармы, Феликс Эдмундович вспоминал и свой провал на Цегляной. Вот когда он влип действительно совершенно случайно, попал как кур в ощип. Приехал из Лодзи, с вокзала пошел к Юзефу Красному, не зная о том что тот уже арестован, и напорется: на полицейскую засаду. Сидел сначала в ратуше, затем в «Павяаке». Хлопотал о его освобождении под залог брат Игнатий. Родные и товарищи решили, что его освобождение стоит той тысячи, что заломила полиция.
Значит, теперь к двум побегам из ссылки ему прибавят еще и уклонение от следствия и суда. А что еще? Вероятно, принадлежность к социал-демократической организации. В мрачные годы реакции, наступившие после поражения революции, сама «принадлежность» считалась преступлением и строго каралась. Но прямых доказательств этой его «принадлежности» у полиции нет. Отобранные у него при аресте материалы могли попасть к нему и случайно.
Дзержинский на допросе признал, что находился под судом. На другие вопросы «ответов давать не пожелал» — так следователю и пришлось записать в протоколе.
А мысли все бегут и бегут. Недолго ему удалось пробыть на воле после V съезда социал-демократии Польши и Литвы. Всего полгода, зато сколько событий произошло за это время!
После IV (Объединительного) съезда РСДРП Главное правление выделило его в состав редакции центрального органа партии «Социал-демократ», как представитель социал-демократии Польши и Литвы, он вошел и в ЦК РСДРП и перебрался в Петербург.
Вся редакция «Социал-демократа», кроме него, — меньшевики, большинство в ЦК тоже за ними. Что ни день, то драка, чаще всего без видимого результата. Дзержинский начал было сомневаться: нужен ли он здесь? Но большевики говорили, что его пребывание в Петербурге полезно: меньшевики на заседаниях ЦК стали менее уверенны в себе, им приходится считаться с тем, что Дзержинский представляет многотысячный пролетариат Польши и Литвы.
На второй, третьей и четвертой конференциях РСДРП в Таммерфорсе, в Котке и в Гельсингфорсе он неизменно поддерживал Ленина…
Ленин! Все больше и больше места занимал он в жизни и в сердце Дзержинского. Тогда, в Петербурге, ему довелось видеть Ленина не только на собраниях. Вспоминались встречи с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной у Менжинских. За роялем сестра Вячеслава Рудольфовича, Владимир Ильич на диване, с закрытыми глазами, весь ушел в музыку. Всплыл в памяти заснеженный Петербург, и знакомый с картавинкой голос окликает его на улице. Оглянулся, а в извозчичьих санках Владимир Ильич и Надежда Константиновна; остановились, зовут к себе. Феликс примостился кое-как на облучке, рядом с извозчиком, а Владимир Ильич всю дорогу беспокоился, как бы он не упал на повороте или на ухабе. А потом письмо из Женевы. Владимир Ильич советовался с ним, где издавать большевистскую газету «Пролетарий»…
В «Павиаке» незадолго до своего освобождения под залог Дзержинский узнал, что на V съезде РСДРП в Лондоне заочно избран в состав нового Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии. «Пожалуй, мое избрание не обошлось тогда без участия Ильича. Недаром же на съезде большевики располагали твердым большинством» — эта мысль почему-то впервые пришла ему в голову. И тут же, тоже впервые, подумалось: «А знают ли об этом жандармы?»
Увы! Жандармы знали. Начальники охранных отделений получили секретный циркуляр из Петербурга. Департамент полиции извещал, что избранный на съезде в состав Центрального Комитета РСДРП «Доманский Юзеф содержится в варшавской тюрьме».
Как-то там на воле? Осенью 1906-го полиция арестами здорово ослабила организацию. Провалы следовали один за другим и позже, вплоть до его последнего ареста. И если ему, прекрасно знавшему обстановку и людей, еще удавалось продержаться на свободе несколько месяцев, то другие члены Главного правления, прибывшие в Россию в разгар революции, проваливались быстро.
В декабре 1905-го в Варшаву нелегально приехала Роза Люксембург, а в марте 1906-го уже была арестована. Сидела она в ратуше, в камере № 17. На стене камеры Роза выдолбила свою фамилию. В июне ее освободили под залог, и вскоре она уехала за границу. Помог германский паспорт.
Вместе с ней приехал и вместе провалился Ян Тышка. В декабре 1906-го его осудили на 8 лет каторги. Он бежал из тюрьмы, распропагандировав стражу.
Хорошая зависть зашевелилась в душе Юзефа. Его еще не присуждали к каторге, и бежать из тюрьмы ему тоже не приходилось. Собственные побеги из ссылки показались делом простым и легким по сравнению с тем, что сделал Тышка. Дзержинский не забыл язвительный тон Иогихеса при их первой встрече в Берлине, но сейчас готов был ему все простить.
Из глубокой задумчивости Дзержинского вывел звон кандалов. В его коридоре большинство заключенных были в оковах. Когда их выводили на прогулку, в канцелярию или в уборную, тюремная тишина наполнялась кандальным скрежетом. Этот скрежет преследовал Феликса. Он ясно представлял себе холодное, бездушное железо на живом человеческом теле. Железо, вечно алчущее тепла и никогда не насыщающееся.
2
К Дзержинскому пришел незваный, гость — жандармский полковник Иваненко. Уселся посреди камеры на принесенный жандармом стул, снял фуражку — голова у Иваненко оказалась круглая и наголо бритая, — расстегнул ворот мундира, достал гребенку и расчесал пышные усы. Движения у полковника были неторопливые, уверенные, а маленькие глазки его, пока он проделывал все эти манипуляции, внимательно рассматривали Дзержинского.
Феликс при появлении начальства встал, как полагалось, но тут же и опустился на свою табуретку, едва уселся полковник. Он тоже рассматривал непрошеного гостя, прикидывая в уме, зачем тон пожаловал.
— Здравствуйте, господин Дзержинский, давненько мы с вами не виделись, — пророкотал Иваненко. Его бас, грохотавший на допросах, сейчас стлался бархатом; ни дать ни взять старый друг, а не кровный враг сидит перед тобой.
— Да, давненько, — сухо согласился Дзержинский, — и, откровенно говоря, не могу сказать, чтобы я соскучился.
Иваненко сдержанно посмеялся: видишь, мол, хоть я и жандарм, а могу ценить юмор, даже в устах заключенного. Затем все с тем же участием, в тоне полковник принялся расспрашивать Феликса о жизни: хороша ли камера, не беспокоят ли соседи, не ущемляет ли в чем тюремная администрация? Постепенно он перевел разговор на поражение революции и «бесперспективность», а следовательно, и «бессмысленность» борьбы. Тут Иваненко чуть не прослезился, говора о загубленных «напрасно» молодых жизнях, томящихся в тюрьмах, на каторге и в ссылке, — «вот, например, как вы».
Дзержинскому надоели эти жандармские откровения.
— Скажите, господин полковник, зачем вы ко мне пришли? — спросил он в упор.
Иваненко ответил не сразу.
— Хотите откровенно? Хочу узнать, не разочаровались ли вы в своих убеждениях?
— Напрасно надеетесь, — сказал Феликс, — но позвольте и мне спросить: не слышали ли вы когда-либо голоса своей совести, не чувствуете ли хоть изредка, что защищаете злое дело?
Маленькие глазки Иваненко стали колючими.
— Советую вам подумать над нашим разговором, — сказал он, оставив без ответа вопрос Феликса, и вышел из камеры.
Спустя несколько дней Дзержинского вызвали в канцелярию. Там, в одном из кабинетов, оставили наедине с Иваненко.
Дзержинский почувствовал волнение, изнутри поднималась мелкая противная дрожь.
На этот раз Иваненко сделал вид, что прибыл по делу.
— Я приехал сообщить вам, что ваше дело передано в военный суд. Обвинительный акт вам уже направлен. Да вы не волнуйтесь. Военные суды теперь часто выносят приговоры менее суровые, чем судебная палата, — доброжелательным тоном говорил Иваненко.
Дзержинский знал, что это заведомая ложь.
Сквозь охватившую его тревогу и беспокойство — Дзержинский и сам не мог объяснить свое состояние — до него доходили вопросы полковника: есть ли книги, как кормят.
— Что касается меня, — говорил Иваненко, — то я устроил бы в тюрьме театр.
И наконец, вот оно:
— Почему бы вам, господин Дзержинский, не сотрудничать с нами? Тогда наш приговор может быть значительно смягчен.
— Это гнусно, гнусно! Как вы смеете!
Феликсу казалось, что он кричит. Но горло от ненависти и омерзения перехватили спазмы, и голос был едва слышен.
— Все сначала так говорят, а потом соглашаются, — хладнокровно сказал полковник.
Во время этого непродолжительного разговора Феликс, по его собственным словам, чувствовал, словно по телу его ползет змея. Скользкая, холодная, ползет и ищет, за что бы зацепиться, чтобы овладеть им. По пути в камеру он испытывал ощущение, близкое к рвоте, до того было противно.
Успокоившись, он стал присматриваться к окружающим его людям — заключенным, жандармам, солдатам. У него пробудился интерес к жизни тюрьмы, к судьбам ее обитателей. «Спасибо Иваненко, вывел из спячки», — иронизировал Феликс.
Что можно увидеть и узнать в одиночке, где заключенный отрезан, казалось бы, от всего мира? Оказывается, многое. С утра до ночи работает тюремный «телеграф», стучат соседи справа и слева, сверху и снизу. Жандармы могут на время приостановить перестукивание, но не в их силах вовсе избавиться от «телеграфа». Идет переписка через «почтовые ящики». Проваливаются одни из них, заключенные с невероятной изобретательностью находят другие. Многое можно увидеть и узнать на прогулке или из случайных встреч в коридорах. Окна камер из граненого стекла, ничего не увидишь, кроме расплывчатых силуэтов, но два верхних стекла прозрачные. И если взобраться на стол или на спинку кровати, то сквозь густую проволочную сетку можно все же увидеть, что происходит во дворе. Наконец, все это дополняют обострившиеся в тюрьме слух и интуиция. По доносящимся до него звукам опытный арестант довольно точно определяет, где и что происходит.
В камере, расположенной рядом, сидела Ганка, восемнадцатилетняя работница, арестованная четыре месяца тому назад.
У Ганки постоянные столкновения с жандармами. То поет, то из окна уборной приветствует гуляющих во дворе заключенных, а 1 Мая во время прогулки кричала: «Да здравствует революция!» — и пела «Красное знамя». Когда ее пытаются утихомирить, она будоражит всю тюрьму криками и плачем.
Однажды Феликс простучал, что сердится на нее за то, что она из-за глупостей подвергает себя оскорблениям. «Больше не буду», — отстучала Ганка, но час спустя уже забыла об этом обещании.
Ганку вызвали в канцелярию. Вернулась возбужденная. «Начальник предложил мне выбор: предать — и тогда меня приговорят к пожизненной каторге — или быть повешенной. Я расхохоталась ему в лицо и выбрала виселицу», — отстучала она Дзержинскому.
«Бедное дитятко! Почему ее, а не меня ждет смерть?» — терзался Феликс…
А через неделю ему передали с воли: Ганка Островская провокатор. Она ездила с жандармами и указывала квартиры известных ей социал-демократов. Сидит под вымышленной фамилией Марчевская, а свою настоящую тщательно скрывает. Уже в тюрьме выдала доверившуюся ей заключенную и жандарма, который оказывал услуги арестованным.
Дзержинский был потрясен. Не хотелось верить, но сведения были точные, из надежного источника. О предательстве Ганки он уведомил других заключенных.
Как тяжело разочаровываться в людях! «Бедное дитятко».
Дневное потрясение сменила тяжелая ночь. Напрасно Феликс натягивал на голову одеяло. Глухой стук топоров проникал в камеру, не давал уснуть. Он знал, что это означает: во дворе строили виселицу. Воображение подсказывало, как на смертника набрасываются жандармы, вяжут, затыкают рот, чтобы не кричал…
Часто по ночам слышался этот зловещий стук топоров, потом прекратился. Но не потому, что некого стало вешать. Наоборот. Смертные приговоры следовали один за другим, и уже не было ни времени, ни смысла разбирать виселицу после очередной казни.
Вешали ночью. Тюремные власти старались вешать тихо, без шума. Но коридор с камерами смертников помещался напротив камеры, где сидел Дзержинский, и он все равно слышал скрежет отодвигаемых засовов и звуки шагов. И знал, кого повели на казнь.
Из камеры в камеру заключенные передавали новость: охранка подослала в X павильон новых шпионов. Называли даже цифру — шесть человек. В среде заключенных тоже есть еще не разоблаченные провокаторы.
Администрация часто меняла сокамерников. Теперь цель этой постоянной перестановки стала ясна: дать возможность неразоблаченным шпикам узнать как можно больше.
Чувство самосохранения заставляло заключенных делиться друг с другом своими подозрениями. Иногда провокатора удавалось обнаружить. Некоторые из них уж очень топорно работали. Например, одна из заключенных называла себя Юдицкой, письма получала как Жебровская, а жандармы именовали ее Кондрацкой. Она призналась, что получала от охранки 15 рублей в месяц. Были провокаторы, которых разоблачали по их поведению на предварительном следствии и в суде.
Но простучать в стенку соседу или передать ему записку со своими сомнениями и подозрениями нетрудно, а вот собрать воедино все факты, проанализировать их, а затем гласно заклеймить предателя — на это способны были немногие. Эту задачу взял на себя Дзержинский.
И не раз во время прогулки заключенные слышали его голос:
— Товарищ! Гуляющий с тобой — известный мерзавец, провокатор.
На следующий день провокатор гулял уже в одиночестве, а вскоре и вовсе исчезал из поля зрения. Охранка убирала из тюрьмы своего провалившегося агента.
Кандалы, казни, гнетущая атмосфера ожидания решения собственной судьбы, тюремная тишина, которую лишь сильнее подчеркивали звуки, доносившиеся извне, — все это давило на узников X павильона, подтачивало здоровье, разрушало психику.
К шпионажу тайному, через подсаженных провокаторов, прибавлялась слежка явная: обыски в камере, подглядывание через глазок, подслушивание.
«Если бы нашелся кто-нибудь, кто описал бы весь ужас жизни этого мертвого дома, кто бы воспроизвел то, что творится в душе находящихся в заключении героев, а равно и подлых и обыкновенных людишек, что творится в душах приговоренных, которых ведут к месту казни, — тогда бы жизнь этого дома и его обитателей стала величайшим оружием и ярко светящим факелом в дальнейшей борьбе», — записал в тюремном дневнике Феликс Дзержинский.
3
Жандарм посмотрел через глазок в камеру Дзержинского и увидел его склонившимся над столом. Жандарм уже не в первый раз подходил к глазку: заключенный все что-то писал, почти не меняя позы.
«Ишь расписался…» Жандарма, однако, это не встревожило. Тем из заключенных, кто вел себя в крепости спокойно, не нарушал режима, администрация разрешала иметь бумагу и письменные принадлежности. Этим правом сейчас пользовался и Дзержинский.
На столе перед Феликсом лежали два письма. Одно полностью законченное, другое, только начатое, — алиби на случай внезапного вторжения тюремщиков. Сам же он на маленьких листочках, которые легко было спрятать, мелким бисерным почерком, так что порой и самому было трудно разобрать, делал очередную запись в свой дневник. Он вел его уже несколько месяцев, урывками, таясь от тюремщиков. «Буду писать там всю правду, заразительную, когда она прекрасна и могущественна, вызывающую презрение и отвращение, когда она унижена и оплевана», — решил Дзержинский.
— К чему все это? — спросил его сокамерник. Теперь, когда следствие по его делу было окончено, в камеру Дзержинского помещали других заключенных. — Ведь все равно нет почти никакой надежды, что ваши записи выйдут из тюремных стен.
— А я верю, — ответил Феликс. — Я чувствую: у меня столько сил, что я все выдержу и вернусь. Но если даже я и не вернусь, то этот дневник дойдет до моих друзей, и у них будет хоть частичка моего «я».
В середине декабря во время прогулки в камере Дзержинского был произведен тщательный обыск. Дневник жандармы не обнаружили, но тем не менее письменные принадлежности отобрали. Дзержинский потребовал объяснений от заведующего павильоном.
— В городе обнаружено ваше письмо, переправленное в обход тюремной администрации. Я предупреждал вас.
Настал день писем. Дзержинскому и его сокамернику предложили писать их в присутствии жандарма, чтобы не могли отлить себе чернил. Писать дневник стало много труднее. Требовалась огромная изобретательность и настойчивость, чтобы добыть клочок бумаги, огрызок карандаша, каплю чернил или графит, постоянная бдительность и хитрость, чтобы не дать себя поймать. И все-таки Феликс продолжал свои записи.
Наступил канун нового, 1909 года.
Поздней ночью, лежа на койке при тусклом свете ночной лампы, поставленной над дверью камеры, Дзержинский писал:
«Сегодня — последний день 1908 года. Пятый раз я встречаю в тюрьме новый год (1898, 1901, 1902, 1907-й); первый раз — одиннадцать лет назад. В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в деле. И теперь, когда, быть может, на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч борцов за свободу томятся в темницах или брошены в снежные тундры Сибири, — я горжусь.
Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй, — массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы… Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно… И тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы ее так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня органическая необходимость».
Уже год, как Дзержинский томится в цитадели. Наступило 1 Мая, боевой праздник международной солидарности пролетариата. Но для заключенных Варшавской цитадели он был омрачен очередной казнью. Повесили рабочего-портного. Феликсу удалось узнать только его имя — Арнольд.
«Так прошло у нас 1 Мая. Это был день свиданий, и мы узнали, что в городе 1 Мая не праздновали. Массам еще хуже: та же, что и прежде, серая, беспросветная жизнь, та же нужда, тот же труд, та же зависимость…
Некоторые рекомендуют теперь приняться исключительно за легальную деятельность, то есть на самом деле отречься от борьбы. Другие не могут перенести теперешнего положения и малодушно лишают себя жизни. Но я, — писал Дзержинский, — отталкиваю мысль о самоубийстве, я хочу найти в себе силы пережить весь этот ад, благословлять то, что я разделяю страдания с другими; я хочу вернуться и бороться и всегда понимать тех, которые в этом году не откликнулись на наши призывы».
А ад продолжался.
«Конца-краю не видно смертным казням. Мы уже привыкли к такого рода сведениям. И продолжаем жить… Мысль уже не в состоянии охватить всего ужаса, чувствуется только какое-то беспокойство, какая-то тень ложится на душу, и безразличие ко всему овладевает человеком все глубже и глубже. Живешь потому, что физические силы еще не иссякли. И чувствуешь отвращение к себе за такую жизнь…»
Дзержинский, решив быть предельно искренним, на страницах дневника не щадил себя, не пытался казаться лучше, чем есть. Пусть знают товарищи по борьбе, что и его посещали минуты уныния и тоски. Но пусть они знают и то, что никогда не покидала Юзефа вера в торжество рабочего дела. И в дневнике появилась запись:
«Не стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего».
4
— Ну как, служивый, и тебе несладко в цитадели? — спросил Феликс солдата, убиравшего камеру.
Ответа не последовало. Щуплый молоденький солдатик боязливо покосился на стоявшего в дверях жандарма и сильнее начал тереть пол.
Казалось, невозможно найти щель, сквозь которую листочки его дневника смогли бы выпорхнуть на волю.
Всякий внеслужебный разговор с заключенным солдатам-служителям и жандармам-ключникам был категорически воспрещен. Жандармы следили за солдатами, а их самих часто сменяли. Каждый жандарм попадал в один и тот же коридор раз в 10–15 дней. Попробуй при таких условиях узнать, кто из них проще и доступнее, добраться до их сердца и мыслей.
И все-таки Дзержинский упорно продолжал свои наблюдения. Взгляд, интонация голоса, манера обращения с заключенными — ничто не ускользало от его внимания.
Но вот однажды во время прогулки Дзержинскому показалось, что жандарм собирается вести его в камеру раньше времени.
— У меня осталась еще одна минута, — резко сказал он, указывая на часы, висевшие на заборе в стеклянном шкафу.
Жандарм возмутился:
— Неужели вы думаете, что я и впрямь хочу отнять у вас эту минуту. Думаете, если жандарм, так уж и понять не могу, как она дорога, эта минута, ежели всего-то их пятнадцать в сутки вам отпускают!
Сказано это было дружелюбным тоном и с такой горечью, что Дзержинский сконфузился.
— Всякие бывают среди вас, — ответил он.
За этим разговором прошла минута, но жандарм накинул еще одну.
Феликс постарался запомнить этого жандарма.
Увы! Больше он его не видел. Заведующий X павильоном Елкин был с заключенными мил, предупредителен, любезен, но постепенно вводил все более и более строгий режим. Через специально присланного из жандармского управления вахмистра шпионил за жандармами и тех из них, кто проявлял хоть малейшее сочувствие к заключенным, отправлял в эскадрон.
Однако командир отказывался их принимать. «Они мне развратят весь эскадрон, а те, которых мне придется прислать на замену, тоже развратятся, сталкиваясь с заключенными», — рассуждал он.
Командир эскадрона был по-своему прав, но только отчасти. Дело в том, что многие новобранцы приходили в армию, уже находясь под влиянием революционных идей, и, в свою очередь, «развращали» остальных. Были такие и среди новобранцев, попадавших по набору в жандармерию. Так на смену одним попадали в X павильон другие солдаты и жандармы, втайне сочувствующие заключенным там революционерам.
Настал день, когда Феликс лично убедился в этом. Вечером при свете лампы Дзержинский сидел над книгой. Снаружи послышались тяжелые шаги, а затем он увидел силуэт часового, прильнувшего лицом к стеклу.
Дзержинскому захотелось взглянуть на солдата. Он быстро влез на стол. Густая сетка, прибитая к форточке, мешала солдату разглядеть узника, но Дзержинский хорошо его видел.
— Ничего, брат, не видно! — сказал Феликс дружелюбно.
— Да! — послышалось в ответ. Солдат тяжело вздохнул и секунду спустя спросил:
— Скучно вам? Заперли (последовала крепкая русская ругань) и держат!
Кто-то показался во дворе. Солдат ушел.
Эти несколько грубых, но сочувственных слов вызвали волну чувств и мыслей,
«Революция разбудила умы и сердца, вдохнула в них надежду и указала цель. Этого никакая сила не в состоянии вырвать! И если мы в настоящее время, видя, как ширится зло, с каким цинизмом люди убивают людей, приходим иной раз в отчаяние, то это ужаснейшее заблуждение…» — записал он в дневник, подводя итог своим размышлениям, вызванным мимолетным разговором с неизвестным ему солдатом.
А через несколько дней того солдата назначили во внутренний наряд. Теперь в его обязанности входило убирать камеры, приносить заключенным обед и чай, уносить порожнюю посуду, заправлять лампы и ходить за покупками для заключенных в тюремный ларек.
Дзержинский сразу узнал своего собеседника, как только тот вошел в его камеру. С удовольствием смотрел Феликс на его крепко сбитую фигуру и скуластое лицо, украшенное пшеничными усами, и ласково ему улыбнулся. Солдат ответил взглядом, выражающим полное недоумение, и молча принялся за уборку.
Стук в дверь где-то в другом конце коридора заставил жандарма, наблюдавшего за уборкой, оставить их одних.
— Скучно вам? Заперли (Феликс повторил ругательство) и держат!
— Так это я с вами разговаривал? — сказал солдат и засмеялся.
Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы узнать фамилию солдата — Лобанов — и его печальную жизнь.
— Дома хлеба нет, — шептал, не отрываясь от работы, Лобанов, — казаки в нашей деревне ужас что делают! Засекли розгами нескольких баб и мужиков. Мы здесь страдаем, а дома жены с ребятишками сидят голодные.
— Вся Россия сидит голодная, во всем государстве розги свистят! — успел ответить Дзержинский. Но тут их беседе помешал возвратившийся жандарм.
Феликс решился. Попросил жандарма послать Лобанова в тюремную лавочку за сахаром и папиросами, а когда тот вернулся, передал ему незаметно несколько листков дневника и шепнул адрес. Лобанов мгновенно сунул бумагу за пазуху и слегка кивнул в знак согласия головой.
Спустя пару дней вместе с передачей с воли Дзержинский получил извещение о том, что посланные им записи дошли по назначению.
Еще несколько раз Лобанов относил по указанному Дзержинским адресу странички из дневника, а потом вместо него появился другой солдат.
— А где же Лобанов?
Солдат промолчал.
— Арестован ваш Лобанов, — со злостью ответил за него жандарм. — Так ему, дураку, и надо. Свяжись с вами, вы же нашего брата и продадите!
У Дзержинского похолодело в груди. Неужели он косвенный виновник его ареста?
Заработал во все стороны тюремный «телеграф». Дзержинский требовал сообщить ему все, что известно об аресте солдата Лобанова.
Выяснилось, что Лобанов передавал на волю письма и от других заключенных, в том числе от анархиста Ватерлоса. После того как Лобанова перевели из того коридора, где сидел Ватерлос, он переписывался с ним. И вот Ватерлос допустил непростительную неосторожность: не сжег вовремя письмо Лобанова, и оно было найдено в его камере во время очередного обыска.
Дзержинский был возмущен. Жаль Лобанова, пропала возможность передавать на волю дневник. Когда-то она вновь появится? И появится ли вообще?
Единственное слабое утешение — не он, все-таки не он виновник ареста этого славного, простодушного русского солдата.
Дзержинский возвращался со свидания. Перед глазами все еще стояла Стася, жена брата Игнатия. Она передала ему приветы от родных, прелестные цветы, фрукты и шоколад.
Комната свиданий помещалась напротив канцелярии, и в коридоре Дзержинский проходил мимо двух наказанных жандармов. Они стояли рядом, вытянувшись в струнку, с обнаженными шашками в руках, на полшага от стены и не смели ни опереться, ни отдохнуть. Так они должны были простоять два часа. И вероятно, стояли уже давно, Дзержинский определил это по их измученному виду. В глазах одного он заметил блеск ненависти, в глазах другого — мертвый животный страх.
Наказанные жандармы не новость. За всякий пустяк их сажают в карцер или заставляют стоять под шашкой.
И Дзержинский, наверное, не обратил бы на них внимания, если бы не одно обстоятельство: тот, с ненавистью в глазах, был ему знаком, это он как бы нечаянно устроил ему в туалете свидание с заключенным-радомчанином, а потом, когда отводил в камеру, лукаво посмеивался в усы.
Начальство не сумело выбить из него все человеческое. И в первый же день, когда Ковальчук (так звали жандарма) заступил на дежурство в его коридоре, Феликс заговорил с ним и убедился, что был прав в своих предположениях.
С Ковальчуком было работать проще, чем с Лобановым. Жандарм по службе повседневно соприкасался с заключенными и всегда мог оправдать свое общение с ними.
И еще несколько листков дневника улетело на волю из X павильона Варшавской цитадели.
А потом на печи в уборной нашли браунинг и патроны. Пошли слухи, что кто-то из заключенных готовил побег.
Несколько дней спустя заменили чуть не половину жандармов. Дзержинский Ковальчука больше не видел. Щель опять захлопнулась. Жандармы запуганы. Все попытки Дзержинского вызвать их на разговор терпели неудачу.
Хранить в тюрьме страницы дневника долго было нельзя. Как бы искусно он их ни прятал, а все равно при обыске в камере его исповедь могла попасть в руки врагов. Феликсу представилась ненавистная, перекошенная в издевательской ухмылке рожа полковника Иваненко.
Нет! Уж лучше отказаться вовсе от дневника, а то, что не успел передать на волю, уничтожить собственными руками.
Дневник спас счастливый случай. Он явился в камеру Дзержинского в облике Алеши Белокопытова, артиллерийского поручика, с которым Дзержинский уже сидел вместе несколько месяцев тому назад.
— Я сам добивался, чтобы меня снова перевели к вам, — говорил, застенчиво улыбаясь, молоденький розовощекий офицер, — надеюсь, вы не очень будете ругать меня за то, что я нарушил ваше одиночество.
— Что вы, Алеша! Рад вас видеть, хоть и возмущен тем, что эти мерзавцы все еще держат вас в тюрьме.
Вся «вина» Белокопытова заключалась лишь в том, что он не донес на своего товарища, принадлежавшего якобы к Всероссийскому офицерскому союзу.
— Я жду, по крайней мере, ссылку. Моя тетушка и невеста хотят следовать со мной, а мне их жаль… — закончил свой рассказ Белокопытов.
— Не расстраивайтесь, — успокаивал его Дзержинский. — Я уверен, что вас держат только для того, чтобы военному суду было кого оправдать.
Дзержинский оказался прав.
— Поздравьте меня, — сказал вяло Белокопытов, возвращаясь из суда после вынесения ему оправдательного приговора. Он так устал и измучился, что незаметно было, радует ли это его или нет.
Вечером пришел жандарм и приказал Белокопытову собрать вещи и идти.
— Алеша, вы исполните мою просьбу? — спросил Дзержинский, помогая ему.
Вместо ответа Белокопытов горячо обнял Феликса…
Белокопытов унес солидную порцию дневника.
А потом настала очередь и самого Дзержинского.
Еще 25 апреля 1909 года судебная палата приговорила его к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на вечное поселение. Затем последовала обычная в таких случаях судебная волокита: направление приговора на утверждение в Петербург. Обратно он возвратился в Варшаву только в начале августа.
«Я уже скоро распрощаюсь с X павильоном, — писал Дзержинский в дневнике 8 августа 1909 года. — 16 месяцев я провел здесь, и теперь мне кажется странным, что я должен уехать отсюда, или, вернее, что меня увезут отсюда, из этого ужасного и печального дома. Сибирь, куда меня сошлют, представляется мне как страна свободы, как сказочный сон, как желанная мечта». Дописав до этого места, Феликс улыбнулся. Он уже был в Сибири и не боялся ее. Пусть думают судьи, что запрятали его туда на «вечное поселение», он-то не собирается там оставаться.
Последние листы дневника Дзержинский вынес из X павильона сам, когда отправился по этапу в очередную ссылку.
5
Жандарм-вестовой, мирно дремавший на стуле в приемной начальника Варшавского жандармского управления полковника Иваненко, был разбужен страшным грохотом, раздавшимся из-за. дверей кабинета. Еще не понимая со сна, в чем дело, он вскочил и вытянулся по стойке «смирно», поводя из стороны в сторону ошалелыми от испуга глазами. Сидевший за столом у противоположной стены делопроизводитель рассмеялся.
В кабинете бушевал Иваненко. Бурю вызвала телеграмма енисейского губернатора. Рыкающий бас Иваненко проникал даже сквозь двойные двери, обитые дерматином. Он слал кому-то проклятья, смешивая самые страшные русские, украинские и польские ругательства.
Наконец, откричавшись и отдышавшись, Иваненко взял в руки взволновавшую его телеграмму и еще раз прочел сухое казенное извещение о том, что «Феликс Эдмундович Дзержинский, ссыльнопоселенец Канского уезда села Тасеевского, скрылся в половине ноября 1909 года».
Вот и лови после этого опасных государственных преступников, возись с ними, добивайся строгого приговора, а они бегут, едва доехав до места ссылки!
На следующий день поздним вечером в Вильно по Полоцкой улице шел: одинокий путник. Лицо его было скрыто высокой серой папахой, надвинутой на голову по самые брови, и поднятым, воротником тулупа. У одного из домов путник остановился и внимательно осмотрелся — улица была пустынна. Он позвонил. Дверь открылась, и луна осветила женщину средних лет, с удивлением оглядывающую позднего гостя.
— Разве ты не узнаешь меня, Альдона? Впускай же скорей!
В следующую минуту с криком «Фелек!» Альдона кинулась обнимать брата.
Вошли в комнату. И Феликс перешел в объятия Станислава.
Всю ночь проговорил Феликс с сестрой и братом.
Утром Альдона послала своего младшего сынишку в аптеку за краской для волос.
— У меня появилось много седых волос, хочу их покрасить, — ответила она на вопросительный взгляд сына.
Тонио обернулся быстро. И тут ему пришлось еще раз удивиться: мама вместо своих начала красить волосы дяде Феликсу.
— У дяди тоже много седых волос, — сказала мама, улыбаясь, — но ты, Тонио, уже большой и не должен никому об этом говорить.
Работа еще не была окончена, когда раздался резкий звонок. Так могли звонить только чужие. Станислав проверил черный ход — свободно! И Тонио увел дядю к реке, не забыв захватить и краску. Все это не заняло и минуты. И потому не успел звонок повториться, как Альдона уже открывала дверь.
В дом ворвались жандармы.
— Нам известно, что у вас скрывается ваш брат Дзержинский Феликс Эдмундович. Покажите, где он? — потребовал офицер.
— Как он мог здесь оказаться, когда я только вчера получила от него письмо из Сибири, — сказала Альдона, протягивая конверт.
Офицер посмотрел на штемпель и сунул письмо в карман. Жандармы осмотрели дом, разумеется, никого не нашли и удалились.
К ночи Дзержинский покинул Вильно.
Станислав и Альдона были напуганы вторжением жандармов и рады, что Феликсу удалось на этот раз избежать ареста. Но больше всех был доволен Тонио. Его прямо-таки распирало от гордости. Не всякому мальчишке доведется спасать от жандармов своего дядю! Жаль только, что никому нельзя об этом рассказать.
В конце декабря 1909 года Дзержинский благополучно добрался до Берлина. И там узнал, что его тюремный дневник обогнал своего хозяина. По решению Главного правления в «Пшеглонде» уже началась публикация дневника.
Глава VII Эмигрант
1
Ну вот она, вилла «Спинола»!
Высокий плотный мужчина указал Дзержинскому на большое, довольно мрачное здание — когда-то здесь был монастырь.
Константин Петрович Пятницкий, директор издательства «Знание», встретил Дзержинского в городе случайно и, узнав, что тот ищет Горького, вызвался проводить его.
Горького Дзержинский застал на террасе.
День был ясный, солнечный, но с моря дул ветер, и Алексей Максимович поверх демисезонного пальто был укутан в плед.
В Италию Дзержинского направила партия. Как восемь лет назад, после побега из Верхоленска, так и сейчас Роза Люксембург настояла на отдыхе и лечении. А Мархлевский сказал:
— Поезжайте-ка, Феликс, на Капри. Лучшего зимнего курорта для легочных больных в Европе не найдете; не зря же Горький там обосновался.
Вот так и оказался Феликс Эдмундович Дзержинский на вилле у Алексея Максимовича Горького.
Алексей Максимович встретил Феликса ласково. Его приезду Горький не удивился — видимо, о предстоящем визите Дзержинского на вилле «Спинола» уже знали. И ждали его.
Горький широким жестом пригласил Дзержинского войти в дом.
Кабинет писателя был весь заставлен полками с книгами. На большом столе лежали груды своих и чужих рукописей.
И Горький принялся подробно расспрашивать Дзержинского о его работе в подполье, об арестах и тюрьмах.
Особенно его интересовали побеги. («Прямо роман. Садись да пиши…») Узнав, что в Варшавской цитадели Дзержинский вел дневник и что этот дневник опубликован в «Пшеглонде», Алексей Максимович сказал:
— Обязательно попрошу Мархлевского прислать мне. Жаль, нет русского перевода.
Они проговорили несколько часов и расстались весьма довольные друг другом.
— Заходите ко мне почаще, не стесняйтесь, — напутствовал радушный хозяин своего нового знакомого.
Дзержинский снял комнату в недорогом пансионе недалеко от виллы «Спинола». С этого дня все три недели пребывания Дзержинского на Капри он почти ежедневно встречался с Горьким.
По утрам в распахнутое окно Феликс смотрел на вечнозеленые деревья и кустарники, растущие вокруг пансиона, вдыхал полной грудью воздух, пропитанный запахом моря, и к нему приходило состояние тихого блаженства. После сырых и мрачных казематов Варшавской цитадели и мытарств по вонючим этапам ему казалось, что он попал в настоящий райский уголок.
В первый же по-весеннему теплый день Дзержинский нанял лодку и отправился в знаменитый Голубой грот.
Феликс был потрясен и очарован открывшимся ему зрелищем. Да это же волшебный мир! Вода, стены, лодка, весла, лица, руки — все лазурное!
Ближе к вечеру Дзержинский пришел к Горькому, рассказал о своих впечатлениях.
— Ну волшебства тут, конечно, никакого нет, — улыбнулся в усы Алексей Максимович. — Солнечный свет попадает в грот сквозь толщу воды, и все предметы получают лазурный оттенок. А мы с вами восхищаемся чудом природы. И очень хорошо, что не потеряли такой способности.
— А вы знаете, Алексей Максимович, чего мне больше всего не хватало в тюрьме? Живого общения с природой! Хлебным мякишем я прилеплял к стенкам цветные открытки и картинки, вырванные из журналов. Жалкие копии! Но, глядя на них, я уносился в мыслях в свои родные края или в неведомые страны. Иногда в моей камере появлялись настоящие, живые цветы, и тогда я был безмерно счастлив.
Беседа потекла по руслу воспоминаний. Горький рассказал Дзержинскому несколько историй из своей жизни.
Дзержинский вспоминал случаи из тюремной жизни и сетовал, что тюрьма помешала следить за событиями в партии. В разговоре Горький и Дзержинский не могли обойти и одну из животрепещущих тем — новые течения в философии.
Время, проведенное Дзержинским в Варшавской цитадели, в 1908–1909 годах, совпало с ожесточенным наступлением реакции на российский рабочий класс и его партию. Прошли массовые аресты членов Российской социал-демократической рабочей партии. В лапы охранки попал ряд членов Центрального Комитета, подверглись разгрому местные партийные комитеты. Мелкобуржуазные интеллигенты бежали из партии. Отошла от нелегальной работы и часть неустойчивых рабочих. Состав партийных организаций значительно сократился.
«Организационное ослабление РСДРП соединялось с серьезным идейным разбродом в ее рядах»[14]. Большая часть меньшевиков добивалась ликвидации нелегальных партийных организаций и прекращения нелегальной партийной работы, за что и назвали их «ликвидаторами». Опасные идейные шатания проявляли и некоторые большевики. Часть из них выступала против использования легальных возможностей для работы в массах, в том числе за отзыв депутатов-большевиков из Государственной думы («отзовисты»). Начались философские искания и блуждания, появились попытки соединить социализм с религией. Этим занялись А. Богданов, В. Базаров, А. Луначарский, жившие на Капри. Они были тут, рядом, эти «богостроители», и естественно, что Горький, еще не полностью освободившийся от их влияния, заговорил об этом с Дзержинским.
Алексей Максимович рассказал, как попало ему от Владимира Ильича, когда он приезжал на Капри в 1908 году. Тогда вышли «Очерки по философии марксизма» Базарова, Богданова и компании. (Ленин назвал их очерками против философии марксизма.) Горькому понравилась мысль сделать из социализма новую религию. Да и сами-то Богданов, Луначарский всегда импонировали Алексею Максимовичу. Вот он и попытался уговорить Ленина не выступать против них публично. Владимир Ильич отчитал его за то, что поддался идеализму, мистике. Горький порылся в столе, вынул пачку ленинских писем и протянул одно из них Дзержинскому.
«Вы должны понять и поймете, конечно, — читал Дзержинский, — что раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и вреде известной проповеди, то он обязан выступить против нее. Я бы не поднял шуму, если бы не убедился безусловно (и в этом убеждаюсь с каждым днем больше по мере ознакомления с первоисточниками мудрости Базарова, Богданова и К0), что книга их — нелепая, вредная, филистерская, поповская вея, от начала до конца, от ветвей до корня, до Маха и Авенариуса»[15].
— Ну-с а вы, Феликс Эдмундович, что думаете? — спросил Горький, когда Дзержинский закончил чтение.
— Я не читал «Очерков», но уверен, что Ленин прав. Еще в гимназии я порвал со всеми старыми богами и не вижу нужды в новых…
Горький пристально посмотрел на Дзержинского, поднял в удивлении свои густые брови, медленно, как бы в раздумье, проговорил:
— Вот ведь, Феликс Эдмундович, какое дело получается. Рабочие-то так же думают, как и вы. Старых богов долой и новых не надо! Устроили тут наши «богостроители» свою школу. А я для нее вот этот «монастырь» арендовал. Приехали из России рабочие. Пригласили и меня лекции им читать. А они, рабочие-то, послушали, послушали наши лекции, да и сбежали. В Париж. К Ленину.
Горький умолк. Весь ушел в себя, и, видно, нелегкие думы его одолевали.
Феликс тихо вышел. На террасе его встретила Андреева.
— Трудно ему, — сказала Мария Федоровна. — Очень трудно Алексей Максимович переживает свое разочарование в людях. Богданова он считал великим философом, был ослеплен блестящим талантом Луначарского… А сейчас отходит от них, прозревает…
Как-то Горький увел Дзержинского на вершину Монте-Соляро. Нельзя, уверял он, жить на Капри и не посмотреть закат солнца с этой горы.
Они медленно поднимались по огромной, в несколько сот ступеней лестнице, вырубленной в скалах. Останавливались, беседовали.
Из России приходили страшные известия. Новые провалы, суды, казни революционеров. И все по вине провокаторов.
Горького давно волновало это проявление человеческой подлости.
Дзержинского эта проблема тревожила и с чисто практической стороны. Провокаторы — огромная опасность для партии. Почти все, кто из польской социал-демократии сейчас в тюрьмах и на каторге, выданы провокаторами. Он считал, что в партии надо обязательно организовать что-то вроде следственного отдела, иначе люди будут гибнуть для награды провокаторам. Делясь своими мыслями с Горьким, Феликс Эдмундович, однако, умолчал о том, что он уже давно занимается выявлением провокаторов и даже здесь, на Капри, работает над материалами по этому вопросу, присланными ему из Главного правления.
Вид с Монте-Соляро оказался действительно чудесным, превзошел все ожидания Феликса. Весь остров лежал как на ладони, а вдалеке виднелся итальянский берег. В туманной дымке просматривался Неаполь и курился конус Везувия.
И вновь красота природы увлекла Дзержинского, заслонила все горести и заботы. Отпылал закат, повеяло холодом. Пора домой. Феликс Эдмундович молча благодарно пожал руку Горькому.
И на вилле «Спинола» Дзержинского ждал приятный сюрприз. Узнав, что он любит музыку, Мария Федоровна пригласила Варвару Кузьминичну Риолу, замечательную пианистку, жившую на Капри, и та играла Шопена специально для Феликса. Закрыв глаза, он вслушивался в знакомые мелодии и на их волнах уносился в далекое детство, в милое сердцу Дзержиново.
В начале февраля Феликс получил почту от Тышки. В пакете оказались последние номера большевистского «Пролетария», несколько экземпляров партийных газет других направлений и письмо. Леон писал о только что закончившемся в Париже Пленуме Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Дзержинскому, оторванному вот уже два года от активной работы в партии, трудно было разобраться во всех перипетиях борьбы между различными течениями, проходивший на Пленуме. Страсти, кипевшие в Париже, казались далекими и совершенно не гармонировали с той обстановкой, в которой он жил на Капри.
«…Здесь так очаровательно, так сказочно красиво, что я до сих пор не могу выйти из состояния «восторга» и смотрю на все, широко раскрыв глаза, — писал он Тышке 11 февраля 1910 года. — Ведь здесь так чудесно, что я не могу сосредоточиться, не могу себя заставить корпеть за книгой. Я предпочитаю скитаться и слушать Горького, его рассказы, смотреть танец тарантеллы Каролины[16] и Энрико, мечтать о социализме, как о красоте и могучей силе жизни, чем вникать в меко-беко-отзовистско-ликвидаторско-польские ортодоксальные споры и вопросы.
С Горьким, — писал далее Феликс, — довольно часто встречаюсь, посещаю его, иногда хожу с ним на прогулку. Он произвел на меня громадное впечатление своей простотой, своей жизненностью и жизнерадостностью… Оп поэт пролетариата — выразитель его коллективной души и, быть может, жрец бога-народа…»
На этом месте Тышка, читавший это только что полученное письмо, усмехнулся: «Сам-то ты, братец, тоже поэт пролетариата. А вот за «бога-народа» тебе от Ильича здорово досталось бы, попади ему в руки эти строки».
Феликс вдруг заскучал на Капри. Перечитав еще и еще раз письмо Лео, он понял, что положение в партии и в ЦК создалось серьезное, и еще понял, как сам отстал от партийной жизни. И все красоты, которыми он здесь восхищался, сразу потускнели и стали ненужными. Почувствовал себя уже не Феликсом, а Юзефом, загорелся «лихорадкой работы» (так сам он определил свое состояние).
Дзержинский заспешил в Берн. Ему не терпелось поскорее увидеть Адольфа Барского, который вместе с Тышкой представлял польскую социал-демократию на Пленуме ЦК.
В Берне Дзержинский сразу окунулся в работу. Варский ознакомил его с резолюциями Пленума. Юзефу бросилось в глаза, что все острые углы сглажены, а отзовисты и ликвидаторы так и не названы своими именами.
— Во имя «единства» все постарались — и ликвидаторы, и отзовисты, и впередовцы, и голосовцы, и центристы, — криво усмехаясь, ответил Барский на недоуменный вопрос Дзержинского.
Долгие задушевные беседы с Адольфом, самым близким Дзержинскому из всех «стариков», как называл он основателей польской социал-демократии, все поставили на свои места. Дзержинский кипел возмущением против ликвидаторов и отзовистов, негодовал по поводу двуличной позиции Троцкого, пытавшегося под флагом «внефракционности» объединить в рамках одной партии революционеров и оппортунистов.
«Иудушка»! Только Ленин мог так метко, одним словом выразить сущность человека или течения и пригвоздить их к позорному столбу.
Дзержинский решил о своей позиции по внутрипартийным вопросам сообщить в Главное правление социал- демократии Польши и Литвы.
«Резолюция ЦК не нравится мне. Она туманна, неясна. В объединение партии при участии Дана[17] не верю. Думаю, что перед объединением следовало довести меков до раскола и Данов, ныне маскирующихся ликвидаторов, предварительно выгнать из объединенной партии» — так писал он Здиславу Ледеру из Берна 2 марта 1910 года.
А месяц спустя Ледер получил новое письмо. Дзержинский к тому времени прочел статью Ленина «Голос» ликвидаторов против партии». «Это мне страшно нравится… — писал Юзеф, — такой мощный голос, как некогда у «Искры» против экономистов».
2
В самый канун нового, 1910 года в Краков приехала Софья Мушкат. В эмиграции она оказалась не по своей воле. 29 сентября 1909 года Мушкат была арестована в Варшаве у себя на квартире и пробыла в тюрьме на Спокойной улице три месяца. Но так как при аресте никаких улик найдено не было, то все дело кончилось тем, что ее выслали за границу.
Несколько недель Богдана (так теперь звали Софью Мушкат в партии) провела у своей старой подруги Ванды Краль в Грефенберге, набираясь сил после тюрьмы.
Но делать ей в этом курортном городке было нечего, Богдана перебралась в Краков и поселилась у Софья Фиалковской, в районе Дембники.
Фиалковская очень обрадовалась появлению Богданы в Кракове. Девушки с удовольствием вспоминали совместную подпольную работу в девятьсот пятой. Тогда Фиалковская, она же Клара, после побега из тюрьмы скрывалась на квартире у Зоей Мушкат. Незабываемое время!
Во второй половине марта в Краков приехал и Дзержинский.
После возвращения с Капри Феликс настаивал на своей поездке в Петербург для работы в Центральном Комитете Российской социал-демократической рабочей партии, членом которого он был избран на V съезде РСДРП в Лондоне. Дзержинский считал, что в связи с арестом членов ЦК — большевиков и засильем в ЦК меньшевиков-ликвидаторов он будет там очень нужен, но натолкнулся на решительное сопротивление Тышки.
Еще до приезда Дзержинского в Берлин к Розе Люксембург явились Тышка и Ледер.
— Юзеф просит направить его в Петербург. Он считает свою кандидатуру наиболее подходящей для представительства в ЦК РСДРП от нашей партии.
— Категорически против! — воскликнул Тышка. — На январском Пленуме ЦК мы проводим линию, — Тышка сделал ударение на этом слове, — на сохранение единства РСДРП, голосуем за принятую Пленумом резолюцию, а Юзеф, видите ли, с этой резолюцией не согласен, она ему не нравится. Спрашивается, чью же линию он будет проводить в Петербурге, чьим представителем будет? Уверен, что он будет проводить там не линию Главного правления, а ленинскую линию разрыва с меньшевиками.
— Он уже сейчас всех нас обвиняет в меньшевизме, — добавил Ледер.
— У Юзефа большевистское сердце, — улыбнулась Роза.
— Юзеф прекрасный организатор, лучшего секретаря Главного правления мы не найдем, а, отправив его в Петербург, можем и вовсе потерять. Уедет в Россию, уйдет с головой в общерусские дела и пропал для Польши! Пусть едет, как и раньше, в Краков и принимается за работу.
Тышка сказал это жестко, давая понять, что ни на какие уступки он идти не намерен.
Роза внимательно посмотрела на Тышку. Намек был слишком прозрачный. Это она здесь, в Берлине, постепенно с головой ушла в общегерманские дела. Для активной работы в СДКПиЛ уже не хватало физических сил и времени.
— Поступай как знаешь, — ответила Люксембург, — ты, Лео, руководишь всей текущей работой партии, тебе и карты в руки.
Вопрос был решен. И как ни настаивал Феликс на своем предложении, пришлось подчиниться партийной дисциплине. Две недели пребывания в Берлине ушли на ознакомление с протоколами заседаний Главного правления, изучение партийной литературы и прием от Тышки кассы Главного управления. И вот снова Краков.
В последнюю субботу марта, вечером, в дверь квартиры Фиалковской раздался стук. Пришел Богоцкий.
— Ну, хозяйки, — сказал Сергей Юстинович, лукаво улыбаясь, — готовьте пироги, встречайте завтра дорогого гостя.
— Кого бы это? Не томите, умираю от любопытства! — в тон ему спросила Клара.
— Приедет Юзеф, просил предупредить.
— Как Юзеф? Разве он не в ссылке?! — послышалось горячее восклицание Мушкат.
Богоцкий внимательно посмотрел на нее. Девушка густо покраснела.
Впрочем, Сергей Юстинович сделал вид, что не заметил ни волнения, ни смущения Богданы, и повернулся к Кларе.
— Мы с ним встретились только вчера. Юзеф пришел ко мне в союз[18]. Он бежал из Сибири еще в конце прошлого года, успел побывать на Капри у Горького, в Берлине, а теперь приехал к нам, в Краков, на постоянную работу. Да что я, — спохватился Богоцкий, — зачем я вам все это рассказываю? Завтра сами его обо всем расспросите.
Наутро девушки с особой тщательностью принялись убирать и как могли приукрашивать свое скромное жилище. С нетерпением ждали они Дзержинского.
Вскоре к Кларе пришел Владислав Громковский (Законник). Он тоже хотел обязательно повидать Юзефа.
Дзержинский появился, как всегда, точно в назначенное время.
Весна в этом году выдалась ранняя и теплая. Он был в одном костюме и без шляпы. А вслед за ним через открытую дверь в комнату хлынули лучи солнца.
Мушкат вспомнилась их первая встреча в Варшаве на квартире у Ванды. Тогда тоже Юзеф стоял залитый солнечными лучами.
Здороваясь, Дзержинский назвал Зоею «товарищ Чарна», именем, под которым запомнил ее по 1905 году, и ей это понравилось.
— Рад, очень рад встретить тебя здесь, товажишка Зося, — говорил Феликс, крепко пожимая ее руку.
«Помнит! Помнит не только мою кличку, но и настоящее имя». Ну как тут было не улыбнуться, не просиять.
Софья Фиалковская и Софья Мушкат жили бедно. Мебели не хватало. Юзеф устроился на одном стуле с Законником, обняв его за плечи. Дзержинский оживленно рассказывал о своем пребывании на Капри, восхищался «певцом пролетариата» Горьким, а Законник боялся пошевелиться и смотрел на него как зачарованный.
«Весел, возмужал, загорел, а у глаз глубокие морщины, — раньше их не было», — отмечала про себя Мушкат, слушая Дзержинского.
О своем побеге Юзеф рассказывал скупо. Это уже ушло в прошлое, а он был полон планов на будущее, говорил о необходимости поскорее установить прочную связь с партийными организациями в Королевстве Польском; его заботили материалы для очередного номера «Червоного штандара».
— Не понимаю я вас, товарищи. В Кракове собралось несколько тысяч политэмигрантов, много наших товарищей, польских и литовских социал-демократов. Условия для работы хорошие, а политическая активность низкая, наша секция еле дышит, большинство ее членов никакой партийной работы не ведет, — говорил Дзержинский. — Ну ничего. Я вас расшевелю. Кончилась спокойная жизнь!
Рядовые партийцы, оказавшись в эмиграции, сами томились вынужденным бездельем, поэтому «угроза» Дзержинского всех развеселила и была встречена с энтузиазмом.
В конце вечера Дзержинский попросил Мушкат помочь ему привести в порядок партийный актив. Она охотно согласилась. А уже прощаясь, сказал ей:
— Спасибо! Я провел у вас чудесный вечер. Жаль только, что не оказалось рояля. Мне так хотелось послушать музыку. Помнишь, как тогда, у Ванды? Ты превосходно играла!
Когда Богдана пришла на следующий день к Дзержинскому, она застала его сидящим на полу среди разбросанных по всей комнате газет, журналов и брошюр.
— Полюбуйся, какой хаос оставил мне в наследство Збигнев. Я буду требовать привлечения его к партийной ответственности за преступное отношение к хранению партийного архива, — голос Юзефа дрожал от возмущения.
Богдана села на предложенный ей стул. Она очень устала. Юзеф жил за городом, в Лобзове, на улице Петра Росола, в доме № 13.
— Это квартира Даниеля Эльбаума, — пояснил Юзеф. — Ты должна его знать. Если не как Эльбаума, то как Вицека. Я поселился у него сразу же, как приехал из Берлина.
— Я знаю Эльбаума. После VI съезда[19] он занимался связью между Главным правлением и организацией в Польше.
— Вот и прекрасно! Не можешь же ты не знать хозяина квартиры, куда будешь приходить ежедневно.
Богдана осмотрела комнату. Повсюду — на полу, подоконниках и стульях — лежали различные издания СДКПиЛ, ППС-левицы[20] и «революционной» фракции ППС, 1-го «Пролетариата» и ППС-«Пролетариата», издания РСДРП — большевикам и меньшевикам, а также эсеров и анархистов. Передней лежал богатейший архив литературы польских и русских революционных для того времени партий. Но в каком виде! Все было смешано и перепутано. Она только сейчас поняла, какая колоссальная работа ей предстоит.
— Прошу тебя, товарищ Чарна, разобрать всю эту свалку по наименованиям, годам и номерам, — говорил между тем Дзержинский.
Тон был сухой, официальный. Разговор шел о деле.
Феликс Эдмундович считал, что в деловых отношениях фамильярность недопустима.
— Желаю успеха, а меня ждет срочная работа.
С этими словами Дзержинский удалился на кухню и сел за переписку.
Так они и проработали весь день — Зося в комнате, Феликс на кухне, — пока не пришел Эльбаум. До его появления Дзержинский успел написать письма в Лодзь Прухняку, в Варшаву Юлиану Гембореку, в Ченстохов Пэри. Сейчас, когда после мрачных лет реакции в России снова начинался подъем рабочего движения, установить прочную и надежную связь с партийными организациями в Королевстве Польском было для секретаря Главного правления делом первостепенной важности.
Вицек принес дешевой чайной колбасы и хлеба. Втроем они славно поужинали после долгих часов работы.
Уже стемнело, и Феликс отправился проводить Зоею. На обратном пути он думал о том, что хорошо сделал, пригласив Чарну разобрать архив. Грамотна, аккуратна, дисциплинированна и трудолюбива. Но что-то для него самого в этом приглашении оставалось неясным. Почему все-таки ее? В Кракове было сколько угодно социал-демократов, которые не хуже Мушкат справились бы с этим делом. «Нечего себя обманывать. Она действительно человек для данной работы подходящий. Но, кроме того, я хочу видеть эту девушку, ощущать ее присутствие рядом с собой».
Очень щепетильный во всем, что касается отношений мужчины к женщине, он решил быть осторожным с Мушкат, пока сам не разберется окончательно в своих чувствах.
Мушкат довольно быстро разложила газеты и журналы по наименованиям и годам. Правда, чтобы превратить «свалку» в образцовый архив, требовалось еще много потрудиться, но Юзеф, как только увидел, что дело продвигается довольно быстро, не позволил Зосе долго засиживаться по вечерам.
— Я не какой-нибудь бесчеловечный эксплуататор, — говорил он, прощаясь, и весело смеялся.
Скрепя сердце девушка шла домой. Зосе казалось, что Юзеф совсем не дорожит ее присутствием. Разве могла она знать, что Дзержинский, наоборот, старается продлить время ее ежедневных посещений!
3
Вместе с Фиалковской Зося часто теперь гуляла в окрестностях Кракова, По воскресеньям они забирались куда-нибудь подальше: на Паненьские скалы, где было полно фиалок, или на Бедяны и в Тынец, там в зарослях сирени утопали живописные руины монастыря, основанного еще Болеславом Храбрым. Попытки девушек увезти за город и Юзефа оканчивались обычно безрезультатно. Всегда находилась срочная работа, которую он никак не мог бросить. Лишь изредка по вечерам им удавалось вытащить его ненадолго на окраины самого Кракова, в парк Иордана или на Вавель.
Единственная ежедневная прогулка Юзефа заключалась в посещении Главного почтамта в Кракове. Он сам относил туда партийную корреспонденцию. Но что это была за прогулка! Всегда в спешке, по пыльным улицам, в жаре и духоте.
Тогда, чтобы чем-то восполнить его добровольное отречение от загородных прогулок, Зося стала приносить Юзефу охапки полевых и лесных цветов. Как он радовался им и за неимением ваз развешивал по стенам.
С квартирой Эльбаума Юзефу все же пришлось расстаться. Приятный вид из окон был единственным ее достоинством. Во всех же других отношениях она была неудобна.
В мае 1910 года Юзеф переехал на улицу Коллонтая, 4, квартира 8, поближе к вокзалу и почте. Туда же Мушкат перевезла свой архив. Квартира была во флигеле на втором этаже. На дверях табличка: «Пшеглонд социал-демократичны». Две комнаты занимали Ганецкий и какие-то неизвестные Зосе товарищи, а в маленькой прохладной кухоньке оборудовал свою спальню и рабочий кабинет секретарь Главного правления товарищ Юзеф. У стены, выполнявшей функции «кабинета», стоял маленький письменный столик и этажерка с книгами, а «спальню» представлял коротенький диванчик, на котором, свернувшись калачиком и подложив под голову за неимением подушек газеты, спал Дзержинский. Но так как это все же была кухня, то обстановку дополняли табурет с тазом, ведро с водой и на плите примус и чайник.
Зато архив разместился теперь превосходно. Для него в одной из комнат вдоль всей стены сделали стеллажи и закрыли их ситцевыми занавесками.
Работая с архивом, Зося часто становилась невольным свидетелем споров и разговоров, которые вели Дзержинский, Ганецкий и приходившие к ним товарищи. Ни Юзеф, ни Миколай (Ганецкий), разумеется, не посвящали ее в дела Главного правления, но и не стеснялись в разговорах, знали Богдану еще с 1905 года. Надежный и преданный партии товарищ.
— Весь 173-й номер «Червоного штандара» пронизан оппортунизмом, — слышала Богдана голос Дзержинского, — там превозносится культ легальности, а в корреспонденции из Лодзи «Червоны штандар» дошел до того, что позволяет себе насмешки над «кротовой работой подполья». Каково?!
Что-то сказал Ганецкий, Богдана не расслышала. Затем снова раздался взволнованный голос Дзержинского:
— Самое ужасное, что отчет Главного правления за 1909 год повторяет ошибки «Червоного штандара». А теперь еще и резолюция по финляндскому вопросу, присланная Здзиславом. Путаная, непонятная для рабочих. А пункт третий просто скандальный. Приветствовать всю оппозицию в Думе! Вместо того чтобы пригвоздить кадетов, резолюция Главного правления СДКПиЛ их приветствует!!!
— Зачем же ты переслал эту резолюцию в Варшаву? Написал бы о своем мнении в Главное правление, — ответил Ганецкий.
— Я не имею права задерживать материалы Главного правления, адресованные низовым организациям. Я не могу ставить себя над Главным правлением. А о своем мнении писал. Не раз писал и еще напишу!
В тот же день, 16 июня 1910 года, Юзеф написал cpaзу три письма — З. Ледеру, Ю. Мархлевскому и Л. Тышке — всем членам бюро Главного правления.
«Резолюция произвела на меня впечатление совершенно кадетской, — писал он Ледеру, подробно разбирая ее по пунктам. — Таких резолюций Главное правление не должно принимать и посылать их как образец на места. Меня удивляет, что ни Леон, ни Юлек не внесли никаких замечаний, поправок…»
Он требовал, чтобы Главное правление было сосредоточено в одном месте и было бы более коллегиальным учреждением, чтобы не допускать таких ошибок, «а если это сознательное направление, в таком случае для меня не может быть места в Главном правлении».
Ю. Мархлевскому: «В указаниях Главного правления партии нет цемента, который бы спаивал партию, лишь бестолковщина в определении партийной линии и агитация, которая одна, без более глубоких мыслей об основных задачах партии и пролетариата не представляет большой ценности».
«Я лично, — писал далее Юзеф, — страшно чувствую отсутствие Розы, которая почти одна у нас умеет революционно, объективно и по-марксистски дать ответ на вопрос «что дальше?».
JI. Тышке: «Теперешнее партийное руководство вносит в партию хаос, дает неправильную оценку текущего политического момента, выдвигает кадетские лозунги… Я вижу, что происходит в партии: люди перестают доверять политическому руководству Главного правления, каждый по-своему определяет тактику и задачи партии, Я вижу это начало хаоса и не могу противодействовать, ибо, по моему мнению, линия Главного правления гибельна».
Спустя несколько дней пришел ответ от Ледера. Дзержинский был возмущен и обескуражен.
— Представляешь, — говорил он Ганецкому, — вместо ответа по существу — правильна или нет моя критика политики и направления Главного правления — Здзислав все перевел на личную почву. Он пишет, что главной причиной моего недовольства якобы является то, что он делает и пишет, а потому-де надо устранить «предмет недовольства», то есть его.
А вся беда в том, — продолжал Дзержинский, — что Главное правление как коллегия из 5 лиц совершенно не работает. Тройка, я имею в виду Тышку, Ледера и Мархлевского, тоже не работает коллегиально, они даже встречаются редко. Каждый исполняет свои обязанности, а на совместную работу «нет времени». А что остается нам с тобой? Только одно — исполнять их, берлинские, решения, чтобы не мешать работе. Я бы согласился и с такой ролью, если бы политика Главного правления была правильной.
— Здзислав всегда отличался болезненным самолюбием, — отвечал Ганецкий, — на шестом съезде СДКПиЛ — ты тогда был в тюрьме — он обиделся на критику со стороны оппозиции и отказался принять мандат члена Главного правления. Но потом смилостивился и вот даже вошел в руководящую тройку. И я воюю с нашими стариками, ж тоже безрезультатно. Но где выход? А может быть, пора созвать съезд и выбрать новое Главное правление, без стариков?
Ганецкий выжидательно смотрел на Дзержинского. Ждал ответа.
— Глупости! Ты забываешь, что старики создали нашу партию и пользуются огромным влиянием. Мы стоим в преддверии новых боев, а твое предложение может привести к расколу партии, ослабит пролетариат. Нет! Только не это! Мы должны найти пути к исправлению ошибок, не «свергать», а более правильно организовать работу Главного правления.
Дзержинский читал в Берлине протоколы VI съезда СДКПиЛ, но это были очень краткие, сухие записи. Они не могли дать полного представления о том, что там происходило. После разговора с Гаяецким Феликс решил подробнее изучить вопрос о разногласиях, возникших в партии за время его вынужденного отсутствия.
— Ты была на последнем съезде? — обратился он к Богдане. '
— Да, я была делегатом от Варшавской организации. Знаешь, Юзеф, какое положение было тогда? Многих наших руководителей выследили жандармы и посадили. Некоторые испугались или разочаровались и сами отошли от партии. Вот меня и выбрали, — говорила Богдана. Ей показалось, что надо непременно объяснить Юзефу, почему ее выбрали, а то еще подумает, что она хвастается.
Но Юзеф так не думал. Он смотрел на девушку с явным уважением. Вот так Богдана! Он-то считал ее по-прежнему маленьким функционером, выполняющим пусть важные, но технические поручения, а она делегат съезда! Да еще от Варшавы — одной из самых крупных пролетарских организаций партии.
— Ты можешь рассказать мне поподробнее о конфликте между делегатами от края и Главным правлением?
— Конечно. Оппозицию возглавил Винценты Матушевский. Его энергично поддерживали Юлиан Гемборек и Ванда Краль. Я тоже принадлежала к оппозиции. Наша группа обвиняла Главное правление в отрыве от партийной организации страны и в недостаточном освещении в партийной печати внутрипартийной жизни РСДРП, где уже шла острая борьба большевиков с ликвидаторами и отзовистами.
— А политические разногласия?
— Оппозиция критиковала проект резолюции по докладу Тышки «О политическом положении в России и Польше и задачах партии». В проекте допускалась возможность двух путей развития — путь новой революции и путь правительственных реформ, которые бы создали условия для свободного развития капитализма. Мы же придерживались точки зрения большевиков: новый подъем революции неизбежен, так как причины, вызвавшие революцию 1905–1907 годов, продолжали существовать. Наша поправка была принята. Пожалуй, это и все. Директивы для ведения агитации среди сельского населения по докладу Мархлевского и резолюция по национальному вопросу по докладу Ледера были приняты единогласно.
— Как проходили выборы? Почему вы не настаивали на включении в Главное правление представителей оппозиции?
— Оппозиция не имела намерений изменять персональный состав Главного правления. Это ясно высказал в кругу делегатов-оппозиционеров Матушевский.
Дзержинский долго не ложился спать в эту ночь. Да и в постели никак не мог заснуть. Ему было ясно, что предложение Ганецкого выбрать новое правление не случайно сорвалось у него с языка. Это выношено, обдумано и, по всей вероятности, выражает мнение не одного Ганецкого. Юзефа взволновало и все услышанное от Мушкат. Он испытывал чувство удовлетворения от того, что делегаты от варшавских рабочих, текстильщиков Лодзи и шахтеров Домбровы критиковали Главное правление по тем же вопросам, что и он. Тревожило то, что со времени съезда прошло уже полтора года, а положение в Главном правлении если и изменилось, то только к худшему. Нет четкой политической линии, старые ошибки не исправляются, а появляются все новые. И опять мысли возвращались к Ганецкому. Что он хочет? И что может? Юзеф не верил, что Ганецкий способен исправить политическую линию Главного правления, и не находил людей, которые бы могли заменить «стариков» в руководстве партии. Недаром же Матушевский и все другие делегаты съезда отказались от этой идеи. Значит, он, Дзержинский, прав. Надо открытой, принципиальной критикой добиваться исправления ошибок, сплачивать партию и на этой основе расширять ее работу и доверие в массах. А путь, предлагаемый Ганецким, гибелен.
Дзержинский засыпал Главное правление письмами. Он решил добиться осуществления своего плана — приблизить Главное правление к низовым организациям и сделать его работу действительно коллегиальной.
Юзефа вызвали в Берлин.
Главное правление решило созвать в Кракове краевую конференцию социал-демократии Польши и Литвы. Пусть конференция в своих решениях определит задачи партии и ее политический курс. Неожиданно для Дзержинского основной доклад от имени Главного правления поручили сделать ему.
— Не понимаю, — удивлялся Ледер, — Юзеф пишет нам возмутительные по тону письма, открыто заявляет о своем несогласии с политикой Главного правления, а мы будем поручать ему доклад?
— В том-то и дело, — отвечал Тышка, — что Юзеф нам пишет. Честно и прямо заявляет о своих разногласиях, а не как Ганецкий, который настраивает членов партии против своего Главного правления. Поручая доклад Юзефу, мы приблизим его к Главному правлению.
Конференция состоялась 19–22 августа 1910 года на квартире по улице Коллонтая, 4, где жили Дзержинский и Ганецкий.
Доклад о политическом положении и задачах партии был сделан. Приняты резолюции. Одни лучше, другие хуже. По вопросу об участии социал-демократии Польши и Литвы в работе Российской социал-демократической рабочей партии конференция записала, что «это участие необходимо для сохранения партийного единства, которому угрожает серьезная опасность из-за обострения борьбы между русскими фракциями…». Иначе говоря, подтвердила примиренческую, центристскую позицию представителей СДКПиЛ на январском Пленуме ЦК РСДРП, недовольство которой Дзержинский выражал" еще в своем письме из Берна.
Дзержинский был недоволен и конференцией, и самим собой. Ему удалось кое-чего добиться, например признания неудовлетворительной издательской деятельности партии и вытекающих отсюда мер по ее усилению. Но это были частности. Подвергнуть основательному критическому анализу политическую линию Главного правления и добиться ее изменения он не смог. Он чувствовал страшную усталость и обратился в Главное правление с просьбой дать ему отпуск на неделю.
4
— Зося, весной ты уговаривала меня отправиться вместе с Кларой и Законником в горы, к Морскому Оку. Я тогда не мог принять участие в вашей прогулке, а ты, помнится, осталась от нее в восторге. Хочешь повторить ее теперь со мной?
Хочет ли она? Конечно, да! И если Зося чуть замедлила с ответом, то только потому, что не сразу справилась с охватившим ее волнением.
На следующий день в вагоне третьего класса поезда местного сообщения они уже ехали в Закопане. Стоял конец августа, и за окном вагона медленно проплывали золотистые нивы, стога сена или лес, тронутый первыми красками приближающейся осени. Ничего этого не видел Дзержинский. Переутомление и систематическое недосыпание дало себя знать. Под мерный перестук колес, покачивание и скрип старого вагона его неудержимо клонило ко сну. Сначала он дремал, прислонившись спиной к стенке купе. Голова постепенно опускалась, пока не падала на грудь, и тогда он на секунду просыпался. Наконец Зося не выдержала и осторожно — как бы не разбудить! — прислонила его голову к своему плечу. Юзеф глубоко вздохнул, устроился поудобнее и крепко заснул.
Скоро Зося почувствовала, как у нее затекли руки, но продолжала сидеть неподвижно, лишь бы не потревожить сон Юзефа.
Поезд, гремя на стрелках, подошел к станции Закопане. С рюкзаками за спиной, в которых покоился запас продуктов на неделю, спиртовка и другие необходимые в пути вещи, Феликс и Зося бодро шагали по улицам городка. У Зоей был даже альпеншток. В прошлый свой поход в горы она очень намучилась, пытаясь заменить его простой палкой, и сейчас не забыла взять у Клары вместе с рюкзаком и эту принадлежность экипировки альпиниста.
Феликсу приходилось ходить по горам в Швейцарии, да и здесь, в Закопане, когда лечился в санатории «Братской помощи» после второго побега. Он знал цену альпенштоку, но заделами, которых всегда почему-то особенно много набирается перед отпуском, так и не успел обзавестись им в Кракове. Зося была очень озабочена этим и даже упрекнула его в легкомыслии.
— Айн момент! — весело воскликнул в ответ Феликс и скрылся в дверях ближайшего дома, оставив девушку посреди улицы в полном недоумении.
Через несколько минут он появился вновь уже с настоящим альпенштоком, даже с инкрустациями на pyкоятке. Шляпу Феликса украшала пара петушиных перьев, заткнутых за ленту. Чем не альпинист!
Порядочно помучив Зосино любопытство, Феликс наконец раскрыл тайну своего фокуса. Он вспомнил, что здесь живет сестра Юлиана Мархлевского, и сразу же сообразил, что может найти у нее желанный альпеншток. Ну а перья? Это уже чистая случайность. Хозяйка как раз ощипывала петуха к обеду. Теперь у наших путешественников не хватало только специальной альпинистской обуви. На такую роскошь не было денег ни у них, ни у их знакомых. Пришлось обходиться тем, что имели. Впрочем, это отнюдь не испортило их радостного настроения.
В тот же день, еще засветло, Феликс и Зося добрались до Гонсеницовых Галей и устроились на ночлег в убежище для туристов на импровизированном ложе из пахучего сена. Утомленные и счастливые, они проговорили допоздна. Мечтали, строили планы на будущее, пока уже под утро где-то в дальнем селении не пропели петухи и их не сморил сон.
Зося почувствовала, что кто-то будит ее. Страшно не хотелось просыпаться. Ей казалось, что она спит часа два, не больше.
— Вставай, лентяйка. Право же, грешно так долго спать!
Она услышала ласковый голос Феликса, широко открыла глаза и увидела склонившееся над ней его сияющее лицо и лучистые глаза. «Неужели все это правда, неужели не сон?» Она снова закрыла глаза, но уже в следующий момент вскочила и начала торопливо приводить себя в порядок. Зося вспомнила, что вчера они договорились рано утром начать восхождение на Заврат.
— Прости, Феликс. Кажется, я проспала. Мы опаздываем?
Дзержинский рассмеялся, обнял Зоею за плечи и подвел к двери.
— Смотри, дорогая, как здесь чудесно. Право, не хочется уходить!
Вокруг раскинулся огромный высокогорный луг, усеянный цветами. Ослепительно сияло солнце, а чистый, по-утреннему свежий, наполненный ароматом трав и цветов воздух приятно кружил голову.
И они прожили в Гонсеницовых Галях еще сутки, наслаждаясь природой и своим счастьем.
Рано утром следующего дня двинулись дальше. Обошли озеро Чарны Став — издали казалось, что оно наполнено чернилами вместо воды, — и начали восхождение на Заврат.
Синие пятна на скалах указывали путь, а железные скобы, за которые можно было ухватиться руками или упереться ногой, помогали туристам преодолевать наиболее опасные и труднопроходимые места.
— Тебе повезло, Феликс. А когда мы в мае проходили здесь, снег еще скрывал и указатели и скобы. Представляешь, как было трудно! Был момент, когда Клара уселась на снег и отказалась идти дальше. Мы с Законником едва уговорили ее встать.
— Молодец, Зосенька. Ты у меня сильная и храбрая.
— Тогда добавь еще и «мужественная». Ты ведь говорил, что такой должна быть жена революционера.
— Да, Зося. И мужественная. Нас ждет впереди еще много испытаний. И я уверен, что ты сумеешь их стойко перенести.
К Морскому Оку подошли вечером, когда уже стемнело. А ночью пошел дождь. И лил и на другой, и на третий день. Пришлось отсиживаться в убежище.
— Зося, давай вместе напишем Альдоне, — предложил Феликс, когда они закончили свой вечерний чай.
— Давай, милый. — Зося уже знала от Феликса, что Альдона — это его старшая сестра, самый близкий для него после смерти матери человек.
Писали долго. Каждую фразу он предварительно обсуждал с Зосей. Торопиться было некуда, и составление письма сопровождалось большими отступлениями — Феликс много рассказывал об Альдоне и ее семье.
Наконец письмо было закончено, и Феликс еще раз прочел его Зосе уже целиком.
— Прекрасно! Я и не подозревала, что строгий товарищ Юзеф может так поэтично писать о природе и людях. Вот только меня чересчур расхвалил. Когда я увижусь с Альдоной, мне стыдно будет ей в глаза посмотреть.
— Ну, Зосенька, пусть это будет на моей совести.
Ведь я лучше знаю, как представить родственникам свою женушку.
Два дня лил дождь, и от восхождения на Рысы пришлось отказаться, возвратиться же в Закопане по шоссе. Так они и сделали. Нанять лошадей было не на что, и 30 километров от Морского Ока до Закопане Феликс и Зося прошагали за 6 часов под дождем и в густом тумане. Ботинки промокли, и они несли их, подвесив на альпенштоках, как флаги. Когда, грязные и промокшие до нитки, добрались до какого-то домика на окраине Закопане и попросились на ночлег, то буквально свалились от усталости. А наутро поезд увез их в Краков.
«Дождь и туман несколько испортили нашу вылазку в горы, но, несмотря на это, она доставила нам много радости. Ее можно назвать нашим свадебным путешествием», — писала впоследствии Софья Сигизмундовна Дзержинская.
5
Зося только что пришла из города, оставила сумку с покупками в кухне и вошла в комнату. Феликс сидел в глубокой задумчивости, лицо осунулось, посерело. С тех пор как, вернувшись из Закопане, она переселилась к нему на улицу Коллонтая, Зося не видела его таким расстроенным и озабоченным.
— Что с тобой, Феликс? Случилось что-нибудь плохое?
— В Варшаве арестован Юлиан Гемборек, который поехал туда как доверенное лицо Главного правления. В июле арестовали Вицека, Романа, Эрнеста и других товарищей. Бронислав должен был их заменить и вот только месяц сумел продержаться на свободе, да и то, наверное, лишь потому, что полиция хотела выследить, с кем он связан.
— Почему ты так думаешь?
— Провал Бронислава — результат провокации. Во время обыска у него на квартире сотрудник охранки сразу же подошел к тайнику и вынул много нелегальных бумаг. А об этом тайнике знали только несколько человек. Понимаешь, Зося, весь ужас положения? Провокатор должен сидеть в самом сердце Варшавской организации, а мы его не знаем. При таком положении все наши усилия обречены на провал!
— Но ведь можно же что-то сделать, чтобы найти этого подлеца?
— Не так это просто. По поручению Главного правления я, как только приехал в Краков, сразу же организовал комиссию по выявлению провокаторов. После каждого провала мы собирали подробные сведения о том, как он происходил, о лицах, так или иначе причастных к нему, а результатов пока никаких. Все больше и больше набирается лиц, которых можно подозревать, но ни о ком пока мы не можем сказать твердо — это провокатор! Чтобы завершить эту работу, я должен сам поехать в Варшаву, а на все мои просьбы Главное правление отвечает отказом. Это возмутительно! Когда сидишь тут, складывается впечатление, что только даром ешь хлеб. Неужели они не понимают, какая это мука!
— Успокойся, Феликс. Ты слишком строг к своим товарищам из Главного правления. А они просто не хотят рисковать тобой. Ты же прекрасно знаешь, что даже при случайном аресте, даже если против тебя не будет никаких улик, то все равно только за побег с вечного поселения тебе грозит каторга.
— Уж лучше провал, чем такое положение, — ответил раздраженно Дзержинский.
Зося решила отвлечь Феликса от мрачных мыслей.
— Мы будем сейчас работать или мне заняться архивом? — спросила она.
— Будем работать. Надо срочно подготовить материал для «Червоного штандара». Вот только освобожу место за столом, — ответил Феликс.
В комнатке, которую чета Дзержинских заняла после отъезда из Кракова Тлустого, бывшего помощника Юзефа, стояли две железные кровати, а между ними у окна — письменный столик, перекочевавший туда из кухни, да стул — вот и вся обстановка. Одежда висела на стене под ситцевой занавеской («свадебный подарок» Клары).
Юзеф с разрешения бюро Главного правления привлек Богдану к работе в качестве своего помощника, и теперь, кроме архива, она занималась распространением за границей легального социал-демократического журнала «Млот», помогала вести корреспонденцию с подпольными социал-демократическими организациями в Королевстве Польском.
Ночью, когда Зося уже давно спала крепким сном,
Феликс заделывал в паспарту материалы для «Червоного штандара», маскируя их под репродукцией с Мадонны Рафаэля. А думал о том, что нашел в Софье Мушкат свой идеал жены-революционера — друга жизни, единомышленника, соратника по борьбе.
Аресты в Королевстве Польском все продолжались. Особенно много революционеров было арестовано полицией в середине сентября. Ожидался приезд в Польшу царя Николая II. Охранка лютовала. Наступил момент, когда всякая связь с Варшавой из Кракова была потеряна.
И вновь Дзержинский пишет Тышке 16 сентября 1910 года: «Вижу, что другого выхода нет, — придется самому ехать туда…»
— Наверное, опять не разрешат, — сказал, показывая это письмо Зосе.
— А что, если все же поехать мне? Сейчас, не откладывая? — спросила Зося. — Эльбаума или Гемборека я, конечно, заменить не могу, но восстановить связь между Главным правлением и Варшавой, думаю, сумею.
— Ни в коем случае! Поедешь, но только не сейчас. Ехать нелегально, когда до окончания срока твоей высылки за границу осталось меньше двух месяцев, было бы просто непростительной глупостью. Ты вернешься в Варшаву, но в ноябре, вполне официально.
Дзержинский еще в августе получил согласие Главного правления на направление Богданы в Варшаву с материалами для «Червоного штандара». «Она очень пунктуальна и охотно выполняет всякую работу», — писал он тогда в Главное правление.
Это было до их «свадебного путешествия». Теперь, когда известия об аресте и провалах сыпались одно за другим, ему очень не хотелось отпускать ее. Но что было делать? Не мог же он написать Тышке: «В связи с тем, что Богдана стала моей женой, прошу в край ее не направлять. Пусть моя жена живет здесь, в безопасности».
Нет. Никогда он так не мог бы поступить, и никогда она не простила бы ему этого. Придется ей все же ехать, а ему ее отправлять. Как бы ни было тяжело…
28 ноября 1910 года Дзержинский провожал жену. Они гуляли в дальнем углу платформы, и Феликс в последний раз проверял, все ли Зося хорошо запомнила:
— Твоя новая кличка?
— Ванда.
Зося взяла эту кличку в честь Ванды Краль, привлекшей ее к работе в партии.
— Ключ для шифра?
— «Души человечьи вечно одиноки».
Эти строки из стихотворения А. Ланге в качестве ключа к шифру выбрала Зося. Дзержинский считал, что если она сама предложит ключ, то лучше его запомнит; никаких пометок при себе у нее не должно было быть.
Вначале предполагалось, что Зося поедет в Варшаву на короткий срок, только для издания очередного номера «Червоного штандара». Обстановка заставила Юзефа поставить перед ней более широкие задачи: подыскать новые, «чистые» адреса, заняться корректурой подпольных листовок и прокламаций, поддерживать связь с типографией.
— Тебе придется пробыть в Варшаве месяца два-три, пока не подыщем замены, — говорил Юзеф.
А Зося в это время мучительно думала: сказать или не сказать о том, что она ждет ребенка, их маленького Ясика, о котором так мечтал Феликс. Решила не говорить. Все равно ничего уже нельзя было изменить, зачем же доставлять ему лишние волнения. Вернется через два месяца, и тогда они вместе будут радоваться и ждать своего первенца.
Раздался третий звонок.
— До скорой встречи. Береги себя! — говорил Феликс, помогая Зосе взобраться в вагон.
Феликс Эдмундович и Софья Сигизмундовна Дзержинские и не подозревали тогда, что расстаются не на пару месяцев, а на восемь долгих тяжелых лет.
Глава VIII Софья Мушкат
1
Ее арестовали 27 декабря 1910 года вместе с другими участниками узкого собрания партийного актива Варшавской организации.
На Гурчевской улице, в доме, где жили рабочие предприятий Вавельберга, сошлись члены Варшавского комитета: Стах — Эдвард Соколовский и Тадеуш — Францишек Сошинский, а также Ванда — Софья Мушкат, Марыся — Стефания Пшедецкая и представитель Главного правления Сэвэр — Эдвард Прухняк.
Основным вопросом, ради которого Люциан созвал это собрание, было перераспределение работы в связи с возвращением в Варшаву из эмиграции Марыси. Кроме того, по настоянию находившихся в то время в Варшаве членов Главного правления Яна — Иосифа Уншлихта и Чеслава — Якова Ганецкого предполагалось обсудить статью «Подлинное или мнимое единство», помещенную в № 179 «Червоного штандара», с которой многие члены партии не были согласны.
Всех пятерых обыскали и под усиленным конвоем доставили на Театральную площадь, в охранку, помещавшуюся в здании ратуши. Арестованных сразу же разъединили, чтобы исключить возможность сговора.
Прошло много часов томительного ожидания, и наконец Софью Мушкат вызвали на допрос.
Жандармский ротмистр со скучающим видом задавал обычные в таких случаях вопросы: имя, фамилия, возраст, род занятий, адрес и т. п. В кабинете сидели еще два жандармских офицера, и их молчаливое присутствие действовало Зосе на нервы.
Покончив с выяснением личности задержанной, жандарм как-то загадочно посмотрел на Зоею, открыл ящик письменного стола и быстрым движением положил перед ней маленькие странички, исписанные дорогим ей почерком Юзефа, порванное паспарту с Мадонной Рафаэля и конверт с адресом Францишки Гутовской.
Этого-то она боялась больше всего. Оправдались худшие ее опасения. Зося с трудом заставила себя поднять от стола голову и взглянуть в лицо жандарма. Оно светилось злорадным торжеством. Двое других хищно впились в нее глазами.
Вид врагов, готовых праздновать свою победу, вызвал прилив ненависти и придал силы. Нет, она не доставит им удовольствия увидеть ее ошеломленной «вещественными доказательствами». Зося еще не знала, как попало письмо Феликса в руки жандармов, но твердо решила отвести удар от Францишки.
— Эти рукописи принадлежат мне. Гутовская не имела ни малейшего понятия о содержании конверта, — сказала Зося, стараясь говорить как можно спокойнее.
— Кто автор рукописей? — быстро спросил ротмистр.
Зося назвала первую пришедшую в голову вымышленную фамилию.
— Ну что вы, мадам Дзержинская, как можно не узнать почерк своего мужа? Даже нам он отлично известен, — рассмеялся жандарм.
Ротмистр держал в руках ее старый паспорт на имя «девицы Мушкат», отобранный у нее при аресте. Почему же он назвал ее Дзержинской? Впрочем, Зосю это особенно не удивило — ведь в Кракове они оформили свой брак в ратуше, да все и знали их как мужа и жену.
Отрицать было бессмысленно, говорить с жандармами о своих отношениях с Юзефом противно. Зося молчала.
— Не хотите отвечать? Не надо. На этот вопрос ответит экспертиза. В нашем распоряжении достаточно образцов почерка вашего мужа. Кому вы должны были передать эти рукописи? — быстро, резко, как удар хлыста, прозвучал новый вопрос.
— Я не буду отвечать, — твердо сказала Зося.
— Ах, тоже не хотите! Ну ничего, вы уже ответили на главный вопрос, признали, что содержимое конверта, присланного из Кракова на адрес Францишки Гутовской, принадлежит вам. Позднее вам придется ответить и на другие вопросы.
С этими словами ротмистр вызвал конвоира и отправил Зоею в камеру.
— Как видите, господа, знание психологии своих противников себя оправдало. Я был убежден, что Мушкат будет выгораживать Гутовскую и признает всю эту нелегальщину своей собственностью.
— А наш старый знакомый на этот раз проиграл, — самодовольно добавил ротмистр, доставая из ящика стола еще один документ. Это было письмо Дзержинского, которое жандарм Зосе не показал.
В этом-то и заключался тот хитрый ход, который применила старая ищейка, чтобы вырвать нужное признание у арестованной. Дело в том, что в своем письме с указаниями по оформлению № 180 «Червоного штандара» Юзеф обращался якобы к мужчине. Он предусмотрел так: если паспарту с Мадонной попадет в руки жандармов, то это письмо даст Зосе возможность отрицать, что оно и приложенные к нему материалы предназначались ей. Но Зося не знала о существовании такого письма и не могла воспользоваться им для своей защиты.
2
Софья Мушкат и Францишка Гутовская сидели в одной камере женской тюрьмы «Сербия». Камера была маленькая, сырая и полутемная. Свет проникал только через пробитое под потолком маленькое зарешеченное окошко, вдобавок закрытое снизу и с боков жестяным заслоном. Но женщины были поглощены работой и давно перестали обращать внимание на эти неудобства. Они были заняты делом, совершенно, казалось бы, несовместимым с тюремной обстановкой: шили приданое для будущего ребенка Зоси.
Собственно, беременность и послужила причиной перевода ее в «Сербию» из X павильона Варшавской цитадели, куда Софья Мушкат была заключена вместе с Люцианом, Стахом, Тадеушем и Марысей после первого допроса в охранке. Адвокат Зоси Скоковский ходатайствовал об освобождении ее под залог, мотивируя тем, что пребывание ее в тюрьме может плохо отразиться на ребенке, но получил отказ. С трудом удалось ему добиться перевода Зоей в женскую тюрьму, где надзирателями работали женщины, да и другие заключенные могли как-то помочь молодой матери.
В «Сербии» ее ждал сюрприз. Когда Зося вошла в камеру, на шею к ней бросилась Францишка.
— Это я во всем виновата! — выкрикивала она сквозь рыдания.
Когда Гутовская наконец обрела способность связно говорить, перед Зосей постепенно вырисовалась такая картина: 27 декабря утром Франка получила письмо из Кракова. Вместо того чтобы тут же разорвать и сжечь конверт со своим адресом и отнести на квартиру Мушкат только паспарту, она принесли туда нераспечатанный конверт. По инструкции, не застав дома Зосю, ей надо было оставить паспарту и немедленно уйти, а Франка уселась в столовой за стол и принялась писать письмо, в котором просила разъяснить не понятые ею места из нелегальной брошюры «Чего мы хотим», полученной от Мушкат.
За этим занятием и застали ее жандармы.
— Плохо дело, Франка. Понимаешь, что ты наделала? Уничтожь ты конверт и уйди вовремя от меня, на паспарту с Мадонной никто из жандармов и внимания, вероятно, не обратил бы, а теперь в руках у них доказательства твоей и моей вины, а главное, из-за твоего легкомыслия сорвано издание партийного органа и нарушена связь с Главным правлением.
В ответ новые слезы и рыдания.
В X павильоне камеры было просторнее, светлее и суше и кормили лучше, чем в «Сербии», однако трехмесячное одиночное заключение там было для Мушкат куда более тяжелым. Чего только не передумала и не пережила она в X павильоне. Только через месяц после ареста ей разрешили свидание с отцом. Свидание проходило через две сетки, рядом с Зосей сидел жандармский вахмистр и немедленно прерывал разговор, как только он начинал выходить за рамки семейных дел. Сигизмунд Мушкат был подавлен новым арестом дочери. X павильон — это не шутка! Сюда сажают только опасных врагов царя. Старик совсем не был доволен тем, что его дочери оказана такая «честь». Из-за ареста дочери Мушкат потерял работу и поссорился с женой. Обычно тихий, надломленный нуждой, старик в ответ на ее упреки на этот раз твердо заявил, что не бросит Зосю в беде, хлопнул дверью и ушел жить к сестре.
На следующий день после свидания Сигизмунд Мушкат написал подробное письмо в Краков своему зятю Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. В конце письма были такие строки: «…Намучился я, наработался, настрадался. Стремления мои часто бывали мелочные, идиотские. Если бы я сейчас начал жизнь заново, она была бы, конечно, иной. Зося меня подняла, облагородила… С тех пор я стал настоящим человеком…»
Дзержинский несколько раз перечитал письмо старого Мушката. Да, судьба дала ему не только хорошую жену, но и хорошего тестя.
В X павильоне Зося много читала. В одной из книг она обнаружила едва заметные точки под буквами и прочла: «Феликс Эдмундович Дзержинский, социал-демократ, 1909 год». Совершеннейшая случайность. И все-таки как приятно получить в тюрьме такой неожиданный привет от любимого человека.
Рядом сидел член «революционной фракции» ППС Свирский. От него она узнала, что в ее камере в 1909 году сидел Феликс Дзержинский.
— Понимаешь, Франка, Свирский не знал, что я жена Юзефа. Тем приятнее мне было слышать от него, каким боевым и мужественным был Юзеф. Одно сознание того, что я сижу в той же камере, что и он, дышу тем же воздухом, читаю те же книги, вселяло в меня бодрость, придавало новые силы, — говорила Зося.
Францишка понимающе кивнула. Она сметывала распашонку из белой бумазеи, рот был набит булавками.
В «Сербии» Зося тоже встретила людей, хорошо знавших Феликса. На общих прогулках она часто беседовала с молодой работницей Владиславой Гузовской. По поручению Юзефа та неоднократно перевозила через границу нелегальную литературу и оружие.
Беседы эти доставляли Зосе большую радость. Она все больше убеждалась, какое множество людей, испытав на себе его влияние, приобщалось к активной борьбе за дело рабочего класса.
В «Сербии» наладилась переписка с Феликсом в обход цензуры. Она осуществлялась во время свиданий с отцом. В этой тюрьме свидание предоставлялось также через две решетки, в пространстве между которыми расхаживал надзиратель. Однако, представив врачебное свидетельство о том, что у Сигизмунда Мушката плохой слух, адвокату Зоей удалось добиться для них разрешения на свидание через одну решетку. Феликс посылал свои письма на адрес типографии «С. Оргельбранд и сыновья», где теперь работал Мушкат, а тот на свиданиях незаметно передавал их свернутыми в трубочку Зосе. Таким же образом она передавала письма для Феликса, а отец посылал их в Краковский университет на имя студента Бронислава Карловича.
Феликс Эдмундович узнал об аресте жены от Ганецкого, который сразу же после провала собрания приехал в Краков.
— В Варшаве есть провокатор, это несомненно. Все руководители проваливаются, типографии — нет, районы — нет, — говорил Дзержинский.
— Уншлихт того же мнения, — ответил Ганецкий. — Я думаю, что он до сих пор не арестован только потому, что не поддерживает никакого контакта непосредственно с Варшавской организацией, а встречается только с отдельными вполне надежными лицами.
Острое беспокойство за судьбу Варшавской организации, волнение за судьбу Зоси побудили Дзержинского написать в Главное правление о том, что с 1 января 1911 года он начинает ликвидировать свои дела в Кракове, чтобы выехать в Королевство Польское.
И опять последовал отказ. Тышка пригрозил своим уходом из Главного правления партии, если Юзеф не будет с ним считаться.
И все-таки… Узнав из письма Сигизмунда Мушката о беременности Зоси, Дзержинский не выдержал и кинулся в Варшаву.
9 апреля отец пришел на очередное свидание.
— Зосенька, у меня для тебя интересная новость. Вчера к нам на квартиру приходил брат Феликса. Такой представительный, интересный. Феликс просил его разузнать все о тебе. Мы проговорили больше часа. Очень приятный человек.
— Папа, опиши мне его поподробнее.
Женское чутье не обмануло. Она засыпала отца вопросами и по мере ответов все более убеждалась: да, конечно, это был сам Феликс. Необходимость конспирации заставила его выдавать себя за брата.
В письме Феликса, полученном на следующем свидании, ее догадка подтвердилась.
«За мой неожиданный визит у матушки мне здорово влетело», — читала Зося и тут же переводила условный код: «матушка» — Варшава, «влетело» — от Главного правления.
«Впрочем, все это глупости, — читала она дальше, — только бы ты была сильной и все перенесла. Порой, когда думаю о тебе и ребенке, несмотря на все и вопреки всему, меня охватывает какая-то волнующая удивительная радость…»
Боже мой! Как хорошо. Ведь и ее вопреки тюрьме, ожиданию суда и приговора тоже охватывает радостное волнение, когда она чувствует в себе его ребенка!
3
Надзирательница принесла обед. Питание в «Сербии» было отвратительное. Некоторым заключенным, нуждавшимся в этом по состоянию здоровья, администрация тюрьмы разрешала получать обед с «воли». Такого разрешения добился Сигизмунд Мушкат и для Зоси в связи с ее беременностью. Обеды в тюрьму носил из ближайшего дешевого ресторана старый Ян Росол. Старик со слезами на глазах вспоминал, какую заботу о его сыне Антеке проявлял в тюрьме Дзержинский, и был рад, что теперь может что-нибудь сделать для его жены.
— Давай твою миску, Франка, — сказала Зося, чтобы, как обычно, поделить обед пополам.
— Не хочу. Ешь сама. Ведь вас двое, а мне хватит и казенного пайка.
— Опять ты за свое, — возмущалась Зося. — Я и ложки не съем без тебя. Ты же прекрасно это знаешь.
Пришлось Гутовской подчиниться. Она была физически слабой. В тюрьме у нее вспыхнул туберкулез, а на воле не было никого, кто бы мог о ней позаботиться. И если бы не помощь Зоей, Франка не могла бы долго протянуть.
После обеда засели за книги. Читали по очереди вслух легально изданную в России книгу К. Каутского «Экономическое учение К. Маркса», и Зося терпеливо объясняла Франке непонятные места.
Занятия прервал страшный грохот. В соседней камере колотили табуретом в дверь. Бесновалась Роза Коган, сидевшая одна в соседней камере. Эта психически больная женщина могла часами стучать в дверь или петь трагическим голосом.
Утром при выходе на прогулку Коган закричала:
— Софья Мушкат провокатор! Смерть провокатору!
И столкнула ее с лестницы.
Зосю отвели в тюремный лазарет. Роды были преждевременными и тяжелыми. 23 июня 1911 года у нее родился сын Ян.
С первых дней существования на долю крошки Ясика по воле царских палачей, отказавшихся освободить его мать до суда из-под стражи, выпали тяжелые испытания. Ребенок родился на месяц раньше срока, был страшно худ и слаб.
Никто не верил, что он выживет. Об этом прямо говорили Зосе тюремная акушерка и уборщица из уголовных.
На третий день у Ясика начались судороги.
— Врача, скорее врача! — кричала Зося, с ужасом глядя на посиневшего младенца.
Вместо врача появился ксендз. Тюремные власти решили позаботиться о «спасении души» ребенка. Ясика силой оторвали от матери и… окрестили.
Но ребенок не умер, он тянулся к жизни и энергично сосал.
В лазарете ее неожиданно навестила мачеха. Она пронесла и незаметно передала Зосе записку от Феликса: «…Ясик, несмотря ни на что, будет жить и вырастет здоровым». Он понимал, как ей трудно, и старался поддержать ее.
Мачеха была художницей. Она нарисовала профиль Ясика и по просьбе Зоси отослала Феликсу.
Через три недели Зосю вместе с ребенком перевели из лазарета обратно в камеру.
Совсем не просто ухаживать в тюрьме за ребенком. К тому же Ясик часто болел. Малыш часами заходился в крике, и Зося напрасно пыталась его укачать, сама заливаясь горькими слезами.
Помощь приходила в лице пожилой надзирательницы — у нее всегда находился добрый практический совет. И ребенок затихал.
С каким нетерпением Зося ждала дежурства этой суровой на вид, но доброй души женщины, как была ей признательна.
«Зато, когда Ясик был сыт и здоров, он своей улыбкой и лепетом доставлял мне столько радости, что она вознаграждала за полные муки и отчаяния вечера. В тяжелой тюремной обстановке, в мертвой вечерней тишине смех ребенка был ясным солнечным лучом, напоминая о радостях жизни» — так Софья Сигизмундовна Дзержинская запишет впоследствии.
4
В просторном зале Варшавской судебной палаты было холодно и пустынно. На скамье подсудимых две женщины — это Софья Мушкат с грудным ребенком на руках и Францишка Гутовская. Немногочисленная публика едва заполнила первые ряды и резко делилась на две части. Направо от прохода сидели жандармы, полицейские и чины судебного ведомства, а по левую сторону — родственники подсудимых. Суд шел при закрытых дверях, и, кроме них, никому из частных лиц присутствовать не разрешалось.
Тусклый свет пасмурного ноябрьского дня лениво сочился сквозь высокие окна, и полумрак в зале еще более усиливал мрачную обстановку.
Секретарь судебной палаты монотонно читает обвинительный акт. Зося получила его еще в августе, знала наизусть и потому слушала лишь краем уха. Ее внимание приковано к залу. Отец приложил к уху ладонь «лодочной» и мучительно вслушивается. Время от времени он наклоняется к мачехе, и та шепотом поясняет не понятые им места. Рядом с ними старший брат Станислав с женой Яниной. Он приехал из Люблина, чтобы присутствовать на суде. Станислав улыбается ей и делает какие-то, по-видимому, ободряющие знаки.
Ясик, накормленный и перепеленатый перед началом судебного заседания, мирно спал на руках у матери.
Начался допрос свидетелей. Один из них, выставленный охранкой, на вопрос адвоката ответил, что на Гурчевскую улицу шпики пришли вслед за Эдвардом Соколовским. Им показалось подозрительным, почему этот интеллигент направился в рабочий район и вошел в дом для рабочих.
«Врет, наверное, — думает Зося, — похоже, что его показаниями охранка хочет прикрыть своего провокатора, заранее провалившего наше собрание».
В абсолютной тишине начал свою речь прокурор. Громы и молнии обрушил он на головы врагов самодержавия. Но тут проснулся и заплакал Ясик. Прокурор повысил голос. Тогда и ребенок начал громко кричать. В зале послышался сдержанный смех. Резкие звонки председательствующего лишь усиливали общий шум.
Зося дала ребенку грудь. Прокурор скомкал речь, торопясь закончить, пока ребенок сосет. Он требовал ссылки на вечное поселение в Сибирь и для Мушкат и для Гутовской.
Зося возмутилась. Такой подлости и жестокости она не ожидала даже от представителей царского правосудия. Для себя она ничего другого и не ждала, но Франка… Она не была даже членом социал-демократии. Согласившись дать свой адрес для Зосиной переписки, Франка оказала лишь первую услугу партии.
— Еще раз категорически заявляю, что Гутовская не была членом партии и не знала о содержании конверта, присланного из Кракова на ее адрес для меня, — заявила Зося, когда ей предоставили последнее слово.
Не помогло. Под крик ребенка председательствующий огласил приговор. Он соответствовал требованию прокурора: в Сибирь, на вечное поселение, обеих.
Франка выслушала приговор в ужасном состоянии. Была подавлена и Зося. Женщины ждали для Гутовской не более года тюрьмы или административную высылку на короткий срок в глубь европейской части России.
Феликс получил подробный отчет о судебном процессе от Сигизмунда Мушката. Старик так заканчивал свое письмо: «…Смехотворное и жалкое впечатление производил этот кичащийся своей силой судебный аппарат с семью судьями, мечущимся в ярости прокурором, секретарем и судебным исполнителем против двух слабых, худеньких женщин с грудным младенцем под стражей солдат с обнаженными саблями в руках. Знать, этот аппарат, пожираемый ржавчиной подлости и беззакония, скоро уже рассыплется в прах, если две слабые женщины наводят на него такой ужас, что ему приходится высылать их на край света».
5
На квартире у Сигизмунда Мушката Феликс Эдмундович Дзержинский появился неожиданно. Старый Мушкат хорошо запомнил — это было вечером 12 января 1912 года.
На этот раз Дзержинский не считал нужным скрывать свое имя. Он уже не сомневался, что в семье Сигизмунда Мушката может чувствовать себя в безопасности. Да и дело, ради которого он пришел, не позволяло сохранять инкогнито.
— Я здесь, в Варшаве, по партийным делам, а к вам пришел, чтобы посоветоваться, как быть с Ясиком. Зосю скоро отправят в ссылку, и я прямо ума не приложу, куда определить ребенка. Очень хотелось бы взять его к себе. Но… я и сам не знаю, куда меня завтра забросит судьба, — говорил Феликс Эдмундович, заметно волнуясь. Он не мог прямо сказать, что положение в партии все настоятельнее требует от него переезда в Королевство Польское на постоянную подпольную работу. Опять предстояло менять имена и адреса, ежедневно и ежечасно находиться под угрозой ареста.
— Мои товарищи в Берлине, — продолжал Феликс, — советуют поместить Ясика в один из берлинских домов для младенцев; говорят, там хорошие условия. Но вызнаете, какой он болезненный и слабый. Как я могу оставить его вовсе без наблюдения родных!
— Страшное дело — эти приюты, — вздохнул Мушкат. — Можно было бы поместить Ясика в приют при госпитале младенца Иисуса, там дети заключенных содержатся за счет государства, да выяснилось, что дети там мрут как мухи.
Долго ломали головы отец и дед, а не нашли другого выхода, как искать для Ясика хороший частный приют. Родственники и знакомые или не могли по разным причинам взять к себе Ясика, или боялись брать на себя ответственность за жизнь больного, слабого ребенка.
Не прошло и получаса со времени ухода Дзержинского, как на квартиру Мушката ворвалась полиция. Полицейские забрали с собой письма Феликса к Сигизмунду Мушкату и корреспонденцию, поступившую на его имя для Зоси, а в квартире Мушката оставили засаду. Двое суток просидели полицейские в тщетной надежде схватить Юзефа.
Прошел месяц. В камере, где томилась Зося, было холодно и сыро. Ясик сильно кашлял. Простуженного ребенка нельзя были ни купать в холодной камере, ни выносить на прогулки. Волнения матери отразились на молоке. К кашлю прибавилось желудочное заболевание; у ребенка стал развиваться рахит. Зосе все чаще приходили на ум слова врача: «Тюрьма не место для ребенка». И она решилась отдать сынишку в частные ясли пани Савицкой. Но в яслях от непривычной пищи у Ясика начались судороги, ребенок страшно ослаб.
Приближался час отправки в Сибирь. Беспокойство за жизнь Ясика, сознание своего бессилия помочь ребенку доставляли Зосе невероятные страдания. Теперь уже Франка, снова перебравшаяся в камеру Зоей, успокаивала ее.
Доктор предписал прикармливать ребенка грудным молоком. Доставать молоко взялась Юстина Кемпнер, партийный товарищ Софьи по работе в Мокотовском районе Варшавы. Какое счастье было сознавать, что товарищи по партии не оставляют тебя в беде!
26 марта ночью партию ссыльных, среди которых была и Софья Мушкат, увезли из Варшавы.
На Тереспольском вокзале в далекий путь Зосю проводили отец, мачеха и товарищи по партии Лазоверт и Гарабашевская.
6
Орлинга, место пожизненной ссылки Софьи Сигизмундовны Мушкат, считалась волостным центром. Унылое это было место. Три десятка деревянных, почерневших от старости домов расположились на огромной поляне в излучине Лены. Ни одного деревца, ни садиков, ни огородов возле домов. Единственная улица утопала в непролазной грязи.
За два рубля в месяц Зося сняла маленькую комнатушку в доме волостного писаря. Хозяин слыл «либералом», что не мешало ему напиваться до одури и зверски избивать свою жену и детей.
Почти три месяца продолжались скитания Зоси по этапам. Увезли из Варшавы в конце марта, а в Орлингу прибыли в середине июня. Многое изменилось за это время.
Пришло письмо от отца. Старый Мушкат сообщал, что он забрал Ясика от пани Савицкой — там малыш все время болел — и отправил его к своему брату в белорусское местечко Клецк. Дядя Мариан был опытным врачом-терапевтом, жена его Юлия, обремененная четырьмя своими детьми, окружила Ясика заботливым уходом. Сигизмунд Мушкат пожелал сам присматривать за внучком и тоже перебрался к брату в Клецк. Мальчик начал постепенно поправляться. Старик писал о Ясике подробно, зная, как это важно для матери. И у Зоси невольно навертывались слезы радости, когда она читала, что у сына прорезался первый зуб или о том, как он говорит «ма», когда ему показывают ее фотографию.
Острая тоска снова охватила Зосю. Захотелось сейчас же, немедленно, с первым пароходом бежать туда, к своему сыночку. Но бежать без паспорта и денег было невозможно. Их должен был прислать Феликс. А от него пока не было никаких известий. Вместе с тоской по сыну Зосю преследовало беспокойство за судьбу мужа. Где он? Что с ним?
В июле однообразие Орлинги было нарушено появлением товарищей по партии — Эльбаума, Гемборека и самого старого из варшавских социал-демократов, Доброчинского. Их везли в ссылку дальше на север, и, пока паузок со ссыльными стоял в Орлинге, разрешили сойти на берег.
Несколько часов проговорили они с Зосей, делясь своими переживаниями и сведениями о событиях в России и Польше, о товарищах. К большому Зосиному огорчению, никто не мог ей сказать ничего нового о Феликсе.
Ушел паузок. Снова потянулись дни томительного ожидания. Зося ежедневно приходила на почту, и каждый раз пожилой почтмейстер, приветливо улыбаясь, шутливо отвечал:
— Пишут вам, барышня, еще пишут.
Наконец он с торжественным видом вручил ей книгу, присланную отцом. Старую потрепанную книгу Павла Адама «Сила». А вслед за этой бандеролью пришли одно за другим два письма от Феликса. В первом он иносказательно сообщал о расколе в партии. «Ты не знаешь и не сможешь понять того, что тут происходит, — писал он, — а то, что происходит, так ужасно, что если только жить одним этим сегодняшним днем, то надо умереть». Слова эти словно ножом по сердцу резанули. Зося живо представила сёбе, как должен был тяжело переживать Феликс раскол в социал-демократии Польши и Литвы, чтобы написать ей такое.
Во втором письме Феликс советовал ей внимательно прочитать книгу Адама, уверял, что она придаст ей «много сил». Зося тщательно исследовала книгу. Ни наколки в тексте, ни следов тайнописи не обнаружила. Потертая картонная обложка также не имела никаких внешних следов, внушающих подозрение. А между тем Зося догадалась: именно здесь, в переплете, спрятан паспорт на чужое имя. Да, Феликс большой специалист на такие вещи! Как ни велико было желание взглянуть на «свой» новый паспорт, решила обложку не портить до получения денег. Так было спокойнее.
Приближался конец навигации по Лене. Зося нервничала. Лишь за два дня до прибытия в Орлингу последнего парохода сто рублей, необходимые для побега, были получены.
Зося уложила свои вещи, вынула из переплета паспорт. Молодец Феликс! Паспорт оказался не «липовый», а самый настоящий. Зося вызубрила все данные, содержащиеся в паспорте, и научилась расписываться так, как расписывалась настоящая хозяйка паспорта.
…Густой протяжный гудок известил о прибытии парохода. Вперед пошел ссыльнопоселенец социал-демократ Львов. Надо было посмотреть, не угрожает ли Зосе опасность быть задержанной. Предосторожность оказалась нелишней. Мимо стоявшего на берегу Львова проследовал на пароход не кто иной, как орлингский урядник, человек, обязанный следить за тем, чтобы все ссыльнопоселенцы были на месте.
Путь пароходом был отрезан, но и оставаться в Орлинге было нельзя. Дожидаться, пока встанет Лена, бессмысленно. Для поездки на санях не было ни денег, ни теплой одежды. Оставалась одна возможность — ехать на почтовой лодке. Нашлась и попутчица, какая-то женщина из Томска, приезжавшая в Орлингу в гости и теперь возвращавшаяся домой. Она и вела все переговоры с почтой.
Ранним утром 28 августа Зося покинула Орлингу. После долгих мытарств добралась наконец до Москвы, а затем приехала в Люблин к своему старшему брату Станиславу. В Клецк ехать было нельзя. Если в Орлинге обнаружили побег, то искать ее будут прежде всего в Варшаве или Клецке, где жил ее ребенок.
Перед отъездом за границу она не могла даже прижать к груди своего сына!
Она не знала, где сейчас Феликс, и написала ему на старый краковский адрес. Ответ пришел быстро. Но не от Феликса. Стефан Братман прислал адрес Францишки Ган в Домброве-Гурничей. «Значит, Ган даст мне проходное свидетельство для переезда через границу. А Феликс, вероятно, где-то здесь, в Польше».
Зося немедленно выехала в Домброву. Ган приняла ее сердечно, оставила ночевать. Она не знала, кто такая Зося — она ведь жила под чужим именем, — знала только, что Зося товарищ по партии, которому она должна помочь перебраться через границу.
— Знаете, — сказала Ган, — партию постигло большое несчастье: арестовали Эдмунда.
— А кто такой Эдмунд?
— Вы не знаете? Не может быть! Нет такого человека в вашей партии, который бы не знал Эдмунда.
— И все-таки я его не знаю, — настаивала Зося, а у самой уже смутно шевелилось беспокойство: «Может быть, Юзеф сменил свою подпольную кличку?»
— Быть этого не может. У него жена в Сибири и маленький сынишка, который родился в тюрьме.
У Зоей перехватило дыхание. Францишка Ган сразу поняла, кто перед ней. Она бросилась к Зосе, нежно обняла ее и заплакала первая. Женщины долго не могли успокоиться.
А утром Зося отправилась в Бендзин. Туда за ней приехал Лазоверт. Вряд ли она одна, без его помощи, добралась бы до Кракова. Софья Мушкат точно окаменела, все делала механически. В голове назойливо ворочалась только одна мысль: «Каторга, каторга, каторга». За что судьба так несправедлива к ней? И чтобы узнать об этом, ей понадобилось бежать из ссылки и проделать тысячи верст.
В Кракове ее ждала открытка из Варшавы от Феликса: «Моя дорогая! Со мной случилось несчастье. Я сильно заболел. Пожалуй, не скоро уже тебя увижу. Целую тебя и маленького Ясика от всего сердца».
Глава IX Политкаторжанин
1
Аресту Дзержинского предшествовали события, повлекшие за собой раскол социал-демократии Польши и Литвы.
По инициативе Якуба Ганецкого, Иосифа Уншлихта и Винценты Матушевского в Варшаве в декабре 1911 года была созвана межрайонная конференция. Конференция осудила статью «Подлинное или мнимое единство», обещавшую рабочим, перешедшим в СДКПиЛ из ППС-левицы, пропорциональное представительство в партийных комитетах, потребовала созыва краевой конференции и широкой дискуссии в «Червоном штандаре» по вопросу об отношении СДКПиЛ к ППС-левице.
Краевую конференцию предлагалось созвать не в обычном составе, а с двойным представительством от местных межрайонных конференций. Этим решением оппозиция намеревалась обеспечить себе большинство на краевой конференции.
Участники конференции справедливо упрекали Главное правление за то, что оно не информирует партийные организации о внутрипартийном положении в РСДРП.
Разумеется, никто не мог бы оспаривать право местных организаций критиковать Главное правление на своих собраниях и конференциях, если бы они проходили в рамках устава партии. Но Варшавский комитет не сообщил заранее Главному правлению о созыве конференции. А Главное правление отказалось признать правомочной конференцию, созванную без его ведома и без участия его представителя, и не утвердило Варшавский комитет, избранный на этой конференции. Однако Варшавский комитет не подчинился решению Главного правления и продолжал свою работу. Сторонники Главного правления (по-польски Зажонда глувнего) получили название «зажондовцев», а его противники, раскольники, — «розламовцев».
Годом позже, 12 января 1913 года, Ленин в своей статье «Раскол в польской социал-демократии» писал: «Конфликт был организационный, но имел большое политическое значение. Периферия требовала возможности влиять на политическую позицию партии…»[21]
Владимир Ильич резко критиковал методы борьбы Главного правления с оппозицией, но в то же время высказывал «глубокое сожаление по поводу раскола рядов польской социал-демократии, чрезвычайно ослабляющего борьбу с.-д. рабочих Польши»[22].
Варшавская конференция, бунт Варшавского комитета против Главного правления и вынудили Феликса Эдмундовича Дзержинского в январе 1912 года выехать в Варшаву и другие города Королевства Польского, чтобы на месте выяснить обстановку.
Обстановка сложилась тяжелая. И без того слабые социал-демократические организации попали под двойной удар: с одной стороны, лучшие их кадры становились жертвами провокаторов охранки, с другой — их силы подтачивал «розлам», внутрипартийные разногласия, приобретавшие все более и более острый характер.
Дзержинский резко критиковал Главное правление за его отрыв от масс и за примиренческую позицию по отношению к ликвидаторам в РСДРП. Пожалуй, даже более резко, чем лидеры «розламовцев». И все же стал «зажондовцем», так как считал недопустимым внесение раскола в ряды социал-демократии Польши и Литвы.
— Сейчас, как никогда ранее, необходимо, чтобы в край выехал член Главного правления. Надо сплотить местные организации, а главное — активизировать их работу в массах. Наша беда — кружковщина. А рабочие снова готовы в бой. Этим и пользуются ганецкие и малецкие, справедливо обвиняя Главное правление в бездеятельности, — заявил Дзержинский, вернувшись.
И стал еще настойчивее добиваться направления в Варшаву на постоянную работу.
Тышка, Мархлевский, Варский, составлявшие теперь бюро Главного правления (Ледер заменил Барского в Париже, в редакции «Социал-демократа»), тянули с ответом. «Отлучив» от партии Варшавский комитет, они никак не могли решить, что же делать дальше.
Юзеф был прав. Кому-то действительно надо было ехать. И он был самым подходящим. Но все знали, что в случае провала Юзефу грозит каторга, понимали, что их решение может обернуться приговором, и колебались.
— Я напишу письмо. Оно избавит вас от ответственности.
Всю ночь просидел Феликс Эдмундович. Под утро «Письмо к товарищам» было готово.
«Товарищи! Я еду в страну вопреки настойчивому желанию Главного правления, чтобы я отказался от своего намерения. Я еду, несмотря на то, что на меня в Варшаве охранка, хорошо осведомленная о моем прибытии, постоянно устраивает охоту и у меня есть основание предполагать, что теперь охота на меня начнется с удвоенным рвением. Но я думаю, что если вообще может быть оздоровлена Варшавская организация и сохранена от разлагающего влияния… дезорганизаторов, то успешнее всего мог бы это сделать я при моем знании местных условий и людей.
К сожалению, я более чем уверен, что из этой поездки я не вернусь…»
Добавив еще несколько крепких выражений в адрес лидеров «розлама», Фелик Эдмундович закончил письмо словами: «Прощайте, товарищи из Главного правления. Я был горд и счастлив, что в течение последних лет мог работать в тесном контакте с вами — теми немногими товарищами, которые стояли во главе нашей партии, заложили ее основы.
Призываю вас, товарищи, оставайтесь несгибаемо, как до сих пор, на страже интересов партии…
Прощайте, ваш Юзеф.
4 апреля 1912 года.
P. S. Прошу напечатать в случае моего ареста».
Как и желал Дзержинский, после его ареста письмо было опубликовано. Главное правление сопроводило его своим послесловием:
«Он ехал на верную каторгу… Вы его знаете. Везде он был первым, где самая тяжелая работа, самая большая ответственность, самая страшная опасность. Как организатор, агитатор, партийный руководитель, он в любое время делал все, что требовала польза дела: от самых мелких, простых технических функций до широчайшей инициативы политической мысли. С железной силой и огненной страстностью восстанавливал он разгромленные врагом или доведенные до развала из-за собственной расхлябанности товарищей партийные организации…
Молодость, здоровье и личную жизнь он целиком положил на алтарь партии. Сила и слава СДКПиЛ была и есть единственная цель его жизни и с его деятельностью неразрывно связана».
В одной из передач узник X павильона Феликс Дзержинский обнаружил маленький комочек папиросной бумаги с текстом этой публикации. Прочел, поморщился, точно кислятину проглотил. «Уж очень смахивает на некролог, а я, дорогие товарищи, умирать не собираюсь».
Да, он был уверен, что рано или поздно, но жандармы его выследят. И все-таки поехал, и не раскаивается в этом. Ему удалось установить своеобразный «рекорд». Сменил партийную кличку с Юзефа на Эдмунда, жил по паспорту Владислава Пташинского, а в городе его знали как австрийского подданного Леопольда Белецкого, ловко путал следы, обманывал филеров и продержался на воле почти пять месяцев.
Очень многое было сделано за это время. В Варшаве наряду с «розламовской» работает новая партийная организация и ее Варшавский комитет, признающий руководство Главного правления. Прошли межрайонные конференции «зажондовцев» в Ченстохове и Лодзи. Он сам руководил ими. Организовал выборы на краевую конференцию социал-демократии Польши и Литвы, которая и состоялась в августе 1912 года в Берлине. А потом успел объехать партийные организации Домбровского бассейна, Ченстохова, Лодзи, Варшавы, разъясняя решения краевой конференции. И вот итог, которым он может гордитьря: воссоздана организация, сплоченная вокруг Главного правления, налажена постоянная связь с ним. Организация способна вести за собой рабочий класс, она доказала это во время массовых первомайских стачек и забастовок. Десятки тысяч пролетариев Варшавы и Ченстохова откликнулись на ее призыв ответить забастовками солидарности на расстрел ленских рабочих. И уже перед самым арестом он успел организовать кампанию по выборам в IV Государственную думу и сам агитировал за избирательную платформу СДКПиЛ на собраниях в Повоньках и Мокотове.
Эх! Если бы не борьба с «розламовцами», надвое расколовшими партию, можно было бы сделать еще больше!
Так, снова в X павильоне, Феликс Эдмундович Дзержинский подводил итоги очередному периоду своей подпольной работы. Подводила свои итоги по делу Дзержинского и варшавская охранка. Они были суммированы в донесении прокурора варшавского окружного суда от 15 октября 1912 года. Прокурор Варшавской судебной палаты, которому это донесение было адресовано, читал его с большим интересом:
«Летом текущего года в варшавском охранном отделении были получены негласные сведения о том, что Главным правлением социал-демократии Королевства Польского и Литвы командирован в Варшаву член Главного правления Феликс Дзержинский для улажения происшедших между правлением и Варшавским комитетом сообщества серьезных разногласий».
Прокурор взял красный карандаш и подчеркнул последние слова.
Далее следовали строки, рассказывающие о позиции «упраздненного» Варшавского комитета. Прокурор пробежал их быстро, он искал глазами, что говорится дальше о Дзержинском. Вот: «…наряду, однако, с последним стал функционировать новый, сорганизованный Дзержинским (красный карандаш провел жирную черту), комитет, получивший санкцию Главного правления. Главное руководство деятельностью вновь образовавшегося комитета принял на себя Дзержинский, который энергично повел агитационную борьбу, лично проводил забастовки на фабриках и среди ремесленников, а также издавал воззвания к рабочим по текущим событиям рабочей и политической жизни», — прокурорский карандаш работал теперь, почти не останавливаясь, подчеркивая строчку за строчкой.
«Феликс Дзержинский является вообще одним из виднейших деятелей организации социал-демократии Королевства Польского и Литвы».
«Интересно, но, пожалуй, не для суда, — думает прокурор. — А где же доказательства? Да вот они».
«По обыску в занимаемой Дзержинским комнате были обнаружены: гектограф с оттиском воззвания, помеченного 31 августа сего года, несколько номеров газеты «Красный штандар», несколько номеров «Газеты работничей», значительное количество различных прокламаций социал-демократии Королевства Польского и Литвы… Все взятое по обыску Дзержинский признал за принадлежащее ему, от дальнейших объяснений относительно своей партийной деятельности отказался».
— Прекрасно, голубчик, — шепчет прокурор, — сначала мы тебя закатаем на каторгу за побег, а затем будем судить за новые преступления.
2
Следствие тянулось ужасно медленно. Полковник Иваненко, а затем судебный следователь 1-го участка Варшавского уезда Грудинин — ему прокурор поручил производство предварительного следствия — не торопились. Опасный государственный преступник крепко-накрепко заперт в X павильоне Варшавской цитадели.
Феликс Эдмундович признал себя виновным в побеге с места вечного поселения и в проживании в Варшаве по чужому виду на жительство. Не отрицал он и своей принадлежности к социал-демократии Королевства Польского и Литвы, однако заявил, что являлся рядовым членом партии и никогда не состоял ни членом Главного правления, ни членом Варшавского комитета. Впрочем, Дзержинский, как всегда, вообще отказался давать показания о своей практической работе в партии.
— Докапывайтесь сами, а я вам помогать не намерен, — заявил он Иваненко.
Допросы кончились, будущий приговор — каторга — не вызывал сомнений, решение бежать с этапа при первой же возможности принято, оставалось ждать суда. Ну что ж, тоже не впервой. И Феликс Эдмундович коротал долгие тюремные дни за чтением и размышлениями.
В мыслях Феликс Эдмундович чаще всего возвращался к расколу в социал-демократии Польши и Литвы. Страшно подумать, что делается в партии. Вчерашние единомышленники и соратники по борьбе стали заядлыми врагами. Зося пишет, что в Кракове «зажондовцы» и «розламовцы» прекратили всякие отношения друг с другом, даже не здороваются при встречах. Хорошо, что Зося осталась «зажондовкой», но она не одобряет поведения Главного правления по отношению к «розламовцам», и это огорчает. А вот подруга Зсий Франка Гутовская после побега из ссылки примкнула к «розламовцам». Ближайшие товарищи и помощники Феликса Юлиан Гемборек и Даниель Эльбаум вместе были осуждены, вместе отбывали ссылку в Сибири и разошлись: Гемборек стал «розламовцем», а Эльбаум сохранил верность Главному правлению.
А Якуб Ганецкий? Десять лет они бок о бок боролись с царским самодержавием. Как часто в подполье имена Миколай, Чеслав стояли рядом с Юзефом. Феликс считал его не просто товарищем по партии, но и своим другом. И этот «друг» — один из организаторов раскола!
Дзержинский был готов если не простить, то понять Ганецкого, если бы у того были идейные расхождения с Главным правлением. Но в том-то и дело, что там, где польские социал-демократы были не согласны с большевиками — он имел в виду национальный и аграрный вопросы, — «розламовцы» стояли на тех же позициях, что и Главное правление. Значит, Ганецкий оказался просто интриганом. Хочет руководить Главным правлением. И ради личной амбиции не остановился перед тем, чтобы ввергнуть партию в раскол. И сейчас он в Кракове около Ленина, клянется в верности и дружбе. А Владимир Ильич поддерживает «розламовцев» и осуждает Главное правление.
На Брюссельской конференции, созванной Исполкомом Международного социалистического бюро 16 июля 1914 года, куда «розламовцы» были приглашены по настоянию большевиков, Ганецкий и Малецкий вначале поддерживали большевиков, а затем неожиданно переметнулись и проголосовали за оппортунистическую резолюцию, предложенную Каутским, и так же, как и Роза Люксембург, вошли в созданное на этом совещании антибольшевистское объединение, получившее наименование «брюссельский блок».
Ленин в статье «Польская с.-д. оппозиция на распутье» отметил, что среди польской оппозиции имеются «два течения: одни хотят сместить Тышку и Розу Люксембург, чтобы самим продолжать политику Тышки. Это — политика беспринципной дипломатии и «игры» между беками и меками, между партией и ее ликвидаторами…
Другое течение за полнейший разрыв с ликвидаторами, с федерализмом, с «игрой» в роли «маятника» между двумя борющимися сторонами; — за искренний и тесный союз с правдистами, с партией.
В Брюсселе первое течение у польских с.-д. победило… Поживем — увидим, удастся ли второму течению сплотиться, выкинуть ясное, точное, определенное знамя последовательной, принципиальной политики… Нечего и говорить, что объединение польского с.-д. пролетариата возможно только на основе такой политики»[23].
Узнав о том, как Ленин расценил поведение Ганецкого и Малецкого в Брюсселе, Дзержинский испытал глубокое удовлетворение. «Хотят сместить Тышку и Розу Люксембург, чтобы самим продолжать политику Тышки». Удивительно верно и точно сформулировано! Но следующая фраза: «Это — политика беспринципней дипломатии и «игры» между беками и меками, между партией и ее ликвидаторами…» — относилась уже не только к ним, но и к Главному правлению.
«Зажондовец» Дзержинский вынужден был признать, что и тут Ильич, безусловно, прав. Начиная с январского Пленума ЦК РСДРП в 1910 году Тышка и другие руководители Главного правления, к сожалению, занимали роль «маятника» между большевиками и меньшевиками, не содействовали, а скорее мешали борьбе ленинцев с ликвидаторами.
Разве он сам не возмущался этой беспринципной политикой, разве не пытался исправить линию? Сколько было послано писем, сколько горьких и резких слов высказано в глаза Тышке, Ледеру, Мархлевскому, Барскому! И как будто бы его усилия имели успех. По крайней мере, на Парижском совещании членов ЦК РСДРП в июне 1911 года (Феликсу Эдмундовичу было приятно вспомнить, что на приглашении, разосланном членам ЦК, рядом с подписью Ленина стояла и его подпись) он и Тышка полностью поддержали намеченные Лениным меры по воссозданию боеспособной нелегальной партии.
И, как всегда, когда Феликсу Эдмундовичу вспоминались личные встречи с Лениным, в груди у него потеплело. Перед ним встало утомленное, осунувшееся лицо Ильича. Вот он, немного прищурив глаз, что придавало всему лицу лукавое, хитроватое выражение, протягивает ему через стол записку. В ней Ильич продолжает их разговор о том, что в подлинно революционной партии не может быть места оппортунистам, и, в частности, меньшевикам-ликвидаторам, группировавшимся вокруг газеты «Голос социал-демократа». Эта записка запечатлелась в памяти Феликса Эдмундовича, как на фотопластинке. Маленький листик бумаги, а на нем четким ленинским почерком написано: «Договор Ленина с Юзефом. «Это необходимо сделать!» — восклицание Юзефа на вопрос, необходимо ли исключить голосовцев из партии. II. VI. 11» и подпись «Ленин». В свободном от текста правом нижнем углу Дзержинский приписал тогда: «Но как?» — расписался «Юзеф» и вернул Ленину.
Ответом на его вопрос было решение совещания о созыве Пленума ЦК РСДРП и Всероссийской общепартийной конференции. Они-то и должны были выполнить задачу очищения партии от ликвидаторов.
После окончания совещания Дзержинский сразу же отправился в Краков, его ждали неотложные дела. Тышка задержался в Париже.
«Что он там делает?» Этот вопрос не давал покоя Дзержинскому. Он знал примиренческое отношение Тышки к ликвидаторам и, не выдержав неизвестности, написал Барскому в Берлин: «Что нового привез Леон? Напиши несколько слов. Мое большевистское сердце в тревоге». В то смутное время, когда внутри РСДРП против большевиков выступало множество течений и групп, Дзержинский причислял себя к большевикам.
Он потребовал от Главного правления немедленно отозвать из Загранбюро ЦК РСДРП, где хозяйничали меньшевики, представителя социал-демократии Польши и Литвы (так хотел Ленин), а перед отъездом из Парижа взял у Владимира Ильича и переписал от руки его доклад «О положении дел в партии». Доклад не подлежал публикации, а Юзеф обязательно хотел иметь его у себя под рукой для руководства.
Дзержинский настаивал перед Главным правлением, чтобы «Червоны штандар» выступил против Троцкого и разоблачил его «внефракционность», под флагом которой тот поддерживал ликвидаторов в РСДРП и ППС-левицу.
Но Тышка, вернувшись из Парижа, повел дело на отход СДКПиЛ от большевиков. Дошло до того, что Главное правление, несмотря на приглашение, в январе 1912 года не направило своих делегатов на VI (Пражскую) Всероссийскую конференцию РСДРП, за созыв которой голосовали в Париже и Дзержинский, и сам же Тышка.
А между тем именно на этой конференции РСДРП были приняты решения о дальнейшем строительстве партии нового типа и о руководстве революционным подъемом в стране. Важнейшим делом конференции было очищение партии от оппортунистов, что укрепляло ее, повышало ее дисциплинированность и боеспособность, создавало подлинное партийное единство.
Нежелание лидеров латышской и польской социал-демократии принять участие в ее работе конференция расценила как стремление их в решительный момент отстраниться «от борьбы против разрушителей партии — ликвидаторов» и выразила надежду, что «вопреки всем препятствиям, рабочие с.-д. всех национальностей России будут дружно и рука об руку бороться за пролетарское дело и против всех врагов рабочего класса»[24].
Это было в то время, когда Дзержинский находился в Варшаве. Узнал он о поступке Главного правления, когда было уже поздно что-нибудь изменить, — в феврале, после своего возвращения в Краков. Оставалось только просить Главное правление: «Пришлите мне отчет о ленинской конференции».
Так переживания, связанные с «розламом», перемешивались с огорчениями, причиняемыми товарищами, которых он уважал и любил. Было от чего болеть его большевистскому сердцу.
Сейчас в тюрьме Дзержинский заново переживал все эти невзгоды. Он метался по камере — четыре шага от двери к окну, четыре обратно, пытаясь физической усталостью заглушить свое волнение и тоску.
— Ну что ты мечешься? Сядь, успокойся, — уговаривал его сокамерник Длугошовский.
— Не могу примириться с политикой Тышки по отношению к Ленину. Я ведь тоже, как член Главного правления, несу за нее ответственность, — с горечью отвечал Дзержинский. — И больше всего меня удручает, что, отсюда, из тюрьмы, никак не могу влиять на это!
3
Два письма Феликса, присланные нелегально, пришли в Краков почти одновременно. Первое — Зосе. Он писал о том, что 12 мая 1914 года Варшавский окружной суд за побег с поселения приговорил его к трём годам каторги. «Дело слушалось не более 20–30 минут вместе с совещанием судей и чтением приговора». Далее Феликс, как мог, старался успокоить жену, писал о своей любви к людям, о своей вере в лучшее будущее человечества и о том, что сознание выполненного долга делает его счастливым. Второе письмо было к Флориану — Стефану Братману, заменившему его в Кракове. Условный знак указывал, что письмо содержит тайнопись и двойной код.
Флориан поручил заняться расшифровкой письма Зосе и своей жене, члену СДКПиЛ, Марии Братман.
Две недели корпели Зося и Мария над этим письмом. Оно содержало соображения Феликса и установленные им факты провокации в партийных организациях СДКПиЛ в Королевстве Польском.
— Поражаюсь, какой сизифов труд, какая выдержка и изобретательность потребовались Юзефу, чтобы в тюремных условиях зашифровать письмо и переписать его химическим способом, — удивлялась Мария.
— Ты плохо его знаешь, — отвечала Зося, — если нужно для дела, он и не на такое способен. Его воля, энергия, трудоспособность просто неисчерпаемы. Я убедилась в этом еще здесь, в Кракове, когда помогала ему готовить материалы для «Червоного штандара» и вести переписку с партийными организациями в крае.
Три года — не так уж много. Если бы только три! Но Зося знала, что впереди у Феликса еще суд и еще приговор. Сколько дадут тогда? Как долго ей придется ждать? Счастье, что теперь с ней ее Ясик; спасибо тете Юлии — привезла, без него было бы труднее.
Уложив ребенка, Зося доставала и перечитывала письма Феликса из тюрьмы.
«…Тюрьма мучает и очень изнуряет, но это сейчас цена жизни, цена права на высшую радость, возможную теперь для людей свободных, и мука эта преходящая, она ничто, в то время как радость эта всегда жива, она высшая ценность».
А вот к Ясику:
«Дорогому сыночку Ясику Дзержинскому в Кракове в собственные ручки».
Зося взглянула на спящего сына и улыбнулась.
«Папа не может сам приехать к дорогому Ясику и поцеловать любимого сыночка и рассказать сказки, которые Ясик так любит. Поэтому папа пишет Ясику письмо с картинкой и в письме целует Ясика крепко-крепко и благодарит за письма. Пусть Ясик будет хорошим, здоровым и послушным и поцелует дорогую мамочку от Фелека и обнимет ее… и скажет, что Фелек здоров и вернется».
Зося взяла в руки исполненный Длутошовским силуэт Феликса. Зося верила, что Феликс сбежит с каторги и они с Ясиком увидят его даже раньше, чем она думает.
Выстрел в Сараеве[25] разбил ее надежды. Между ними надолго пролегла огненная линия фронта.
Феликса Эдмундовича в первые же дни войны перевели из X павильона в Мокотовскую каторжную тюрьму. Тут у него отобрали все личные вещи, надели арестантский халат и шапку, заковали в кандалы. Вскоре всех политических заключенных эвакуировали в глубь России.
Отправили внезапно. Никто из заключенных не успел получить от родных продукты на дорогу. Ехали впроголодь, но в вагоне царило бодрое настроение. То в одном, то в другом конце вагона раздавалось:
— Вы слышали, в Баку была всеобщая забастовка!
— У нас в Лодзи рабочие построили баррикады, как в девятьсот пятом!
— А что делается в Петербурге! Огромные митинги и демонстрации. Полиция стреляла в рабочих.
Надеялись, что, как и в 1905-м, война приведет к революции.
На станциях из окон арестантских вагонов неслись революционные песни:
Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут.По вагону бегал начальник конвоя.
— Прекратить пение!!! — исступленно кричал офицер.
Но мы поднимем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело…Еще громче взвивалась «Варшавянка» — любимая песня русского и польского революционного пролетариата.
— Не давать им жрать! Они у меня по-другому запоют! — распорядился начальник конвоя.
Заключенных лишили скудной тюремной пищи.
— Товарищи, не сдавайтесь! — призывал Дзержинский. — Это произвол и беззаконие!
Пение продолжалось и на следующих стоянках.
Вечером пожилой заключенный упал без сознания. Лицо пепельно-серое, дыхание еле заметно. «Голодный обморок», — сразу определил опытный глаз Феликса.
— Вызови, братец, начальника конвоя, — обратился Дэержинскиц к часовому, дежурившему в коридоре.
Солдат подошел к купе начальника, затем вернулся.
— Их благородие велели передать: «Пусть, — говорит, — все подыхают с голоду».
На третий день Дзержинский заявил, что если начальник не явится немедленно, то на первой же остановке он выбьет окно и расскажет людям, как обращаются с заключенными.
Угроза подействовала. Дверь отворилась, и на пороге в окружении солдат появился грузный, уже немолодой офицер конвойной стражи.
— Мы требуем выдачи положенной нам пищи!
— Че-е-го?! «Требуем»? — лицо офицера побагровело. — Нет вам никаких поблажек и не будет!
— Мы будем протестовать! — заявил Дзержинский.
— Попробуйте только, прикажу стрелять!
Феликс Эдмундович почувствовал, как вся кровь бросилась ему в голову, стало трудно дышать. Он рванул ворот рубахи:
— Стреляйте!
Их взгляды скрестились. Наступило гробовое молчание. Первым не выдержал начальник конвоя. Повернулся и ушел из вагона. Облегченно вздохнули и солдаты, и заключенные, сгрудившиеся вокруг высокой, натянутой как струна фигуры Юзефа.
Через час заключенным принесли хлеб, селедку и махорку.
На пятый день поезд с заключенными из Варшавы прибыл в Орел. Раздалась команда «Выходи!». Вокруг колонны встали конвойные солдаты с обнаженными шашками у плеча. Последняя поверка и… «Шагом марш!».
4
В Орловской губернской тюрьме, куда доставили узников из Варшавы, заключенные содержались в ужасных условиях. Даже такой «опытный арестант», как Феликс Эдмундович Дзержинский, прошедший сквозь многие тюрьмы Российской империи, и то не видел ничего подобного.
Камера была рассчитана на тридцать арестантов, а находилось в ней около семидесяти. Наутро выяснилось, что так переполнена вся тюрьма. Каторжане были еще в «привилегированном» положении. Пересыльные и военнообязанные арестанты сидели в таких же камерах человек по сто пятьдесят.
На следующий день повели в баню. Но удовольствие было испорчено. Заключенным выдали грязное, вшивое белье.
От скученности и грязи в тюрьме свирепствовали чахотка, брюшной и сыпной тиф. Заболевших переводили в так называемый лазарет, размещенный в бывшем женском отделении тюрьмы. Там их и оставляли на произвол единственного фельдшера.
. — Он к больным относится хуже, чем к собакам, — говорил заключенный, которому посчастливилось выйти живым из этого ада.
Таких счастливцев было не так уж много. Ежедневно тюрьма хоронила двоих-троих из обитателей лазарета.
Скверно было и с питанием. Пять раз в неделю пустые щи и два раза нечто вроде горохового супа. Мутная жижа, в которой плавали горошины. На второе одна-две ложки каши без масла. Хлеб — полтора фунта черного, с песком. Иногда заменяли белым, тогда выдавали только фунт. Долго выдержать на такой пище было нельзя.
Феликс Эдмундович с болью смотрел, как вокруг него вяло передвигаются или сидят без движения анемичные фигуры с бледными, зелеными или желтыми лицами.
Несмотря на голод и лишения, политических живо интересовал вопрос: «А что там, на воле?»
Позиции, занятые в связи с войной различными политическими партиями и их лидерами, быстро стали известны политзаключенным Орловской губернской тюрьмы. Когда в одной камере находятся 60–70 человек, сведения эти по крупицам просачиваются от вновь прибывших, от родственников, пришедших на свидание, из писем с воли. Для партийного руководителя с таким опытом и кругозором, каким был Феликс Эдмундовпч Дзержинский, нетрудно было из этих крупинок, а то и довольно солидных кусков попадавшей к нему информации составить, как из мозаики, достаточно полную и точную картину политической обстановки на воле. А информацию о положении на фронтах Феликс Эдмундович черпал из «Правительственного вестника», единственной газеты, разрешенной в тюрьме, которую ему выписал брат Станислав.
Германские социал-демократы, крупнейшая партия II Интернационала, проголосовали в парламенте за военные кредиты, только Карл Либкнехт мужественно голосовал против. Социалисты Англии, Франции, Бельгии не только голосовали за кредиты, но и вошли в состав буржуазных правительств. Свою измену антивоенным решениям Штутгартского (1907 г.) и Базельского (1912 г.) конгрессов II Интернационала все они прикрывали фальшивыми лозунгами «защиты демократии и свободы».
В России меньшевики и эсеры также стали оборонцами. Открытыми или скрытыми вроде Троцкого, выдвинувшего лозунг «Ни побед, ни поражений».
Только Ленин, большевики остались на классовых, пролетарских позициях. В написанных Лениным тезисах «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне», а затем в манифесте ЦК партии большевиков «Война и российская социал-демократия» говорилось, что война с обеих сторон является несправедливой, империалистической, захватнической, грабительской. Ленин выдвинул лозунг: превратить империалистическую войну в войну гражданскую. Он считал, что военное поражение царской монархии облегчило бы победу народа над царизмом и успешную борьбу рабочего класса за освобождение от капиталистического рабства. Манифест ЦК подчеркивал, что политику поражения «своего» правительства должны проводить не только русские революционеры, но и революционные партии всех воюющих государств.
В Германии против войны выступила группа «Интернационал», позднее принявшая название «Союз Спартака», во главе с Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург, Кларой Цеткин, Францем Мерингом, Вильгельмом Пиком.
Разумеется, Дзержинского, Лещинского и других польских социал-демократов особенно интересовало положение, сложившееся в их партии. Они узнали, что вскоре после начала войны находившиеся в Кракове Адольф Варский и старый знакомый Дзержинского еще по Верхоленску Генрик Валецкий, ныне один из руководителей ППС-левицы, составили декларацию против войны. К этой декларации присоединился лидер «розламовцев» Якуб Ганецкий. В декларации осуждалась руководимая Пилсудским часть ППС за сотрудничество с немецко-австрийским империализмом и политика национал-демократической партии за ее сотрудничество с империализмом русским. После издания декларации Варский вместе с одним из лидеров ППС-левицы, Верой Костшевой (Марией Кошутской), выехал в Домбровский угольный бассейн, оккупированный австрийцами. Они издавали там совместный орган СДКПиЛ и ППС-левицы «Глос работничи».
— Кажется, раскол в нашей социал-демократии идет к концу[26], и я очень этому рад, — говорил Лещинский.
— Я тоже. Тяжело было переживать разрыв со старыми товарищами, — отвечал Дзержинский. — Но ты слышал, что пишет «Глос работничи»? Как можно выступать против войны и вместе с тем проповедовать возможность «защиты отечества пролетариатом Англии и Франции»? Это же чистейший оппортунизм! Узнаю «левицевых», но удивляюсь, куда смотрит Адольф?! — возмущался Феликс Эдмундович.
Из Швейцарии через нейтральную Данию Зосе удалось наладить переписку с Феликсом. Письма шли долго, нерегулярно и не все доходили до адресата. Тем больше радости они доставляли им обоим, когда, преодолев долгий путь и рогатки военной цензуры, доносили тепло их сердец, давали возможность представить, чем живет любимый человек, каково его здоровье и душевное состояние.
В каждом письме Феликса Зося находила вопросы о положении дел в партии, волнение и заботу о товарищах.
«Когда Роза вернется с отдыха? — спрашивал Феликс. Пошли ей от меня самые сердечные приветы». Это о Розе Люксембург, сидевшей в тюрьме в Германии.
«Я слышал, что Юленька заболела скарлатиной. Прошло ли это без следа?» — А это о Юлиане Мархлевском, также попавшем в немецкую тюрьму.
«Что с семьей нашей, можешь ли ты поддерживать с ней постоянную связь?.. Как живет тетя Левицкая?» — Зося улыбается над изобретательностью Феликса. Ей-то понятно, что «семья» — это партия, а «тетя Левицкая» — ППС-левица; он интересуется наступившим сближением между СДКПиЛ и ППС-левицей. А вот жандармам, пожалуй, этого не понять. Напрасно они в поисках тайнописи мажут письма Феликса крест-накрест йодом и прожаривают над паром.
Между тем тюрьма жила своей жизнью.
В камере содержалось много молодых лодзинских ткачей. Дзержинский организовал из них два кружка самообразования и сам преподавал там математику и польскую литературу. Вспомнив свою юность, читал отрывки из Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и Марии Конопницкой. Тогда жизнь в камере замирала, и все ее обитатели, бросив свои дела, слушали его вдохновенную декламацию.
Это днем. С ведома и на глазах тюремного начальства. А вечером в уголке на нарах кружковцы вновь собирались вокруг своего учителя. Теперь Юзеф читал им лекции на политические темы и по естествознанию. Разумеется, с атеистическим уклоном.
— Смотри, Юлиан, какие прекрасные люди эти молодые рабочие, — говорил Феликс Эдмундович Лещинскому. — Какая тяга к знаниям. Едва держатся на ногах от голода, а с каким увлечением занимаются.
— Я думаю, что в этом есть «вина» и их руководителя. Разве ты не видишь, что они прямо-таки боготворят тебя. Взять хотя бы Млынарского. Он идет к тебе со всеми своими сомнениями и горестями, да и другие тоже, — отвечал Лещинский.
— Вероятно, это потому, что и я лучше всего себя чувствую среди рабочих, особенно среди рабочей молодежи.
Вскоре взаимное доверие и уважение, установившиеся у Дзержинского с большинством населения камеры, очень пригодились. В тюрьму из Орловского каторжного централа перевели надзирателя Козленкова, «прославившегося» своим зверским обращением с заключенными. К голоду, тесноте и грязи прибавились грубость и издевательства.
Однажды на утренней поверке Козленков объявил:
— При появлении начальника тюрьмы будете его приветствовать: «Здравия желаем, ваше благородие». Да смотрите, чтоб громко и весело!
— Мы не будем выполнять это требование, — ответил Дзержинский.
Спустя некоторое время явился начальник. В ответ на его приветствие — гробовое молчание. Начальник тюрьмы резко повернулся и вышел. В камеру ворвался Козленков с другими надзирателями. За «неподчинение начальству» вся камера переводилась на карцерное положение в сырое, неотапливаемое помещение, где не было даже тюфяков.
— Их благородие приказали лишить вас прогулок, а спать будете на голых нарах и на каменном полу, пока не научитесь вежливо встречать начальство, — объявил Козленков уже в дверях.
Чаша терпения политических переполнилась. Собрали собрание. Вопрос один: как защитить свои права. Председательствовал Дзержинский.
Млынарский смотрел на своего учителя и видел: один он оставался спокойным, собранным. По крайней мере внешне.
Предложения вносились и горячо отстаивались самые разные.
Предлагаю в знак протеста не вставать на поверку, — говорил меньшевик Медем, поправляя пенсне. Это было самое умеренное предложение.
Заключенные помоложе и побоевее предлагали шуметь, петь, бить стекла.
— А что, правильно. Протестовать так протестовать, — кричал Млынарский.
— А я считаю, что в нашем положении всего лучше голодовка, — сказал социал-демократ Фонферко.
Когда все наговорились до хрипоты, слово взял Юзеф.
— Товарищи! Мы должны бороться и в тюрьме. Царизм в этой войне рухнет. Победа будет за нами. Здесь, в тюремных казематах, мы объединим свои усилия с борьбой пролетариата. Но нужно выбрать самые разумные и самые действенные меры борьбы. Не вставать на поверку? Слабо! — Дзержинский даже пренебрежительно махнул рукой. — Шуметь, бить стекла, как предлагает товарищ Млынарский, неразумно. Использовав военное положение, начальник тюрьмы объявит это «бунтом» и устроит кровопролитие. Объявим голодовку. Но кто не готов ее выдержать, пусть уйдет.
Отказались присоединиться к голодовке и попросили взять их из камеры четверо заключенных. Остальные поддержали Юзефа.
Явился начальник тюрьмы. Сурово, исподлобья оглядел камеру. Сухо распорядился:
— Каторжника Дзержинского заковать в кандалы и поместить в башню.
— На каком основании? Дзержинский даже не входит в тройку по предъявлению наших требований, — обратился к начальнику Лещинский.
— Кончайте голодовку, а я отменю свое распоряжение.
— Товарищи! Не уступать ни на шаг. Пусть мои кандалы станут для вас стимулом к дальнейшей борьбе, — послышался звонкий голос Дзержинского, и все увидели, как он твердым шагом направился из камеры.
Заработал вовсю тюремный «телеграф». Камера за камерой присоединялась к голодовке. К вечеру третьего дня голодала уже вся тюрьма. К прежним требованиям прибавилось новое: «Расковать Дзержинского».
Наутро от голода и истощения умерло четверо заключенных. Губернские власти всполошились. В тюрьму примчался прокурор. Он признал требования заключенных законными. Голодовка прекратилась.
С ликованием встретили сокамерники возвратившегося Дзержинского.
Но администрация решила как можно скорее отделаться от беспокойного заключенного. Как только был снят карантин, наложенный на тюрьму в связи с тифом, и разрешены этапы, его сразу же перевели в Орловскую каторжную тюрьму, или, как ее называли, «централ».
«В Орловской каторжной тюрьме бьют за все. Бьют за то, что ты здоров, бьют за то, что больной, бьют за то, что ты русский, бьют за то, что еврей, бьют за то, что имеешь крест на шее, и бьют за то, что не имеешь его» — так еще год назад говорил с трибуны IV Государственной думы депутат-большевик Г. И. Петровский. Выступление Петровского было широко известно, особенно среди революционеров.
«Надо успокоить Зосю», — подумал Феликс Эдмундович и накануне своего переезда в Орловский централ, 20 апреля (3 мая) 1915 года, написал ей открытку. «Ничего ужасного. Говорят, что и там теперь не так плохо. Я иду туда совершенно спокойно, жаль только расставаться с товарищами… Физически и морально я чувствую себя хорошо, а последние сведения, если они верны, обещают и мне свободу».
Под «последними сведениями» Дзержинский имел в виду рост стачечного движения в Петрограде и других промышленных центрах России. Слухи об этом просачивались в тюрьму и жадно ловились заключенными.
В Орловском каторжном централе режим был строже, чем в губернской тюрьме. Дзержинского, как состоящего под следствием, водворили в одиночку, переписка с родными — одно письмо в месяц; прикупать продукты разрешалось изредка, и то лишь хлеб, сало, сахар; белье и одежда только тюремные.
Тяжелее всего для Феликса Эдмундовича было расстаться с фотографиями Ясика. Ему не разрешили оставить их в камере. Пришлось отправить брату.
Мрачный одиночный корпус давил на психику узников. Камера — сырая, полутемная коробка из кирпича и железа. Вместо койки откидной лежак из натянутой на железные трубы парусины.
Одиночка скоро начала делать свое дело. Расшатались нервы. Угнетала вынужденная бездеятельность. Днем все чаще наступала апатия. По ночам мучили сновидения, такие выразительные, что ему порой трудно было понять, где сон, где явь.
Убивал время чтением. С нетерпением ждал писем от жены и сына. Но они приходили редко, а иные и вовсе не доходили: администрация тюрьмы задерживала. Ожидание становилось невыносимым, начинала мучить тоска.
Наступил очередной срок писем. Феликс Эдмундович писал Софье Сигизмундовне: «И даже тогда, когда тоска как бы одолевает меня, все-таки в глубине души я сохраняю спокойствие, любовь к жизни и понимание ее, себя и других. Я люблю жизнь такой, какая она есть, в ее реальности, в ее вечном движении, в ее гармонии и в ее ужасных противоречиях… И песнь жизни живет в сердце моем… И мне кажется, что тот, кто слышит в своем сердце эту песнь, никогда, какие бы мучения ни переживал, не проклянет жизни своей, не заменит ее другой, спокойной, нормальной».
5
Срок каторги окончился 29 февраля (13 марта) 1916 года. Царская Фемида не собиралась выпускать Феликса Эдмундовича Дзержинского из своих цепких лап. Но закон есть закон. Срок кончился, и в тот же день, из Орловского каторжного централа его перевели снова в губернскую тюрьму, а затем в Москву для нового судебного разбирательства.
В Таганской тюрьме Дзержинского, как важного государственного преступника, водворили в одиночку.
«Кто ты?» — простучал в стену Дзержинский.
«Млынарский», — последовал неожиданный ответ.
Это, конечно, была чистая случайность, что камера № 248, где находился Дзержинский, оказалась рядом с камерой Млынарского, но случайность счастливая. Оба обрадовались.
Феликс Эдмундович обследовал болты, которыми сквозь стену крепились их койки. Болт у изголовья шатался. Поработали попеременно, и вокруг него получилась маленькая щель. Теперь после отбоя соседи могли свободно разговаривать, лежа каждый на своей койке.
На прогулке Феликс Эдмундович показал Млынарскому фотографии.
— Смотри, это мой сынок, герой, смена наша.
С фотографии на Млынарского смотрел большими глазами хорошенький мальчик лет пяти. Голова в длинных кудряшках, а взгляд не по годам внимателен и печален.
— Славный мальчуган! — ответил Млынарский, возвращая фотографию.
Глаза Феликса Эдмундовича затуманились печалью.
— Как царизм мучает и калечит судьбы людей, — сказал он, — сын у меня родился в тюрьме и растет без отца, а ты в свои 22 года уже более четырех лет мотаешься по тюрьмам.
Утром 4 мая 1916 года они неожиданно встретились в канцелярии тюрьмы. Там формировали сразу две партии для доставки в суд: лодзинскую, куда входил Млынарский, и варшавскую, где были Дзержинский и его однодельцы.
От тюрьмы до здания Московской судебной палаты, помещавшейся в Кремле, обе партии следовали общей колонной, пешим порядком.
День был ясный, весенний, идти было хорошо, и Феликс Эдмундович с удовольствием и огромным интересом разглядывал Москву, которую, в сущности-то, и не знал. Жить и работать в Москве не приходилось, бывал лишь проездом, во время побегов из Сибири.
Кривыми, узкими переулками вышли на набережную Москвы-реки. Перед взорами заключенных открылась величественная панорама Кремля. Бесчисленные позолоченные купола и двуглавые орлы на башнях ярко горели в лучах майского солнца, на высоком холме за зубчатыми стенами возвышался дворец.
— Гордись, быдло, что тебя будут судить в таком важном и красивом месте, — говорил Млынарский, толкая в бок товарища.
В здании Московской судебной палаты заключенных разделили. Дела лодзинцев и варшавян слушались в разных составах суда, на разных этажах этого огромного казенного здания.
Вместе с Дзержинским судились еще шесть человек: Иосиф Уншлихт, бывший редактор газеты «Свободная трибуна» Тадеуш Радванский и рабочие Комарницкий, Душак, Пшедецкая и Файнштейн. Впервые их свели всех вместе, и Феликс Эдмундович с интересом разглядывал своих однодельцев. И поражался, как жандармы, следователи и прокуроры ухитрились соединить их в одном деле.
Иосиф Станиславович Уншлихт в момент ареста был одним из руководителей «розламовцев», и никакой совместной работы они, разумеется, не вели. Теперь, после объединения, это, конечно, неважно, и Дзержинский рад пожать руку старому товарищу по партийной работе в Варшаве. Он рад встрече и с Марысей — Стефанией Пшедецкой. Эта модистка с Данилевичской улицы показала себя отличным организатором. Прекрасный товарищ, но до ареста тоже была «розламовкой». И уж совсем непонятно, почему арестовали и держат в тюрьме Радванского: газета-то была легальная! Остальных сопроцессников Феликс Эдмундович знает плохо или вовсе не знает.
Но у жандармов получилась внешне довольно стройная схема: во главе «заговорщиков» он — член Главного правления, ему помогают члены Варшавского комитета — Уншлихт, Пшедецкая и редактор Радванский, а дальше идут рядовые члены «преступного сообщества, именуемого социал-демократией Королевства Польского и Литвы».
Со своего места на скамье подсудимых, огороженной деревянным высоким решетчатым барьером, Феликс Эдмундович оглядел зал. Совсем близко увидел сестру Ядвигу. Она сидела во втором ряду и что-то нашептывала молодой женщине в костюме сестры милосердия. Пригляделся. Боже мой! Да ведь это ее дочь, тоже Ядвига.
Они обменялись улыбками. Сестра заплакала. «Чего она распустилась?» — Феликс нахмурился и погрозил ей пальцем.
Затем раздалось обычное: «Встать, суд идет!»
Начался процесс, или, как говорил его адвокат, «судоговорение». Процесс продолжался два дня. И наконец, приговор: Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому — шесть лет каторги с зачетом трех лет предварительного заключения. После отбытия срока водворить на вечное поселение в Сибирь, откуда он ранее сбежал.
Уншлихта, Душака и Пшедецкую — в Сибирь, на вечное поселение. Радванского, Комарницкого и Файнштейна считать оправданными.
Приговор подсудимые встретили спокойно. Только оправданные выглядели обескураженными, отказывались верить своим ушам! Еще бы! Просидели в тюрьме три года и вдруг оправданы!
Когда осужденных уводили, Дзержинский успел улыбкой попрощаться с сестрой и племянницей.
Итак, он снова политкаторжанин. Сидит пока в той же «Таганке» и в той же одиночке. И вновь в кандалах. Кандальный звон сопровождает каждый его шаг, каждое движение и очень раздражает.
В остальном все по-прежнему. Задушевные беседы с Млынарским. Его приговорили к ссылке, и Феликс Эдмундович делится с ним своим богатым опытом: как жить в Сибири и как оттуда бежать. Чтение. Письма. Письма Зоей и Ясика. Его радость и его боль.
На прогулках часто встречает Уншлихта. Уже июль на дворе, а тот все еще ждет этапа.
— Зося пишет, — рассказывал Уншлихту Дзержинский, — что в прошлом месяце немцы арестовали Барского в Варшаве и направили в Гавальберский концлагерь. Там же сидит и Юлиан Мархлевский. Условия ужасные. Голодают. А ты не знаешь, что с Лео?
— Тышка тоже сидит в немецкой тюрьме. Немецкий кайзер и русский царь, воюя между собой, проявляют удивительное единодушие по отношению к нам, польским социал-демократам, — ответил Уншлихт.
— Зато мы можем гордиться, что все члены Главного правления показали себя настоящими интернационалистами и по отношению к войне стоят на позициях большевиков, — заявил Дзержинский.
Они заговорили о росте влияния большевиков на фронте и в тылу.
В тюрьме все чаще и чаще приходилось встречать солдат. Как правило, были они большевиками, сидели за агитацию против войны.
— Я беседовал с одним таким. Он сам питерский рабочий и был сдан в солдаты за участие в распространении большевистских листовок на заводе. Так вот товарищ утверждает, что сдача революционных рабочих в солдаты приняла массовый характер по всей стране. Таким путем буржуазия старается избавиться от «неблагонадежных», — делился своими впечатлениями Уншлихт.
— Так это ведь просто замечательно! Через них большевистские идеи широко проникают в армию, — загорелся Дзержинский и начал горячо объяснять, почему он считает неизбежной близкую победу революции.
— Может быть, это произойдет скорее, чем тебя отправят в ссылку, — сказал Феликс Эдмундович.
— Твоими бы устами да мед пить, — уклончиво ответил Иосиф Станиславович.
Отправить в ссылку Уншлихта все-таки успели.
В начале августа Дзержинского перевели в Бутырскую пересыльную тюрьму. Туда к нему на свидание пришла Софья Викторовна Дзержинская, жена младшего из братьев Дзержинских — Владислава.
Вид у Феликса Эдмундовича плохой. Надрывно кашляет, хватаясь за грудь и морщась от боли.
— Феликс, почему ты прихрамываешь?
— А, пустяки, под кандальным кольцом образовалась рана, вот и беспокоит.
В комнате происходило свидание сразу у нескольких человек. Стоял сильный шум. Разговаривать было трудно, каждый старался перекричать соседа. Но был в этом шуме и свой плюс — надзиратель физически не мог вникать в разговоры заключенных со своими посетителями.
У Софьи Викторовны была старшая сестра Станислава. Она была замужем за братом Феликса — Игнатием.
— Ты еще не забыл, Феликс, наши Вылонги? — Спросила Софья Викторовна.
— Как же я могу забыть место, где нашли счастье мои братья.
Появление Софьи Викторовны разбудило много воспоминаний. Феликс Эдмундович говорил, как хорошо он себя чувствовал на хуторе у ее отца, старого железнодорожника Виктора Сила — Новицкого, и как старалась откормить его после тюрьмы заботливая хозяйка.
Глаза Феликса лихорадочно блестели. Софья Викторовна видела, что он совсем больной, и старалась скрыть свое беспокойство. Плеврит и загноение раны свалили Дзержинского. Его положили в тюремную больницу при Таганской тюрьме. Пробыл в больнице больше месяца. Подлечили немного и опять в Бутырки.
В больнице врачи вынесли заключение: «Нуждается в снятии с него ножных оков». Но у тюремной администрации было на этот счет свое мнение. В тюремной анкете Феликса Эдмундовича Дзержинского значилось: «Требует особо бдительного надзора», и кандалы с него стали снимать только в декабре 1916 года, да и лишь «на время работ в военно-обмундировочной мастерской».
Днем работа. Вначале подручным, затем на ножной швейной машине в тюремной мастерской. Вечерами споры с сокамерниками. Их было двенадцать. И ни один не верил в близкую победу революции.
— Да неужели вы не видите: голод в городах, волнения в деревне, неповиновение приказам и массовое дезертирство на фронте? Разве все это не создает непосредственную революционную ситуацию? — говорил Феликс Эдмундович.
— Вы знаете, Дзержинский, недавно мне передали с воли отрывок из поэмы одного футуриста. Я заучил его наизусть. Вот послушайте.
Анархист Новиков встал посреди камеры и продекламировал:
Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Где глаз людей обрывается куцый, главою голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год. А я у вас — его предтеча…— Ну, дальше уже неинтересно. Шестнадцатый год кончается, а где революция? Ошибся один «предтеча», и вы ошибаетесь.
— Кто этот поэт?
— Маяковский.
— К сожалению, не знаю такого поэта. Но человек он, безусловно, умный. Хотите пари: если в 1917 году не будет революция, я весь свой заработок отдаю вам, а что поставите вы? — спросил Дзержинский.
— Ставлю свою свободу. Если вы выиграете, считайте меня своим «рабом». Я полностью признаю ваше руководство и торжественно обязуюсь во всем вам подчиняться, — ответил Новиков с галантным поклоном.
Они ударили по рукам, взяв в свидетели всю камеру.
Не прошло и трех месяцев, как февральская революция освободила и спорщиков и свидетелей.
Часть вторая «ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС»
Глава X Герой Октября222
1
Уже с утра по городу распространился слух, что сегодня будут освобождать политических заключенных. К тюрьмам встретить политических спешили их родственники и знакомые, делегации московских предприятий и просто любопытные.
У Бутырок часам к трем скопилась порядочная толпа. Пришли рабочие авиационного завода «Дукс», табачной фабрики «Ява», кондитерской фабрики «Сиу», кинофабрики братьев Патэ, ближайшего трамвайного депо.
К воротам тюрьмы, непрерывно сигналя, медленно продвигался сквозь толпу грузовик с вооруженными солдатами и рабочими.
Командир в сопровождении нескольких бойцов, соскочивших с грузовика, прошел в тюрьму. Минут тридцать-сорок томительного ожидания, и из проходной показались первые заключенные. Толпа встретила их восторженными криками.
Последними покидали тюрьму каторжане. Какое-то время ушло на снятие кандалов.
В арестантской одежде, с полупустой котомкой за плечами, изможденный, но сияющий от счастья, шел Феликс Эдмундович Дзержинский. Рядом товарищ по заключению, коренастый латыш Ян Эрнестович Рудзутак.
Появление каторжан вызвало новый взрыв овации. Освобожденных несли на руках. Чьи-то руки подхватили и Дзержинского. В следующую минуту он оказался на грузовике. Рабочие, солдаты, студенты и освобожденные политзаключенные стояли в кузове, тесно прижавшись друг к другу. Хорошо, что он у борта. Все будет видеть, и не так душно.
— Куда мы едем? — спросил Феликс Эдмундович стоявшего рядом студента.
— На заседание Московского Совета рабочих депутатов!
Автомобиль медленно пробирался среди ликующей толпы. Проехали Малую Дмитровку, обогнули Страстной монастырь. и выехали на Тверскую. Чем ближе к центру, тем гуще становилась толпа. На Скобелевской площади митинг. Дзержинского и его товарищей в тюремной одежде шумно приветствуют.
И Феликс Эдмундович произносит короткую, взволнованную речь. Первую речь на свободе после долгих лет тюрьмы. Как много хочется сказать, но машина трогается и медленно пробирается дальше.
И вот уже здание Городской думы, где идет заседание Московского Совета, и Дзержинский, все еще в арестантской одежде, выступает перед депутатами московских фабрик и заводов.
Окончилось заседание. На улице Феликс Эдмундович неожиданно встретил Новикова.
— Вы куда?
— Я с вами, Феликс Эдмундович!
— Ну, нам не но пути. Я иду в Московский комитет большевиков, а вы анархист.
— Да, но вы выиграли пари. Теперь я ваш «раб» и обязан следовать за своим «господином». А если серьезно, то я хочу стать большевиком и прошу вашей помощи.
— Тогда пошли, — весело сказал Дзержинский.
В Московском комитете Новиков заявил о своем разочаровании в анархизме и желании вступить в партию большевиков. И после поручительства Дзержинского был принят.
Поздним вечером, едва держась на ногах от усталости, Феликс Эдмундович остановился в Кривом переулке у дома № 8 и постучал в дверь.
— Войдите, — раздался женский голос.
— Принимаете? — спросил Феликс Эдмундович.
В следующий момент он уже обнимал бросившихся к нему сестру и племянницу.
На следующий день Ядвига Эдмундовна принесла брату из Польского комитета помощи беженцам костюм и пальто.
— Теперь я чувствую себя по-настоящему свободным человеком, — говорил Дзержинский, сбрасывая арестантскую одежду.
2
В коридорах и аудиториях Петроградского женскою медицинского института толпились совсем необычные для его стен люди. Преобладали мужчины — старые и молодые. Грубые рабочие куртки перемежались солдатскими шинелями и штатскими пальто.
В вестибюле перед лекционным залом девушки-медички и курсантки-бестужевки регистрировали делегатов, прибывших на VII (Апрельскую) конференцию Российской социал-демократической рабочей партии большевиков.
— Вы, товарищ, от какой организации? — спросила девушка-регистратор.
— От Московской!
Не успел Дзержинский зарегистрироваться, как сразу оказался в объятиях старых товарищей. Тут были его однодельцы Иосиф Уншлихт и Софья Пшедецкая, успевшие вернуться из Сибири, соратник по подполью Эдвард Прухняк, Юлиан Лещинский — с ним вместе голодали в Орловской тюрьме — и многие другие.
— Ну, Юзеф, тебя не сразу узнаешь. Остригся наголо, без бороды, — говорил Прухняк.
— Должна сказать, что солдатская шинель, фуражка и сапоги тебе очень к лицу, — вмешалась Пшедецкая, — но откуда они у тебя? Насколько мне известно, ты никогда в армии не служил.
— Дело в том, — отвечал Дзержинский, — что Московский комитет ввел меня в комиссию по восстановлению большевистских организаций в армии и созданию Красной гвардии. Мне приходится часто выступать перед солдатами; вот товарищи и одели меня соответствующим образом.
Беседу прервал звонок, приглашающий делегатов в зал.
Феликс Эдмундович с напряженным вниманием вслушивался в доклад Ленина о текущем моменте. Владимир Ильич развивал идеи, заложенные в его Апрельских тезисах. Борьба за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, лозунг «Вся власть Советам!», прекращение империалистической войны… Все это подтверждает правильность его собственных мыслей и убеждений. Смущает только вопрос о «контроле» Советов за Временным правительством.
Владимир Ильич говорит, что позиция «контроля» вредна, она предполагает оставление власти в руках буржуазного Временного правительства и создает у масс ложное представление, будто Временное правительство, пусть под нажимом, но вое же может действовать в интересах революции.
Все это так, но позиции «контроля» до приезда Ленина придерживалось Русское бюро ЦК РСДРП(б), ее разделяли многие крупные партийные работники, да и областная конференция московских большевиков, делегатом которой он был, одобрив Апрельские тезисы, все-таки внесла пункт о желательности «контроля». И поскольку буржуазное правительство существует, почему бы Советам не держать под контролем его деятельность? И Дзержинский берет слово к «порядку дня».
— Вношу предложение: заслушать доклад, выражающий иную, чем у товарища Ленина, точку зрения на текущий момент.
— Как раз это мы и собираемся сейчас сделать, — ответил председательствующий и предоставил слово для содоклада Каменеву.
Каменев говорил о том, что страна еще ве созрела для социалистической революции, следовательно, правильной тактикой будет не разрыв с Временным правительством, а контроль над ним. Его поддержал Рыков. Он тоже говорил об отсутствии в России «объективных условий» для социалистической революции, о том, что «толчок к социалистической революции должен дать Запад».
— Теперь все ясно! — говорит взволнованно Дзержинский, наклонившись к Уншлихту. — Эти люди не верят в возможность социалистической революции в России. Они ждут ее с Запада, а пока согласны поддерживать буржуазное правительство, враждебное пролетариату. Вот в чем соль пресловутого вопроса «о контроле».
Вместе с другими делегатами Дзержинский голосует за предложенную Лениным резолюцию. Он полностью поддерживал Ленина и по другим вопросам.
Но вот наступил последний день работы конференции. Администрация медицинского института разобралась наконец, что за собрание устроили там его питомцы, и категорически отказалась терпеть там дальше «большевистские сборища». Пришлось делегатам перебраться во дворец Кшесинской, где помещались Центральный и Петербургский комитеты большевиков. Там не было достаточно просторного помещения для такого большого собрания. Зато в тесноте, да не в обиде.
По национальному вопросу докладывает Сталин. Основная мысль: социал-демократия признает за всеми нациями, входящими в состав бывшей Российской империи, право на самоопределение вплоть до отделения и образования независимого национального государства.
Феликс Эдмундович волнуется. Право наций на самоопределение — с 1903 года камень преткновения в отношениях между польскими социал-демократами и большевиками. И зачем это Владимир Ильич вынес на конференцию этот вопрос? Разве так важно решать его именно сейчас, когда надо бы заботиться прежде всего о единстве пролетариата?
Дзержинский берет слово:
— Стремление к отделению от России, сепаратизм — есть стремление борьбы с социализмом. В этом мы хорошо убедились на примере всех польских националистических партий. Если мы, признав право наций на самоопределение, поддержим лозунг «независимости Польши», то этим будем только играть на руку польским националистам и шовинистам!
В перерыве к Дзержинскому подошел Ленин. Владимир Ильич взял его под руку, мягко, по-товарищески стал доказывать несостоятельность его выступления.
Нельзя путать право с обязательным отделением. Отделиться или соединиться — должны решать сами угнетенные в прошлом народы России. Ведь свобода соединения предполагает и свободу отделения. Только так Россия сможет обеспечить себе доверие и поддержку других народов. Вокруг Ленина и Дзержинского столпились делегаты, и Владимир Ильич разъяснял теперь не только Феликсу. Польские социал-демократы выдвинули лозунг интернационалистов, братского союза с пролетариями всех остальных стран, и в этом: их историческая заслуга. Польским товарищам, чтобы спасти социализм, приходилось бороться против бешеного национализма. Но нельзя же предлагать большевикам стать шовинистами, потому что-де этим можно облегчить позицию социал-демократов Польши. Для усиления интернационализма надо в России налегать на свободу отделения угнетенных наций, а в Польше подчеркивать свободу соединения.
Резолюция по национальному вопросу, написанная Лениным, принимается абсолютным большинством голосов.
Дзержинский сидел, низко опустив голову. Исхудавшее лицо, обтянутое желтой кожей, покрылось красными пятнами. В ушах звучали слова резолюции: «За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства. Отрицание такого права и непринятие мер, гарантирующих его практическую осуществимость, равносильно поддержке политики захватов или аннексий». Несколькими строками ниже говорилось, что «отрицание права на свободное отделение ведет к прямому продолжению политики царизма[27].
Он, Дзержинский, отрицал такое право. Значит, это он «поддерживает захваты и аннексию», значит, он предлагает «продолжать политику царизма»?
Но эта резолюция принята представителями единственной в мире подлинно революционной партии и написана человеком, перед гением которого он преклоняется.
Было над чем серьезно подумать, отбросив в сторону личную обиду[28].
Сквозь тяжелые раздумья Дзержинский услышал, как кто-то громко произнес его фамилию. Шло выдвижение кандидатур в члены Центрального Комитета. Он чувствовал страшный упадок сил. Вот когда сказалась по-настоящему тюрьма, а после освобождения огромная перегрузка — эмоциональная и физическая, ежедневные выступления на митингах и участие в различных собраниях и конференциях. Снова открылся процесс в легких. Нет, сейчас он не в состоянии принимать на себя такую ответственную обязанность.
Дзержинский выступил с самоотводом:
— Прошу товарищей учесть, что я недавно вышел из тюрьмы, болен и не чувствую себя годным для той интенсивной работы, которая предстоит членам Центрального Комитета.
Вид Дзержинского был убедительнее его слов. Конференция удовлетворила его просьбу.
Состояние здоровья Дзержинского было настолько тяжелым, что даже в это трудное время, когда каждый боец был на счету, партия направила его в оренбургские степи в кумысолечебницу.
3
Дзержинский вновь приехал в Петроград на VI съезд РСДРП (б) в конце июля 1917 года.
Феликс Эдмундович шел с вокзала и не узнавал Петрограда. Куда девались шумные апрельские демонстрации и митинги. По притихшим улицам разъезжают казаки, поигрывая нагайками; сумрачны лица прохожих.
В газетах, наклеенных на афишных тумбах, прочел постановление Временного правительства об аресте и привлечении к суду В. И. Ленина «за государственную измену».
Еще в Москве Феликс Эдмундович узнал о расстреле Временным правительством 4 июля мирной демонстрации, проходившей под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!» Сейчас он расспрашивал руководителя «военки»[29] Николая Ильича Подвойского — с вокзала Дзержинский прошел прямо к нему — о подробностях этих событий и обстановке в Питере.
— Уже рано утром 5 июля юнкера разгромили нашу типографию «Труд» и редакцию «Правды». Владимир Ильич незадолго до налета заезжал в «Правду». Просто чудом они его не захватили! Разоружают рабочих и революционно настроенные полки, арестовали председателя Центробалта Павла Дыбенко и Антонова-Овсеенко, нашего представителя в Гельсингфорсе. Сидит в «Крестах», — рассказывал Николай Ильич своим характерным округлым говорком, сильно напирая на букву «о».
— Я знаю Антонова-Овсеенко по девятьсот пятому. Мы вместе работали тогда в Варшавской военно-революционной организации. Но, насколько мне помнится, последнее время он не был большевиком, — заметил Дзержинский.
— По возвращении из Парижа Антонов примкнул было к «межрайонцам». Но «Штык» — человек действия. Пока Троцкий торгуется и вырабатывает условия объединения, Антонов явился к нам в ЦК и попросил принять его в партию без всяких условий.
— Но что же с Ильичем? — нетерпеливо спрашивает Феликс Эдмундович.
— Свердлов успел увести его с Широкой, от Елизарова, на другую квартиру. И как раз вовремя. Налетевшие юнкера арестовали было Надежду Константиновну и Елизарова, но, впрочем, их вскоре отпустили. Сейчас Владимира Ильича в Петрограде уже нет. Кадетские и меньшевистско-эсеровские газеты травят Ильича, требуют его явки в суд, — продолжал Подвойский. — Вечером 7 июля состоялось узкое совещание членов ЦК по этому вопросу. Постановили: явку в суд Ильичу не разрешать. Сталин заявил: «Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге». И что вы думаете? На следующий день к нам в «военку» является солдат-вестовой из штаба округа и рассказывает, что командующий войсками генерал Половцев именно так и инструктировал командира отряда, созданного для поисков Ленина, — «расстрелять на месте».
— Ну нет, мы им Ленина не отдадим! — Феликс Эдмундович даже вскочил и заходил по комнате.
…На станции Разлив Дзержинского встретил токарь Сестрорецкого завода Саша Емельянов. Яков Михайлович Свердлов так точно описал его, что Феликс Эдмундович сразу узнал в этом высоком, тонком семнадцатилетнем рабочем своего провожатого. Обменялись паролем и отзывом — без этого Саша не повел бы незнакомого человека к Ленину. По пути Дзержинский пробовал заговаривать с Сашей, но тот отделывался короткими ответами. Он весь проникся важностью порученного ему дела и боялся, как бы не сболтнуть чего-нибудь лишнего.
Так, почти в полном молчании, прошли версты четыре-пять. Между деревьев показалось озеро, заросшее у берегов камышом, невдалеке обычный крестьянский дом.
Чтобы надежнее укрыть Ленина, отец Саши рабочий-большевик Николай Александрович Емельянов по поручению партии арендовал за озером Разлив сенокосный участок. Там, в шалаше, под видом финского косца и жил Владимир Ильич.
Все так же молча переплыли озеро. Саша указал Дзержинскому тропинку к шалашу, сам остался у лодки.
От костра поднялся и пошел навстречу коренастый мужчина в синей, выцветшей от солнца косоворотке. «Неужели это Ленин?» Смущал не столько гладко выбритый подбородок, как походка. Стремительную ленинскую походку Дзержинский не мог спутать ни с какой другой, а этот идет солидно, тяжело ступая на пятку.
— Здравствуйте, дорогой Феликс Эдмундович! — весело приветствовал его еще издали Владимир Ильич.
«Он, Ильич! Внешность изменил, даже походку, а голос-то, голос с мягкой картавинкой, его», — Дзержинский ускорил шаг.
— Пойдемте в мой «рабочий кабинет», — говорил Владимир Ильич, крепко пожимая руку Феликса Эдмундовича.
Они прошли на маленькую полянку, со всех сторон скрытую густым кустарником.
О местопребывании Ильича знал очень узкий круг лиц. В Разливе из членов ЦК у него изредка бывали только Свердлов, Орджоникидзе и Сталин.
Владимир Ильич забросал Дзержинского вопросами о том, что происходит в Петрограде, о настроениях рабочих, солдат. Внимательно, слегка склонив набок голову, слушал Ленин рассказ Дзержинского о его беседах с крестьянами и солдатами во время поездки на родину. Наконец, исчерпав свои вопросы, заговорил сам.
С огромным вниманием, стараясь не упустить ни одного слова, слушал Феликс Эдмундович Ленина. Ильич говорил о том, что двоевластие кончилось, вся полнота власти перешла в руки контрреволюционного Временного правительства, а меньшевики и эсеры, в руках которых пока находится руководство Советами, превратили их в придаток правительства. Данные Советы, руководимые меньшевиками и эсерами, пе могут взять власть. Власть контрреволюционной буржуазии может быть теперь свергнута только силой! Эту новую линию, линию на вооруженное восстание должен провозгласить VI съезд партии большевиков.
Слова вождя захватили и взволновали Дзержинского. Перед ним раскрывался крутой поворот в тактике большевиков. Если Ильич ставит в порядок дня вооруженное восстание, значит, и впрямь подошел срок пролетариату брать власть в свои руки. Приближался момент, достижению которого Дзержинский посвятил всю свою жизнь. Внешне он оставался сдержанным и спокойным, но разве можно было не волноваться!
А Ленин уже перешел к вопросам практическим. Его интересовало, могут ли большевики рассчитывать на поддержку польских и литовских социал-демократов?
— Вполне, — не задумываясь, твердо ответил Дзержинский. Мы рассматриваем себя как неотъемлемую часть большевистской партии и поступим так, как решит съезд.
— Спасибо. А теперь у меня к вам просьба, — сказал Ленин, — сегодня же передать Свердлову и Сталину, что я жду их завтра утром. Непременно. Мы должны обсудить доклады, которые они от имени ЦК представят съезду. Время не ждет.
Феликс Эдмундович распрощался с Лениным и пустился в обратный путь.
Дул сильный, порывистый ветер. Дзержинский стал переходить с кормы на нос, потерял равновесие и упал в воду. Вслед перевернулась и лодка. К счастью, было неглубоко. Когда они с Сашей, промокнув до нитки, вытащили лодку на берег, их встретил Николай Александрович Емельянов.
— Прошу ко мне в дом. Обсушитесь, обогрейтесь.
— Не могу, — ответил Феликс Эдмундович, выжимая одежду и выливая воду из сапог, — я очень спешу.
О происшествии Емельянов рассказал Ленину.
— Как же вы не удержали его, — встревожился Владимир Ильич. — Вы знаете, кто это так спешил выполнить мое поручение? Феликс Эдмундович Дзержинский — вернейший человек!
Несколько дней спустя начал свою работу VI съезд РСДРП(б).
Съезд проходил полулегально в Петрограде, на Выборгской стороне, под надежной охраной вооруженных рабочих-красногвардейцев. Ленина не было, но съезд избрал его своим почетным председателем.
По вопросу о явке Ленина на суд докладывает Орджоникидзе. «Мы ни в коем случае не должны выдавать товарища Ленина» — таков основной тезис и заключительное слово докладчика.
Первым берет слово Дзержинский.
— Я буду краток, — говорит он. — Товарищ, который выступал передо мной, выразил и мою точку зрения. Мы должны ясно и определенно сказать, что хорошо сделали те товарищи, которые посоветовали товарищу Ленину не арестовываться. Мы должны ясно ответить на травлю буржуазной прессы, которая хочет расстроить ряды рабочих. Травля против Ленина — это травля против нас, против партии, против революционной демократии. Мы должны разъяснить товарищам, что мы не доверяем Временному правительству и буржуазии, что мы не выдадим Ленина!
Бурными аплодисментами делегаты выражают свою солидарность с выступлениями Орджоникидзе, Дзержинского, Скрыпника и других товарищей, высказавшихся против явки Ленина на суд. Сторонники явки спешно снимают свои предложения.
Единогласно принимается резолюция: явку Ленина в суд не допускать, выразить решительный протест против буржуазно-полицейской травли пролетарских вождей, послать приветствие Владимиру Ильичу Ленину.
Ленина не было на съезде, но ленинскими идеями и мыслями были пронизаны организационный отчет ЦК, сделанный Свердловым, политический отчет ЦК и доклад «О политическом положении», с которыми выступил Сталин. Ко времени обсуждения доклада «О политическом положении» делегатам была роздана брошюра Ленина «К лозунгам».
Сокрушительное поражение потерпели на съезде Бухарин и Преображенский, отрицавшие возможность победы социалистической революции в России. Съезд нацелил партию на подготовку вооруженного восстания для взятия власти пролетариатом в союзе с беднейшим крестьянством и принял манифест «Ко всем трудящимся».
Съезд принял в партию «межрайонцев» во главе с Троцким, заявивших, что они согласны со всеми положениями большевизма.
Съезд избрал ЦК во главе с В. И. Лениным. В состав ЦК вместе с А. С. Бубновым, Я. А. Берзиным, А. М. Коллонтай, В. П. Милютиным, М. К. Мурановым, В. П. Ногиным, Я. М. Свердловым, Ф. А. Сергеевым, И. В. Сталиным, С. Г. Шаумяном, М. С. Урицким и другими был избран и Феликс Эдмундович Дзержинский. А затем Пленум ЦК избрал его в узкий состав ЦК[30] и в Секретариат.
4
29 сентября Ленин прислал письмо в ЦК, торопит с восстанием: «Кризис назрел. Все будущее русской революции поставлено на карту. Вся честь партии большевиков стоит под вопросом»[31]. Дзержинский полностью разделяет ленинскую оценку момента, делает все, чтобы ускорить подготовку восстания.
Каждый день заполнен до отказа. Работа в Секретариате ЦК, в большевистской фракции ЦИК, в ЦИК групп СДКПиЛ, выполнение различных поручений Центрального Комитета. Много сил вложено в ликвидацию корниловского мятежа.
Когда по тайному сговору с Керенским верховный главнокомандующий Корнилов 25 августа двинул с фронта на Петроград 3-й конный корпус, партия большевиков призвала рабочих и солдат встать на защиту революции. Положение осложнилось тем, что генерал Корнилов формально выступал против Временного правительства. Ленин выработал гибкую тактику: мобилизовать массы на разгром контрреволюционного мятежа, не прекращая разоблачения буржуазного Временного правительства.
По инициативе большевиков при Центральном Исполнительном Комитете Советов был создан Комитет народной борьбы с контрреволюцией. Дзержинский вошел туда от ЦК большевиков. На него легло проведение в жизнь решений и указаний ЦК по борьбе с мятежом. И он сумел вдохнуть в этот довольно пестрый по своему составу комитет свою энергию и волю.
Вместе с другими большевиками Дзержинский формирует и направляет навстречу корниловцам отряды рабочих, поднимает боевую готовность революционных частей Петроградского гарнизона, создает комитеты борьбы на периферии, рассылает людей. По ордерам, подписанным Дзержинским, из Петропавловской крепости и Новочеркасских казарм отгружается оружие на заводы и фабрики для красногвардейцев.
Продвижение корниловцев приостановлено 28 августа у станции Дно. У Луги завязли перед взорванными путями эшелоны туземной дивизии генерала Крымова. Порыв белого генерала выдохся. Мятеж подавлен.
А оружие осталось у рабочих, остались и комитеты борьбы с контрреволюцией, вырос престиж партии большевиков, единственной партии, готовой не на словах, а на деле защищать революцию и двигать ее дальше…
Дзержинский встал, подошел к узкому высокому окну Смольного. Лицо его посуровело. Феликс Эдмундович был не удовлетворен собой: работает много, а производительность, эффективность, если взглянуть с точки зрения задач, стоящих перед партией, низкая. В чем причина? Дзержинский видел ее в том, что согласился войти в Центральный Комитет партии — взялся за обязанности, превышающие его силы.
Если бы товарищи подслушали его мысли, они наверняка сказали бы: «Нет, Феликс, ты не прав. Просто живет в тебе неуемная жажда деятельности, вечно тебе кажется, что сделано еще мало. Потому-то ты и взваливаешь на свои плечи все новые и новые дела и обязанности?.
Но товарищи не могли услышать его мысли. И не могли ничего сказать. Феликс Эдмундович ответил на них сам. Он снова сел за стол и начал намечать, что надо сделать завтра, стараясь максимально уплотнить свой день.
А Ильич все торопил. Не успел ЦК рассмотреть его письмо от 29 сентября, как 1 октября он уже шлет новое. Ленин адресовал его ЦК, ПК, МК и членам Советов Питера и Москвы — большевикам. «Большевики не вправе ждать съезда Советов, они должны взять власть тотчас…
Медлить — преступление. Ждать съезда Советов — ребячья игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции.
Если нельзя взять власти без восстания, надо идти на восстание тотчас». И снова подчеркивает: «Ждать — преступление перед революцией»[32] *.
Центральный Комитет принял решение о переезде Владимира Ильича Ленина в Питер, чтобы «была возможной постоянная и тесная связь» с ним. 7 октября 1917 года Ленин нелегально прибыл в Петроград.
После его приезда подготовка вооруженного восстания сразу встала на практические рельсы.
Уже 10 октября состоялось заседание ЦК с докладом Ленина о текущем моменте.
С напряженным вниманием слушают члены Центрального Комитета доклад.
— Политически дело совершенно созрело для перехода власти… Политическая обстановка… готова. Надо говорить о технической стороне.
Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу[33], говорит Ильич.
Против восстания Каменев и Зиновьев. Сомневаются. Предлагают отложить вопрос до съезда Советов, который созовет Учредительное собрание. Вот тогда и решать вопрос о власти «демократическим путем».
Но их никто не поддерживает. Десятью голосами против двух принимается ленинская резолюция:
«…Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы…»
С явным удовлетворением Феликс Эдмундович голосует «за» и тут же выносит на обсуждение ЦК «практический вопрос»:
— Восстание потребует быстрого и гибкого разрешения многих вопросов. Мы не сможем всякий раз ожидать решения ЦК. Предлагаю выделить из состава ЦК более узкое бюро для политического руководства восстанием.
Предложение поддержали. После короткого обсуждения было создало Политическое бюро ЦК из 7 человек во главе с Лениным.
Собрание закончилось поздно ночью. По иронии судьбы решение о вооруженном восстании было принято на квартире меньшевика Н. Н. Суханова, ярого противника восстания. Сам Суханов был в отъезде, а его жена, Т. К. Суханова (Флаксерман), большевичка, по просьбе Свердлова предоставила квартиру для заседаний ЦК.
На улице лил мелкий, но сильный осенний дождь. Порывы ветра бросали в лицо брызги. Настоящий октябрь.
Дзержинский видел, как Ленин поднял воротник своего старенького, «подбитого ветром» демисезонного пальто. В следующую минуту Феликс Эдмундович уже сбросил свой плащ и накинул его на плечи Ленина.
— Позвольте, что вы делаете? Я же не ребенок, — протестовал Владимир Ильич, пытаясь снять плащ.
— Никаких отговорок! Извольте надеть, иначе я вас не выпущу.
Дзержинский подмигнул верному телохранителю Ленина Эйно Рахья — помоги, мол, что тот и сделал с превеликим удовольствием. Они одели Ильича. Не обращая внимания на его негодование.
Вернуть плащ Дзержинскому Эйно так и не успел — навалились дела поважнее[34].
5
В Центральном Комитете развернулась напряженная организаторская работа.
Рассылалась литература и указания. В качестве уполномоченных ЦК для подготовки восстания на местах поехали К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе, С. М. Киров, В. В. Куйбышев, М. В. Фрунзе, Е. М. Ярославский.
Подготовку восстания в Петрограде Владимир Ильич взял под свой личный контроль.
15 октября он вызвал к себе Дзержинского.
Феликс Эдмундович по дороге тщательно проверял, нет ли «хвоста», и появился на Сердобольской улице у квартиры Фофановой, только убедившись в отсутствии наблюдения.
В щель сквозь приоткрытую, оставшуюся на цепочке дверь показалось настороженное лицо неизменного Эйно Рахья. В прихожей Рахья, предварительно заперев снова дверь на все запоры, помог Дзержинскому снять шинель. Карманы Эйно оттопыривались от двух револьверов и гранат. Да, несладко пришлось бы непрошеным гостям от встречи с этим молчаливым финном. Рахья обладал еще и недюжинной силой.
Ильич был одет по-домашнему: без пиджака, в туфлях-шлепанцах и без парика. Таким он показался Дзержинскому еще проще, роднее.
Ленин начал расспрашивать его о том, что делается в Центральном Исполнительном Комитете Советов, какие сведения поступают туда с периферии. Затем разговор перешел на «военку». Дзержинский был тесно связан с этой организацией. По поручению ЦК он вместе со Свердловым улаживал конфликт, возникший у руководителей «военки» со Сталиным и Смилгой, осуществлял наблюдение за органом Военной организации — газетой «Солдат» — и особенно сблизился с руководителями «военки» в дни подавления корниловского мятежа. Сейчас, в преддверии вооруженного восстания, Владимира Ильича заботило действительное влияние «военки» в частях Петроградского гарнизона. Об этом он и расспрашивал Дзержинского.
— Большинство солдат Петроградского гарнизона готово поддержать вооруженное восстание рабочих, — отвечал тот.
Но Ленина не удовлетворяли общие оценки, он требовал конкретных и точных ответов: какие полки где дислоцируются, наличие и численность партийных организаций, кто руководит солдатскими комитетами.
— Нам нужен, — развивал свою мысль Ленин, — свой партийный центр, который бы руководил всей технической подготовкой к восстанию. Завтра мы обсудим этот вопрос на заседании ЦК. Этот центр должен состоять из наиболее энергичных, решительных и преданных идее вооруженного восстания людей. И вас туда включили. Да, да, обязательно. Надо использовать ваш опыт, приобретенный в комитете борьбы с корниловщиной.
Расширенное заседание ЦК, о котором говорил Ленин, собралось в помещении Лесновской районной думы, председателем которой был член ЦК, питерский рабочий Михаил Иванович Калинин. Кроме членов ЦК, сюда были приглашены члены Исполнительной комиссии Петроградского комитета, Военной организации при ЦК, Петроградского окружного комитета, большевики, работающие в профсоюзах, в фабрично-заводских комитетах и в организациях железнодорожников.
Первый и главный вопрос — доклад о заседании ЦК 10 октября.
Слово берет Владимир Ильич Ленин. Он читает резолюцию ЦК. Делает обзор политической обстановки.
— Из политического анализа классовой борьбы и в России и в Европе вытекает необходимость самой решительной, самой активной политики, которая может быть только вооруженным восстанием[35], — заканчивает свою речь Ленин.
С короткими сообщениями выступают представители от различных организаций.
Секретарь Петербургского комитета Глеб Иванович Бокий докладывает о положении в районах. Настроение боевое, но серьезной военной подготовки пока нет.
— В Военной организации нет единого мнения в оценке настроений солдатских масс… — говорит Крыленко.
— А вы, товарищ Абрам, как думаете? — подает реплику Владимир Ильич.
— По моим личным наблюдениям, настроение в полках поголовно наше.
«Так вот он какой, товарищ Абрам». Феликс Эдмундович смотрит на маленького, коренастого, большеголового прапорщика, слышит его уверенный резкпй голос и вспоминает, как в 1912 году собирался съездить к нему в Люблин, где товарищ Абрам занимался переправкой через границу партийной литературы. «Тогда вместе поработать не удалось, помешал арест, поработаем теперь».
Обрадовало выступление представителя окружной партийной организации С. Ф. Степанова:
— Рабочие Сестрорецка и Колпина вооружаются, готовятся к выступлению. В Луге тридцатитысячный гарнизон настроен большевистски.
От фабрично-заводских комитетов выступает Н. А. Скрыпник. Феликс Эдмундович напряг внимание: вместе глотали пыль по сибирским этапам, интересно, что скажет?
— Повсюду замечается тяга к практическим действиям, — говорит Скрыпник, — резолюции рабочих уже не удовлетворяют.
Выступают все новые ораторы. Двадцать один человек. Были среди них и скептики и сомневающиеся, но подавляющее большинство считало восстание назревшим.
Только Зиновьев и Каменев опять за свое. Они против. Большевики-де не имеют в Питере достаточно сил, уверенности в успехе восстания пока нет, аппарата восстания — тоже, масса на стороне правительства.
— Восстание — тактика заговора, — заключает Каменев.
Но Владимира Ильича решительно поддержали Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, Н. А. Скрыпник, М. И. Калинин, Э. А. Рахья.
Феликс Эдмундович среди тех, кто без оговорок и колебаний выступает за восстание.
— Противники восстания толкуют о заговоре, — говорит он, — а по-моему, заговорщичеством именно и является требование, чтобы к восстанию было все технически подготовлено. Когда будет восстание, тогда будут и технические силы.
Владимир Ильич читает свой проект резолюции:
— «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней в усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления»[36].
— Ставлю на голосование, — говорит Свердлов. — За — 19, против — 2, воздержавшихся — 4. Принимается абсолютным большинство».
Расширенное заседание закончилось, но члены ЦК остаются. Им предстоит создать Военно-революционный центр по руководству восстанием, о котором пока глухо сказано в принятой резолюции.
Военно-революционный центр утверждается в составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский.
ЦК решает, что этот партийный центр должен войти в состав Военно-революционного комитета при Петроградском Совете, стать его руководящим ядром.
— Вот вам, товарищ Каменев, аппарат восстания! — говорит Ленин.
В этот же день пленарное заседание Петроградского Совета громадным большинством голосов утвердило решение исполкома и солдатской секции о создании Военно-революционного комитета (ВРК).
ВРК избрал свой исполнительный орган — бюро. Председатель — левый эсер Лазимир, секретарь — большевик Антонов-Овсеенко, Подвойский — член бюро. Большевики обеспечили себе большинство и в ВРК, и в его бюро.
Спустя несколько дней Военно-революционный комитет направил своих комиссаров во все воинские части, важные учреждения и предприятия и объявил недействительными приказы и распоряжения, изданные без подписи комиссара ВРК.
Вето работу ВРК направлял Центральный Комитет большевистской партии через свой Военно-революционный центр.
Так в несколько дней партия завершила создание стройного, связанного с массами аппарата восстания.
Если кому-нибудь нужен Дзержинский, его находят теперь не в комнате № 18, а чаще всего на третьем этаже Смольного, в помещениях ВРК. Повседневное участие во всех текущих делах Военно-революционного комитета — его основная партийная работа.
6
Командующий Петроградским военным округом полковник Полковников не вошел, а ворвался в огромный кабинет председателя совета министров Керенского.
— Доигрались, Александр Федорович! — забасил Полковников, бросая на стол перед премьером газету «Новая жизнь» за 18 октября.
В это утро «Новая жизнь» шла нарасхват. Сенсация! Опубликовано интервью с Каменевым. От своего имени и от имени Зиновьева Каменев заявляет о несогласии с решением ЦК большевиков о вооруженном восстании.
— Все это не так трагично, господин полковник, — Керенский брезгливым жестом отодвинул газету. — Я уже говорил с Даном и Церетели, Черновым и Гоцем[37]. Нам обещана полная поддержка ЦИК. Сегодня ЦИК примет решение отсрочить открытие съезда Советов с 20 до 25 октября. Это спутает карты большевикам и даст возможность моему правительству взять инициативу в свои руки.
— ЦИК. Съезд. Инициатива. Да поймите же, господин председатель. Настало время действовать не словами, а оружием!
— А это уже по вашей части. — Керенский вышел из-за стола, заложил руку за борт френча — ну прямо Бонапарт — и торжественно произнес:
— Уполномачиваю вас, господин командующий, принять любые меры, кои вы найдете необходимыми, чтобы предотвратить выступления безответственных элементов и обеспечить революционный порядок в столице.
Вернувшись в свой кабинет, Полковников немедленно издал приказ. Самокатчики развезли его по полкам. А через пару часов комиссар Финляндского полка доставил этот приказ в Военно-революционный комитет.
Дзержинский, Подвойский, Мехоношин сгрудились вокруг стола. Антонов-Овсеенко прочел:
— «Весьма спешно. Секретно.
…В случае выступления анархических элементов населения столицы на войска Петроградского гарнизона возлагается задача: во-первых, в корне пресечь всякую попытку мятежа, во-вторых, не допустить занятия правительственных и общественных учреждений и, в-третьих, не допустить погрома и грабежей.
Ввиду того, что главнейшими объектами захвата являются: Зимний дворец, Смольный институт, Мариинский дворец, Таврический дворец, штаб округа, Государственный банк, экспедиция заготовления государственных бумаг, почто-телеграф и центральная телефонная станция, все усилия должны быть направлены на сохранение этих учреждений в наших руках. Для этого необходимо: заняв линию реки Невы, с одной стороны, и линию Обводною канала и Фонтанки — с другой, преградить мятежникам всякий доступ в центральную часть города…»
— Ишь чего захотели — отрезать нас от рабочих окраин, — проворчал Мехоношин.
— «…Для выполнения вышеизложенной задачи весь город разделяю на районы и поручаю их охране и ведению полков в лице их командиров и полковых комитетов», — продолжал читать Антонов-Овсеенко.
Далее командующий округом вменял в обязанность командирам полков: выставить заставы на мостах, решительно разгонять, «не стесняясь применением оружия», всякие попытки отдельных групп к образованию толпы, усилить караулы у важных правительственных и общественных учреждений, организовать наблюдение за своим районом и «иметь в своем резерве всегда учебную команду и роту в 250 человек при пяти офицерах с четырьмя пулеметами, коих без разрешения штаба округа никуда не высылать».
— Ого, да ведь это полное боевое расписание, — сказал Подвойский, когда Антонов закончил чтение.
— Вот вам и конкретный ответ контрреволюции на предательское разглашение секретного решения ЦК в непартийной полуменьшевистской газете, — заметил Дзержинский. — Однако давайте думать, как парализовать приказ Полковникова.
После короткого обсуждения в штаб округа направились восемь комиссаров. Во все основные отделы, а непосредственно к командующему — комиссар ВРК Мехоношин.
Экстренное общегарнизонное собрание, созванное в тот же день ВРК, единогласно проголосовало за полную поддержку Военно-революционного комитета и одобрило направление комиссаров в штаб округа. Однако Полковников комиссаров не принял.
ВРК настаивал, командующий два дня тянул переговоры, ссылаясь на необходимость утверждения комиссаров Временным правительством, а сам тем временем вызвал с фронта «надежные части». И тогда Военно-революционный комитет объявил о том, что штаб округа, порвав с организованным гарнизоном столицы, стал прямым орудием контрреволюционных сил. «Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным комитетом, не действительны… Революция в опасности! Да здравствует революционный гарнизон!»
Штрейкбрехерами революции назвал Ленин Каменева и Зиновьева в своем письме в ЦК.
«Я бы считал позором для себя, — писал Владимир Ильич, — если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии»[38].
Феликс Эдмундович пришел на заседание в приподнятом настроении. В ВРК получена телеграмма от Совета латышских стрелков: «40 тысяч наших штыков — в распоряжении Питерского Совета». На местах всюду организуются военно-революционные комитеты, признающие руководство петроградского ВРК. Социалистическая революция уже одерживает свои первые победы.-
— Я предлагаю потребовать от Каменева полного отстранения от политической деятельности, — заявил Дзержинский, когда дошла очередь до его выступления.
— А от Зиновьева? — спросил Свердлов.
— А он и без того скрывается и в партийной работе участия не принимает, — ответил Феликс Эдмундович под одобрительный смех присутствующих.
Центральный Комитет постановил принять заявление Каменева о выходе из ЦК, вменить в обязанность Каменеву и Зиновьеву не выступать ни с какими заявлениями против решений ЦК и намеченной им линии работы. Принято было также предложение, чтобы ни один член ЦК не выступал против решений ЦК.
Полным ходом идет работа. Создан штаб Красной гвардии, который разместился на первом этаже Смольного, рядом с большевистской фракцией ЦИК. Формируются и вооружаются новые отряды. Перешел на сторону большевиков гарнизон Петропавловской крепости — важного стратегического пункта столицы.
С огромным подъемом проходит 22 октября «День Петроградского Совета». Намеченный реакцией на этот же день крестный ход казаков сорван… Дзержинский в самой гуще этих событий.
В глубоком подполье Владимир Ильич Ленин. Каждый день вызывает он к себе своих ближайших соратников — то членов Политического бюро ЦК, то товарищей из партийного центра по руководству восстанием, то руководителей «военки» и Военно-революционного комитета. Советует, дает указания, настаивает, подталкивает, требует.
Приближается момент взрыва, который сметет капиталистический строй в России и потрясет весь мир.
7
По вызову часового к главному входу в Смольный вышли начальник караула и Дзержинский.
Шла первая ночь восстания.
В причудливом свете костров, среди кипевшего вокруг оживления Феликс Эдмундович увидел улыбающегося Эйно. Рядом с ним в порыжевшем пальтишке стоял пожилой рабочий.
Подвязанная платком щека, видно, зубы замучили, и надвинутая на глаза кепка скрывали лицо.
— Вот, товарищ начальник, — докладывал часовой, — хочет пройтить, а пропуска нет. Вот энтот, — солдат ткнул пальцем в Рахья, — говорить «Ленин», а мне сумнительно.
— Пропустите, я знаю этих товарищей, — распорядился Феликс Эдмундович. Он отвечал перед ЦК за безопасность штаба революции, и вся охрана Смольного была подчинена ему.
— Владимир Ильич, разве так можно! Борьба в разгаре, вас могли схватить юнкера, — говорил Дзержинский, провожая Ленина на третий этаж в комнаты Военно-революционного комитета.
— Мое место теперь здесь. Кончилась конспирация. — Ильич сорвал с головы платок и кепку, сунул в карман пальто, а пальто бросил на стул.
Его окружили товарищи.
Дзержинский вышел, вызвал командира красногвардейской дружины Путиловского завода М. Ф. Еремеева.
— Здесь Ленин, — сказал, указывая на дверь, — ваша дружина будет нести караул. Вы лично будете ответственны за жизнь вождя революции.
— Путиловцы не подведут, — ответил Еремеев.
В помещение ВРК уже спешили Свердлов, Сталин, Бубнов.
Дзержинский пошел на центральный пункт связи. Это его боевой пост. ВРК поручил ему связь с районами и частями столичного гарнизона. Здесь непрерывно бьется пульс восстания. То в хорошем, уверенном темпе, то с перебоями, лихорадочно. Сотни самокатчиков и пеших курьеров спешат в Смольный и из Смольного. Каждое новое донесение требует немедленного действия, быстрых решений.
ЦК решил, как того настойчиво требовал Ленин, начать восстание 24 октября; ликвидацию правительства и захват власти завершить, не дожидаясь открытия съезда Советов.
Но не дремали и враги революции. Командующий округом Полковников все еще надеялся, что быстрым, упреждающим ударом он сможет выполнить свой план: отрезать Смольный от рабочих районов и захватить штаб восстания, очистить полки гарнизона от комиссаров ВРК и большевиков, а затем разоружить Красную гвардию.
Ударной силой контрреволюции были офицерские училища. Полковников не сомневался, что хорошо вооруженные и вымуштрованные юнкера без особого труда разобьют красногвардейцев.
Ранним утром юнкерами захвачена редакция и типография газеты «Рабочий путь». Однако, когда команды юнкеров прибыли, чтобы развести мосты, те уже были под охраной сильных отрядов красногвардейцев и солдат. Только Николаевский мост был захвачен и разведен юнкерами, да и тот у них отбили моряки с подошедшего крейсера «Аврора».
К десяти часам утра команды, выделенные по приказу ВРК от Литовского полка и 6-го запасного саперного батальона, оттесняют юнкеров и берут под охрану типографию «Рабочего пути». В 11 часов газеты «Рабочий путь» и «Солдат» уже отпечатаны. Борьба за важные учреждения идет с переменным успехом.
Гасло и вновь загоралось в Смольном электричество. Дважды переходила из рук в руки телефонная станция. Только к вечеру удалось захватить вокзалы, отогнав правительственные караулы.
Утром 24-го на экстренном заседании между членами Центрального Комитета были распределены обязанности. Ко всем уже имеющимся Феликс Эдмундович получил еще одну: установить надежный контроль над почтой и телеграфом.
Дзержинский направил на Главный телеграф секретаря большевистской фракции II съезда Советов С. С. Пестковского и своего старого товарища по подпольной работе и тюрьмам Ю. М. Лещинского (Ленского). В кармане Пестковского лежал полученный от Дзержинского мандат о назначении его комиссаром ВРК Главного телеграфа.
Охрану телеграфа по наряду штаба Петроградского военного округа нес караул от Кексгольмского полка. По совету Дзержинского Пестковский и Лещинский прихватили с собой комиссара полка А. М. Любовича.
— Ребята, Полковников окончательно изменил революции. Никаких приказов штаба округа больше не выполнять. Вот товарищ Пестковский, он назначен Военно»- революционным комитетом комиссаром Главного телеграфа. Выполняйте только его приказания, — говорил Любович солдатам.
— Ясно, товарищ комиссар! — громко и весело ответил усатый унтер, начальник караула.
Так, без единого выстрела, правительственная охрана телеграфа превратилась в революционную.
Вскоре во все города и районы необъятной России телеграфные провода разнесли весть о начале вооруженного восстания в Петрограде.
Утром 25 октября ВРК передал через Главный телеграф написанное Лениным воззвание «К гражданам России». Страна узнала о свержении Временного правительства и переходе государственной власти в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета.
В комнату к Дзержинскому вошел Подвойский. Виду Николая Ивановича был донельзя расстроенный.
— Только что докладывал Ильичу о том, что все наиболее важные объекты нами захвачены и победа обеспечена, а он отчитал меня: «Почему не взят до сих пор Зимний?» Грозит предать партийному суду. Сейчас же отправляюсь туда и сам поведу на штурм красногвардейцев, — говорил Подвойский, застегивая шинель.
— Глупости говоришь, — ответил Дзержинский, — никто не требует от тебя геройской смерти. Ты должен отсюда, из Смольного, руководить всеми боевыми действиями, а не идти впереди одного отряда. Чтобы завершить блокаду и ускорить штурм Зимнего, пошлем на место Антонова-Овсеенко и Чудновского.
В 10 часов 45 минут вечера в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
А решающий штурм Зимнего все задерживался. То запаздывал десант моряков из Кронштадта, то вдруг артиллеристы из Петропавловской крепости заявили, что снаряды у них не подходят к пушкам.
Несколько раз матросы и красногвардейцы накатывались на узорчатые ворота Зимнего, несколько раз волна атакующих откатывалась обратно, встреченная пулеметным огнем. Наконец заговорили пушки Петропавловки, ударила «Аврора». Последний яростный штурм. Зимний взят. Министры арестованы. Керенского нет, сбежал еще утром.
Съезд Советов провозглашает переход всей власти в руки Советов. Меньшевики и правые эсеры в знак протеста покидают съезд.
Ленин появился на съезде 26-го, на втором заседании.
Все новые взрывы восторга не давали Ильичу начать свой первый[39] доклад о мире. Огромный актовый зал Смольного заполнен до отказа. Здесь не только делегаты. Вместе с ними рабочие-красногвардейцы, матросы, солдаты. В воздух летят шапки, бескозырки, солдатские фуражки и папахи, мелькают поднятые вверх винтовки. Сама революция бурно приветствует своего вождя.
Феликс Эдмундович Дзержинский в президиуме съезда. Его переполняет чувство огромной радости. Вот она, победа социалистической революции, победа дела, которому он посвятил свою жизнь, за которую заплатил одиннадцатью годами ссылки, тюрьмы, каторги!
В прениях по ленинскому докладу о мире выступил Дзержинский. Еще не улеглось волнение, мысли скачут, обгоняют друг друга:
— Польский пролетариат всегда вместе с русским. Декрет о мире с энтузиазмом принимает социал-демократия Польши и Литвы. Мы знаем, что единственная сила, которая может освободить мир, — это пролетариат, который борется за социализм; будет раздавлен капитализм, и будет уничтожен национальный гнет.
Аплодисменты позволяют немного собраться с мыслями.
— Товарищи! Те, от имени которых предложена эта декларация, идут в рядах пролетариата и беднейшего крестьянства; все те, кто покинул этот зал, те не друзья, а враги революции и пролетариата. У них отклика на это обращение вы не найдете, но вы найдете этот отклик в сердцах пролетариата всех стран. Вместе с такими союзниками мы достигнем мира!
Новые аплодисменты. Из зала до Дзержинского доносится возглас: «Да здравствует польский пролетариат!..»
С огромным подъемом прошел и закончился съезд. Победи о и мощно звучит «Интернационал». Гимн коммунистов стал гимном восставшего народа.
Съезд образовал первое рабоче-крестьянское Советское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным.
Феликс Эдмундович Дзержинский избран во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов. А ВЦИК избрал его в состав Президиума, членом которого Дзержинский оставался до конца жизни.
По окончании съезда Дзержинский и Свердлов проводили Владимира Ильича и Надежду Константиновну на квартиру к Бонч-Бруевичу.
Новый глава правительства великой страны не имел еще своего угла и ехал отдохнуть после трех бессонных ночей к старому товарищу по партии, будущему управляющему делами Совнаркома.
Глава XI Пролетарский якобинец
1
Дзержинский внимательно вчитывался в лежащую перед ним записку Ленина:
«Товарищу Дзержинскому
К сегодняшнему Вашему докладу о мерах борьбы с саботажниками и контрреволюционерами.
Нельзя ли двинуть подобный декрет:
О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками
Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс.
Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и т. п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей.
Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами…»[40] — далее следовал перечень конкретных мер.
Да, несомненно, Ильич ставит вопрос значительно шире вчерашнего постановления Совнаркома; речь должна идти не о борьбе с данной забастовкой чиновников, а об организации планомерной борьбы с контрреволюцией и саботажем вообще и в масштабах всей страны.
И вот Дзержинский уже на заседании Совнаркома.
— Наша революция в явной опасности! Силы противника организуются. Контрреволюционеры действуют не только в Петрограде, в самом сердце нашем, но и по всей стране, — говорит он.
А перед глазами стоят разгромленные винные склады и плавающие в вине трупы опившихся солдат. В карманах у них листовки с адресами складов и призывами к грабежу и погромам. Шайки бандитов, терроризирующих по ночам город. Наглые физиономии чиновников, получивших от своих бывших хозяев жалованье за полгода вперед, только бы не работали на Советскую власть. И поток телеграмм с Дона, Кавказа, Урала, Белоруссии… Все об одном: враг создает военные формирования, поднимает вооруженные мятежи против Советов.
И потому так гневно и страстно звучит его речь.
— Теперь борьба грудь с грудью, борьба не на жизнь, а на смерть!.. Наша комиссия вызвана к жизни чрезвычайными обстоятельствами, потому и предлагается отметить это в самом ее названии. Мы должны послать на этот фронт, самый опасный и самый жестокий, решительных, твердых, на все готовых для защиты завоеваний революции товарищей!
Доклад закончен. Дзержинский читает проект постановления. Споров не возникает. Проект утвержден.
В протокол заседания Совета Народных Комиссаров от 7 декабря 1917 года усталая рука секретаря внесла торопливую запись:
«Постановили:
9. Назвать комиссию Всероссийской Чрезвычайной комиссией при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее…
Задачи комиссии: 1) пресекать и ликвидир{овать} все контрревол{юционные} саботажн. попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили; 2) предание суду революционного трибун{ала} всех саботажников и контрреволюционеров и выработка' мер борьбы с ними; 3) комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения; 4) комиссия раздел{яется} на отделы: {1} информационный, {2} организационный отд{ел} (для организ{ации} борьбы с контр{еволюцией} по всей Рос{сии} и филиальных отд{елов}), {3} отдел борьбы.
Комиссия сконструирует{ся} окон{чательно} завтра. Пока действ{ует} ликвидационная} комис{сия} В. Р. Комитета.
Комис{сии} обрат{ить} в пер{вую} голову вним{ание} на печать, саботаж и т. д. правых с.-р., саботажн{иков} и стачечн{иков}.
Меры — конфискац{ия}, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т. д.».
— Теперь остается назначить председателя созданной нами Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Надо бы найти на этот пост хорошего пролетарского якобинца! — С этими словами Ленин посмотрел на Дзержинского. И все головы повернулись в его сторону.
Замечательно сказал Владимир Ильич — нужен якобинец. Как во времена Великой французской революции. Такой же страстный революционер, решительный и непримиримый к врагам народа. Только пролетарский.
И сейчас же было названо имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Назначение состоялось.
Был председатель ВЧК, но не было ни комиссии, ни ее аппарата. Из членов комиссии, утвержденных Совнаркомом на заседании 7 декабря, остались в ВЧК только Петерс, Ксенофонтов и Евсеев. Остальные в ближайшие же дни получили другие назначения. Нужда в кадрах была невероятно велика, и слишком мало было подходящих людей.
Дзержинскому пришлось туго. Все уже были куда-то назначены. Если старый подпольщик давал согласие на работу в ЧК, его приходилось «вырывать» через ЦК. Помогал Свердлов. Неожиданно пришлось столкнуться с трудностями совсем другого рода.
— Понимаешь, — рассказывал Дзержинский Свердлову, — предлагаю товарищу работать вЧК. Старый революционер, вместе в тюрьме сидели. И вдруг он мне заявляет: «Вы знаете, я готов умереть за революцию, но вынюхивать, выслеживать — извините, я на это не способен!» Я — способен, рабочие, подпольщики Петерс, Ксенофонтов, Евсеев способны, а этот интеллигент, видите ли, «не способен»! И не он один так заявляет.
— Рабочие своим классовым чутьем понимают, что защищать революцию — дело опасное и почетное. К сожалению, не до всех партийных интеллигентов это доходит, — отвечал Свердлов. — Но не будем обобщать. Вот увидите, Феликс Эдмундович, многие наши лучшие товарищи из партийной интеллигенции будут работать в ВЧК. Кстати сказать, я уже получил согласие и направляю к вам Моисея Соломоновича Урицкого. Он член ЦК и, как вы знаете, юрист.
С помощью ЦК комиссия была скомплектована. Основной ее костяк составляли большевики — активные участники Октябрьской революции, бывшие члены Петроградского военно-революционного комитета.
В поисках помещения для ВЧК Дзержинский пришел в дом, занимаемый ранее петроградским градоначальником. Дверь открыл благообразный бородатый швейцар.
— Могу я видеть товарища Ворошилова? — спросил Дзержинский.
— Так точно-с. Господин-товарищ Ворошилов в кабинете его превосходительства господина градоначальника.
Феликс Эдмундович с любопытством посмотрел на швейцара — этакий осколок империи, — но ничего не сказал и пошел вперед. Швейцар почтительно подсказывал дорогу.
Из-за письменного стола поднялся комиссар Петрограда Климент Ефремович Ворошилов. На эту должность он был назначен Советом Народных Комиссаров 22 ноября
1917 года по предложению Дзержинского, когда решался вопрос о мерах по поддержанию спокойствия и порядка в Петрограде.
— Здравствуйте, Феликс Эдмундович, рад вас видеть, — говорил Ворошилов, и его открытое лицо светилось радушной улыбкой.
— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Антимеков, — отвечал, улыбаясь, Дзержинский.
Ему очень нравился этот луганский слесарь своим открытым характером, чистосердечностью, неизменной жизнерадостностью и удалью, сквозившей во всем его облике и поведении.
— А, не забыли, значит, Антимекова, — уже весело хохотал Ворошилов.
— Вот что, уважаемый градоначальник, то бишь комиссар, — все еще в полушутливом тоне начал Феликс Эдмундович, — давайте работать вместе. Приспособим к нашим нуждам бывшую тюрьму градоначальства, организуем свою пролетарскую охрану.
— Согласен, Феликс Эдмундович, тем более что и помещение бывшего градоначальства наполовину пустует. Сюда не одну, а три ваших комиссии поместить можно, и еще место останется.
— Вот и отлично. А я поставлю вопрос перед ЦК о вводе вас в состав ВЧК. Тогда контакт в работе ВЧК и органов охраны порядка будет и организационно закреплен.
На следующий день в кармане у Ворошилова лежало подписанное Дзержинским удостоверение ВЧК.
Уходя от Ворошилова, Феликс Эдмундович разговорился со швейцаром. Григорий Кириллович Сорокин работал в градоначальстве много лет. На вопрос, почему же он не бросил работу вместе со всеми служащими градоначальства, Сорокин, поглаживая бороду, степенно ответил:
— Как же можно. Кабы я свой пост бросил, весь дом растащили бы. И вам, господа начальники, извиняюсь, сидеть было бы не на чем.
Такая. приверженность служебному долгу понравилась Феликсу Эдмундовичу.
— Григорий Кириллович, хотите работать со мной? Я председатель ВЧК Дзержинский.
Сорокин согласился. Ему тоже понравился Дзержинский. Старик распознал в нем хорошего, душевного человека. С этого момента Сорокин стал курьером председателя ВЧК.
Григорий Кириллович привел в ВЧК и троих своих дочерей. Маню и Ольгу определил курьерами, а шуструю Настю — телефонисткой.
Постоянное общение с Дзержинским сделало Сорокина глубоко преданным революции человеком. Единственно, чего не смог добиться Феликс Эдмундович, — это приучить курьера к обращению «товарищ». Ему Сорокин говорил «господин председатель», а к остальным чекистам, избегая слова «товарищ», обращался попросту «голубок», почему и к нему накрепко приклеилась кличка Голубок.
ВЧК начала свою работу с очень маленьким штатом, человек двадцать, не более. Председатель ВЧК и члены коллегии вынуждены были сами ходить на обыски и аресты, сами допрашивать арестованных. Впрочем, при таком маленьком штате невозможно было точно разграничить обязанности сотрудников. Первая девушка, пришедшая на работу в ВЧК, восемнадцатилетняя работница-большевичка Паша Путилова, была и секретарем, и делопроизводителем, а когда надо, выполняла роль следователя по спекулятивным делам и ездила на обыски.
Сопротивление разбитой в октябрьских боях буржуазии нарастало с каждым днем.
Дни и ночи работал Дзержинский. В любое время суток приходили к нему чекисты, возвращающиеся с операций.
Яков Христофорович Петерс, еще не остывший от возбуждения, докладывал:
— В кафе на углу Невского и Николаевской арестовано 50 офицеров, завербованных представителем генерала Каледина по кличке «Орел» для отправки на Дон, в белую армию.
Офицеров, бегущих из Петрограда на окраины к мятежным генералам Каледину, Корнилову, атаману Дутову группами и в одиночку, ВЧК задерживала ежедневно.
Пополнению белых армий офицерскими кадрами и военным снаряжением содействовали иностранные дипломатические миссии.
В «Известиях ЦИК» за 9 декабря 1917 года были опубликованы различные документы, изъятые при обыске у полковника Калпашникова. Документы уличали американского посла Фрэнсиса в попытке переправить из Петрограда в Ростов белому генералу Каледину 80 автомобилей.
Феликс Эдмундович внимательно прочел редакционное сообщение, предпосланное документам.
«Отдельные союзные офицеры, члены союзных военных миссий и посольств позволяют себе самым активным образом вмешиваться во внутреннюю жизнь России, разумеется, не на стороне народа, а на стороне контрреволюционных империалистических калединско-кадетских сил. Мы предостерегали этих господ не раз. Но настал, по-видимому, час последнего предупреждения».
Дзержинский понимал, что ВЧК еще не раз встретит иностранных дипломатов на своем пути, что, быть может, обстановка и логика борьбы заставят принимать и более решительные меры для пресечения их заговорщической деятельности. «Ну что ж, господа, по крайней мере, мы вас предупредили».
Феликс Эдмундович вызвал Путилову.
— Напишите, пожалуйста, письмо в штаб Красной гвардии. Сообщите о том, что в ВЧК организуется подотдел по борьбе с саботажем в банках, и попросите прислать для работы в этом подотделе 5—10 товарищей-красногвардейцев.
— Товарищ Дзержинский, можно, я напишу, чтобы ребят почестнее прислали? Банк все-таки.
— Правильно, товарищ Путилова! Берите карандаш и пишите: «5—10 товарищей-красногвардейцев, сознающих великую свою миссию революционеров, недоступных ни подкупу, ни развращающему влиянию золота», «Станет немного легче, обязательно пошлем Пашу учиться», — решил Дзержинский, глядя вслед уходящей девушке.
Кто мог знать, что спустя несколько месяцев чекисты найдут в Яковлевском женском монастыре зверски изуродованный труп Прасковьи Ивановны Путиловой. Отважная коммунистка погибла при выполнении задания ВЧК…
— Генерал Скугарь-Скварский оказал вооруженное сопротивление, — докладывал член коллегии ВЧК, слесарь-путиловец Ильин, — но мы взяли его целехоньким, как вы приказывали, Феликс Эдмундович. При обыске нашли важные документы.
Феликс Эдмундович взглянул на Ильина. Рука на перевязи, лицо бледное от потери крови.
— Спасибо, товарищ Ильин. А теперь немедленно в санчасть, и приказываю не выходить на работу до полного выздоровления.
— Это за что же такое наказание, товарищ Дзержинский?
— Наоборот, Иван Ильич, — мягко сказал Феликс Эдмундович. — «Возрождение России» была, теперь мы можем уже сказать смело «была», опасной контрреволюционной организацией, и вы должны гордиться своим успехом.
2
Все контрреволюционные силы стремились объединиться под лозунгом созыва Учредительного собрания. Главным организатором заговора выступала партия конституционных демократов (кадеты). Вместе с меньшевиками и правыми эсерами кадеты создали «Союз защиты Учредительного собрания». К моменту открытия Учредительного собрания заговорщики намеревались поднять вооруженный мятеж, арестовать Совет Народных Комиссаров и передать всю власть Учредительному собранию, большинство которого составляли депутаты от буржуазных и соглашательских партий, избранные в разных углах страны еще до Октябрьской революции.
Чтобы сорвать планы заговорщиков, Совет Народных Комиссаров 18 декабря 1917 года поручил ВЧК арестовать всех участников «Союза защиты Учредительного собрания». Поручение было незамедлительно выполнено. Однако народный комиссар юстиции, левый эсер Штейнберг, пользуясь тем, что тюрьмы были подчинены ему, в ту же ночь освободил арестованных.
Дзержинский обжаловал действия Штейнберга в Совнаркоме.
19 декабря Совнарком вынес постановление о том, что «какие бы то ни были изменения постановления комиссии Дзержинского, как и других комиссий, назначенных Советами, допустимы только путем обжалования этих постановлений в Совете Народных Комиссаров, а никоим образом не единоличным распоряжением комиссара юстиции».
Тогда ЦК партии левых эсеров решил направить для работы в ВЧК четырех человек во главе с Александровичем.
Александрович немедленно отправился в ВЧК, но вскоре вернулся и сообщил, что Дзержинский отказался их допустить к работе в комиссии.
— На каком основании? — спросил Штейнберг.
— Говорит, что Всероссийская Чрезвычайная Комиссия существует при Совнаркоме и что только Совнарком, а не партия, назначает ее членов.
— В таком случае мы пойдем в Совнарком и потребуем вашего участия в ВЧК, — заявила лидер левых эсеров Спиридонова.
Совет Народных Комиссаров согласился с введением в состав коллегии ВЧК представителей от партии левых эсеров, но только из числа членов ВЦИК и после утверждения их Совнаркомом.
Заместителем председателя ВЧК был назначен левый эсер Александрович. Семь левых эсеров вошли в состав коллегии ВЧК.
После такой «победы» в ЦК левых эсеров царило ликование. А в отдельной комнате, с глазу на глаз, Спиридонова наставляла Александровича:
— Мы возлагаем на вас большие надежды, Петр Алексеевич. Вы наши глаза и уши в ВЧК. А может быть, и руки; кто знает, как повернется дело. Будьте очень осторожны и не давайте повода Дзержинскому заподозрить вас в нелояльности…
Дзержинский пришел в ВЧК с заседания Совнаркома хмурый. Созвал членов коллегии.
— Принято решение ввести в состав коллегии ВЧК левых эсеров. ЦК нашей партии и Совнарком не могут не считаться с тем, что левые эсеры еще пользуются влиянием среди крестьянства и что большевики делят с ними государственную власть. Но не левые эсеры, а мы с вами, большевики, составляем большинство в ВЧК и основной ее костяк. И пусть никто не забывает, что мы по-прежнему ответственные перед ЦК за всю работу и за проведение в ВЧК линии большевистской партии.
Но хлопот с ними будет много, — добавил, помолчав, Дзержинский.
Так оказались в коллегии, а затем и в аппарате ВЧК левые эсеры.
3
Германская армия наступала. Остатки старой армии не смогли оказать серьезного сопротивления. Немцы начали наступление 18 февраля, прошло пять дней, а они уже захватили всю Латвию и Эстонию, значительную часть Украины, города Двинск, Минск, Полоцк, Псков. Реальная угроза нависла над Петроградом, колыбелью революции.
21 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров принял написанный Лениным декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». Всем Советам и революционным организациям вменялось в обязанность «защищать каждую позицию до последней капли крови». Декрет предусматривал конкретные меры для отпора врагу и установления железной дисциплины и порядка в тылу создававшейся Красной Армии. Пункт 8 декрета гласил: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления».
Дзержинский прочел декрет членам коллегии.
— Товарищи! Речь идет о коренном изменении прав и обязанностей ВЧК. До сих пор на нас возлагался только розыск и дознание. Вопрос о наказании преступников решался в народных судах и революционных трибуналах, куда мы передавали свои материалы. Теперь, поскольку именно ВЧК ведет борьбу с названными в декрете преступлениями, она наделяется теми карательными функциями, которые в нем предусмотрены. Беспощадно уничтожать врагов революции. И это должны делать мы.
Феликс Эдмундович посмотрел на суровые лица товарищей. Да, трудно сразу осмыслить такой крутой поворот. Но Дзержинский не сомневался — коммунисты-чекисты волю партии и Советского правительства выполнят.
— В Петрограде — мы. А по всей стране как? В большинстве губерний чрезвычайные комиссии еще не сорганизованы.
Это Петерс. Он ведал орготделом ВЧК.
— Обратимся к местным Советам. Это обращение подтолкнет дело создания наших органов на местах.
— Надо бы и к населению обратиться, объявить о новых правах ВЧК, — предложил Ксенофонтов.
Подготовить эти документы коллегия поручила Дзержинскому вместе с Петерсом и Ксенофонтовым.
За составление проекта объявления принялся Ксенофонтов. За текст обращения к Советам взялись Дзержинский и Петерс.
Спустя некоторое время Ксенофонтов читал свой проект:
— «Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Совете Народных Комиссаров доводит до сведения всех граждан, что до сих пор комиссия была великодушна в борьбе с врагами народа, но в данный момент, когда гидра контрреволюции наглеет с каждым днем, вдохновляемая предательским нападением германских контрреволюционеров, когда всемирная буржуазия пытается задушить авангард революционного интернационала — российский пролетариат, Всероссийская Чрезвычайная комиссия не видит других мер борьбы с контрреволюционерами, шпионами, спекулянтами, громилами, хулиганами, саботажниками и прочими паразитами, кроме беспощадного уничтожения на месте преступления...»
— Подожди, — прервал Петерс, — все правильно, но что-то ты здорово закрутил: «гидра», «паразиты». Так официальные документы не пишут.
— Пусть остается так. Иван Ксенофонтович написал по-своему, по-рабочему. А мы, Яков Христофорович, обращаемся главным образом к рабочим, — сказал Дзержинский. — Но нужно обязательно добавить, что мы действуем не самочинно, а «основываясь на постановлении Совета Народных Комиссаров».
— «…а потому объявляет, — продолжал чтение Ксенофонтов, — что все неприятельские агенты и шпионы, контрреволюционные агитаторы, спекулянты, организаторы восстаний и участники в подготовке восстания для свержения Советской власти — все бегающие на Дон для поступления в контрреволюционные войска калединской и корниловской банды, продавцы и скупщики оружия для отправки финляндской белой гвардии, калединско-корниловским… войскам для вооружения контрреволюционной буржуазии Петрограда будут беспощадно расстреливаться отрядами комиссии на месте преступления».
— Все?
— Теперь все, Феликс Эдмундович.
— Там, где вы говорите о лицах, бегущих для вступления в. белые армии Каледина и Корнилова, добавьте: «и польские контрреволюционные легионы». Соответственно следует добавить: «и довбор-мусницким войскам» — там, где речь идет о скупщиках и продавцах оружия, — предложил Дзержинский.
— Стоит ли? Всякой сволочи много, всех не перечислишь, — усомнился Петерс.
— Нет, нет. Обязательно добавить! Во-первых, польская контрреволюция не менее опасна, чем русская, а во-вторых, все знают, что председатель ВЧК поляк, и умалчивание о легионах генерала Довбор-Мусницкого будет бросать тень на меня, — настоял Дзержинский.
С этими поправками объявление ВЧК и появилось 23 февраля в «Известиях ЦИК».
Там же была опубликована и радиограмма ВЧК всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. ВЧК подробно информировала Советы о положении, создавшемся вследствие германского наступления, о раскрытых контрреволюционных заговорах и просила беспощадно расстреливать всех «уличенных в той или иной форме в участии в контрреволюционном заговоре». Давался более четко сформулированный и ограниченный перечень преступлений, влекущих за собой расстрел. «Хулиганы, саботажники и прочие паразиты» из перечня были исключены.
В конце обращения предлагалось «для постоянной беспощадной борьбы немедленно организовать в районах чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, если таковые еще не организованы».
В упорных боях под Псковом, Равелем (Таллин) и Нарвой первые отряды Красной Армии, петроградские в эстонские красногвардейцы, балтийские моряки и революционные части старой армии, в состав которых входили латышские стрелки, стойко отражали натиск вооруженных до зубов немецких войск. Но молодая Советская республика не могла бы выдержать длительной войны с германским империализмом. Ленин отчетливо понимал, что продолжение войны означает гибель Советской власти, и настойчиво добивался в ЦК немедленного заключения мира.
Против Ленина, за «революционную войну», выступали «левые коммунисты» Бухарин, Урицкий, Ломов, Бубнов. Троцкий гнул свою линию — «ни войны, ни мира». Это по его вине ЦК вынужден был обсуждать 23 февраля условия мира, гораздо более тяжкие, чем первоначально предъявленные Германией. Он, Троцкий, возглавлявший советскую делегацию на мирных переговорах в Бресте, нарушив прямую директиву Председателя Совнаркома Ленина, заявил немецким представителям, что Советское правительство отказывается подписать мирный договор, но войну прекращает и демобилизует свою армию. Этим и воспользовалось германское командование для своего нового наступления.
Твердость и непреклонность Ленина в конце концов победили. Семью голосами против четырех, при четырех воздержавшихся Центральный Комитет принял решение мир заключить. В ту же ночь ВЦИК и Совнарком также приняли новые условия мира.
Дзержинский на заседании ЦК был на стороне «левых коммунистов». Вернувшись поздно ночью в свой кабинет, он заново переживал все перипетии этого бурного заседания. Как председатель ВЧК, он прекрасно знал, что для продолжения войны нет ни необходимой военной силы, ни экономических ресурсов. Умом понимал, что Ильич прав, но рука не поднималась проголосовать за то, чтобы отдать немцам огромные территории, в том числе и родные ему Польшу и Литву. Правда, он не голосовал против Ленина. Воздержался. Объяснил это тем, что не желает голосовать против заключения мира, чтобы не содействовать расколу в партии.
А когда Бухарин, Ломов, Бубнов и Урицкий подали заявление об уходе со всех ответственных партийных и советских постов и Ленин обратился к ним с просьбой не бросать дела в Совнаркоме в такой трудный момент, он решительно поддержал Владимира Ильича, с негодованием призывая их не быть «саботажниками и не портить работы».
С горечью думал Феликс Эдмундович о том, что на какое-то, пусть непродолжительное время он позволил эмоциям восторжествовать над разумом, позволил увлечь себя пышными, но пустыми фразами о «революционной войне» и быстром наступлении германской революции. Да, он верил — революция в Германии будет, но прав, как всегда, Ленин: революцию невозможно приурочить к определенному сроку, и строить на этом политику нельзя.
Решение принято. Прочь колебания и сомнения! Как верный солдат партии, он будет активно бороться за линию ЦК.
Его размышления прервал Ксенофонтов.
— Феликс Эдмундович! Поймали этого бандюгу, что от имени ВЧК грабил буржуев в ресторанах. При обыске у него на квартире нашли, — говорил Ксенофонтов, вываливая из портфеля на стол драгоценности, бланки и штампы ВЦИК, ВЧК, Народного комиссариата иностранных дел и других советских учреждений.
— Кто этот мерзавец?
— Князь Эболи. Но действовал он под фамилиями Долматов, Нанди, Маковский…
Коллегия ВЧК единогласно постановила князя Эболи за грабеж и дискредитацию советских учреждений расстрелять. Дзержинский первым поставил свою подпись на этом первом приговоре ВЧК.
— Помните, товарищи, как мы мечтали о том, что пролетарская революция сможет обойтись без смертной казни, — говорил Дзержинский, — а теперь сама жизнь, неумолимая борьба классов сказала: нет, не может! Мы будем применять смертную казнь во имя счастья миллионов рабочих и крестьян.
4
Советское правительство переехало в Москву. IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов 15 марта 1918 года по докладу Владимира Ильича Ленина ратифицировал Брестский мирный договор. С содокладом против ратификации выступал левый эсер Камков.
Потерпев поражение на съезде, левые эсеры вышли из Совнаркома. Но они остались в Советах и во ВЦИК, превратившись в оппозиционную к правительству, но все же советскую партию.
Мирная передышка дала возможность стране сосредоточить свои усилия на решении задач советского и хозяйственного строительства, поставленных Лениным в его работе «Очередные задачи Советской власти». Ленинский план социалистического строительства, одобренный Центральным Комитетом и утвержденный ВЦИК, приходилось осуществлять в крайне тяжелой обстановке. К общей хозяйственной разрухе присоединился голод. Кулаки и спекулянты прятали хлеб, не желая продавать его по твердым ценам. Контрреволюция всех мастей, начиная от махровых монархистов до соглашателей, делала ставку на голод как на орудие свержения Советской власти. Борьба за хлеб становилась борьбой за социализм.
В поход за хлебом в деревню были двинуты рабочие отряды. Огромную помощь в изъятии излишков у кулаков и снабжении хлебом городов и Красной Армии оказали созданные в деревне комитеты бедноты. Была подорвана и экономическая мощь кулачества: 50 миллионов гектаров земли перешло из рук кулаков к беднякам и середнякам.
В защиту интересов кулачества выступили левые эсеры. Они ополчились против изъятия излишков хлеба, против комитетов бедноты, продолжали агитацию против Брестского мира.
Такова была обстановка, когда 4 июля открылся V Всероссийский съезд Советов.
Съезд одобрил внешнюю и внутреннюю политику Советского правительства и отверг резолюцию левых эсеров о разрыве Брестского договора с Германией. И тогда 6 июля левые эсеры подняли мятеж в Москве. К мятежу Центральный Комитет левых эсеров готовился заблаговременно.
— Мы не должны выступать против Советской власти, — говорила Спиридонова, на заседании ЦК левых эсеров 24 июня 1918 года. — Идея Советов слишком хорошо усвоена массами, и всякое восстание против Советов они не поддержат. Наоборот, мы должны выступать под лозунгом «Против большевиков, но за Советскую власть».
— На какие вооруженные силы мы можем рассчитывать? — поинтересовался Прошьян. — Как бы ВЧК не поставила нас к стенке.
— Основным ударным кулаком будет отряд ВЧК под командованием Попова. Кроме того, мы стягиваем в Москву наши боевые дружины из Тулы, Твери и других городов. Впрочем, об этом вам лучше доложит Александрович.
— На отряд Попова можно полностью положиться, — начал Александрович. — Большую часть коммунистов и сочувствующих им солдат мы постепенно отправили на фронт, а отряд пополнили нашими людьми и черноморскими морячками-анархистами. Попов установил контакт с Покровскими казармами и заверяет, что если не все, то часть расположенных там войск в момент восстания перейдет на нашу сторону. Сигналом к восстанию будет убийство германского посла Мирбаха. Оно будет совершено членом нашей партии чекистом Блюмкиным, и это внесет дезорганизацию в работу ВЧК.
— А латыши?
— Латышские части в лагерях, далеко за городом, а отряд Попова здесь, в центре, в Трехсвятительском переулке.
Ответы Александровича всех удовлетворили и вселили уверенность в успех.
— Восстание внешне должно выглядеть как самооборона нашей партии от репрессий со стороны большевиков. Большевики, безусловно, попробуют что-то предпринять против нас после убийства Мирбаха. Они нападают, мы обороняемся. Это тоже принесет нам симпатии масс и будет способствовать успеху, — заключила Спиридонова.
Вопрос о восстании был решен, тактический и стратегический план, предложенный ею, одобрен.
Вначале все разыгрывалось как по нотам. Блюмкин убил графа Мирбаха. Дзержинский приехал в отряд Попова, чтобы арестовать убийцу, и сам был арестован вместе с сопровождавшими его чекистами. Вслед за ним мятежники арестовали председателя Моссовета Смидовича, захватили здание ВЧК на Большой Лубянке, 11 и арестовали находившихся там в этот момент большевиков-чекистов. Сделать это было совсем нетрудно: охрану здания ВЧК нес отряд Попова. К счастью, из членов коллегии ВЧК мятежникам удалось захватить только Лациса, остальные находились в Большом театре, на съезде. Затем левые эсеры захватили Главный почтамт и разослали во все концы несколько сумбурных телеграмм с извещением о захвате власти. Дали несколько орудийных выстрелов по Кремлю, и Спиридонова отправилась на съезд предъявлять свои условия «деморализованным» большевикам.
А дальше у левых эсеров все пошло, как любил выражаться курьер ВЧК старик Сорокин, «на перекосы».
Узнав об аресте Дзержинского, Ленин предупредил мятежников, что, если хоть один волос упадет с его головы, они заплатят тысячью своих голов, и приказал Петерсу немедленно арестовать всю левоэсеровскую фракцию съезда вместе со Спиридоновой. В районах Москвы были мобилизованы все коммунисты, созданы рабочие отряды. Эсеровские боевые дружины и пикнуть не успели, как были разоружены. Не оправдались надежды мятежников и на Покровские казармы. Ни одна часть Московского гарнизона не присоединилась к мятежу.
Оказавшись без своей «богородицы» — так рабочие прозвали Спиридонову, — ЦК левых эсеров, заседавший в отряде Попова, погряз в бесконечных словопрениях: развивать ли наступление на Кремль и Большой театр или ограничиться самообороной.
Тем временем прибывшие из лагерей части Красной Армии заняли исходные позиции и начали стягивать кольцо вокруг района, занятого мятежниками.
Как только первые снаряды разорвались во дворе особняка, где помещался штаб отряда Попова, члены ЦК левых эсеров, переодевшись в штатское платье, бросились наутек.
— Подлые трусы и изменники убегают! — кричал им вслед Дзержинский, стоя у окна помещения, в котором содержались арестованные.
Вслед за «вождями» стала разбегаться и их «армия». Дружная атака латышей завершила дело. К полудню 7 июля мятеж был ликвидирован.
Вернулись в ВЧК Лацис и арестованные вместе с Дзержинским чекисты Беленький, Трепалов и Хрусталев. Сам он после освобождения направился прямо в Кремль.
Возвратившихся из плена чекистов окружили товарищи, начались расспросы.
— Нас разоружили силой, — рассказывал Беленький, поглаживая свои пышные усы. — Феликса Эдмундовича схватили за руки Прошьян и Саблин и объявили арестованным. Феликс Эдмундович пришел в ярость. «Отдайте мне ваш револьвер», — говорит Попову. Тот опешил. «Зачем?» — спрашивает. «Я вас расстреляю как изменника!» — заявляет Феликс Эдмундович, да так посмотрел, что Попов вылетел из комнаты как пробка.
— А я решил отоспаться как следует, делать-то все равно нечего, — басил бородатый великан Лацис, человек большого мужества и необыкновенного хладнокровия. — Только улегся, как в комнату входит Карелин, сообщает о том, что Спиридонова отправилась на съезд, и заявляет Дзержинскому: «Вы будете за нее заложником». И знаете, что ответил Феликс Эдмундович? — Лацис хитро прищурился и, потомив немного собеседников, продолжал: — «В таком случае вам надо заранее меня расстрелять, потому что, если Спиридонову арестуют, я первый потребую, чтобы ее ни в коем случае не освобождали», — вот что он ответил!
— А когда ее все-таки арестовали, вбегает Попов, пьяный, трясет маузером, кричит: «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, пол-театра!» Феликс Эдмундович даже разговаривать с ним не стал, повернулся спиной и так и стоял, пока тот бесновался, — добавил Трепалов.
В то время как чекисты восхищались мужеством своего председателя, Дзержинский прохаживался со Свердловым по приемной Председателя Совнаркома.
— Никогда, Яков, мне не было так тяжело, как сейчас. Так опростоволосился! Александрович не давал никакого повода сомневаться в его честности, а оказался хуже Азефа[41], — с горечью говорил Дзержинский. — Лучше бы они меня расстреляли. Жалею, что не расстреляли, это было бы полезно для революции.
Свердлов нежно обнял Дзержинского за плечи и сказал:
— Нет, дорогой Феликс, хорошо, очень хорошо, что они тебя не расстреляли. Ты еще немало поработаешь на пользу революции.
На заседании ЦК Феликс Эдмундович доложил известные ему факты по делу об убийстве Мирбаха и мятеже левых эсеров и обратился с просьбой об отставке.
— Пожалуй, товарищ Дзержинский прав, — сказал Ленин, — после того, как его заместитель и ряд других работников ВЧК оказались причастными к убийству Мирбаха и мятежу, ему неудобно оставаться председателем ВЧК. Мы должны освободить его от этого поста хотя бы на время следствия…
В ВЧК товарищи встретили появление Дзержинского восторженными возгласами. Каждый стремился крепко пожать ему руку, сказать что-нибудь приятное. Но лицо его оставалось суровым, губы были крепко сжаты, и не ответил он на приветствия товарищей своей милой улыбкой, от которой всегда становилось светло на душе.
Молча прошел в кабинет, пригласил членов коллегии.
— Товарищи, я подал в отставку и не буду больше вашим руководителем.
— Это невозможно! — перебил его Петерс. — Вы же не виноваты в том, что в ЧК оказались эсеры.
— Вопрос решен, — строго ответил Дзержинский, — и вы, Яков Христофорович, назначены исполняющим обязанности председателя ВЧК.
Наступило тягостное молчание. Никто не ожидал такого известия.
— А теперь, если позволите, мне хотелось бы сказать вам на прощание несколько слов, — продолжал Феликс Эдмундович. — Мы должны извлечь из эсеровского мятежа суровый урок. И дело не только в том, что все мы, и в первую очередь я сам, не были достаточно бдительны, вопрос гораздо серьезнее и глубже: нам следует хорошо усвоить, — голос Дзержинского зазвучал тверже, — ВЧК должна быть органом Центрального Комитета нашей партии, иначе она вредна и может выродиться в орган контрреволюции!
22 августа 1918 года Феликс Эдмундович Дзержинский вновь был назначен председателем ВЧК.
5
Дзержинский прибыл в Петроград 31 августа. По поручению Ленина ему предстояло лично расследовать все обстоятельства убийства народного комиссара внутренних дел Петроградской коммуны, председателя губернской Чрезвычайной комиссии Урицкого.
Вошел в дом № 6 на Дворцовой площади, где помещался Народный комиссариат внутренних дел Петроградской коммуны и Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Здесь, у входа в лифт, еще и суток не прошло, как от руки Леонида Канегисеера, сынка директора завода, бывшего юнкера и «народного социалиста», принял смерть старый товарищ Феликса Эдмундовича по Александровской пересыльной тюрьме и Военно-революционному комитету Моисей Соломонович Урицкий.
В кабинете Урицкого Дзержинского ждала телеграмма: «Вечером 30 августа при выходе с завода Михельсона Ленин опасно ранен. Стреляла член партии правых эсеров Каплан…»
Непроизвольно схватился за грудь: острая боль в сердце, потемнело в глазах. Потом отошло немного, и тогда до мельчайших подробностей вспомнился Ильич и его напутственные слова:
— Убили замечательного народного трибуна Володарского; прошел месяц всего — убивают Урицкого. Поезжайте, Феликс Эдмундович, и разберитесь, что делается в Питере. На белый террор мы должны ответить красным террором, и надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров. Иначе террористы будут считать нас тряпками! Я уже писал об этом Зиновьеву, но он или не понимает такой необходимости, или не может, а может быть, и не хочет прибегать к решительным мерам…
И снова больно сжалось сердце: «Не уберегли». Заставал себя собраться с мыслями, проанализировать, когда какой сигнал просмотрели, недооценили. Сигналы о намерениях контрреволюционеров захватить или даже убить Ленина поступали в ЧК не раз. Вот и Борис Савинков со своим «Союзом защиты родины и свободы» имел такие намерения, но грозный меч ВЧК всякий раз вовремя разбивал замыслы заговорщиков. Убийство Ленина стоит в планах специального представителя британского военного кабинета Брюса Локкарта. Вместе с французским послом Нулансом и некоторыми другими иностранными дипломатами он плетет нити крупного заговора, имеющего целью свержение Советской власти. Но действия Локкарта ВЧК держит под своим постоянным контролем. Локкарт даже не подозревает, что «завербованные» им командиры-латыши Ян Буйкис и Эдуард Берзин действуют по поручению ВЧК и огромные деньги, отпускаемые им на подкуп латышских стрелков, охраняющих Кремль, попадают в кабинет Дзержинского.
Новый удар пришел с другой стороны, его нанесли правые эсеры. А может быть, и здесь рука Локкарта? Разве можно поручиться, что все его замыслы уже раскрыты? В иных условиях надо бы еще понаблюдать за заговорщиками, но не теперь. Дзержинский отдает приказ в Петрографе и в Москве одновременно приступить к ликвидации заговора Локкарта, а сам с первым же поездом устремляется в Москву.
Поезд шел медленно, иногда останавливаясь неизвестно почему прямо посреди поля или леса. На станциях осатаневшая от долгого ожидания голодная толпа штурмовала переполненный до отказа состав. Все это проходило где-то мимо сознания Дзержинского.
Феликс Эдмундович думал об огненном кольце фронтов, сжимавших Советскую Россию, старался определить место правых социалистов-революционеров в лагере контрреволюции.
Иностранные интервенты на севере, юге и Дальнем Востоке высадили новые войска. При их военной и материально-технической помощи усилился натиск белых армий Колчака, Деникина и других белогвардейцев. На Волге продолжаются ожесточенные бои с чехословацким корпусом и войсками Комуча[42].
И повсюду интервентам и белогвардейцам помогают правые эсеры. Они входят в созданные в разных частях страны белогвардейские «правительства», прикрывая своим «социалистическим» флагом реставрацию буржуазно-помещичьих порядков, поднимают кулацкие мятежи в тылу Красной Армии, шпионят в пользу белогвардейцев. И вот теперь взяли па себя еще и роль убийц вождей рабочего класса.
Белый террор обрушился не только на руководящих партийных и государственных деятелей Советской республики. По всей стране контрреволюционеры убивают местных активистов, рядовых коммунистов, рабочих из продовольственных отрядов, крестьян из комитетов бедноты.
«Только бы ты выздоровел, Владимир Ильич. Будь уверен, террористы не будут считать нас тряпками. У Октябрьской революции есть свои «пролетарские якобинцы».
Дзержинский был еще в пути, когда появилось воззвание ВЦИК, подписанное Свердловым.
«Всем Советам рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем!» — кричали буквы обращения с газетных полос.
«На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции».
Весть о покушении на жизнь вождя потрясла страну. Бурным потоком хлынули в ЦК, ВЦИК, Совнарком резолюции митингов и собраний. Рабочие, крестьяне, красноармейцы слали свои приветствия товарищу Ленину, желали скорейшего выздоровления и требовали беспощадной расправы с контрреволюционерами.
2 сентября на своем заседании ВЦИК вновь подтвердил: «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов».
Воля масс, воплотившись в постановление высшего органа государственной власти (между съездами), приобрела силу закона. Но необходимо было определить, к кому и за какие преступления надлежало применять высшую меру наказания. Это сделал Совет Народных Комиссаров в своем постановлении от 5 сентября по докладу Дзержинского о деятельности ВЧК.
«Совет Народных Комиссаров… находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью, — говорилось в этом постановлении, — …что необходимо обезопасить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…» Далее указывалось, что имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры должны опубликовываться.
«Всех прикосновенных…»
Тяжелое бремя красного террора легло на плечи ВЧК и ее председателя.
Буржуазная печать подняла неистовую свистопляску. Самая чудовищная клевета распространялась о ВЧК. Истошными криками о красном терроре и «ужасах» ЧК интервенты стремились прикрыть свои преступления — расстрел 26 бакинских комиссаров, массовые убийства коммунистов, и пленных красноармейцев в Архангельске, зверства белых генералов.
Дзержинского изображали чудовищем, его имя упоминалось не иначе как с эпитетом «красныё палач».
А он в самые суровые дни, с трудом отрывая минуты от своего и без того короткого сна, писал в Швейцарию жене:
«…Обо мне ты, может быть, имеешь искаженные сведения из печати и, может быть, уже не стремишься так ко мне. Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие…
Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля — бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным…
Физически я устал, но держусь нервами, и чуждо мне уныние. Почти совсем не выхожу из моего кабинета — здесь работаю, тут же в углу за ширмой стоит моя кровать».
Сестре Альдоне: «…Я остался таким же, каким был, хотя для многих нет имени страшнее моего.
Любовь сегодня, как и раньше, она все для меня, я слышу и чувствую в душе ее песнь. Песнь эта зовет к борьбе, к несгибаемой воле, к неутомимой работе. И сегодня помимо идеи — помимо стремления к справедливости — ничто не определяет моих действий».
6
Был тот ранний предутренний час, который так любил Дзержинский. Утомившись за день, умолкали телефоны; ушли на короткий отдых оперативные сотрудники, а комиссары ВЧК еще не вернулись с ночных операций. Тихо. Можно наконец распрямить усталое тело, походить по кабинету, подумать. Можно написать письмо самому близкому другу и товарищу Зосе и маленькому Ясику, которых не видел уже восемь лет. Можно лечь на солдатскую кровать, что стоит тут же в кабинете, за ширмой, и помечтать перед сном.
Но сегодня Феликс Эдмундович лишает себя всего этого. Он взволнован. В ВЧК чрезвычайное происшествие. Один из чекистов ударил арестованного. Дзержинский сам провел расследование и доложил коллегии. Принято решение: на первый случай ограничиться «энергичным внушением», в будущем же предавать суду всякого, позволившего дотронуться до арестованного. Постановление объявлено всем сотрудникам. А как добиться того, чтобы каждый из них выполняя его не только по обязанности, какие найти слова? И вот на лист бумаги ложатся строки инструкции для производящих обыск и дознание.
Ровным (наклон вправо), твердым, разборчивым почерком Феликс Эдмундович пишет: «…Пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям арестуемым и обыскиваемым, пусть будет с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть».
Дзержинский вышел из кабинета, пошел по коридорам. Имел он такую привычку — пройтись посмотреть, что делается в его любимом детище — ВЧК.
Хмурый рассвет сочился в окна. Уже начали возвращаться с ночных операций комиссары. Одни, сдав вещи и документы, изъятые ври обысках, валились спать как подкошенные, другие еще обменивались впечатлениями последней ночи. Феликс Эдмундович вполголоса расспросил их о результатах, накрыл получше спящего на диване сотрудника, другому положил поудобнее руку, чтобы не падала со стола, на котором устроился спящий, сказал:
— Отдыхайте, товарищи, — и тихо вышел.
Феликс Эдмундович услышал голос, доносившийся из кабинета члена коллегии ВЧК Делафара.
Делафар был явление совершенно для ВЧК необычное. Француз по национальности, аристократ по происхождению, юрист по образованию, анархист (идейный) по партийной принадлежности и поэт по призванию, он пришел в ВЧК с твердым убеждением в необходимости уничтожать контрреволюционные элементы ради скорейшей победах мировой революции.
Дзержинский осторожно постучался и вошел. Делафар читал свои стихи. Против него в кресле сидел молодой человек.
Появление Дзержинского заставило Делафара прервать декламацию.
— Знакомьтесь, это Дзержинский, — представил Делафар Феликса Эдмундовича своему гостю.
— Равич Николай Александрович.
— Продолжайте, пожалуйста, — сказал Феликс Эдмундович, устраиваясь в углу дивана.
Делафар начал читать сначала.
Равич посматривал на Дзержинского. Тот слушал внимательно, подперев рукой голову. Лишь когда Делафар, увлекшись, начал отбивать такт кулаком по столу, Дзержинский, мягко улыбаясь, встал и переставил стоявшие на нем кружки на окно.
Делафар покосился на кружки, уплывшие из-под рук, его лицо с правильными чертами покрылось румянцем смущения, но он продолжал декламировать.
— Ну как? — спросил Делафар, закончив последнюю строфу.
Вопрос относился к обоим, но смотрел он своими голубыми горящими глазами на Дзержинского, его приговора ждал.
Поэму юноша посвятил мировой революции. Победа ее изображалась скорой и довольной легкой.
Стихи были так себе, рыхловаты. Чувствовалось влияние модных в то время декадентов, но обижать молодого пылкого автора не хотелось, и поэтому Феликс Эдмундович начал издалека.
Как вспоминал потом Равич, Дзержинский сказал:
— Революционер должен мечтать, но конкретно, о вещах, которые из мечты превращаются в действительность. Все мы мечтали, что пролетариат захватит власть. Эта мечта осуществилась. И все мы мечтаем о том, что, победив своих классовых врагов, создадим могучее социалистическое государство, которое откроет человечеству путь к коммунизму. Вот над осуществлением этой грандиозной задачи придется работать и нам, и, вероятно, нашим детям. А стихи… По-моему, неплохие. — И, заметив, что Делафар, видимо, не удовлетворен ответом, добавил: — Они подкупают искренностью, но наивны немного…
Вошел член коллегии ВЧК Фомин, пожилой рабочий с моржовыми усами. Тяжело опустился в кресло напротив Равича.
— Почему вы не спите, Василий Васильевич? — обратился к нему Дзержинский.
— Уснешь тут с этим кудлатым, — ворчливо отвечал Фомин, потирая свою круглую, как шар, бритую наголо голову, — каждую ночь стихи читает.
В дверь просунулась голова в матросской фуражке, на широкой ленте, опоясывавшей околыш, золотыми буквами сияла надпись: «Стерегущий».
— А мне можно послушать?
В комнате появился Илюша Фридман в ладно пригнанном бушлате и широченных клешах. Было ему всего двадцать два года от роду, но выглядел Илюша еще более юным. Борода и усы, к его неудовольствию, росли плохо, а живые, озорные глаза и припухлые губы придавали лицу полудетское выражение. Все это, впрочем, ничуть не мешало молодому комиссару ВЧК показывать незаурядное мужество и даже особую, «морскую» удаль на операциях. За это да за веселый нрав товарищи прощали ему и морскую форму, и склонность приукрасить немного свои заслуги.
— Новые читал? Понравились? — тихо спрашивал у Делафара Илья.
— Стихи дрянь. Не понравились, — грустно ответил автор.
Вслед за Фридманом пришли еще несколько чекистов, прослышав, что у Делафара можно послушать Дзержинского.
Разговор перешел на общие темы.
Делафар говорил о Великой французской революции, восторгался якобинцами. Феликс Эдмундович, сам в молодости основательно изучивший ее историю, мягко, чтобы не обидеть пылкого юношу, вносил свои поправки к его оценкам Марата, Робеспьера и других революционеров той эпохи.
От французской буржуазной революции перешли к своей, социалистической. Незаметно Феликс Эдмундович перевел беседу на тему о том, каким должен быть чекист. Произвол, допущенный одним из сотрудников, все еще не выходил у него из головы.
— Чекист должен быть честнее и чище любого. Он должен быть, как кристалл, прозрачным, — говорил Дзержинский внимательно слушавшим его товарищам. —
Я бы сущность чекиста выразил формулой из трех Ч: честность, чуткость, чистоплотность. Душевная, конечно.
— Феликс Эдмундович, честность — это, конечно, ясно, но какая разница, чуткий я или нечуткий, лишь бы бил контру без пощады.
Дзержинский взглянул на Фомина. В глазах у того хитринка. И не поймешь сразу, для себя он задал вопрос или для набившейся в комнату молодежи.
— Не знаю, Василий Васильевич, как бы это получше объяснить. Нечуткий, черствый человек — это своего рода заржавленный инструмент. Он не сможет правильно определить, кто враг, а кто просто заблудившийся человек. Будет рубить сплеча, не разбираясь, и этим только пятнать наше имя и вредить революции. Нет, кто стал черствым, не годится больше для работы в ЧК…
— А теперь спать, — тоном приказа сказал Дзержинский. — Всем надо отдохнуть хотя бы пару часов. — И первым направился к выходу.
Прошло несколько месяцев. Пришло сообщение из Одессы. Французская контрразведка выследила Делафара. Он отстреливался до последнего патрона, взяли раненого. Французский военный суд приговорил его к смертной казни. Расстреливали в море, на барже. Делафар отказался от повязки и умер с возгласом: «Да здравствует мировая революция!»
Дзержинский собрал всех свободных от оперативных заданий сотрудников, прочел телеграмму.
— К длинному списку наших товарищей, погибших от руки классового врага, прибавилась еще одна жертва. Делафар умер как настоящий коммунист. ВЧК гордится своими героями и мучениками, погибшими в борьбе.
Дзержинский умолк, оглядел ряды кожаных курток, солдатских гимнастерок и матросских бушлатов. В суровом молчании стояли чекисты, готовые и свою жизнь, не колеблясь, отдать за революцию.
7
С сентября 1918 года Софья Сигизмундовна работала в открывшейся в Швейцарии советской дипломатической миссии. Там же первым секретарем работал Стефан Братман. Стала сотрудницей в советском Красном Кресте и его жена Мария Братман. С семьей Братманов Софью Сигизмундовну связывали совместная работа в партии и долгие совместные мытарства в эмиграции. Они я теперь поселились вместе, сняв две меблированные комнаты в маленьком пансионате. Наконец-то они почувствовали твердую почву под ногами и смогли взять к себе в Берн из детского дома Унтер-Эгери Ясика и сына Братманов — Янека.
Однажды, когда Софья Сигизмундовна и Братманы сидели за вечерним чаем, ей послышалась мелодия из оперы Гуно «Фауст». Это был их старый условный сигнал, которым Зося и Фелек извещали друг друга о приходе еще в Кракове. Она подумала, уж не слуховая ли галлюцинация ее преследует. Насторожилась и вновь уже явственно услышала, как за окном кто-то насвистывает условные несколько тактов.
— Феликс! Это Феликс! — крикнула Зося и бросилась в прихожую открывать дверь. Стефан и Мария удивленно переглянулись, не понимая, в чем дело.
В следующую минуту Софья Сигизмундовна, плача от счастья, ввела в комнату пожилого мужчину. Он был страшно худ и наголо брит. Братманы едва узнали Юзефа. Не было ни пышных волос на голове, ни усов, ни знакомой «козлиной» бородки.
Появление Дзержинского в Берне было для Братманов полной неожиданностью. После минутного замешательства они горячо обнялись и расцеловались.
— Как ты мог здесь очутиться?
Феликс Эдмундович приложил палец к губам и тихо произнес:
— Перед вами Феликс Доманский. А прибыл вполне законным путем, у меня здесь дела в советской миссии.
Братманы вскоре удалились в свою комнату. Феликс Эдмундович долго всматривался в спящего Ясика, и Софья Сигизмундовна видела, как он взволнован и растроган.
Утром Ясик с громким плачем спрятался от Дзержинского.
— Ясик, дорогой мой, подойди же, обними своего папу! — звала Софья Сигизмундовна.
— Это не мой папа, мой папа Дерлинский, — твердил Ясик.
Мальчик знал отца только по фотографиям, и поэтому с трудом удалось уговорить его подойти к бритому дяде, так непохожему на сложившийся в детской голове образ. Но уже очень скоро отец и сын подняли шумную возню, и их радостный смех наполнил тихий пансион. Дзержинский сумел удивительно быстро найти кратчайший путь к сердцу ребенка. Ясик признал отца. А когда Феликс Эдмундович вручил сыну привезенный из Берлина металлический конструктор «Мекано», тут уже радости Ясака не было предела. Еще бы, это была первая дорогая игрушка в его жизни, да к тому же подаренная отцом.
Всей семьей они уехали из сырого, сумрачного Берна в Лугано, славившийся здоровым климатом и чудесными видами. Там, сидя на балконе гостиницы, любуясь видом на озеро и окружающие его горы, Дзержинский заново переживал счастье своего второго свадебного путешествия (о первом, что было в Татрах, они только что вспоминали с Зосей).
Как он был благодарен Якову Михайловичу Свердлову и его жене Клавдии Тимофеевне! Это после их неожиданного визита к нему на Лубянку состоялся памятный разговор.
— Поезжай, пора тебе наконец повидать жену и сына да и самому немного передохнуть, дать отдых телу и мыслям, — говорил Свердлов.
— Что ты, Яков, разве могу я в такое время оставить ВЧК? — возражал Дзержинский.
— А что время? Время как раз подходящее. Ильич поправился, взял руль правления в свои руки. Белых отбросили на всех фронтах, в ближайшее время не полезут — раны зализывают; да и на внутреннем фронте после того, как ВЧК разгромила савинковский «Союз» и заговор Локкарта, активность контрреволюции заметно понизилась.
Феликс Эдмундович задумался.
— Я уже говорил с Владимиром Ильичем, — продолжал Свердлов, — он просил тебе передать, что категорически настаивает на твоей поездке к семье. Председатель ВЦИК и Председатель Совнаркома — за, в ЦК можешь не звонить, Стасова тоже вовлечена в наш «заговор».
Так была решена эта поездка. На всякий случай Свердлов направил с ним еще Варлаама Аванесова. Секретарь Президиума ВЦИК мог взять под свою защиту «товарища Доманского» в случае каких-либо осложнений.
— Феликс, иди завтракать. Кофе на столе! — раздался мелодичный голос Зоси.
Как в Кракове. Уж не сон ли все это? Восемь лет мечтал он об этих минутах. Вот они наконец пришли, но и то ненадолго. Стремительно нарастали революционные события в Германии, и им с Варлаамом следует торопиться, чтобы не застрять здесь, в Швейцарии.
Феликс Эдмундович пил душистый кофе со сливками, мазал маслом настоящий белый хлеб — всего этого вдоволь было в нейтральной Швейцарии — и думал, имеет ли он право звать жену и слабого, болезненного ребенка в голодную и холодную Москву. Беспокоили не только трудности быта. Белогвардейцы отброшены, но не разбиты, собирают силы, и гражданская война, несомненно, разгорится с небывалым ожесточением. Он верил в победу, но как сложится его личная судьба? Что будет в этом водовороте с Зосей и Ясиком? Пусть уж лучше поживут пока тут, под покровительством советской дипломатической миссии.
После кофе Феликс Эдмундович, Софья Сигизмундовна и Ясик отправились кататься на лодке по Луганскому озеру. Когда усаживались, к причалу рядом с лодкой пришвартовался прогулочный пароходик. Феликс Эдмундович почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд и оглянулся. С палубы смотрел на него… Локкарт. Обмененный недавно на Максима Литвинова, советского представителя в Лондоне, арестованного англичанами, Локкарт приехал в Швейцарию отдохнуть и подлечить нервы после своего провала в Советской России.
Дзержинский с видом человека, которому некуда спешить, спокойно закрепил весла в уключинах и, прежде чем Локкарт оказался на земле, сильными взмахами отогнал лодку далеко от берега.
А Локкарт долго смотрел вслед Дзержинскому. Он готов был отдать голову на отсечение, что где-то видел этого господина в элегантном костюме и мягкой фетровой шляпе.
Софья Сигизмундовна тоже заметила господина, пристально всматривавшегося в Дзержинского.
— Кто это был? — спросила она.
— Локкарт. Пожалуйста, не волнуйся, он меня не узнал. Здесь, в Лугано, он встретил председателя ВЧК? Невероятно! Такая мысль просто не могла прийти ему в голову.
Короткий отпуск кончился. В конце октября Дзержинский и Аванесов выехали из Швейцарии через Берлин в Москву. И как раз вовремя.
5 ноября германское правительство порвало дипломатические отношения с Советской Россией и выслало из Германии советское посольство. 9 ноября отрекся от престола Вильгельм II. Монархия в Германии пала, но власть оказалась в руках буржуазии.
11 ноября революция в Австро-Венгрии привела к падению монархии Габсбургов.
Напуганное буржуазно-демократическими революциями в Германии и Австрии, швейцарское правительство выслало советскую дипломатическую миссию. Разрешено было выехать только тем, у кого были дипломатические паспорта.
Той же ночью у Софьи Сигизмундовны и Марии Братман полиция произвела обыск. Перед домом поставили шпиков, совершенно открыто следивших за каждым их шагом. Снова Софья Сигизмундовна осталась без работы, снова оборвалась связь с Феликсом.
8
В ВЧК Дзержинский встретил своих товарищей в подавленном настроении.
— Ну что у вас тут случилось? С работой, что ли, не ладится?
— Да нет, Феликс Эдмундович, с работой все в порядке. Заканчиваем следствие по делу Локкарта. Сейчас уже точно установлено, что его организация вела работу в трех направлениях: первое — дезорганизация Красной Армии и подкуп латышских стрелков, охраняющих Кремль, — возглавлял сам Локкарт и офицер английской службы Сидней Рейли; второе — взрывы мостов, поджоги правительственных складов и тому подобное — должен был выполнять французский офицер Вертамон; третье — шпионаж. Организация последнего была поручена американскому торговому агенту Каломатиано. Вы знаете, что он создал широкий аппарат шпионажа в наших военных учреждениях, но, кажется, нам удалось выловить всех его агентов.
— Дело готово для передачи в трибунал, ожидали только вас, — доложил Петерс.
— Так почему же вы все носы опустили?
— Феликс Эдмундович, после вашего отъезда опять поднялась в печати травля против ЧК, — отвечал Ксенофонтов.
— А разве вы еще не привыкли к тому, что на ВЧК клевещут? — перебил Дзержинский.
— Когда на нас клевещет буржуазия, мне, извините за грубость, тьфу и растереть! На меньшевистские газеты тоже наплевать, но на нас обрушились свои же товарищи — коммунисты, в нашей же партийной и советской печати. На это уже не наплюешь, — вступил в разговор Фомин. — Ребята хотят знать, что же наша работа, пользу или вред приносит Советской власти?
— Дело серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, — Петерс положил перед Дзержинским пачку каких-то документов. — Это все рапорты наших сотрудников об увольнении.
— Ну а вы-то реагировали как-нибудь на нападки в печати?
— Конечно. Вот здесь опубликовано мое заявление, — ответил Петерс, протягивая «Известия» от 17 октября.
Дзержинский взял газету. Заявление Петерса ему понравилось. В спокойных тонах доказывалась необходимость самостоятельности чрезвычайных комиссий и обоснованность принимаемых ими мер борьбы с контрреволюцией. Заявление заканчивалось словами: «Весь этот шум и плач против энергичных и твердых мер чрезвычайных комиссий не заслуживает того внимания, которое им придают; он мог появиться лишь среди товарищей, занятых кабинетной журналистикой, а не активной борьбой с врагами пролетариата».
Дзержинский усмехнулся: все-таки не удержался Петерс, пустил стрелу в своих противников.
— А теперь, — твердо сказал Дзержинский, — послушайте меня. ВЧК создана по инициативе Центрального Комитета нашей партии и товарища Ленина. Им и решать, нужна она или нет. И я твердо убежден, что они чекистов в обиду не дадут. А это — Феликс Эдмундович брезгливо отодвинул рапорты, — верните авторам. Мне стыдно за них!
7 ноября 1918 года небольшой зал клуба ВЧК на Лубянке, 13 гудел как улей. Чекисты собрались на митинг-концерт, чтобы отметить первую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
На трибуну выходит Дзержинский. Говорит об основных завоеваниях Советской власти за первый год ее существования, об участии чекистов в борьбе с контрреволюцией, о задачах…
Дзержинский еще не закончил своего выступления, как из-за стола президиума встал Петерс и объявил:
— Товарищи! К нам приехал Владимир Ильич Левин!
И вот Ленин давно уже на трибуне, а овация, которой чекисты встретили его, не прекращается. Он наклоняется к Дзержинскому, что-то говорит ему, а тот, улыбаясь, разводит руками, дескать: «Что же я могу сделать?»
Наконец Ильич достает из жилетного кармана часы, смотрит на них, затем постукивает по часам ногтем и укоризненно качает головой. Шум постепенно стихает.
— Товарищи, — говорит Владимир Ильич, — чествуя годовщину нашей революции, мне хочется остановиться на тяжелой деятельности чрезвычайных комиссий. Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК…
«Так вот почему именно к нам приехал Ильич в такой знаменательный день». Эта мысль пришла одновременно и к Петерсу, и к Ксенофонтову, и к Фомину, и ко многим чекистам, тяжело переживавшим нападки на ЧК.
— Что удивляет меня в воплях об ошибках ЧК, — это неумение поставить вопрос в большом масштабе. У нас выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут и носятся с ними.
Мы же говорим: на ошибках мы учимся. Как во всех областях, так и в этой мы говорим, что самокритикой мы научимся. Дело, конечно, не в составе работников ЧК, а в характере деятельности их, где требуется решительность, быстрота, а главное — верность, — продолжал Ленин.
А в зале стояла мертвая тишина, каждый боялся упустить хоть одно ленинское слово. И потому, что Ленин, и потому, что говорит о самом наболевшем.
— Когда я гляжу на деятельность ЧК и сопоставляю ее с нападками, я говорю: это обывательские толки, ничего не стоящие… Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, — нет. Этим и занимаются ЧК, в этом их заслуга перед пролетариатом[43].
Слушали Ильича чекисты, и в новом свете представала перед ними их будничная работа. «Непосредственно осуществляют диктатуру пролетариата… Иного пути нет… Заслуга перед пролетариатом…» — врезались на всю жизнь в память, брали за душу ленинские слова.
Ян Янович Буйкис вспоминал, как и он, рискуя жизнью, помог разоблачить заговор Локкарта.
А Фридман сам себе удивлялся, как это им с Борисом Поляковым и всего с одним пулеметчиком удалось разоружить 7 июля отряд левых эсеров в сто человек, прибывший на станцию Химки. И в ответ слышал: «решительность, быстрота, а главное — верность».
Сердце каждого чекиста наполнялось гордостью. Резкий перелом произошел и у авторов злополучных рапортов об увольнении из ВЧК. Теперь им стыдно было смотреть в глаза товарищам.
Ленин кончил. Новая буря оваций потрясла зал. Горящие восторгом глаза, просветленные лица. Словно тяжелый камень снял с плеч чекистов Владимир Ильич. Окружили его плотным кольцом и не успокоились до тех пор, пока он не дал обещания приехать еще раз завтра и ответить на все вопросы.
— Не знаю, Владимир Ильич, как вас благодарить, — говорил Дзержинский, провожая Ленина.
Глава XII Солдат великих боев
1
Ночь. Метель. К перрону станции Всполье весь в клубах пара подошел поезд комиссии ЦК и Совета Обороны, возвращавшейся с Восточного фронта. Сквозь зашторенные окна салон-вагона виднелся свет. Члены комиссии Дзержинский и Сталин еще работали. На столе была разложена большая карта, рядом на стуле кипы документов.
— Председатель Ярославской губчека Лебедев! — доложил секретарь.
В салон вошел статный, широкоплечий мужчина в запорошенной снегом шинели. Шинель старенькая, но ладно пригнанная. Ремни командирского снаряжения подчеркивали строевую выправку вошедшего.
Феликс Эдмундович знал, что Михаил Иванович Лебедев, в прошлом военный моряк, приговоренный к каторге в 1905-м, и один из организаторов забастовки на Ленских золотых приисках в 1912-м, только недавно оправился от тяжелого ранения, полученного при подавлении Ярославского мятежа. И Дзержинский был рад лично познакомиться с ним.
В вагоне было тепло. Лебедев снял папаху, снаряжение, расстегнул шинель и сел к столу.
— Рассказывайте, как дела?
— Плохие дела, товарищ Дзержинский, — отвечал Лебедев, — в штабе Ярославского военного округа заговор. Руководят заговором начальник штаба округа бывший полковник генерального штаба Дробыш-Дробышевский, начальник управления артиллерии Смолич и бывший царский генерал-адъютант Янгалычев, последний «рюрикович», как он себя называет. В заговор втянуто много офицеров.
— Чем же эти ваши заговорщики занимаются? — раздался насмешливый голос Сталина. Он раскуривал трубку и исподлобья смотрел в упор на Лебедева.
— Пока формируют явно ненадежные полки, ставят во главе их белогвардейских офицеров, с тем чтобы по прибытии на фронт эти части переходили на сторону врага. Смолич саботирует снабжение Северного фронта вооружением и боеприпасами. Но главное — они готовят новый мятеж. Намерены захватить Ярославль и открыть дорогу на Москву иностранным интервентам.
— Доказательства? — спросил Дзержинский.
Лебедев достал из портфеля «Дело о заговоре в штабе Ярославского военного округа» и протянул Дзержинскому.
Некоторое время в вагоне царила тишина, прерываемая шелестом страниц да изредка вопросами и репликами Дзержинского и Сталина.
— А почему Ярославская ЧК до сих пор не расправилась с заговорщиками? — спросил Сталин.
— Арестовать руководящих работников штаба без согласия комиссара округа ЧК не может, а он отказывается санкционировать их арест, ссылаясь на указания Троцкого.
Феликс Эдмундович достал из кармана блокнот и написал:
«Поручается председателю Ярославской губчека М. И. Лебедеву в срочном порядке докончить расследованием дело штаба Ярославского военного округа и немедленно приступить к ликвидации такового.
Комиссия Совета Обороны».
Дал подписать Сталину и подписал сам.
Поезд ушел. Той же ночью заговорщики были арестованы и руководители заговора расстреляны. Опасность, нависшая над Северным фронтом, устранена…
Вернувшись в Москву, Дзержинский и Сталин отчитались о своей работе по расследованию причин поражения 3-й Красной Армии под Пермью.
Трудная это была командировка. Создалась угроза прорыва белых к Котласу и соединения их с англо-американскими интервентами, наступавшими от Архангельска. Приходилось не только заниматься расследованием, но одновременно на ходу принимать экстренные меры по укреплению боеспособности армии и наведению порядка в тылу.
Владимир Ильич прислал телеграмму: «Глазов и по месту нахождения Сталину, Дзержинскому. Получил и прочел первую шифрованную депешу. Очень прошу вас обоих лично руководить исполнением намеченных мер на месте, ибо иначе нет гарантии успеха».
Комиссия ЦК и Совета Обороны вернулась в Москву только тогда, когда боеспособность 3-й армии была полностью восстановлена и она вместе с другими армиями Восточного фронта вновь перешла в наступление на Колчака.
Расследование, проведенное Дзержинским и Сталиным, вскрыло серьезные недостатки в управлении армиями из центра. Центральный Комитет одобрил меры, принятые ими на месте, и принял решение произвести проверку деятельности Всероссийского Главного штаба.
Пребывание на Восточном фронте убедило Дзержинского в необходимости слияния фронтовых и армейских чрезвычайных комиссий с органами военной контрразведка (Военконтроль). Такой опыт он уже провел в 3-й армии.
Возвратившись в Москву, Дзержинский немедленно занялся этим делом. По согласованию с Реввоенсоветом республики на базе Военного отдела ВЧК и Военного контроля были созданы единый орган борьбы с контрреволюцией и шпионажем в армии и флоте — Особый отдел ВЧК и особые отделы фронтов, армий, дивизий.
3 февраля 1919 года Феликс Эдмундович подписал проект постановления об особых отделах ВЧК, а 6 февраля это постановление было принято ВЦИК. В оперативном отношении особые отделы были подчинены ВЧК, а политическое руководство их деятельностью возложено на реввоенсоветы и политотделы фронтов и армий.
Первым начальником Особого отдела ВЧК был назначен член коллегии ВЧК Михаил Сергеевич Кедров, член Коммунистической партии с 1907 года, прекрасный конспиратор, к тому же проявивший себя как крупный военачальник на Северном фронте.
Стабилизация на фронтах и снижение активности контрреволюционных элементов внутри страны позволили Центральному Комитету приступить к упорядочению деятельности ВЧК и; революционных трибуналов, точнее разграничить их функции.
4 февраля Центральный Комитет партии поручил комиссии под руководством Дзержинского разработать новое положение о чрезвычайных комиссиях и ревтрибуналах.
За всеми этими крупными делами Феликс Эдмундович давно забыл о встрече с Лебедевым на станции Всполье, как вдруг пришло письмо от Троцкого. Наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета республики требовал ареста М. И. Лебедева и предания его суду реввоентрибунала. Лебедеву предъявлялись все те же обвинения в самоуправстве и дезорганизации работы штаба Ярославского военного округа.
Феликс Эдмундович поставил вопрос о поведении Лебедева на коллеги ВЧК. Для участия в заседании коллегии Троцкий прислал своего заместителя Склянского.
Лебедев доложил дело. Доказательства виновности Дробышевского, Смолина, Яигалычева и других участников заговора в Ярославле были неопровержимы. Промедли ЧК еще неделю, и мятеж вспыхнул бы неотвратимо.
— А как бы вы, как коммунист, поступили на месте Лебедева? — обратился Феликс Эдмундович к Склянскому.
Склянский только развел руками.
— Поезжайте обратно и спокойно делайте свое дело так же, как и до сих пор, — сказал Дзержинский Лебедеву.
А когда тот вышел, обернулся к своему помощнику Беленькому:
— Председатель Ярославской губчека ходит в рваных сапогах и старой шинели. Надо его одеть как полагается.
В Ярославль Михаил Иванович Лебедев вернулся в новых хромовых сапогах и кожаной куртке.
2
— Феликс Эдмундович! Эшелон подходит к Москве. Пора встречать, — доложил Беленький, улыбаясь в свои пышные усы.
— Сейчас, сейчас, — откликнулся Дзержинский, торопливо собирая и пряча в сейф бумаги, лежавшие на столе.
Через несколько минут автомобиль председателя ВЧК остановился у Александровского вокзала, и Дзержинский быстрым шагом направился к поезду, доставившему из Швейцарии в Москву группу русских военнопленных и политэмигрантов.
— Зося, Ясенька мой, вот мы и опять вместе, — говорил Феликс Эдмундович, обнимая жену и сына.
— Товарищ Беленький, проводите их в кабинет начальника ОРТЧК[44], а я должен заняться прибывшими военнопленными и политэмигрантами.
Беленький взял багаж Дзержинских, и они пошли в транспортную ЧК, первую ЧК, с которой пришлось столкнуться Софье Сигизмундовне. Свой «Мекано» Ясик нес сам. Он никому не пожелал доверить подарок отца.
Спустя некоторое время в кабинете появился и Дзержинский.
— Ну вот и все в порядке, — весело сказал Феликс Эдмундович. — Политэмигрантов разместили в Третьем Доме Советов, а военнопленные до отправки по домам поживут в Покровских казармах. А теперь домой!
Дзержинский схватил самый большой чемодан, взял за руку Ясика и заспешил к машине. Рядом шел начальник ОРТЧК и тщетно пытался вырвать чемодан из его рук.
— Оставьте, я сам, — сердился Феликс Эдмундович.
— Не надо, товарищ, — сказала Софья Сигизмундовна, мягко касаясь руки чекиста, — он не отдаст.
Автомобиль промчался по Тверской и через Троицкие ворота въехал в Кремль.
— Вот, Зосенька, и наша квартира, — говорил Феликс Эдмундович, распахивая дверь в просторную комнату с двумя высокими окнами на втором этаже кавалерского корпуса.
В комнате было все необходимое для жизни: три кровати, стол, шкаф, стулья, даже маленький старинный диванчик с резной спинкой.
Феликс Эдмундович ушел на работу, обещав скоро приехать, а Софья Сигизмундовна стала разбирать багаж и осваиваться на новом месте. Дверь из комнаты Дзержинских вела прямо в столовую Совета Народных Комиссаров. Слышался звон посуды и голоса столующихся, в комнату проникал специфический «столовский» запах.
«Узнаю Феликса, — вздохнула Софья Сигизмундовна, — никогда он не был практичен в личной жизни».
Феликс Эдмундович появился, по ее понятиям, страшно поздно, а по его — очень рано, не было и двенадцати ночи.
Софья Сигизмундовна ни одним словом не обмолвилась о беспокоившей ее столовой — не могла же она в самом деле после долгой разлуки омрачать встречу такими пустяками.
Ясик, намаявшись за дорогу, крепко спал. А Софья Сигизмундовна и Феликс Эдмундович проговорили почти до утра и все не могли наговориться.
— Об убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта мы узнали в пути. Какая подлость! Всю дорогу я не могла прийти в себя.
— Ты знаешь, Зося, как я любил и уважал Розу, — после продолжительного молчания начал Феликс Эдмундович. — Мне пришлось пережить смерть многих товарищей, но ни одна из них не потрясла меня так сильно, как ее смерть.
Феликс умолк. Лунный свет, лившийся в высокие окна кавалерского корпуса, освещал резкие складки на его лице, плотно сжатый рот, суровый взгляд, устремленный ввысь, и страдальческий излом бровей.
Прошло несколько минут, и Феликс Эдмундович снова заговорил:
— Роза была организатором и идейным руководителем социал-демократии Польши и Литвы. Ей вместе с Либкнехтом принадлежит честь создания Коммунистической партии Германии. «Орлом» назвал ее Владимир Ильич. Я повесил портрет Розы у себя в служебном кабинете. Она всегда будет для меня примером преданности делу рабочего класса и интернационализма.
— Феликс, когда я думаю о Розе, то в голове не укладывается, как могло произойти, что ее убийцами стали социал-демократы?!
— Ты еще увидишь, Зосенька, как наши «социалисты» — меньшевики и эсеры помогают белым генералам вешать и расстреливать рабочих, — устало ответил Феликс Эдмундович.
Постепенно жизнь налаживалась. Дзержинскому дали в Кремле небольшую, но вполне приличную двухкомнатную квартиру. Ясик стал ходить в школу. Мальчик вырос в Швейцарии среди поляков-политэмигрантов, хорошо говорил по-польски, неплохо объяснялся на французском и немецком, но совершенно не знал русского языка. Ему помогал сын Якова Михайловича Свердлова — Андрей, или Ада, как его звали тогда в семье. А Софья Сигизмундовна с помощью Клавдии Тимофеевны быстро освоилась с незнакомой и потому порой непонятной московской жизнью.
Только к одному она долго не могла привыкнуть: они с Ясиком мало видели Феликса Эдмундовича. Забежит на несколько минут — и обратно на работу, а то и вовсе не появляется по нескольку дней, только по телефону звонит, узнает, все ли здоровы, не нужно ли чего-нибудь. Умом понимала: время такое, Чека и ночью вынуждена работать, а вот привыкнуть никак не могла.
Легко понять радость Софьи Сигизмундовны, когда однажды в воскресенье Феликс Эдмундович пригласил ее вместе пойти в Большой театр.
Софья Сигизмундовна достала и привела в порядок свое единственное выходное платье, привезенное из Швейцарии, взялась было за одежду Феликса, но, как всегда, услышала: «Я сам».
Феликс Эдмундович надел шинель вместо халата и, подшучивая над своим видом, тщательно вычистил и отутюжил гимнастерку и галифе, навел глянец на сапоги…
В радостном, приподнятом настроении вошли они в ложу Большого театра. Феликс Эдмундович с любовью исподволь наблюдал за Зосей. Для нее, варшавской консерваторки, впервые попавшей в Большой театр, этот день был настоящим праздником. Он смотрел на ее счастливое лицо и мысленно давал слово почаще доставлять ей такое удовольствие.
К концу второго акта в ложу вошел Беленький. Стараясь не шуметь, он что-то прошептал на ухо Дзержинскому.
— Прости, Зося. Я должен ехать на работу.
Потускнел праздник. Исчезло радостное настроение. Софье Сигизмундовне стало скучно в театре.
Трудно быть женой профессионального революционера-подпольщика. Оказывается, быть женой чекиста не легче.
3
На рассмотрение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Дзержинский от имени коммунистической фракции внес проект постановления о реорганизации чрезвычайных комиссий и революционных трибуналов.
Коротко, но ярко рассказал он о деятельности ВЧК за истекшие пятнадцать месяцев. Он говорил о скоплениях в городах старого офицерства, которое поставляло кадры для многочисленных заговоров, хотя часть его и переходит на сторону Советской власти.
— Для того, чтобы прекратить всякие заговоры, и для того, чтобы разбить эту сплоченную офицерскую массу, нам пришлось действительно быть беспощадными. Красный террор был не чем иным, как выражением воли беднейшего крестьянства и пролетариата уничтожить всякие попытки восстания и победить. И эта воля была проявлена!
Аплодисменты прервали Дзержинского. Когда в зале стихло, он продолжал:
— Теперь этой массы, сплоченной, контрреволюционной, нет. Мы знаем, что почти во всех наших учреждениях имеются наши враги, но мы не можем разбить наши учреждения, мы должны найти нити и поймать их. И в этом смысле метод борьбы должен быть сейчас совершенно иной. Теперь, когда нам нужно выискивать отдельные личности, то их нужно судить, ибо внутри страны уже нет тех контрреволюционных сил, с которыми бы, как с массовым, повторяю, сплочением, нам приходилось бы бороться.
Первый пункт проекта гласил: «Право вынесения приговоров по всем делам, возникающим в чрезвычайных комиссиях, передается реорганизованным трибуналам…» Далее следовали пункты, определяющие состав трибуналов, сроки и порядок ведения следствия, вынесения и обжалования приговоров.
Как грозное предостережение белогвардейским заговорщикам прозвучали слова Дзержинского:
— Но вместе с тем мы не должны убаюкивать себя, мы должны своим врагам сказать, что, если они посмеют выступить с оружием в руках, тогда все те полномочия, которые имела раньше Чрезвычайная комиссия, она будет иметь и дальше!
Проект был принят. В постановлении ВЦИК было предусмотрено предоставление ВЧК «права непосредственной расправы» при наличии вооруженных выступлений, а также в местностях, объявленных на военном положении, «за преступления, указанные в самом постановлении о введении военного положения».
Феликс Эдмундович просил ВЦИК разрешить ВЧК в административном порядке заключать в концентрационные лагеря «господ, проживающих без занятий, тех, кто не может работать без известного принуждения».
И эта просьба была удовлетворена.
Это было 17 февраля 1919 года…
В кабинете Дзержинского собрались члены коллегии ВЧК. В креслах у письменного стола-заняли свои привычные места зампреды — Яков Христофорович Петерс и Иван Ксенофонтович Ксенофонтов; на диване и на стульях вдоль стен разместились Мартин Янович Лацис-Судрабс, приехавший с Восточного фронта; начальник Особого отдела Михаил Сергеевич Кедров, Варлаам Александрович Аванесов, Александр Владимирович Эйдук, начальник штаба войск ВЧК Константин Максимович Валобуев, Иван Дмитриевич Чугурин, Филипп Дементьевич Медведь, заведующий транспортным отделом Василий Васильевич Фомин, Николай Александрович Жуков, Сергей Герасимович Уралов и Григорий Семенович Мороз.
В маленьком кабинете сразу стало тесно и шумно.
Дзержинский постучал карандашом по столу, призывая к вниманию, и прочитал только что полученную телефонограмму:
1 апреля 1919 г.
«…Совет Обороны предписывает принять самые срочные меры для подавления всяких попыток взрывов, порчи железных дорог и призывов к забастовкам.
Совет Обороны предписывает призвать к бдительности всех работников Чрезвычайных комиссий и о предпринятых мерах довести до сведения Совета Обороны.
Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)»[45].
— Товарищи! Мы знаем, почему вновь зашевелились шпионы и диверсанты, агитаторы и подстрекатели мятежей и беспорядков, — заявил Дзержинский, закончив чтение. — Так бывает всегда, когда белогвардейцы предпринимают наступление на внешних фронтах. Сейчас наступил именно такой момент: Колчак наступает по всему Восточному фронту, усилили свой нажим англо-американские интервенты и генерал Миллер на севере, на юге активизировался Деникин, а Родзянко и Юденич, поддержанные английским флотом, белофиннами и белоэстонцами, угрожают Петрограду. На нас лежит ответственность обеспечить безопасность советского тыла. Давайте обсудил, что мы можем и должны конкретно сделать во исполнение предписания Совета Обороны.
Феликс Эдмундович всегда добивался, чтобы каждый член коллегии высказался, дал свое предложение; иногда спорил, доказывал, но, если видел, что товарищ настаивает на своем и уверен в успехе, говорил: «Хорошо, делайте по-своему, но вы ответственны за результат». Дзержинский поощрял инициативу. Так было и сегодня.
Когда приняли решение, попросил слово Аванесов.
— Необходимо разъяснять широким массам проделки враждебных нам элементов так, чтобы массы сами убедились бы в необходимости принять суровые меры, которые мы здесь наметили.
— Товарищ Варлаам правильно ставит вопрос. Чтобы заручиться поддержкой масс, предлагаю опубликовать в печати обращение, объясняющее наши действия, — сказал Дзержинский. — Всего два абзаца. — И он прочел: — «Ввиду раскрытия заговора, ставящего целью посредством взрывов, порчи железнодорожных путей и пожаров призвать к вооруженному выступление против Советской власти, Всероссийская чрезвычайная комиссия предупреждает, что всякого рода выступления и призывы будут подавлены без всякой пощады».
Возражений не последовало.
Следующий абзац гласил:
«Во имя спасения от голода Петрограда и Москвы, во имя спасения сотен и тысяч невинных жертв Всероссийская чрезвычайная комиссия принуждена будет принять самые суровые меры наказания против всех, кто будет причастен к белогвардейским выступлениям и попыткам вооруженного восстания».
— По-моему, — забасил Лацис, — последнюю часть, где говорится, против кого будут приняты суровые меры, можно объединить с первым абзацем, а все эти «во имя» и прочая лирика и сантименты вовсе не нужны.
— Вероятно, вы, Мартин Янович, не поняли смысл нашего обращения, — взволновался Дзержинский, — это не «лирика и сантименты», а, если хотите, морально-политическое кредо ВЧК. Народ должен знать, что террор и жестокость — не наш метод, знать, во имя чего мы принуждены прибегать к суровым мерам. Именно это и есть главное в обращении.
Большинство поддержало Дзержинского. Утром кучки людей, толпившихся у свежих, расклеенных на афишных тумбах и стенах газет, читали обращение ВЧК, подписанное Дзержинским. Одни со злобой и страхом, другие с удовлетворением и надеждой.
Прошло около двух месяцев. Дзержинского вызвал Ленин.
Феликс Эдмундович вошел в кабинет через «будку» — так называли сотрудники Совнаркома комнату за кабинетом Ленина, где размещался коммутатор Кремля и телеграфные аппараты, по которым Владимир Ильич мог в любую минуту связаться с командующими фронтами или губернскими властями. Правом прохода через «будку», минуя приемную Совнаркома и обязательный доклад секретаря, пользовались только Свердлов и Дзержинский. Аппаратная напоминала о том, что нет уже дорогого друга и товарища Якова Михайловича. Он умер 16 марта от крупозного воспаления легких.
Владимир Ильич стоял у открытого окна и, казалось, наслаждался ароматом майской зелени. Но когда он обернулся и Дзержинский увидел его усталое, озабоченное лицо, стало ясно, что Ильичу сейчас не до красот природы и что мысли его были где-то далеко от Кремля.
Поздоровались. И Ленин увлек Дзержинского к большой, висевшей на стене карте. На ней синими и красными флажками было отмечено наложение советских и белогвардейских войск. Взгляд Владимира Ильича остановился у Петрограда, где синие флажки были воткнуты в точки с обозначениями: 15 мая — Гдов, 17 мая — Ямбург, 25 мая — Псков.
— Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличие в нашем тылу, а может быть, и на самом фронте организованного предательства, — говорил Владимир Ильич, указывая на карту, — я уж написал об этом в Питер, Сталину, и попросил его принять экстренные меры для раскрытия заговоров, но ему нужно помочь. Прошу вас, Феликс Эдмундович, командировать туда, и как можно быстрее, опытных и энергичных ответственных товарищей из ВЧК.
— Я уже направил туда товарища Петерса. Завтра же командирую Кедрова с группой работников Особого отдела. Петерс, как мой заместитель, будет координировать работу чекистских органов в армии, в губернии, на транспорте и руководить всеми операциями.
Ленин просил Дзержинского взять работу петроградских чекистов и направленных из Москвы товарищей под свой личный контроль и предложил вместе подписать обращение к населению.
Воззвание начиналось энергичным «Смерть шпионам!», затем краткое, по-военному, изложение обстановки и задачи. Дзержинскому особенно врезалась в память концовка: «Все сознательные рабочие и крестьяне должны встать грудью на защиту Советской власти, должны подняться на борьбу с шпионами и белогвардейскими предателями. Каждый пусть будет на сторожевом посту — в непрерывной, по-военному организованной связи с комитетами партии, с ЧК, с надежнейшими и опытнейшими товарищами из советских работников» [46].
Феликс Эдмундович взял ручку и молча подписался. Он не хотел изменять ни одной ленинской строки.
Предвидение Ленина о наличии в Петрограде контрреволюционного заговора вскоре подтвердилось. 13 июня 1919 года в фортах Красная Горка, Серая Лошадь и Обручев вспыхнул мятеж. Быстрыми и решительными ударами с моря и с суши в ночь на 16 июня мятеж был подавлен.
По плану заговорщиков мятеж на Красной Горке должен был послужить сигналом к восстанию в Кронштадтской крепости и в самом Петрограде. Но агенты Антанты просчитались. Чекисты, руководимые Петерсом и Кедровым, сумели в короткий срок выявить и взять под свой контроль нити заговора и в ночь на 14 июня нанесли упреждающий удар. Были арестованы главари заговора в Кронштадте и на кораблях Балтийского флота, а при массовых обысках и облавах, проведенных совместно с отрядами рабочих в буржуазных кварталах Петрограда, удалось изъять 7 тысяч винтовок, более 140 тысяч патронов, 600 револьверов и много другого оружия, уже вынесенного из тайных складов и подготовленного к действию. Одновременно оказались под арестом и многие контрреволюционеры.
Очищенная от заговорщиков и шпионов, пополненная свежими войсками, коммунистами, комсомольцами и тысячами рабочих, прибывших из Петрограда и других городов, 7-я Красная Армия 21 июня перешла в наступление и отбросила белогвардейцев от Петрограда.
События в Петрограде, наступление Деникина на юге и контрреволюционные мятежи в других, местах вынуждали партию и Советское правительство принимать решительные меры для поддержания порядка в тылу Красной Армии и, в частности, все шире распространять военное положение.
22 июня 1919 года ВЦИК опубликовал декрет «Об изъятии из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении», в подготовке которого деятельное участие принимал Дзержинский. В декрете перечислялись наиболее опасные преступления (принадлежность к контрреволюционной организации и участие в заговоре против Советской власти, государственная измена, шпионаж, диверсии, бандитизм и др.), изымавшиеся из общей подсудности. Чрезвычайным комиссиям предоставлялось «право непосредственной расправы (вплоть до расстрела)» за перечисленные в декрете «доказанные преступные деяния».
На следующий день Дзержинский разослал приказ всем губчека.
«…С изданием настоящего декрета, — писал он, — на ЧК возложены более чем когда-либо тяжелые задачи — очистка Советской республики от всех врагов рабоче-крестьянской России… Все явные и скрытые враги Советской России должны быть на учете ЧК и при малейшей попытке повредить революции должны быть наказаны суровой рукой…
Вместе с этим ВЧК считает нужным указать, что суровое наказание ждет всех тех, кто вздумает злоупотреблять предоставленными ЧК правами. За применение прилагаемого декрета к каким-либо лицам в корыстных целях виновные будут расстреливаться. Ответственность за правильность проведения приложенного декрета возлагается на местные коллегии ЧК в целом и на председателей в частности».
4
Дзержинский разбирал утреннюю почту. В письме, присланном из Петрограда, говорилось о том, что член коллегии губчека Д. Я. Чудин вступил в интимную связь с некой Свободиной-Сидоровой. За «любовь» приходилось платить. И Чудин по ходатайствам Свободиной-Сидоровой освободил из-под ареста ее сожителя спекулянта Дрейцера, а затем спекулянтов Эменбекова, Баршанского, Розенберга, с которых Свободина-Сидорова получила за свое заступничество перед ЧК крупные взятки.
Дзержинский пригласил Петерса:
— Яков Христофорович, вы недавно вернулись из Петрограда. Что вы можете сказать о Чудине?
— Коммунист, хороший работник, отлично действовал, когда мы проводили массовые операции в Петрограде в период мятежа на Красной Горке.
— Прочтите это. — Дзержинский передал Петерсу письмо.
— Невероятно! — воскликнул Петерс, ознакомившись с его содержанием. — А вы не допускаете, Феликс Эдмундович, что это клевета?
— К сожалению, похоже на правду. Много конкретных данных, которые легко проверить. Клеветники так не поступают.
И Дзержинский отправился в Петроград, чтобы лично разобраться с этим делом.
Чудин молча сел на предложенный стул, прочел письмо, взглянул в глаза Дзержинскому и сразу отвел свои.
Феликс Эдмундович испытующе смотрел на Чудина. Готовясь к этой встрече, он все еще надеялся, что Чудин возмутится и опровергнет обвинения, но в его мимолетном взгляде Дзержинский не прочел ничего, кроме тоски.
— Правда?
— Правда, — ответил Чудин.
— Оружие на стол!
Чудин покорно снял ремень с кобурой, положил перед Дзержинским.
Феликс Эдмундович почувствовал отвращение к этому человеку с посеревшим лицом и опустившимися плечами. Начинала душить тяжелая волна гнева. Но вспылить, разрядиться гневом нельзя. Перед ним сидел арестованный, и служебный долг повелевал быть с ним «гораздо вежливее, чем даже с близким человеком» (Дзержинский помнил свои инструкции).
Усилием воли Дзержинский заставил себя продолжать допрос.
Пока Дзержинский допрашивал Чудина, были арестованы Свободина-Сидорова и освобожденные Чудиным спекулянты. Показаниями обвиняемых и всеми обстоятельствами дела вина Чудина была установлена с полной несомненностью. Комиссия в составе трех членов ВЧК и трех членов Петроградской губчека под председательством Дзержинского единогласно постановила: Д. Я. Чудина расстрелять.
В приговоре Дзержинский записал: «…вина Чудина усугубляется еще тем, что он, состоявший несколько лет в рядах Коммунистической партии и занимавший такой ответственный пост, как пост члена Чрезвычайной комиссии, не мог не понимать, как предательски он нарушает интересы партии и злоупотребляет доверием своих товарищей по ЧК».
Приговор подписан и объявлен обвиняемому. Увели Чудина, разошлись по своим делам члены комиссии. Дзержинский остался один.
Тяжело подписывать смертный приговор, брать на себя ответственность за лишение человека жизни. Вдвойне тяжело приговорить к высшей мере наказания того, кто еще вчера был твоим товарищем по партии, по работе…
Да, трудна и опасна работа чекистов, и соблазны встречаются перед ними на каждом шагу. Тогда, когда они, сами голодные, находят при обыске запрятанное продовольствие или драгоценности, или когда контрреволюционеры и спекулянты сулят им крупные взятки, или, наконец, вот так, как получилось у Чудина. Надо бы написать по этому поводу хорошее письмо всем чрезвычайным комиссиям.
И Дзержинский тут же, пока не прошла острота мыслей, набрасывает черновик:
«…Чтобы чекист мог выполнить свои обязанности и оставаться твердым и честным на своем пути, для этого необходима постоянная товарищеская поддержка и защита со стороны председателя, членов коллегии, заведующих отделами и т. п. Чекист может только тогда быть борцом за дело пролетарское, когда он чувствует на каждом шагу себе поддержку со стороны партии и ответственных перед партией руководителей. Но, с другой стороны, слабые на искушения товарищи не должны работать в ЧК…
Чтобы выполнять свои обязанности для революции, чтобы быть в состоянии защищать и оказывать поддержку своим сотрудникам в их тяжелой борьбе, для этого ЧК должна беспощадно и неуклонно отбрасывать от себя слабых и наказывать жестоко совершивших преступление».
В Москве надо будет обязательно посоветоваться с Ксенофонтовым. Иван Ксенофонтович человек большой души, пусть он первый из членов коллегии скажет свое слово. И на документе Дзержинский приписал: «Тов. Ксенофонтову. Ваше заключение, нужен ли такой циркуляр. Ф. Д.».
Под утро пришел комендант, доложил об исполнении приговора. Вместе с Чудиным были расстреляны соучастники его преступлений Свободина-Сидорова и Дрейцер.
5
Перед Дзержинским лежало дело «Национального центра». Сегодня ночью ВЧК приступит к ликвидации этой контрреволюционной организации, и Феликс Эдмундович еще раз изучает материалы; надо все заранее взвесить и предусмотреть, чтобы в ходе операции не дать врагу ускользнуть или уничтожить улики.
Вошел секретарь.
— Феликс Эдмундович, в бюро пропусков Жилин Иван Яковлевич, просится к вам.
«Жилин. Что-то очень знакомое». И вдруг вспомнилось: Нолинск, «среды» в светелке у Николевой.
— Пусть пройдет!
Через несколько минут Дзержинский шел навстречу старому товарищу по первой своей ссылке. Обнялись, расцеловались. Феликс Эдмундович усадил Жилина у стола, сам сел напротив.
Как изменился Иван Яковлевич! Постарел, похудел, вид болезненный. Встретил бы на улице, вероятно, не узнал бы этого удалого гитариста и запевалу.
— Я к тебе за помощью, — взволнованно заговорил Жилин, — помнишь, с чего начинается письмо ЦК «Все на борьбу с Деникиным!»? Там написано: «Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции» [47]. Это Ильич написал, нам-то с тобой известно, что он автор этого письма.
Дзержинский вопросительно посмотрел на Жилина, силясь понять, какой помощи ждет от него Иван Яковлевич и при чем тут письмо ЦК.
— Так вот, — продолжал Жилин, — в этот критический момент меня не хотят взять в армию. Врачи, видите ли, признают негодным к военной службе! Это в то время, когда деникинцы топчут мою родную воронежскую землю!
— Но я же не доктор, — возразил Дзержинский. — Может быть, тебе и в самом деле нельзя на фронт.
— Чепуха! Работать могу, значит, и воевать тоже сумею не хуже других. Да я здесь скорее помру, а там если и погибну, так с музыкой! — И Дзержинский увидел, как по-молодому озорно сверкнули глаза Жилина.
Феликсу Эдмундовичу было близко и понятно стремление старого подпольщика. Дела на Южном фронте были пока плохи, и партия напрягала все силы, чтобы остановить врага, рвущегося к Москве.
— Так ты, Иван Яковлевич, говоришь, что сам из Воронежа?
— А как же! Всю молодость там провел. И в партию там вступил, и в ссылку в девяносто восьмом оттуда пошел, — отвечал Жилин.
— Нам как раз нужен начальник особого отдела в 8-ю армию, она действует на Воронежском направлении. Пойдешь?
— В 8-ю армию с удовольствием. Но почему так сразу начальником? У меня же никакой подготовки к вашей работе нет.
— Ну это ты брось. Мы с тобой, Иван Яковлевич, одну школу проходили — тюрьмы и ссылки. Могу тебе по секрету признаться, подготовка неплохая. По своему опыту знаю.
— А кто же будет моим непосредственным начальником? — поинтересовался Жилин.
— Я, — ответил Дзержинский. — Вот только что перед твоим приходом фельдъегерь привез.
И Феликс Эдмундович передал Жилину приказ Реввоенсовета республики от 27 августа 1919 года о своем назначении председателем Особого отдела ВЧК.
— После прорыва фронта 14-й армии и выхода в наши тылы казачьего корпуса генерала Мамонтова Центральный Комитет признал необходимым, чтобы я, как член ЦК и председатель ВЧК, возглавил и Особый отдел, — пояснил Дзержинский.
— Ну в таком случае согласен! — Жилин шутливо развел руками. Дзержинский снова заметил озорные искорки в его глазах и узнал прежнего, нолинского Жилина.
— Прекрасно! Сегодня же постараюсь провести твое назначение через Оргбюро.
— Последний вопрос, и я не буду больше отнимать твое драгоценное время, — сказал Иван Яковлевич, поглядывая на висевший за спиной у Дзержинского плакат: «Дорога каждая минута». — Когда ехать и у кого я могу получить инструктаж о своих задачах и организации работы?
— Задачи в общей форме определены в том же письме ЦК, с которого ты сам начал наш разговор. — Дзержинский взял лежавший на столе четвертый номер «Известий ЦК РКП (б)», нашел нужную страницу и прочел: — «Наше дело — ставить вопрос прямо. Что лучше? Выловить ли и посадить в тюрьму, иногда даже расстрелять сотни изменников из кадетов, беспартийных, меньшевиков, эсеров, «выступающих» (кто с оружием, кто с заговором, кто с агитацией против мобилизации, как печатники или железнодорожники из меньшевиков и т. п.) против Советской власти, то есть за Деникина? Или довести дело до того, чтобы позволить Колчаку и Деникину перебить, перестрелять, перепороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян? Выбор не труден.
Вопрос стоит так и только так»[48].
Ну а подробный инструктаж получишь перед отъездом. Кстати, — продолжал Дзержинский, — Особый отдел ВЧК собирается сегодня ночью навестить одного кадета. Приходи сюда к 10 часам вечера, поедем вместе. Вот и получишь первый наглядный инструктаж.
В половине десятого Иван Яковлевич был уже в приемной председателя ВЧК. Решил, что лучше подождать, чем опоздать.
— Садитесь, товарищ Жилин, — приветливо встретил его секретарь. — Феликс Эдмундович на заседании коллегии Народного комиссариата внутренних дел, но к 10 часам обещал обязательно приехать.
Секретарь, видимо, был предупрежден Дзержинским о приходе Жилина.
— Достается вашему председателю, — говорил Жилин, устраиваясь на диване, — член Центрального Комитета и Оргбюро, член Президиума ВЦИК, народный комиссар внутренних дел, председатель ВЧК, а теперь еще и председатель Особого отдела. Как только успевает!
— Прибавьте еще: председатель Московской губернской чрезвычайной комиссии, участие в работе Совнаркома, Совета Обороны, ЦИК польских групп и в различных комиссиях. И, представьте, успевает, — улыбнулся секретарь.
Разговор был прерван появлением Дзержинского. Он быстрым шагом прошел в кабинет, пригласив с собой Жилина.
— А мы только что говорили о твоих многочисленных обязанностях, — сказал Жилин.
— В ближайшие дни к ним прибавится еще одна: член Комитета обороны города Москвы и Московского укрепрайона, — ответил Дзержинский. — А как я с ними справляюсь, — предвосхищая вопрос, продолжал он, — так ведь я не один работаю. У меня много прекрасных помощников, надо только их правильно использовать. Взять, к примеру, членов коллегии ВЧК. Петерс умница, хороший организатор, волевой человек. Он у нас ударная бригада ЧК, если хочешь, пожарная команда, бросаем туда, где горит — то в Киев, то в Петроград. В Москве он возглавляет объединенный штаб по борьбе с контрреволюцией, а сейчас, вероятно, придется направить в Тульский укрепрайон; второй мой зам Ксенофонтов, человек исключительного трудолюбия, исполнителен до педантичности. Мне часто приходится отсутствовать, то в отъездах, то на различных заседаниях; Ксенофонтов всегда на месте, все нити от различных звеньев аппарата ВЧК сходятся к нему. Он подлинный начальник штаба ВЧК, любой вопрос, который ему поручишь, разработает досконально; Лацис — этого медведя посылаем туда, где нужна твердая рука. Владимир Ильич считает Лациса надежнейшим и преданнейшим товарищем; по его предложению Лацис в прошлом году был назначен председателем ЧК на чехословацком фронте, а сейчас мы его послали на Украину, там, как вы знаете, кишмя кишат банды. Лацис может иногда перегнуть палку, но, если вовремя поправить, прекрасный работник, — добавил, немного подумав, Дзержинский.
— Или вот Уралов, один из самых молодых членов коллегии. Энергичный, грамотный работник. Колчака мы бьем и гоним. В ближайшее время освободим Урал и Сибирь. Там предстоит огромная работа по организации местных ЧК и вылавливанию остатков белогвардейщины. Вот и пошлем туда уполномоченным ВЧК Уралова и дадим ему широкие права, не может же он оттуда по всякому вопросу испрашивать санкцию ВЧК.
Раздался телефонный звонок. Из телефонной трубки донеслось: «Гость пришел».
— Пора! — сказал Дзержинский.
Через несколько минут автомобиль остановился в начале Трубного переулка, а Дзержинский и Жилин, встреченные чекистами, направились к дому на углу Трубного и Неопалимого переулков.
Хозяин дома (и еще многих домов) Николай Николаевич Щепкин, или «дядя Кока», как его называли в своей конспиративной переписке белогвардейцы, видный деятель кадетской партии, бывший член Государственной думы, а ныне председатель контрреволюционной организации «Национальный центр», принимал Павла Марковича Мартынова, игравшего роль связного между ним и курьером, прибывшим из Екатеринодара[49] от Деникина.
Когда в доме неожиданно появились чекисты, Щепкин еще не успел извлечь из тайника материалы, подготовленные для отправки в штаб белых. По заведенному порядку Мартынов сначала докладывал «дяде Коке» о том, как прошла предыдущая передача.
Увидев Дзержинского, Щепкин вначале побелел от испуга, но, вспомнив, что улик в доме нет никаких, а тайник надежный, пришел в себя и не без злорадства наблюдал за ходом обыска.
И действительно, тщательный обыск в доме и личный обыск Щепкина и Мартынова ничего не дали. Дзержинский нервничал. Почта должна быть здесь, об этом косвенно свидетельствует и появление Мартынова, роль которого чекистам была известна, а найти не могут. Шло время, Щепкин держался все более самоуверенно, разыгрывал оскорбленную невинность, а Мартынов, если бы и хотел, не мог ничего сказать, так как действительно не знал, где хранятся документы.
Феликс Эдмундович, взяв с собой двух сотрудников, вышел во двор. Вышел за ним и Жилин. Осмотрели все карнизы, наличники и подоконники, заглянули под крыльцо и тоже ничего не нашли. И тогда взгляд Дзержинского задержался на поленнице дров. Поленница как поленница, по краям дрова сложены в клетку, посередине лежат ровно и плотно до самого верха. Видно, что из этой поленницы дров не берут, заботливый хозяин приготовил эти дрова к зиме. Но почему в таком случае на траве угадывается еле заметная стежка-тропочка, ведущая к правой стороне поленницы? Дзержинский подошел к дровам, к тому месту, куда подвели следы, дернул за полено, и… оно оказалось значительно короче других.
— Разобрать! — приказал Дзержинский.
Не прошло и минуты, как из устроенного в дровах тайника была извлечена железная шкатулка с документами.
Увидев Дзержинского со шкатулкой в руках, «дядя Кока» опустил голову. Самоуверенность куда-то улетучилась, и он без препирательств подписал протокол обыска.
На Лубянке Дзержинского и Жилина дожидались Варлаам Александрович Аванесов и сотрудник Особого отдела ВЧК Федор Тимофеевич Фомин. Они только что прибыли с обыска у другого главаря «Национального центра», А. Д. Алферова.
— Вот, Феликс Эдмундович, наши трофеи, — докладывал Аванесов, — это список, по-видимому, членов организации. Я обнаружил его внутри пресс-папье, между крышкой и корпусом. А это товарищ Фомин нашел в старых брюках Алферова. — С этими словами Аванесов передал Дзержинскому записную книжку арестованного. — А какой фокус в ней содержится, пусть Фомин сам расскажет.
— Взгляните, Феликс Эдмундович, в книжке среди других попадаются такие записи: «Виктор Иванович — 452 руб. 73 коп.», «Владимир Павлович — 435 руб. 53 коп.» и другие в том же духе. Не то Алферов им должен, не то они ему должны. Странным мне показались эти кредитные операции, да и фамилий почему-то нет, на код похоже.
Тут Фомин приостановился, осмотрел всех и выложил свой «фокус»:
— Для проверки я взял да отбросил все рубли и копейки и попросил телефонистку соединить меня с номером 4-52-73. Отзывается Виктор Иванович, прошу его срочно приехать к Алексею Даниловичу. Приехал. Остальных решили пока не трогать.
Феликс Эдмундович внимательно рассмотрел маленький листок тонкой бумаги, на котором мелкими буквами были написаны фамилии и инициалы, увидел среди них несколько уже знакомых ему по материалам ВЧК, полистал записную книжку, и лицо его просияло:
— Теперь они все в наших руках!
Содержание шкатулки, найденной у Щепкина, тоже представляло большой интерес. Там были письма, полученные от членов «Национального центра» Н. И. Астрова, В. Степанова и князя Долгорукова, состоявших при штабе Деникина, и ответные письма Щепкина, касающиеся состояния организации и планов заговорщиков в Москве, Найденные в шкатулке свежие сведения о составе, дислокации, вооружении Красной Армии и стратегических планах советского командования, подготовленные к отправке в штаб Деникина, Дзержинский распорядился направить на заключение в Реввоенсовет.
Вскоре пришел ответ. В своем заключении член Реввоенсовета республики Сергей Иванович Гусев подтвердил большую точность сведений, собранных белогвардейскими шпионами. Сведения о состоянии артиллерии Южного фронта расходились со сводкой, имевшейся в Реввоенсовете, всего на четыре орудия да немного не совпадали по калибрам. Но еще «неизвестно, чьи сведения ближе к истине», писал Гусев, официальные советские или шпионские.
Сергей Иванович Гусев, работавший вместе с Дзержинским в Московском комитете обороны, не ограничился направлением в Особый отдел ВЧК официального заключения. Он поздравил Феликса Эдмундовича с крупной победой.
— Трудно себе представить все ужасные последствия, — говорил он, — если бы эти сведения попали к Деникину!
Аресты и материалы, изъятые у членов «Национального центра», повели к раскрытию связанной с ним крупной военной контрреволюционной организации — «Штаба добровольческой армии Московского района». Члены военной организации «Национального центра» работали на руководящих постах во Всероссийском Главном штабе Красной Армии и во многих военных, учреждениях и школах.
Кроме снабжения Деникина шпионскими сведениями, заговорщики ставили своей целью поднять восстание и открыть фронт Деникину.
— Они надеялись захватить Москву хотя бы на несколько часов, завладеть радио и телеграфом, оповестить фронты о падении Советской власти и вызвать, таким образом, панику и разложение в армии, — докладывал Дзержинский Московской городской конференции РКП (б) 24 сентября 1919 года.
— Они предполагали начать выступления в Вешняках, Волоколамске и Кунцеве, отвлечь туда силы, а затем уже поднять восстание в самом городе… Они были настолько уверены в победе, что заготовили даже целый ряд воззваний и приказов…
Указав далее на недочеты в работе советского аппарата, выявленные следствием, Феликс Эдмундович закончил доклад словами:
— Успешность нашей борьбы с заговорами возможна, если все намеченные меры встретят поддержку со стороны каждого партийного товарища в повседневной жизни.
Конференция подтвердила все постановления Комитета обороны и одобрила его политику. «Вместе с тем, — говорилось в резолюции, — конференция приветствует ВЧК за ее энергичную деятельность в деле уничтожения контрреволюционных гнезд в сердце революции».
Веселый и оживленный вернулся Дзержинский с конференции. Рассказал товарищам о новой высокой оценке деятельности ВЧК. Радовало и письмо с фронта, полученное от Жилина. Иван Яковлевич писал о том, что разгром белогвардейцев в Москве в момент, когда деникинцы ведут наступление на Орел и Воронеж, нашел живой отклик на фронте: прекратились панические разговоры о предательстве в штабах, те из военспецов, которые чуть ли не в открытую занимались саботажем, опустили хвосты, стараются изо всех сил, доказывая свою лояльность; политработники используют газетные сообщения о ликвидированных ВЧК заговорах для поднятия боевого духа и дисциплины в войсках.
Жилину особенно понравилось одно место в опубликованном в газетах обращении ВЧК «Ко всем гражданам Советской России»: «Рабочие! Посмотрите на этих людей! Кто собрался вас продать и предать? Тут и кадетские домовладельцы, и «благородные» педагоги со шпионским клеймом на лбу, офицеры и генералы, инженеры и бывшие князья, бароны и захудалые правые меньшевики. Князь Андронников, друг Распутина и Николая, обвинявшийся в германском шпионаже, кадет Щепкин, председатель «Национального центра», генерал Махов, барон Штремберг и меньшевик Розанов, попавший в засаду на квартире истинно русского шпиона Вильгельма Штейнингера, — все смешалось в отвратительную кучу разбойников, шпионов, предателей, продажных слуг английского банка…»
«Узнаю твою руку, дорогой Феликс Эдмундович. Это ведь прямо поэма в прозе, а ты еще в Нолинске слыл поэтом» — так Иван Яковлевич заканчивал свое письмо.
6
Огромной силы взрыв разрушил особняк графини Уваровой в Леонтьевском переулке, где помещался Московский комитет Российской Коммунистической партии. Бомба была брошена прямо в зал заседаний, где в тот момент проходило собрание партийного актива, лекторов и агитаторов.
Дзержинский с группой чекистов прибыл к месту взрыва одним из первых. Пожарные уже тушили пламя. Поднятая по тревоге дежурная часть батальона ВЧК устанавливала оцепление, оттесняла толпу зевак.
Феликс Эдмундович обошел здание. Фасад со стороны Леонтьевского пострадал сравнительно мало, но зато от половины дома, выходившей на Чернышевский переулок, почти ничего не осталось. В полу зала заседаний зияла огромная брешь, две толстые балки переломаны, железная крыша сорвана и отброшена в сад, туда же вывалилась вся задняя стена дома.
Прервав заседание, прибежали в Леонтьевский депутаты пленума Моссовета и включились в спасательные работы.
Мимо Дзержинского несли убитых и раненых. Мелькнули знакомые черты. Феликс Эдмундович остановил носилки. Сомнений не было, на них лежал изуродованный труп секретаря Московского комитета партии Загорского. Еще один товарищ пал от руки врага. Дзержинский особенно сдружился с Загорским за время совместной работы в Комитете обороны. Только вчера Владимир Михайлович выступал на конференции с обзором деятельности Московского комитета обороны, а сегодня…
Чекисты осматривали место происшествия, пытаясь по следам и опросу очевидцев установить картину преступления и приметы террористов. Дзержинский тяжело вздохнул и направился к ним.
В стороне длинный скорбный ряд жертв. Рядом с Загорским лежат: сотрудница губернского комитета РКП(б) Волкова Мария; командир полка 1-й Московской дивизии Титов Григорий Васильевич, рабочий-маляр, коммунист с 1912 года; бывший политкаторжанин Сафонов Александр, член Реввоенсовета 12-й армии; секретарь железнодорожного райкома РКП (б) Николаева Анфиса Федоровна. Всего 12 убитых.
Пятьдесят пять раненых были отправлены в больницы или получили помощь на месте. Среди них Е. М. Ярославский, А. Ф. Мясников, М. С. Ольминский, Ю. М. Стеклов, М. Н. Покровский и другие видные партийные и советские работники.
Никто не сказал Дзержинскому ни слова упрека. Но ему-то казалось, что и мертвые и живые смотрят на него с немым укором. Опять, как и год назад, после покушения на Ильича, его гложет мысль: «Недоглядели, прозевали». Вспомнил, что на этом собрании должен был выступать Владимир Ильич… Сердце похолодело от мысли, что могло бы произойти, если бы Ленин не задержался случайно в Моссовете.
Но предаваться горю и заниматься самобичеванием не было времени. Дзержинский все силы МЧК бросил на розыск преступников. Вскоре выяснилось, что взрыв подготовлен и осуществлен контрреволюционной организацией, именующей себя «Всероссийским повстанческим комитетом революционных партизан», в который входили «анархисты подполья» и группа левых эсеров, возглавляемая Донатом Черепановым, более известным в «комитете» под кличкой «Черепок». Во главе «комитета», или «штаба», как он иначе именовался, стоял анархист Казимир Ковалевич, хорошо известный чекистам по делу ограбления «Центротекстиля» и другим крупным «эксам»[50].
МЧК выявила в Москве несколько конспиративных квартир, принадлежавших анархистам. За квартирами установили наблюдение, а затем организовали там засады. На квартире в Глинищевском переулке удалось задержать одиннадцать человек, и среди них Гречанинова (он же Гречанников, он же Гречаник) и Цинципера, непосредственных участников взрыва. На квартире по Рязанскому шоссе попалось еще семь.
Некоторые анархисты при аресте оказывали отчаянное сопротивление, пытались бежать, стреляли в чекистов, бросали гранаты. В этих схватках были убиты Казимир Ковалевич ц Петр Соболев, тот самый, который бросил полуторапудовую бомбу в зал заседаний МК. Были убиты или арестованы почти все главари и активные члены «повстанческого штаба» и организации анархистов подполья. Но считать эту контрреволюционную организацию разгромленной чекисты не могли. В ходе следствия выяснилось, что анархисты подполья, кроме взрыва в помещении Московского комигета, готовили взрыв в Кремле и еще несколько террористических актов. Приближалась вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, а найти мастерскую, где хранилась взрывчатка и изготовлялись бомбы, не удавалось. Не удавалось раскрыть и подпольную типографию. Все это очень волновало Дзержинского и чекистов, занимавшихся расследованием.
— Интересующие нас адреса, несомненно, должен знать Гречанинов. Он среди анархистов фигура: прибыл от Махно, руководитель многих «эксов», непосредственный участник взрыва в Леонтьевском переулке, — докладывал Дзержинскому старый большевик Василий Николаевич Манцев, назначенный недавно председателем Московской чрезвычайной комиссии.
Дзержинский решил сам поговорить с Гречаниновым.
Гречанинов вел себя нагло, назвать имена и адреса своих сообщников, оставшихся на свободе, отказался наотрез.
— Напрасная бравада, Гречанинов, всю Москву перероем, каждый дом обыщем, а все равно всех переловим, — сказал Дзержинский.
— А разве под Москвой нельзя жить? — с ухмылкой ответил бандит.
Когда Гречанинова увели, Дзержинский обратился к Манцеву:
— Василий Николаевич, прикажите вести дальнейшее расследование в направлении выявления конспиративных квартир, занимаемых анархистами в подмосковных поселках. — И, подумав, добавил: — Вернее всего, дач. Для своих целей они должны арендовать всю дачу целиком.
— А вы не думаете, Феликс Эдмундович, что Гречанинов толкает нас на ложный путь, хочет заставить распылить силы?
— Нет, я видел его глаза, он не врет, — твердо ответил Дзержинский.
Снова началась кропотливая работа над архивными материалами и упорные допросы арестованных.
Первым раскрыл карты Афанасий Тямин. Он не совершил серьезных преступлений и надеялся чистосердечными показаниями заработать снисхождение. Манцев положил протокол его допроса на стол Дзержинского.
«Типография, а может быть, и адские машины находятся на даче в Краснове по Казанской железной дороге, — читал Дзержинский. — Эту дачу дал подпольщикам некто Падевич, служащий Продпути (у Ильинских ворот). Вероятно, на даче есть Таня (жила на Арбате, 30, 58), затем наборщик Паша, Митя, может быть, Соболев, Азов, Барановский. Прислуживает на даче девушка, которая не связана совершенно с подпольщиками и находится лишь в услужении».
— Спасибо, Василий Николаевич!
Дзержинский почувствовал, как тяжелый камень свалился с его груди.
В ночь на 5 ноября отряд чекистов под руководством Манцева и начальника отдела МЧК по борьбе с контрреволюцией Станислава Адамовича Мессинга оцепил дачу. При попытке проникнуть внутрь анархисты открыли огонь. Ожесточенная перестрелка продолжалась около двух часов, а затем сильный взрыв поднял дачу в воздух.
Когда дым и пыль рассеялись, чекисты нашли на месте, где была дача, обгоревшие части типографского станка, оболочки бомб, револьверы и несколько трупов. Все, что осталось от «анархистов подполья» и «Штаба революционных партизан».
Склад динамита в поселке Одинцово был взят тихо, без всяких осложнений.
После взрыва в здании Московского комитета новый поток писем и резолюций хлынул в ВЧК и центральные партийные и советские органы. В ответ на акты массового террора трудящиеся требовали снова применить массовый террор к врагам Советской власти.
Положение на фронтах резко изменилось. В битве под Орлом было положено начало разгрома Деникина, а в боях за Воронеж Буденный наголову разгромил лучшие, наиболее маневренные соединения деникинской армии — конные корпуса Шкуро и Мамонтова. Теперь уже белогвардейцы под мощными ударами Красной Армии, бросив мечты о Москве, неудержимо откатывались на юг.
Центральный Комитет партии принял решение: «Советская власть в России в настоящее время настолько крепка и сильна, что может, не впадая в нервность, сохраняя обычный темп работы трибуналов и комиссий по борьбе с контрреволюцией, не допуская случайных ошибок, которые имелись в прошлом году, навести страх на врагов и обезвредить их организации»[51].
7
В Петроградскую губчека красноармеец привел задержанную им девушку. Девушка обронила на улице сверток, а когда он поднял его и хотел отдать, бросилась бежать. Это показалось подозрительным — кто же бегает от собственных вещей, — поэтому и привел. Теперь разбирайтесь, а ему пора в часть.
В свертке оказались карты и схемы с обозначением военных объектов. После первого же вопроса девушка разревелась. Сказать, от кого получила и кому несла свой злополучный сверток, упорно отказывалась, но свое имя, адрес и где работает отец, она все-таки назвала.
Отец девушки оказался французом, постоянно проживающим в России. Увидев дочь и документы, он не стал запираться. Да, он работал на резидента английской разведки господина Дюкса, но дочь ничего не знала, она просто выполняла его поручения, чисто технические. Он просит ее отпустить…
Подписывая протокол допроса, француз заявил: «Если бы не случай, вы бы меня не поймали».
«Ошибаетесь, — ответил ему тогда Дзержинский, — дочь ваша потеряла сверток действительно случайно, но красноармеец не случайно обеспокоился и задержал ее. Именно в том, что это не случайно, — сила ЧК».
Этот эпизод вспомнился Феликсу Эдмундовичу, когда он на VII Всероссийском съезде Советов слушал заключительное слово-Ленина по докладу ВЦИК и СНК.
Владимир Ильич отвечал на выступление меньшевика Дана, на его выпады против ЧК.
«…Когда Советская власть переживает трудные минуты, — слышен голос Ленина, — когда среди буржуазных элементов организуются заговоры и когда в критический момент удается эти заговоры открыть, то — что же, они открываются совершенно случайно? Нет, не случайно. Они потому открываются, что заговорщикам приходится жить среди масс, потому что им в своих заговорах нельзя обойтись без рабочих и крестьян, а тут они в конце концов всегда натыкаются на людей, которые идут в эти, как здесь говорят, плохо организованные ЧК и говорят: «А там-то собрались эксплуататоры»[52].
Как метко сказано! Феликс Эдмундович вместе с делегатами съезда горячо аплодирует Ильичу.
Слова Ленина о людях, которые идут в ЧК и говорят о том, где искать заговорщиков, не выходили у Феликса Эдмундовича из головы и после окончания заседания. По дороге в ВЧК, поеживаясь от холода — дело было в декабре, и солдатская шинель плохо защищала от ветра, — он вспоминал о том, как с заявления молоденькой сестры милосердия из Покровской общины и письма рабочего завода «Каучук» Нифонтова началось разоблачение савинковского «Союза защиты»; как моряк Ораниенбаумского воздушного дивизиона Солоницын помог раскрыть крупный белогвардейский шпионский заговор в Петрограде; вспоминал врача, пришедшего ночью к нему в ВЧК и поведавшего о том, что начальник Московской окружной артиллерийской школы Миллер втянул его в контрреволюционную организацию. Наблюдение, установленное тогда за Миллером, помогло наиболее полно раскрыть все звенья «Штаба добровольческой армии Московского района»…
Да, сила ЧК именно в том, что широкие массы трудящихся воспринимают дело защиты Советской власти как свое собственное, кровное дело.
Начался новый, 1920 год. Белые армии разгромлены на всех фронтах. «Верховный правитель России» адмирал Колчак взят в плен, а с освобождением от белых Ростова-на-Дону деникинская армия как единое целое перестала существовать, и ее добивали по частям. Советская республика получила возможность заняться восстановлением разрушенного войной народного хозяйства. VII съезд Советов главное свое внимание уделил программе мирного социалистического строительства.
— Товарищи! Победы Красной Армии и разгром контрреволюции вовне и внутри создают новые условия борьбы с контрреволюцией, — говорил Дзержинский на заседании коллегии ВЧК. — Владимир Ильич в своем докладе на VIII Всероссийской конференции РКП (б) говорил, что террор навязала нам буржуазия и что мы первые сделали шаги, чтобы ограничить его «минимальнейшим минимумом», как только мы покончим с нашествием мирового империализма и военными заговорами. Это установка нашей партии, и мне кажется, пришло время осуществить ее на деле.
И Дзержинский предложил, чтобы ВЧК отказалась от применения смертной казни и вошла во ВЦИК и Совнарком с просьбой утвердить это решение и распространить его и на судебные органы.
Ленин горячо поддержал инициативу Дзержинского. Президиум ВЦИК и Совнарком издали совместный декрет об отмене высшей меры наказания как по приговорам ВЧК и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских, а также Верховного при ВЦИК трибуналов. В основу декрета почти без изменений легло постановление коллегии ВЧК, а под подписью Ленина стояла подпись Дзержинского.
В своем докладе на первой сессии ВЦИК седьмого созыва Владимир Ильич Ленин выделил этот декрет как особенно важное постановление в области внутренней политики. Он подчеркнул, что шаг, который сделал Дзержинский и который Советом Народных Комиссаров был одобрен, опровергает ложь, распространяемую буржуазной пропагандой, будто бы коммунистическая власть опирается на терроризм. «Само собой понятно, — указывал Ленин, — что всякая попытка Антанты возобновить приемы войны заставит нас возобновить прежний террор…»[53]
А на следующий день открылась IV конференция губернских чрезвычайных комиссий, чтобы обсудить вопросы работы ЧК в новых условиях.
Перед началом заседания встал Ксенофонтов:
— Товарищи! Вы все, конечно, знаете о награждении Феликса Эдмундовича Дзержинского орденом боевого Красного Знамени.
Зал взорвался аплодисментами. Переждав их, Иван Ксенофонтовцч продолжал:
— Но, возможно, не все успели прочесть само постановление ВЦИК. Разрешите его прочесть. «С того момента, как побежденная рабочим классом буржуазия перешла в борьбе с Советской властью к организации заговоров, террористических покушений и мятежей, тяжелая и полная опасностей задача борьбы с контрреволюцией была возложена ВЦИК на Феликса Эдмундовича Дзержинского.
В порученном ему ответственном деле т. Дзержинский в качестве председателя Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем проявил крупные организаторские способности, неутомимую энергию, хладнокровие и выдержку, постоянно ставя интересы рабочего класса превыше всех иных соображений и чувств. — Ксенофонтов посмотрел в зал и, повысив голос, повторил: — Превыше всех иных соображений и чувств. Работа т. Дзержинского, обеспечивая спокойный тыл, давала возможность Красной Армии уверенно делать свое боевое дело.
Ныне, когда победы над контрреволюцией на внешних фронтах и ее разгром в тылу дали возможность Советской власти отказаться от применения жестокого метода террора, ВЦИК находит справедливым наградить председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского ордешш Красного Знамени».
Конференция приняла текст приветствия своему руководителю.
— Не я, а вся ЧК награждена этим орденом, — сказал в ответном слове Дзержинский.
Глава XIII За свободную Польшу
1
Дзержинский уговорил Владимира Ильича, несмотря на всю его занятость — он готовился к IX съезду партии, — выступить на IV конференции губернских чрезвычайных комиссий.
К удивлению Дзержинского, Владимир Ильич не очень сопротивлялся. Он и сам считал полезным и нужным выступить перед руководителями чекистских органов. Чрезвычайные комиссии были одними из наиболее четко работающих и дисциплинированных частей советского государственного аппарата, наиболее близкими к партии по своему составу; ни в одном ведомстве, кроме ЧК, не было такого положения, чтобы все руководящие работники были коммунистами. И Владимир Ильич решил привлечь аппарат чрезвычайных комиссий к решению огромных по сложности и трудности задач хозяйственного строительства, вставших перед разоренной долгими годами войны страной.
Когда смолкли овации, вызванные появлением Ленина в президиуме и на трибуне, он коротко обрисовал внутреннее и международное положение Советской России.
— Коренное изменение состоит в том, что главные силы белогвардейской контрреволюции сломаны после поражения Юденича и Колчака и после победы над Деникиным, — говорил Ленин. — …Но более чем вероятно, что попытки тех или иных контрреволюционных движений и восстаний будут повторяться, и… нам по-прежнему надо сохранять полную боевую способность к отражению врага… Сохраняя эту боевую готовность, не ослабляя аппарата для подавления сопротивления эксплуататоров, мы должны учитывать новый переход от войны к миру, понемногу изменяя тактику, изменяя характер репрессий.
Владимир Ильич говорил о «бескровном фронте труда».
Теперь этот фронт выдвигается на первый план с точки зрения строительства и укрепления рабоче-крестьянской власти и восстановления разрушенного хозяйства.
— …Главный кризис у нас сейчас — транспортный… В настоящее время наш транспортный кризис доходит до того, что железные дороги грозят полной остановкой. — Владимир Ильич не хотел скрывать от чекистов всю тяжесть положения на транспорте, близкого к катастрофе. Ленин говорил чекистам, что решающее условие для восстановления транспорта — повышение сознательности масс и укрепление дисциплины.
— ЧК должны стать орудием проведения централизованной воли пролетариата, орудием создания такой дисциплины, которую мы сумели создать в Красной Армии.
ЧК должны опираться на коммунистические ячейки, на профсоюзы — объединить свою работу с пропагандой и агитацией, вызвать в массе железнодорожников сознательное отношение к борьбе…
Владимир Ильич закончил свою речь пожеланием в новой работе таких же побед, каких достигли в области вооруженной борьбы[54].
Ленинские указания были воплощены Дзержинским в положении о транспортном отделе ВЧК, одобренном конференцией. Особое внимание уделялось тесному контакту транспортного отдела ВЧК с Народным комиссариатом путей сообщения (НКПС), оказанию содействия органам путей сообщения, недопущению вмешательства отдельных лиц и организаций в дела транспорта и предотвращению нарушения нормального движения.
После конференции Дзержинский пригласил к себе начальника транспортного отдела ВЧК Фомина.
— На последнем заседании Совета рабоче-крестьянской обороны, изыскивая источник тех сил, которые можно двинуть на транспорт, меня спросили, не может ли ВЧК уделить известный процент ответственных работников. Я сказал, что это наша прямая обязанность. Так вот, Василий Васильевич, речь идет о том, чтобы вас назначить заместителем наркома путей сообщения, Вы, как никто другой, знаете все недостатки и слабые места транспорта, вам и карты в руки. А мы вам поможем, отдадим для непосредственной работы на транспорте всех бывших железнодорожников, работающих в Чека.
Фомин понял, что вопрос о его назначении уже решен в ЦК и отказываться бесполезно.
— Но отдать чекистов на транспорт — этого еще мало, я прошу, чтобы и ВЧК усилила свою помощь транспорту.
— Вот это деловой разговор, — засмеялся Дзержинский, — я думаю, что мы с вами, как с новым заместителем наркома, сумеем наладить тесный контакт. Кстати сказать, вы знаете, что Совнарком несколько дней назад образовал чрезвычайную комиссию по борьбе со снежными заносами на железных дорогах и назначил меня ее председателем. Как председатель Чрезснегпути, нарком внутренних дел и председатель ВЧК, я уже отдал распоряжение о выделении пятидесяти процентов личного состава войск внутренней охраны на расчистку путей, а чрезвычайные комиссии обязал взять под свой контроль выполнение всех распоряжений советских органов по борьбе со снежными заносами. Вот вам и конкретная помощь ЧК транспорту!
В этот вечер долго просидели вместе Дзержинский и Фомин, обсуждая, что надо сделать, чтобы быстрее справиться с транспортным кризисом.
К Дзержинскому пришел его заместитель по Особому отделу ВЧК Менжинский. По его лицу нетрудно было догадаться, что он чем-то очень озабочен. Так оно и было.
— Феликс Эдмундович, в ВЧК за последнее время усилился поток жалоб от руководителей советских учреждений и хозяйственных организаций. ЧК нарушают декрет от 14 декабря 1918 года о порядке ареста специалистов. Не предупреждают руководство о предполагаемом аресте сотрудников этих учреждений и, таким образом, лишают возможности подготовить замену на место арестованных. Это, конечно, расстраивает работу, наносит ущерб общему делу. Я считаю, — продолжал он, — что сейчас такая практика особенно недопустима…
Вячеслав Рудольфович Менжинский, член партии с 1902 года, профессионал-революционер и в прошлом партийный журналист, в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания работал в бюро военных организаций большевиков. Еще 7 (20) декабря 1917 года Совнарком включил его в первый состав коллегии ВЧК, но тогда Менжинский не успел приступить к этой работе; его перебросили сначала в Наркомфин, затем на дипломатическую работу и только в сентябре 1919 года снова направили в ВЧК.
Дзержинский хорошо знал Вячеслава Рудольфовича и очень ценил его широкую эрудицию и необыкновенный оперативный талант; Менжинский мог по первичным материалам безошибочно определить, что за ними кроется — серьезное дело или они выеденного яйца не стоят. Кроме того, он был еще и полиглот, анал добрую дюжину иностранных языков.
Феликс Эдмундович очень обрадовался приходу в ВЧК Менжинского и всегда внимательно прислушивался к его мнениям и предложениям.
— Согласен с вами, Вячеслав Рудольфович. Страшная эта вещь — сила привычки. На конференции много говорили об изменении методов работы, а действуем все еще по старинке: сначала арестуем, а потом уже разбираемся.
Надо поставить вопрос шире, — продолжал Дзержинский. — Прежде чем арестовать того или иного гражданина, пусть подумают и выяснят, нужно ли эхо. Часто можно, не арестовывая, вести дело, особенно по должностным преступлениям. Этим ЧК достигнут того, что будут арестованы только те, коим место в тюрьме, и не будет ненужной и вредной мелочи, от которой только одни хлопоты. Загромождение ЧК всякой мелочью лишает их возможности заниматься серьезным делом…
Менжинский, обладавший замечательной памятью, постарался дословно включить эти слова Дзержинского в проект приказа.
Прежде чем его подписать, Феликс Эдмундович добавил еще один пункт: «Председатели ЧК, отвечая перед ВЧК к Советской властью за работу своих учреждений, а также и члены коллегии ЧК обязаны знать все декреты и ими в своей работе руководствоваться. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибок и самим не превратиться в преступников против Советской власти, интересы коей мы призваны блюсти».
2
25 апреля 1920 года белополяки начали наступление на Украину и Белоруссию. Главный удар польские войска наносили по 12-й и 14-й советским армиям, стремясь разгромить их и захватить Украину.
А в Крыму изготовился к удару во фланг и тыл войск Юго-Западного фронта генерал Врангель. Польша и Врангель получали щедрую помощь от Антанты. По образному выражению Ленина, это были две руки международного империализма. Империалисты надеялись, что Советская республика, ослабленная и разоренная гражданской войной, не выдержит этого нового комбинированного удара.
Украина, лишь недавно освобожденная от деникинцев, петлюровцев и иных белогвардейцев, кишела крупными и мелкими бандами. Батька Махно и «атаманы» помельче рангом нападали на железнодорожные станции и поезда, громили советские учреждения и склады, срывали продразверстку. А в самих советских учреждениях проникшие туда белогвардейские офицеры, сынки помещиков и фабрикантов, торговцы и интеллигенты из эсеров и меньшевиков саботировали чуть ли не в открытую, делали все, чтобы расстроить работу советского аппарата.
Таково было положение в тылу армий Юго-Западного фронта, отступавших с тяжелыми боями перед вчетверо превосходящими их силами врага. Но уже прибывали на Юго-Западный фронт подкрепления, двинутые туда по указанию Центрального Комитета партии, и в их числе Первая Конная армия и знаменитая 25-я Чапаевская дивизия. А для укрепления тыла Юго-Западного фронта 26 апреля 1920 года Политбюро ЦК РКП (б) принимает решение о направлении на Украину Дзержинского.
Феликс Эдмундович выехал туда не сразу. Он знал, что молодые чрезвычайные комиссии на Украине остро нуждаются в работниках, нужно укрепить и войска внутренней охраны. «Один в поле не воин», — Дзержинский решает взять с собой большую группу московских чекистов и сильный отряд войск внутренней охраны (ВОХР).
— Прошу вас немедленно и в самом срочном порядке заняться комплектованием нашей украинской экспедиции, — говорил Дзержинский верному «начальнику штаба» ВЧК Ксенофонтову и начальнику войск внутренней охраны Корневу, вернувшись с заседания Политбюро.
Я целиком полагаюсь в этом деле на вас, так как завтра в Совнаркоме мой доклад по делу кооператоров, а затем засяду за последние приготовления к Всероссийскому первомайскому субботнику. Субботник в таком масштабе проводится впервые, и Владимир Ильич придает его организации первостепенное значение.
«Превратить международный пролетарский праздник 1 мая, выпадающий в этом году на субботу, в грандиозный Всероссийский субботник», — записал в своих решениях IX съезд РКП (б)[55].
Организация субботника была возложена на Феликса Эдмундовича Дзержинского как на председателя Главкомтруда[56] — была у него и такая должность.
К большой радости Дзержинского, субботник повсюду прошел с большим успехом. В Москве вместе с кремлевскими курсантами работал Владимир Ильич, а «всесоюзный староста» — Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин отработал смену за станком на заводе Михельсона. Участие их в субботнике придавало ему особо праздничный характер.
Дзержинский приехал в Харьков 5 мая. Вместе с ним прибыл целый эшелон, 1400 человек — московские чекисты, командиры и бойцы войск внутренней охраны.
На перроне их встречали председатель Всеукраинской чрезвычайной комиссии и начальник особого отдела Юго-Западного фронта Манцев, сотрудники ВУЧК, Народного комиссариата внутренних дел Украины, харьковского сектора ВОХР[57], особисты, представители центральных и харьковских организаций.
Феликс Эдмундович сердечно поздоровался с Манцевым и тут же дал ему нагоняй за пышную встречу. Феликс Эдмундович терпеть не мог никакой помпезности.
— Я же не виноват, что у вас так много должностей, — посмеивался Василий Николаевич, — вот все подчиненные и явились встречать свое начальство. Ничего не поделаешь…
16 мая делегаты IV Всеукраинского съезда Советов с волнением слушали приветственную речь Дзержинского, выступавшего от имени ВЦИК.
— Товарищи! Два с половиной года революции и долгие годы борьбы с царским режимом спаяли нас в единое целое, и сейчас, когда польские паны, холопы международного империализма напали на братскую Украину, нет того города России, нет того уголка и того уезда, где во всеобщем порыве все не спешили бы на помощь в кровавой борьбе для поддержки рабочих и крестьян Украины.
В конце съезда президиум предложил направить Ленину и Калинину телеграмму с выражением стремления трудящихся Украины к единству с Советской Россией в борьбе с белополяками.
Неожиданно поднялся кряжистый дядька в крестьянской свитке, с сивыми обвислыми усами.
— Це добре, — пробасил он так, что каждое его слово хорошо было слышно во всем огромном зале, — а тильки прошу к адресу дописать «и товарищу Дзержинскому».
Так и была принята под дружные аплодисменты делегатов приветственная телеграмма в три адреса — Ленину, Калинину и Дзержинскому.
В съездовские дни в Харькове проходили многочисленные митинги и собрания. На один из таких митингов в театр «Миссури» зашел молодой инженер Бардин.
Много лет спустя Иван Павлович Бардин станет знаменитым ученым, академиком и запишет в своих воспоминаниях: «Тот вечер не сотрется в памяти. Я не забуду этот митинг в тускло освещенном зале, где слова большого человека взывали к сердцам людей, заставляли их кипеть гневом, воспламеняли надежду. Я не забуду образ Дзержинского, глубоко запавший мне в душу образ храброго воина с несокрушимой волей и всепобеждающей верой в великую правду, которую он убежденно и гордо нес впереди себя, как боевое знамя… Что-то важное, большое совершилось во мне в тот вечер. Я понял, что ые только рассудком, сердцем приобщаюсь к новой жизни».
Прошла неделя, другая, и Феликс Эдмундович заметил, что он по горло загружен работой, не имеющей, казалось бы, прямого отношения к борьбе с контрреволюцией и бандитизмом. Впрочем, как посмотреть. Разве общая внутренняя политика, проводимая Советской властью на Украине, не отражается на отношении местного населения к батьке Махно и петлюровскому подполью? И Дзержинский входит в состав комиссии по определению внутренней политики УССР и делает доклад о ее работе на заседании Политбюро КП(б)У.
Но чтобы на местах эта политика проводилась правильно и не было искривлений партийной линии, нужно очистить партийные организации от проникших в них случайных и даже чуждых людей. И ЦК РКП(б) возлагает на Дзержинского и Артема (Сергеева) ответственность за работу по перерегистрации членов Компартии Украины.
Каждый день все новые обязанности. ЦК КП(б)У вводит его в комиссию по сокращению штатов центральных и местных советских учреждений; он член комиссии по улучшению продовольственных заготовок, а Всеукркомтруд постановляет: «совместно с т. Дзержинским пересмотреть все свои постановления…»
Ксенофонтов получил письмо от Дзержинского. Сначала шли разные текущие дела: информация о положении дел на Украине, поручения. В конце Феликс Эдмундович писал: «Меня прельщает мысль остаться здесь на более продолжительный срок, не для гастролей. Осев здесь и имея опору в ЦК РКП, я мог бы в продолжение 2–3 месяцев дать возможность окрепнуть ЧК», и просил поставить этот вопрос на рассмотрение ЦК.
Иван Ксенофонтович почесал переносицу и тяжело вздохнул. Было бы лучше, думал он, если бы Феликс Эдмундович поскорее вернулся в Москву, особенно сейчас, когда ВЦИК и Совет Труда и Обороны ввели военное положение почти во всех губерниях европейской России и постановили придать военному положению «самый решительный и непреклонный характер». Но Феликсу Эдмундовичу виднее. Чего-чего, а от трудностей и опасности он не бегает. Значит, там, на Украине, важнее всего сейчас присутствие председателя ВЧК.
Ксенофонтов еще раз вздохнул и принялся составлять записку в ЦК.
Письмо от мужа получила и Софья Сигизмундовна. «…А я собой недоволен, — писал Феликс. — Вижу и чувствую, что мог бы дать больше, чем даю… Надо уметь работать так, чтобы ежедневно давать отдых мыслям, нервам. Я пишу об этом, часто думаю, но знаю, что это для меня лишь благие пожелания. Нет у меня соответствующего характера». «Вероятно, я должен буду остаться здесь на более продолжительное время, пока ЦК не отзовет меня обратно в Москву…» — писал он далее, а в конце спрашивал: «Как быть тогда с тобой и Ясиком?»
Софья Сигизмундовна улыбнулась. Ведь знает прекрасно, что она, коммунистка, не может и не будет возражать, если партия найдет нужным задержать его на Украине. И разве впервые ей провожать его на боевые дола, а самой оставаться с Ясиком?
3
— Этого не может быть! — воскликнул Роберт Петрович Эйдеман, когда ему сказали, что он должен сдать должность Дзержинскому. Он же нарком, член правительства, и вдруг будет подчинен реввоенсовету одного из многих фронтов, командующему, даже начальнику штаба фронта?!
— И тем не менее это так, — сказал член Реввоенсовета и протянул Эйдеману приказ от 29 мая 1920 года о назначении Дзержинского Феликса Эдмундовича начальником тыла Юго-Западного фронта.
Приказ — это уже не разговор, тут ошибки быть не могло, и все-таки это назначение плохо укладывалось в голове Эйдемана, привыкшего к воинской субординации. Он пожал плечами.
— Вы не знаете Феликса Эдмундовича, — сказал Манцев. Кроме руководства особым отделом, он по совместительству был заместителем начальника тыла фронта и присутствовал при разговоре. — Дзержинского не интересует должность или кто кому будет подчинен. Для него важно одно — дело.
Когда Эйдеман вернулся в управление тыла, Дзержинский был уже там. Передача дел состоялась немедленно. Знакомиться с работниками ему не было необходимости. Он бывал в управлении почти ежедневно и до своего назначения; помогал им разбираться в крайне сложной обстановке борьбы с политическим бандитизмом.
А спустя несколько дней начальник штаба тыла Мармузов доложил о том, что окруженная накануне банда прорвалась и ушла из-под удара почти без потерь.
— К сожалению, это довольно обычная история, у нас не хватает сил, чтобы сделать окружение достаточно плотным. Кроме того, у нас пехота, а бандиты все на конях и на тачанках, — отвечал Мармузов на вопрос Дзержинского о причинах срыва операции.
Феликс Эдмундович засел за изучение структуры, численности и дислокации войск тыла фронта. Вместе с Манцевым и Мармузовым тщательно анализировал проведенные за последнее время операции. Затем созвал на совещание работников штаба тыла и штаба харьковского сектора ВОХР.
— Политический бандитизм захлестывает целые районы, кулацкие банды образуют как бы мост между наступающими поляками и Врангелем. А мы пока что очень слабо этому противодействуем. Об этом говорят результаты наших операций. Необходимо изменить как организацию, так и тактику борьбы с бандитизмом. Разве это нормально, когда войска, выделяемые для борьбы с бандами на участках 12, 13 и 14-й армий, подчиняются командующим армиями, а не начальнику тыла фронта, действуют разрозненно, без единого плана? Каждый стремится не к уничтожению банды, а лишь к тому, чтобы выбить ее со своего участка… к соседу!
Попытки окружения банд малыми силами тоже ничего не дают. Мы должны создать сильные маневренные группы, способные преследовать банды до полного их уничтожения, — продолжал Дзержинский.
— А где взять кавалерию?
— Все организационные вопросы, товарищ Мармузов, я беру на себя. А вы вместе со штабом ВОХР займитесь разработкой единого плана ликвидации бандитизма в тылу фронта…
К Ксенофонтову пришел начальник войск ВОХР Корнев.
— Не знаю, как быть. Опять Феликс Эдмундович хочет нас «ограбить». Сразу по прибытии в Харьков потребовал «для первых энергичных мер» направить в его распоряжение батальон МЧК. Направили. К 10 июня перебросили на Украину из центральных губерний еще десять батальонов войск ВОХР. Сейчас требует восемьсот кавалеристов.
— Ну и что ж?
— Боязно как-то. Ведь только недавно ликвидировали крупное восстание в Мензелинском, Чистопольском, Бугульминском и Бугурусланском районах. Сами ориентируете, что и в других местах неспокойно, а тут — гони все на Украину!
Ксенофонтов ответил не сразу. Помолчал, подумал, побарабанил пальцами по столу.
— Вот что, товарищ Корнев, — наконец сказал он, — ты человек военный и лучше меня знаешь, что приказы не обсуждаются. Вот и действуй. Как-нибудь обойдемся.
Уже через неделю Корнев доложил Дзержинскому, что от каждого сектора ВОХР направлено в Харьков по 200 кавалеристов.
Реввоенсовет Юго-Западного фронта тоже поддержал Дзержинского. Был издан приказ подчинить начальнику тыла фронта все части, выделенные в распоряжение тылов армий. Реввоенсовет обязал командующих армиями при борьбе с бандитизмом строго придерживаться общего плана действий, выработанного начальником тыла фронта, не допуская без его согласия вывода частей с внутреннего на внешний фронт. В распоряжение Дзержинского передавалось авиазвено, бронепоезда и необходимое количество вооружения и боеприпасов.
Действия по единому плану и под единым руководством, ликвидация ведомственной разобщенности и распыления сил — таков был один из организационных принципов работы Дзержинского. Этот принцип лежал в основе его работы по обеспечению тыла Юго-Западного фронта. Дзержинский подчинил части ВОХР и железнодорожной обороны начальникам тыла губерний, обязывая командиров без всякого промедления исполнять их приказы.
13 июня Феликс Эдмундович подписал приказ о создании первой легкой подвижной ударной группы для преследования банд Махно, а вскоре были созданы еще пять сильных маневренных отрядов.
Очень скоро «батьки» и «атаманы» почувствовали на своей шкуре все те изменения, которые внес Дзержинский в организацию и тактику борьбы с бандами.
Теперь на стол к Мармузову все чаще и чаще ложились сводки не о выходе банд из боя, а об их уничтожении.
Как-то при очередном докладе Мармузов спросил Дзержинского, не служил ли тот раньше в армии и чем доводилось ему командовать.
Феликс Эдмундович рассмеялся.
— Служить в армии до революции не приходилось. Тюрьма мешала. Но вот уже два с лишним года, как я руковожу войсками внутренней охраны республики, которые несут основную тяжесть борьбы с бандитизмом по всей стране. Так что в этом деле у меня есть опыт. А потом я же не один. И в штабе тыла, и в штабе ВОХР мне помогают военные специалисты…
Феликс Эдмундович побывал в политсекции, созданной при политотделе 13-й армии.
Основная задача секции сводилась к широкой устной и печатной агитации против махновщины среди населения и в частях, занятых борьбой с бандитизмом, организации на территории, очищенной от бандитов, местных партийных и советских органов.
По инициативе Дзержинского ЦК КП(б)У и Реввоенсовет фронта создали политотдел при штабе тыла и политсекции во всех армиях.
— Для достижения полной согласованности действий военных органов и органов гражданского управления мне хотелось бы создать при начальниках тыла постоянные совещания. Их цель — взаимное ознакомление с состоянием дел на внутреннем фронте и оказание полного содействия управлениям тылов фронта в борьбе с бандитизмом и контрреволюционными выступлениями.
Так говорил Дзержинский председателю ЦИК УССР Г. И. Петровскому. Григорию Ивановичу идея такого тесного взаимодействия военных и гражданских властей понравилась. Вместе они наметили состав совещания. В него должны были войти представители ЦК КП(б)У, Наркомвнудела, Наркомпрода, особого отдела фронта, ВУЧК, ближайшего окружного военного комиссариата, политотдела фронта и комиссии по борьбе с дезертирством. Согласовали с ЦК и вместе подписали приказ о ежедневном созыве таких совещаний.
Разоружение населения, наведение порядка на транспорте требовало все новых сил, а между тем части, выделенные для охраны тыла, постепенно отзывались командованием фронта для непосредственного участия в боях с белополяками.
Настал день, когда на приказание командующего фронтом о выделении из войск тыла новых частей для направления на передний край Дзержинский вынужден был ответить, что тыловых частей, приданных ему из войск действующей армии, больше не осталось, а части ВОХР (кроме уже направленных на фронт) при существующей ситуации на Украине передать на внешний фронт невозможно.
Чем меньше оставалось сил, тем напряженнее становилась работа управления начальника тыла. Быстрее реагировать на изменение обстановки, быстрее маневрировать, быстрее снабжать части ВОХР всем необходимым. Быстрее, быстрее, быстрее… — требовал Дзержинский от своих сотрудников и сам работал с величайшим напряжением.
— Предоставляю вам право, — говорил он начальникам управлений и отделов, — задерживать сотрудников сверх установленных часов работы до тех пор, пока вся порученная им работа не будет выполнена, и перераспределять сотрудников между отделами, чтобы обеспечить срочное выполнение наиболее важных заданий.
А вам, — Дзержинский обратился к начальнику снабжения, — необходимо учитывать, что подобная работа потребует исключительного напряжения сил и не может протекать в условиях хронического недоедания, поэтому позаботьтесь, чтобы сотрудники получали полный фронтовой паек, и снабдите столовую более питательными продуктами.
Насчет фронтового пайка приказа Чусоснабарма[58] не было, и Дзержинский подписал такой приказ под свою ответственность.
Сотрудники управления тыла поражались работоспособности и неиссякаемой энергии, которую носил в себе эют физически измученный человек.
— Аккумулятор какой-то! — говорил Мармузов.
4
В Харькове жили жена его брата Владислава Софья Викторовна Дзержинская с дочерью Зосей. В первые дни после приезда в Харьков он привел их к себе на работу и долго с ними разговаривал.
В одно из воскресений Дзержинский в сопровождении своего курьера Григория Сорокина отправился к родственникам.
В подъезде им встретилась пожилая женщина. Она с трудом тащила полное ведро с водой.
— Хорошая примета! — приветливо улыбнулся ей Дзержинский. — Вы не знаете, где тут живут Дзержинские?
Женщина оказалась соседкой Софьи Викторовны — активная участница революционного движения, человек от природы сдержанный, она неожиданно для себя разговорилась с Феликсом Эдмундовичем, рассказала ему о себе — таково было его умение говорить с людьми, располагать их к себе.
Когда Розалия Моисеевна нагнулась за ведром, Дзержинский опередил ее.
— Позвольте, я помогу вам, а вы покажите нам дорогу.
И они отправились вверх по лестнице. По дороге Розалия Моисеевна продолжала рассказывать. Феликс Эдмундович узнал от нее о том, как трудно сводить концы с концами Софье Викторовне.
Сорокин несколько раз пытался отобрать ведро у Дзержинского.
— Господи! Да нельзя же вам такую тяжесть, — чуть не плача, умолял он.
— Нет, голубок! Теперь уже поздно! Надо быть галантным и вовремя догадаться помочь женщине, — смеялся Феликс Эдмундович.
Софьи Викторовны и Зоси не оказалось дома. Когда они вернулись, то нашли на двери записку: «Был у вас, но увы! не застал вас. Ваш Феликс».
Несколько дней спустя явился Сорокин. Принес Софье Викторовне письмо от Дзержинского.
«Дорогая Зося! Прости, что сам не захожу, но совершенно не хватает времени. Посылаю своего Сорокина, это мой курьер и одновременно друг, который здесь обо мне заботится. Не могу простить себе, что я не догадался до сих пор спросить тебя, в каких условиях вы живете.
Очень прошу тебя, скажи Сорокину, я был бы счастлив, если бы мог вам в чем-либо помочь! Сорокин знает Ядвисю[59] и жену мою, и он сможет рассказать тебе о их жизни и моей.
Сердечно обнимаю вас обеих.
Ваш Феликс».
Вместе с письмом Сорокин передал материал на белье.
А потом был семейный обед у Феликса Эдмундовича. Хозяйничать он попросил племянницу, а сам беседовал с Софьей Викторовной. Вспоминали молодость, потом «Бутырки», куда Софья Викторовна приходила его навещать, расспрашивал о ее жизни в Харькове. Дзержинского интересовали экономические вопросы: как растут цены, много ли перекупщиков-спекулянтов, что везут крестьяне и что предпочитают: продавать за деньги или выменивать, и на что преимущественно, и какие деньги предпочитают — совзнаки или царские кредитки?
Появление на Украине грозного председателя ВЧК повергло в бешенство и растерянность контрреволюционное подполье.
Феликс Эдмундович рассказал Софье Викторовне и Зосе, что спустя несколько дней после его приезда, ранним утром, когда он вышел из машины у подъезда ЧК, к нему подскочила молодая женщина: он ожидал услышать какую-нибудь просьбу, но, увидев озлобленное лицо, понял, в чем дело. А она уже целилась в упор из револьвера. Не спуская с нее взгляда, он мгновенно отвел голову в сторону. Это его и спасло.
— Она, конечно, расстреляна? — спросила Софья Викторовна. Ее потрясло его мужество и самообладание.
— Нет. Но нельзя быть «добреньким» для всех, в том числе и для этой истерички. Будет проведено следствие — выявление связи этой группы заговорщиков и шпионов. Враг есть враг, он коварен и опасен. Но я очень прошу, не говорите ничего Софье Сигизмундовне. Не волнуйте ее.
Дзержинский обратил внимание на матерчатые самодельные туфли на ногах племянницы.
На следующий день Сорокин вручил Зосе пару добротных полуботинок. Дядя Феликс отказался от ордера и остался в старых сапогах, чтобы купить туфли племяннице.
Зося подружилась с дядей. Нет-нет да и забежит к нему. Иногда на службу, чаще домой. Феликс Эдмундович жил тогда в доме ЦК КП(б)У и ВУЦИК, где занимал две небольшие комнаты в общей квартире.
Дядя Феликс держался с ней на равных, и это очень нравилось Зосе. Она чувствовала себя у него непринужденно, взрослой и самостоятельной девушкой.
Однажды Зося принялась благодарить его за подарки.
— Вам бы самим пригодились эти деньги, — повторила она слова, услышанные дома.
— Почему ты говоришь «пригодились бы»? Но ведь они мне как раз уже и пригодились. Они использованы мной по моему желанию и очень удачно: тебе куплена хорошая одежда, и я рад этому.
Феликс Эдмундович задумался, пристально посмотрел на Зосю и быстро спросил:
— Деньги. Ты хотела бы иметь много денег? Копить их? Они тебе нравятся?
Зося отрицательно покачала головой.
— Нет, я не люблю деньги. Из-за них моя мама всегда так много работала, когда шила людям.
— Любовь к деньгам! — сказал с отвращением Дзержинский. — Сколько зла они принесли и приносят людям! Скопидомство! Любители денег готовы ради наживы на любую подлость, преступление…
В Харьков приехала из Москвы Софья Сигизмундовна. Попросил приехать Феликс. Сам попросил, видно, очень соскучился в разлуке. Хотелось бы увидеть и Ясика, но боялся, что поездка и харьковские условия жизни плохо отразятся на все еще болезненном мальчике. Софья Сигизмундовна оставила Ясика на подмосковной даче в Тарасовке на попечении домработницы Елены Ефимцевой. Присмотреть за мальчиком обещала и жена Демьяна Бедного, семья которого жила на одной даче с Дзержинскими.
Феликс Эдмундович к приезду жены сам навел в своей комнате образцовый порядок, принес продукты, чтобы было чем угостить с дороги.
— Ты узнаешь и полюбишь свою тетю, — говорил он помогавшей ему племяннице. — У нее чуткое сердце, она любит людей. Всегда старается быть полезной и внимательной к людям…
Софья Сигизмундовна приехала с заданием от Наркомпроса проверить в Харькове культурно-просветительную работу среди польского населения.
Дзержинский гордился женой. Молодец Зося! Не просто за мужем ухаживать приехала, а как равноправный товарищ-коммунист, работать. И на таком важном и остром в условиях войны с Польшей участке.
И Софья Сигизмундовна была довольна. Феликс, как всегда, работал самозабвенно, со страшной перегрузкой, а все-таки здесь, в Харькове, было не так суматошно, как в Москве. Более строгий распорядок. Почти ежедневно он приезжал обедать и ночевать домой, а утром по дороге на работу успевал даже заехать в водолечебницу и принять ванну. «Если не успею закончить курс лечения, то закончу в Москве. Хочу иметь здоровые нервы и быть сильным», — говорил Феликс жене.
К моменту приезда Софьи Сигизмундовны в Харьков положение на фронте резко изменилось. 5 июня буденновцы в жестоком бою на участке Новофастов — Пустоваровка прорвались в тыл 3-й польской армии, расколов на две части группировку противника на Украине. Погнали врага и другие армии Юго-Западного фронта, а с 4 июля Западный фронт начал наступление на главном Варшавском направлении. К середине июля Украина и Белоруссия были почти полностью освобождены. Красная Армия вышла на этнические границы Польши и продолжала стремительно продвигаться вперед.
Феликс Эдмундович и Софья Сигизмундовна много беседовали. Они радовались тому, что скоро польские рабочие и крестьяне с помощью Красной Армии освободятся, наконец, от буржуазно-помещичьего гнета и установят в Польше Советскую власть. И гордились тем, что Коммунистическая рабочая партия Польши, в которой теперь вместе работали вчерашние «зажондовцы», «розламовцы» и «левицовцы», высоко несет славное знамя социал-демократии Польши и Литвы.
13 июля Феликс Эдмундович Дзержинский по вызову ЦК срочно выехал в Москву, оставив временно исполнять должность начальника тыла фронта своего заместителя Манцева.
Всего полтора месяца проработал Дзержинский начальником тыла Юго-Западного фронта, но выработанные им организационные формы и тактика борьбы с бандитизмом продолжали действовать. А сам он по-прежнему живо интересовался положением дел на Украине. Начальник штаба тыла Юго-Западного фронта направлял ему оперативные сводки о ходе борьбы с бандитизмом.
Центральный Комитет партии назначил Дзержинского председателем Бюро ЦК для руководства партийной работой на территории Польши, занятой Красной Армией (Польбюро ЦК).
Прямо с заседаний II конгресса Коммунистического Интернационала, в работе которого Дзержинский принимал участие как член делегации РКПб), он выехал на Западный фронт. Провести заседание Коллегии ВЧК не успел — не хватило времени. Послал письмо Ксенофонтову:
«Дорогой товарищ!.. Перед отъездом, возможно на продолжительный срок, мне хотелось бы передать Вам одобренные ЦК принципы работы Коллегии ВЧК…
Президиум, как определенная коллегия, упраздняется. Коллегиальность вообще сводится к минимуму. За работу отдела несет полную ответственность стоящий во главе отдела член Коллегии. За работу всех отделов ответствен зампредседателя… Для связи с ЦК по политическим вопросам предлагаю Вам назначить т. Менжинского — как постоянного представителя ВЧК, не лишая, конечно, права членов Коллегии ВЧК непосредственно обращаться и сноситься с ЦК… Тов. Менжинскому предлагаю тоже поручить делать в ЦК систематические доклады о важнейших делах, имеющих политическое, экономическое и партийное значение, — это делать необходимо».
5
В Белостоке во дворце магнатов Браницких заседал Временный революционный комитет Польши.
Временный революционный комитет, или, как его по обычаю того времени сокращенно называли, Польревком, был образован польскими революционерами 30 июля 1920 года, вскоре после того, как Красная Армия, преследуя отступающего противника, вступила на польские земли. Председателем Польревкома стал старейшина польских социал-демократов Юлиан Мархлевский, членами — Феликс Дзержинский, Иосиф Уншлихт, Эдвард Прухняк и бывший лидер ППС-«левицы», ныне коммунист Феликс Кон.
Польревком решил заявить о своем образовании рядом воззваний: к польской армии, к Красной Армии, к сельским рабочим, к малоземельным крестьянам, к пролетариям всего мира.
Сейчас Польревком и был занят этим делом.
О том, что освобожденная Польша должна стать социалистической и иметь государственное устройство в форме республики Советов (Польская Советская Социалистическая Республика), двух мнений не было, тут решение было единодушным.
Феликс Эдмундович отметил про себя, что еще четыре года назад польские социал-демократы, и он в том числе, спорили с Лениным, выступали против государственного самоопределения Польши, а сейчас ленинская точка зрения принята всеми без колебаний.
Такое же единодушие члены ревкома проявили и в необходимости разъяснять рабочим и крестьянам, что Красная Армия вступила на территорию Польши не как завоевательница, а как освободительница от власти помещиков и капиталистов.
— Она воюет «за нашу и вашу свободу» — этот лозунг польских повстанцев шестьдесят третьего года чрезвычайно популярен в Польше, и его надо обязательно включить в текст манифеста, — говорил Феликс Кон.
Споры разгорелись по крестьянскому вопросу.
— Товарищи! В решении аграрного вопроса мы должны следовать примеру русских коммунистов. Они отдали помещичью землю крестьянам и завоевали их на сторону пролетариата. Польский крестьянин знает это и ждет от нас землю. Если мы этого не сделаем, то лишимся его поддержки, — убеждал Дзержинский своих товарищей.
Ему возражали Мархлевский и Кон.
— В Польше существует довольно многочисленный сельский пролетариат. Передадим ему помещичьи имения, создадим на их базе коммуны. Это будет оплотом социализма в деревне, — заявили они, н большинством в два голоса против одного[60] в манифест Польревкома вошла формулировка: «…управление имениями переходит к сельскохозяйственным рабочим. Земля трудящихся крестьян остается неприкосновенной».
Спустя несколько дней Феликс Эдмундович показал Мархлевскому и Кону телеграмму Ленина, адресованную ему и всем членам Центрального Комитета Коммунистической рабочей партии Польши. «Если в Седлецкой губернии малоземельные крестьяне начали захватывать поместья, то абсолютно необходимо, — писал Ленин, — издать особое постановление Польского ревкома, дабы обязательно дать часть помещичьих земель крестьянам и во что бы то ни стало помирить крестьян малоземельных с батраками…»[61].
— Неужели же и это вас не убеждает?! — волновался Феликс Эдмундович.
Но и на этот раз его коллеги по ревкому уклонились от прямого и ясного решения. «Вот займем Варшаву, тогда и решим окончательно аграрный вопрос вместе с местными товарищами».
«Вопрос о земельной политике будет рассмотрен в полном объеме в Варшаве, куда едем сегодня…» — вынужден был ответить Ленину Дзержинский 15 августа 1920 года.
В этот же день Мархлевский, Дзержинский, Кон и ехавший вместе с ними старый большевик Скворцов-Степанов прибыли в Вышков.
Маленький городок в 50 километрах от Варшавы встретил их настороженно. Явственно доносилась артиллерийская канонада, улицы были запружены обозами, ранеными. У редких прохожих лица замкнуты, отвечали они нехотя, односложно.
Военный комендант, которого осаждали с разными требованиями какие-то командиры, медицинские сестры, сопровождавшие раненых, и просто красноармейцы, вначале и внимания не хотел обращать на небольшую группу штатских, вошедших к нему в кабинет.
Дзержинский предъявил свой мандат члена реввоенсовета Западного фронта (это назначение состоялось 9 августа) и приказал доложить обстановку.
— Положение на фронте неопределенное, — докладывал комендант после того, как ему удалось удалить из кабинета посторонних. — Я не имею точных сведений, но ехать дальше пока не советую.
Ехать на передовую, да еще на ночь глядя, в самом деле было ни к чему. Комендант определил Польревком на ночлег к местному католическому священнику.
Ксендз оказался разговорчивым. Как всегда бывает при первом знакомстве, говорили о том о сем, политики не касались. Когда разговор зашел о польской классической литературе и Дзержинский с чувством продекламировал отрывки из Мицкевича, святой отец окончательно растаял.
— Как приятно, — сказал он, — встретить у большевиков такого образованного человека, да еще из поляков. К сожалению, — ксендз тяжело вздохнул, — не все такие. Вот Дзержинский тоже поляк, а как только его земля носит! Сколько людей погубил!
Дзержинский внимательно слушал и поддакивал:
— Да, да, верно. И в тюрьмы Дзержинский сажал и расстреливал.
Ксендз, обрадованный, что нашел понимающего собеседника, осмелел и продолжал ругать и Дзержинского, и ЧК.
Утром, когда гости собрались уезжать, ксендз на мясистом своем лице даже изобразил огорчение.
— Очень жаль. Редко приходится встречаться с такими хорошими людьми. Хоть вы и большевик, — обратился он к Дзержинскому, — но прямо скажу, — и душевный, и обходительный. Могу я узнать, с кем имел тесть познакомиться?
— Пожалуйста. Я председатель Польского революционного комитета, — отрекомендовался Мархлевский, — а это члены ревкома Феликс Кон и Феликс Дзержинский.
Бритое лицо ксендза вытянулось и посинело от страха. Он стоял, широко раскрыв рот, и молча глотал воздух.
— Что же теперь со мной будет? — пролепетал ксендз, обретая наконец голос.
— Ровным счетом ничего. Все это я не в первый раз слышу, — ответил Дзержинский.
17 августа Польревком вместо Варшавы возвратился в Белосток. А у вышковского ксендза пировали польские офицеры, и хозяин рассказывал им, как чуть не стал жертвой этого «красного палача» Дзержинского.
А произошло вот что.
Советское военное командование переоценило свои и недооценило силы противника. Войска Западного фронта в ходе наступления оторвались от своих тылов от 200 до 400 километров, что повело к нарушению снабжения. Армии были обескровлены и утомлены непрерывными боями. А между тем польская буржуазия со щедрой помощью Антанты сумела создать значительный перевес в силах на Варшавском направлении. Попытка командования Западного фронта взять Варшаву с ходу провалилась.
16 августа, как раз тогда, когда Польревком направлялся из Вышкова в Варшаву, белопольские войска нанесли мощный контрудар, прорвали фронт Красной Армии и перешли в наступление.
Фронт подошел к Белостоку. Хотелось думать, что неудачи под Варшавой лишь кратковременная заминка. Феликс Эдмундович сразу же по возвращении во дворец Браницких пишет Ленину:
«Вернулись до взятия Варшавы в Белосток… рабочая масса Варшавы ждет прихода Красной Армии, но сама активно не выступит за отсутствием руководителей и из-за господствующего террора. Огромная масса коммунистов арестована и увезена… ППС развивает бешеную агитацию за защиту Варшавы. Влияние ее еще большое среди квалифицированных, хорошо зарабатывающих рабочих… Поляками выпущен целый ряд воззваний, в которых отмечается, что Красная Армия утомлена и ослаблена и что стоит ей нанести только один мощный удар, и вся она откатится назад очень далеко. Для этого удара мобилизуется все. Организованы женские ударные отряды. Добровольческие отряды, составленные по преимуществу из буржуазных сынков и интеллигенции, дерутся отчаянно».
Дзержинский пишет далее о борьбе за власть внутри самих буржуазных польских кругов и их склонности к заключению мира.
«В общем, — заключает он, — несмотря на воинственные клики, в господствующих сферах угнетенное настроение… На переговоры в Минске поляки возлагают большие надежды» [62].
В тот же день, 17 августа, Дзержинский отправил письмо жене.
«…мы думали, что уже вчера будем в Варшаве, произошла, однако, как думаю, непродолжительная отсрочка.
Наша Варшава, терроризированная и сдавленная, молчит, и мы не слышим ее ясного голоса. По-видимому, и наш ЦК[63] не сумел овладеть ни массами, ни политическим положением. Недостает там вождя — Ленина, политика-марксиста».
Написал Феликс Эдмундович эти идущие от сердца строки и вспомнил, как много лет назад, кажется в девятьсот пятом, уже писал из Лодзи в Заграничный комитет СДКПиЛ нечто подобное. И еще раз пожалел о том, что нет у польского пролетариата своего вождя, такого, как Ленин.
Командзап Тухачевский и реввоенсовет Западного фронта напрягали усилия, чтобы остановить поляков. И тут Дзержинский не остался в стороне. Еще со времени, когда Колчак в восемнадцатом захватил Пермь, Феликс Эдмундович ввел правило: в трудные дни войска ВОХР идут на угрожаемые участки фронта, на помощь своему старшему брату — Красной Армии. Так было на Юго-Западном, где в составе 14-й армии стойко сражалась 2-я Московская бригада ВОХР, так ж теперь из войск Западного сектора ВОХР в трехдневный срок была сформирована и двинута на передовую новая дивизия.
И в ожидании, пока командование ликвидирует временную заминку и освободит Варшаву, Польревком продолжал свою напряженную работу в Белостоке.
А трудности, с которыми пришлось столкнуться Польревкому с первых же дней его организации, были поистине огромные. В городе не было советского аппарата, его надо было создавать и одновременно восстанавливать разрушенную поляками при отступлении железную дорогу и связь, налаживать снабжение населения продовольствием, открывать фабрики, развертывать устную и печатную агитацию среди населения. Польревком наладил регулярное издание своего ежедневного органа «Червоный гонец», выпустил целый ряд воззваний и листовок.
Дзержинский и другие члены ревкома ежедневно выступали на митингах и рабочих собраниях.
Предметом особой заботы Польревкома было создание Польской Красной Армии. Об этом, как о «важнейшей задаче», Феликс Эдмундович телеграфировал Ленину еще 6 августа. Формирование частей Польской Красной Армии происходило в Бобруйске, а затем в Рославле. По просьбе Польревкома Советское правительство дало указание главнокомандующему Сергею Сергеевичу Каменеву об откомандировании всех коммунистов-поляков из частей, штабов, учреждений и учебных заведений Красной Армии в распоряжение начальника штаба 1-й Польской Красной Армии[64].
Это большое дело требовало, конечно, времени, а Польревкому необходима была воинская сила немедленно, и Дзержинский принимает участие в организации в Белостоке польского добровольческого советского полка.
По решению ЦК РКП (б) по всей стране шла мобилизация коммунистов-поляков на Западный и Юго-Западный фронты. Руководство этой работой ЦК РКП (б) возложил на мобилизационную комиссию в составе Дзержинского, Мархлевского и Уншлихта, но с отъездом их на фронт практически всеми делами по мобилизации занималась Софья Сигизмундовна, как секретарь Польского бюро при отделе агитации и пропаганды ЦК РКП (б).
Дзержинский в письме к ней настоятельно требует: «Напрягайте с Сэвэром[65] силы, чтобы поскорее прислать сюда людей. Они нужны не только нам, но во все армии Польского фронта, ибо мы сами не сможем непосредственно охватить всю линию фронта».
День Дзержинского проходил в горячке текущих дел, а ночью… Юлиан Мархлевский и Феликс Кон тщетно уговаривали его отдохнуть. Феликс Эдмундович поддерживал оживленную переписку с уполномоченными Польбюро в армиях Западного и Юго-Западного фронтов, с реввоенсоветом фронта, с ВЧК, с особыми отделами, с различными наркоматами. И не ложился, пока все необходимые письма и телеграммы не бывали написаны и отосланы. А таких неотложных дел было много.
В ходе боев Красная Армия вышла к границе с Восточной Пруссией. Надо преградить дорогу антантовскому и немецкому шпионажу. Телеграмма Ленину. Дзержинский просит «обратить внимание на открытую германскую границу». Вторая — члену РВС Западного фронта Смилге: «…Срочно подобрать для всех пограничных с Германией пунктов ответственных комендантов и выделить для охраны границы специальные воинские части».
Кто-то распорядился выселять все польское население из прифронтовой полосы. Сейчас же летит телеграмма в ВЧК: «Огульное выселение поляков пределов Запфронта следует приостановить, следует высылать только заподозренных, пусть Менжинский даст соответствующий приказ».
В период июльско-августовского наступления Красная Армия взяла много пленных. А как с ними работают? И снова письмо в ВЧК. Дзержинский предлагает при допросах военнопленных в армейских особых отделах обращать «сугубое внимание на политическую сторону, памятуя, что каждый военнопленный с первым шагом на советской территории должен почувствовать, что он имеет дело не с национальным врагом, а с товарищем рабочим, освободившим его из-под панского гнета…»
И так каждый день. Все новые заботы требуют его личного вмешательства. А как же иначе? Феликс Эдмундович ни на минуту не забывает, что он не только председатель Польбюро и член Польревкома, но прежде всего член ЦК РКП (б) и председатель ВЧК.
22 августа враг появился в тридцати верстах от города. И не с запада, откуда ждали, а с юга. Над Белостоком нависла угроза окружения.
Во дворец Браницких прибыл запыленный гонец.
— Товарищу Дзерясинскому лично. Из штаба армии.
Феликс Эдмундович разорвал пакет. Пробежал глазами короткое письмо. Суровая складка легла между бровей.
— Командование приняло решение эвакуировать Белосток. Прошу вас, — обратился Дзержинский к Мархлевскому и Кону, — вместе с Богуцким и другими товарищами из комитета КРПП и ревкома мобилизовать городской транспорт, организовать эвакуацию гражданских советских учреждений, партийного и советского актива. Вы эвакуируетесь с этой колонной.
— А ты разве не поедешь с нами?
— Нет. Моя обязанность проследить за организованным отходом войск, предотвратить самое страшное в таких случаях — панику.
Когда колонна Польревкома уже покидала Белосток, Феликс Кон увидел Дзержинского. Он стоял на перекрестке, впереди редкой цепочки бойцов из польского добровольческого советского полка, и задерживал появившихся на улицах Белостока дезертиров.
— Послушай, Юлиан, мы должны уговорить Дзержинского уехать. Ведь ему угрожает самая большая опасность. Ты же знаешь, как люто ненавидит его наша польская буржуазия, какие небылицы пишут о нем, как клевещут. Я уже не говорю о плене, но и любой толстосум, обиженный ревкомом здесь, в Белостоке, пользуясь сумятицей эвакуации, может пустить ему пулю в затылок, — взволнованно говорил Кон Мархлевскому, остановив машину.
— Ничего не выйдет. До революции Главное правление не раз пыталось ради его собственной безопасности удержать Юзефа в эмиграции, он же рвался в Россию, на боевую работу в подполье, и всегда добивался своего, — ответил грустно Мархлевский.
А Дзержинский, отправив на сборный пункт задержанных дезертиров, уже мчался куда-то навстречу приближающейся канонаде.
К мандату члена реввоенсовета фронта и удостоверению председателя ВЧК почти не приходилось прибегать. Люди и так подчинялись его приказам, безоговорочно признавали его руководство. Из Белостока он уходил в числе последних, только после того, как убедился, что отступление приняло организованный характер.
25 августа, уже из Минска, Феликс Эдмундович отправил письмо жене:
«Дорогая Зося! Ты, наверно, в обиде на меня за то, что я не написал до сих пор после оставления Белостока. Причина этому не перегрузка работой, а какое-то отсутствие воли ко всякому действию и словам после слишком сильных переживаний, потребовавших огромного напряжения внимания и воли… Надо было сохранить полное хладнокровие, чтобы без паники одних эвакуировать, других организовать для отпора и обеспечения отступления. Кажется, ни одного из белостокских работников мы не потеряли».
После короткого сообщения о положении польского рабочего класса и предательской роли ППС Дзержинский пишет об их общем, волнующем его деле: «Из задач, которые стоят перед тобой в Москве, самая важная сейчас — работа среди пленных. Надо их завоевать на нашу сторону, надо привить им наши принципы, чтобы потом, вернувшись в Польшу, они были заражены коммунизмом…»
Положение на фронте вскоре стабилизировалось. Дзержинский работал в Минске в реввоенсовете фронта. Много внимания уделял он укреплению армейских особых отделов и чрезвычайных комиссий Белоруссии.
21 сентября в Риге возобновились советско-польские мирные переговоры, и в этот же день Центральный Комитет партии принял решение: «Демобилизовать т. Дзержинского и возвратить его к работе в ВЧК, обязав отбыть отпуск для лечения».
Закончил свое существование Польревком. Грустным было его последнее заседание. Тяжело подводить итоги несбывшимся мечтам. Но коммунист ни при каких обстоятельствах не имеет права терять веру в конечную победу своего великого дела. Дзержинский напомнил об этом товарищам польской пословицей: «Что отсрочено, то не убежит».
Глава XIV Созидатель
1
Дзержинский вернулся домой с заседания IX Всероссийской партконференции поздно вечером. Софья Сигизмундовна сразу заметила, что, несмотря на утомление, муж в хорошем настроении.
— Помнишь, Зося, я писал тебе из Харькова о том, какой огромный вред принесли на Украине децисты[66] своим политиканством. Конференция дала им хороший отпор. А для борьбы с нарушителями партийной дисциплины, бюрократами и карьеристами создана Контрольная Комиссия. В эту комиссию и меня избрали.
— Неужели, Фелек, ты не мог отказаться? Ты и так страшно перегружен.
— Видишь ли, дорогая, по решению конференции эта комиссия должна состоять из товарищей, имеющих наибольшую партийную подготовку, наиболее опытных, беспристрастных и способных осуществлять строго партийный контроль. Избрание коммуниста в состав такой комиссии есть акт большого доверия, которое ему оказывает партия. Как же я мог отказаться?! Кроме того, состав комиссии пока временный, только до очередного съезда.
Вскоре после образования ЦКК пришла записка от Владимира Ильича: «Очень прошу принять лично тт. Ратникова, Рыбакова, Романова и Глазунова от уездпартконференции (Александровский уезд Владимирской губ.) по делу о вопиющих, из ряду вон выходящих злоупотреблениях (и советских и партийных) на Троицком снаряжательном заводе и особенно о трудностях для членов партии довести дело до центра и добиться хотя бы даже партийного быстрого разбора дела. Повидимому — таково мое впечатление — и в губкомпарте нечисто. Прилагаю копию решения Оргбюро.
С коммунистическим приветом.
В. Ульянов (Ленин)»[67].
Записка была адресована не просто в Контрольную Комиссию, а на имя Дзержинского. Ему лично Владимир Ильич поручал проверку такого щекотливого вопроса — «в губкомпарте нечисто». И он должен оправдать доверие партии, доверие Ленина, разобраться во всем беспристрастно и бескомпромиссно.
А потом посыпались новые поручения.
В ВЧК поступили сведения о готовящемся в ночь на 20 октября восстании в Москве. Конечно, это не август — сентябрь 1919-го, положение Советской власти значительно упрочилось, и контрреволюционный мятеж в столице не мог рассчитывать на успех, однако если бы он вспыхнул, то положение советской делегации в Риге на мирных переговорах с Польшей, безусловно, осложнилось бы.
ЦК партии и Советское правительство постановили возобновить деятельность Комитета обороны города Москвы и назначили его председателем Феликса Эдмундовича Дзержинского, подчинив ему в отношении внутренней службы войска Московского военного округа[68].
Уже 26 октября 1920 года Дзержинский доложил пленуму Московского Совета, что меры, принятые Комитетом обороны, делают невозможным какое бы то ни было контрреволюционное выступление.
— Смотр наших сил, — говорил Дзержинский, — показал, что как все красноармейцы, так и рабочие части были на страже революции. Комитету обороны оставалось одно: следить за бдительностью и поднять боеспособность наших рабочих и красноармейских полков.
Этим и продолжали заниматься Комитет обороны и его председатель вплоть до окончания празднования третьей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
15 октября 1920 года Дзержинский был назначен председателем комиссии по выработке мер для усиления охраны государственных границ.
Советская пограничная охрана была создана в 1918 году и вначале находилась в ведении Народного комиссариата финансов, затем была передана в ведение Наркомвнешторга. По мере освобождения от интервентов и белогвардейцев новых участков границы Совет Труда и Обороны обязывал Реввоенсовет выделять для их охраны войсковые части. Части эти, оставаясь в составе Красной Армии, инструктировались через Управление пограничной охраны Наркомвнешторга. Для борьбы со шпионажем, контрабандой, а также должностными преступлениями среди самой пограничной охраны и таможенного ведомства еще в 1918 году были созданы пограничные чрезвычайные комиссии.
Комиссия Дзержинского пришла к выводу: необходимо передать это важное государственное дело в руки одного органа, полностью ответственного за политическую, военную и экономическую охрану границ.
И 24 ноября 1920 года Совет Труда и Обороны охрану всех границ РСФСР возложил на Особый отдел ВЧК по охране границ. В распоряжение Особого отдела по охране границ выделялась необходимая воинская сила.
Феликс Эдмундович сам занимался подбором начальствующего состава в пограничные войска. Тут он вспомнил и Федора Тимофеевича Фомина, раскрывшего алферовский шифр при ликвидации в 1919 году контрреволюционного заговора «Национального центра». Вот такие проницательные товарищи и нужны погранохране.
— Вам придется поехать на Украину и переключиться на пограничную работу, — сказал Дзержинский, когда Фомин явился по его вызову.
— Незнакома мне эта работа, Феликс Эдмундович, справлюсь ли? — засомневался Фомин.
— Справитесь. Нам, коммунистам, приходится каждый день сталкиваться с новыми делами. Вот теперь чекисты должны заняться охраной границ…
Убедившись, что возражений больше нет, Феликс Эдмундович заговорил о вопросах практических:
— С чего начать? В первую очередь рекомендую из командиров и красноармейцев воспитать хороших, бдительных пограничников. Они должны почувствовать себя не просто бойцами и командирами, а пограничниками-чекистами. И чем скорее вы этого добьетесь, тем скорее сумеете закрыть границу на замок. Затем, — продолжал он, — обязательно нужно войти в контакт с местным населением, чтобы оно было прямым и надежным помощником пограничной охраны.
Дзержинский тепло распрощался с Фоминым, пожелал ему удачи.
Так он напутствовал и других чекистов, мобилизованных в погранохрану.
Окончание гражданской войны поставило в порядок дня и вопрос о сокращении и реорганизации Красной Армии и войск специального назначения. Совет Труда и Обороны принял подготовленное Дзержинским и Склянским постановление о передаче войск внутренней службы в военное ведомство и об организации войск ВЧК. Кроме обслуживания оперативных нужд чрезвычайных комиссий, Совет Труда и Обороны возложил на войска ВЧК охрану границ, железнодорожных станций, пристаней и мостов.
При организации войск ВЧК Дзержинский решительно возражал против копирования организационной структуры и штатов дивизий и частей Красной Армии. Части ВЧК должны быть небольшими, подвижными, сплоченными не только воинской дисциплиной, но и подбором людей и своей близостью к ЧК.
— Все внимание, — говорил он, — должно быть обращено на подбор людей и технику, которая должна заменить количество.
Необходимо было пересмотреть применительно к условиям мирного строительства и карательную политику, перестроить работу суда, прокуратуры, милиции и органов ВЧК. Центральный Комитет партии поручил Дзержинскому подготовить проект постановления об обследовании тюрем в общероссийском масштабе, создав с этой целью комиссию из рабочих.
Такая комиссия под председательством Дзержинского была создана. В нее вошли представители ВЧК, Народного комиссариата юстиции, Ревтрибунала и Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов. В центре и на местах были образованы комиссии по пересмотру всех дел на лиц пролетарского и крестьянского происхождения. В их работе приняли участие тысячи представителей профессиональных союзов и комсомольских организаций.
8 января 1921 года Дзержинский издал приказ о карательной политике органов ЧК. Приказ предписывал всем ЧК разгрузить тюрьмы от рабочих и крестьян, осужденных за мелкие преступления, и «зорко смотреть, чтобы в них попадали только те, кто действительно опасен Советской власти».
«Что нам угрожает на контрреволюционном фронте? — спрашивал Дзержинский. И отвечал: — Антантовский шпионаж, террористические акты и подпольная организация правых эсеров: последние стремятся использовать неурожай и голод в деревне, раздуть и объединить восстания кулаков».
Что же делать? «…Надо знать, что делает такой-то, имярек, бывший офицер или помещик, чтобы его арест имел смысл; иначе шпионы, террористы и подпольные разжигатели восстаний будут гулять на свободе, а тюрьмы будут полны людьми, занимающимися безобидной воркотней против Советской власти».
Далее Феликс Эдмундович подробно писал о тех опасностях, которые грозят Советской республике на экономическом фронте, и подчеркивал, что «опасность технической контрреволюции, руководимой иностранным капиталом, нельзя предотвратить грубыми, случайными ударами чекистского молота. Надо, чтобы он пришелся по руке злодея, а не по самой машине: надо знать виновника, подозревать — мало».
Что касается рабочих, совершивших мелкие преступления, то Дзержинский предлагал широко использовать такую меру общественного воздействия, как передача на поруки.
— Если заставить проворовавшегося рабочего вместо тюрьмы работать на своем же заводе под ответственностью остальных рабочих, то такое пребывание на всем честном народе, который будет ждать: украдет Сидоров или Петров еще раз, опозорит он опять завод или станет настоящим, сознательным товарищем, — такой порядок будет действовать гораздо сильней и целесообразней, чем сидение под следствием и судом, — говорил Феликс Эдмундович, подписывая приказ.
Переход к мирному социалистическому строительству проходил в условиях сложной международной и внутренней обстановки.
Международное положение Советской России Ленин характеризовал как некоторое равновесие сил, хотя и непрочное, но все же дающее возможность социалистической республике существовать и развиваться. Однако опасность военного нападения на Страну Советов не была снята. «Надо помнить, — указывал Ленин, — что от всякого нашествия мы всегда на волоске» [69].
Внутри страна переживала острый политический кризис, вызванный тяжелыми последствиями империалистической войны, а затем иностранной интервенцией и гражданской войной.
Из-за отсутствия топлива и сырья бездействовало большинство промышленных предприятий. Рабочий класс распылялся, некоторая его часть деклассировалась, поддалась влиянию мелкобуржуазной стихии. На почве голода рабочие выражали недовольство, а на «которых предприятиях дело доходило да забастовок.
Крестьяне выражали недовольство продразверсткой. В мирных условиях они хотели продукты своего труда продавать на рынке. Недовольство крестьян использовали остатки контрреволюционных партий. В ряде мест Тамбовской губернии, Украины, Дона, Сибири им удалось поднять кулацкие мятежи.
Политика военного коммунизма эпохи гражданской войны себя изжила, и Владимир Ильич Ленин уже разрабатывал меры по преодолению кризиса и разрухи, получившие после X съезда партии наименование новой экономической политики — нэп.
А для организации борьбы с бандитизмом сначала на Украине, а затем и в масштабах всей страны была создана специальная междуведомственная комиссия под руководством Дзержинского.
Наиболее широкий размах принял кулацкий мятеж в Тамбовской губернии, вошедший в историю как антоновщина, по имени главаря мятежников эсера Антонова. В боевых действиях против мятежников наряду с частями Красной Армии принимал участие отряд особого назначения ВЧК. Дзержинский включил в отряд 1, 2 и 3-й полки Московской дивизии ОСНАЗ ВЧК и части войск ВЧК, прибывшие из других губерний. В оперативном отношении отряд был подчинен командующему всеми вооруженными силами Тамбовской губернии Тухачевскому.
На борьбу с бандами Антонова Дзержинский направил и автобронеотряд имени Свердлова. Этот отряд был особенно дорог Феликсу Эдмундовичу. Еще в феврале 1918 года он комплектовал его вместе с покойным другом и товарищем Яковом Михайловичем Свердловым и всегда живо интересовался жизнью и боевой деятельностью отряда.
С особым удовольствием читал Феликс Эдмундович донесение начальника боеучастка: «Доношу, что в разгроме и полном распылении ядра банды Антонова исключительную роль сыграл автобронепоезд ВЧК». За исключительную храбрость в боях 58 бойцов и командиров отряда были награждены орденом Красного Знамени.
Боевые действия против антоновских банд ВЧК дополняла чекистскими операциями.
— Феликс Эдмундович, задача, поставленная вами по проникновению чекистов в ряды ангоновцев, выполнена, — докладывал начальник отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией Самсонов. — Под видом представителя ЦК партии левых эсеров в штаб Антонова отправился Евдоким Федорович Муравьев. Он хоть и из эсеров, но полностью перешел на наши позиции. В качестве связного с ним поехал чекист Чеслав Тузинкевич. Поступили уже первые донесения. Если все пойдет по плану, то Муравьев под предлогом тайной конференции всех антибольшевистских сил выведет в Москву всю антоновскую головку.
— Смело задумано. Муравьев ежеминутно рискует головой. Вы-то знаете, как антоновцы казнят наших товарищей — отпиливают голову ржавой пилой.
— Будем надеяться на лучшее, — ответил Самсонов. — Муравьев уже прислал к нам главного антоновского резидента в Тамбове «Горского». Оказался адвокатом Федоровым. Видный кадет. Дает сейчас очень важные показания.
Вслед за Федоровым Муравьев прислал в Москву начальника антоновской контрразведки Герасева («Донского»), а затем появился и сам вместе с Егором Ишиным, председателем губернского комитета «Союза трудового крестьянства», политическим руководителем мятежников, и Павлом Эктовым, который был у антоновцев военным руководителем. (Официально Эктов занимал должность «заместителя начальника Главоперштаба», так как начальником считался сам Антонов.)
Муравьев привел Ишина и Эктова на конспиративную квартиру в районе Цветного бульвара. Там они и сделали обстоятельный доклад о состоянии антоновского движения членам мифического «Центрального повстанческого штаба». Председательствовал начальник контрразведывательного отдела ВЧК А. X. Артузов, секретарем был начальник отделения отдела по борьбе с контрреволюцией Т. Д. Дерибас. После заседания «штаба» Ишин и Эктов были арестованы.
Эктов согласился помочь Советской власти покончить с антоновщиной; свое обещание он выполнил, подвел под удар бригады Котовского основные силы мятежников.
Дзержинский захотел поговорить с Муравьевым. Когда тот пришел, завязалась живая, непринужденная беседа.
— Евдоким Федорович, вы блестяще справились с заданием, но все-таки почему вам не удалось вывести в Москву Антонова?
— В одном из боев с частями Красной Армии Антонов был тяжело ранен и отлеживался в тайном лесном убежище.
— А что оказалось наиболее трудным в вашей «командировке»?
— Боязнь заснуть. Иногда я во сне разговариваю, и это могло меня погубить. Вот я и не спал толком полтора месяца, — отвечал Евдоким Федорович.
А потом Дзержинский подробно расспросил Муравьева об отношении к антоновцам тамбовских крестьян. И почему антоновцы так крепко и так долго держались в Тамбовской губернии? В чем была их главная опора?
— Все это очень важно и интересно. Я обязательно расскажу о нашей беседе товарищу Ленину, — говорил Дзержинский, провожая Муравьева. А затем вызвал Беленького и поручил отправить Муравьева в санаторий на отдых и лечение.
За неделю до открытия X съезда РКП(б) вспыхнул мятеж в Кронштадте. ВЧК удалось предотвратить распространение восстания и беспорядки в Петрограде. Еще до его возникновения была арестована головка эсеров и меньшевиков, в том числе лидер меньшевиков Дан, а в ходе подавления мятежа Петроградская губчека арестовала еще около 600 активных контрреволюционеров. В штурме мятежной крепости вместе с частями Красной Армии принимал участие 1-й отдельный батальон войск ВЧК.
Дзержинский ежедневно получал оперативные сводки от Петроградской губернской чрезвычайной комиссии, направлял ее работу.
Решения X съезда партии о замене продразверстки продналогом и введении новой экономической политики сыграли огромную роль в изменении настроений крестьянства в пользу Советской власти. Они выбили почву из-под ног эсеров и кулаков, облегчили борьбу с бандитизмом.
Съезд вновь избрал Дзержинского членом Центрального Комитета.
А после съезда, как уже давно повелось между ними, Феликс Эдмундович и Софья Сигнзмундовна, товарищи по партии делились друг с другом впечатлениями.
— После решения о замене продразверстки продналогом резолюции съезда о единстве партии и о синдикалистском и анархистском уклоне представляются мне самым важным, — говорил Дзержинский, — давно пора покончить со всякой фракционностью и групповщиной.
— Однако не ты ли подписал перед съездом платформу Троцкого о профсоюзах? — напомнила Софья Сигизмундовна.
Дзержинский помрачнел.
— Во-первых, подписав составленный Троцким проект резолюции, я действовал в рамках Устава партии. И не я, а Троцкий навязал партии дискуссию в такой тяжелый момент, а во-вторых, ты, Зося, знаешь лучше других, что я никогда не считал зазорным открыто признать свою ошибку. И сейчас, после выступлений Ильича и решений съезда, я готов где угодно заявить: да, я ошибся, не милитаризация производства и не администрирование в профсоюзах должно быть, а школа, школа управления, хозяйничания, школа коммунизма. И если мы не сумеем убедить, повести за собой рабочие массы, то никакими приказами нам не поднять производительность труда.
2
Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский был немало удивлен, когда ему позвонил Дзержинский и попросил немедленно принять его для обсуждения важного вопроса.
Что это за важный вопрос, ради которого так спешно едет в Наркомпрос грозный председатель ВЧК?
«Феликс Эдмундович вошел ко мне, как всегда, горячий и торопливый, — вспоминал впоследствии Луначарский. — Кто встречал его, знает эту манеру: он говорит всегда словно торопясь, словно в сознании, что времени отпущено недостаточно и что все делается спешно. Слова волнами нагоняли другие слова, как будто они все торопились превратиться в дело.
— Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а главное, сил ВЧК на борьбу с детской беспризорностью, — сказал мне Дзержинский, и в глазах его сразу же загорелся такой знакомый всем нам несколько лихорадочный огонь возбужденной энергии.
— Я пришел к этому выводу, — продолжал он, — исходя из двух соображений. Во-первых, это же ужасное бедствие! Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не думать — все для них! Плоды революции — не нам, а им! А между тем сколько их искалечено борьбой и нуждой. Тут надо прямо-таки броситься на помощь, как если бы мы видели утопающих детей. Одному Наркомпросу справиться не под силу. Нужна широкая помощь всей советской общественности. Нужно создать при ВЦИК, конечно, при ближайшем участии Наркомпроса, широкую комиссию, куда бы вошли все ведомства и все организации, могущие быть полезными в этом деле. Я уже говорил кое с кем; я хотел бы встать сам во главе этой комиссии, я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК… Мы все больше переходим к мирному строительству, я и думаю: отчего не использовать наш боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность».
Луначарский ожидал всего, только не этого. Предложение поразило его и своей оригинальностью (ВЧК, орган борьбы с контрреволюцией, — и забота о детях!), и своей целесообразностью (привлечь к этому делу под эгидой ВЦИК все ведомства и организации). Согласие было немедленно дано, и 27 января 1921 года при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете была создана комиссия по улучшению жизни детей. В нее вошли представители профсоюзов, органов просвещения, здравоохранения, продовольствия и рабоче-крестьянской инспекции.
Председателем комиссии был назначен Дзержинский, а его заместителем В. С. Корнев, член коллегии ВЧК и начальник штаба войск ВЧК. В тот же день Дзержинский познакомил Корнева с проектом письма ко всем чрезвычайным комиссиям. Дзержинский писал, что его назначение председателем комиссии по улучшению жизни детей — указание и сигнал для всех чрезвычайных комиссий. Работу по улучшению жизни детей чрезвычайные комиссии должны проводить в тесном контакте с органами народного образования, социального обеспечения, продовольствия, женскими отделами, советами профсоюзов и другими организациями.
— Боюсь, Феликс Эдмундович, не поймут нас на местах. Чека завалены по уши своей основной работой по борьбе с контрреволюцией. Им не до детей, — сказал Корнев.
Дзержинский взволновался:
— Нельзя так узко понимать борьбу с контрреволюцией. Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции. Этим Советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем и широкую опору в борьбе с контрреволюцией. Вы подали хорошую мысль, товарищ Корнев, давайте включим в письмо такое разъяснение. Не может быть, чтобы наши товарищи не откликнулись.
Феликс Эдмундович не ошибся. Губернскими уполномоченными деткомиссии ВЦИК стали, как правило, председатели ЧК.
В стране насчитывалось 5,5 миллиона беспризорных детей. Сама эта цифра говорит об огромном объеме работы деткомиссии.
Большую поддержку деткомиссии оказало Советское правительство. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин отдал распоряжение передать под детские учреждения лучшие загородные дачи и лучшие здания в совхозах, а поезда с продуктами питания для детских домов отправлять без всякой задержки наравне с воинскими эшелонами.
Разразившийся в 1921 году голод в Поволжье вызвал новую волну детской беспризорности и преступности. Из голодающих губерний было эвакуировано в другие места и спасено от голодной смерти 150 тысяч детей. Основная тяжесть работы по эвакуации легла на чекистов.
Среди огромных, постоянно окружающих его забот Дзержинский успевал посещать детские дома. Вернувшись в ВЧК, отрывал листки от блокнота со своими пометками и отдавал их секретарю ВЧК Герсону. Герсон читал: «120 тысяч кружек, нужно сшить 32 тыс. ватных пальто, нужен материал на 40 тыс. детских платьев и костюмов, нет кожи для подошв к 10 тыс. пар обуви». Или: «Ясли, Басм{анны} район. Приют на Покровке. Не хватает кроватей. Холодно. 25 грудных детей — одна няня». И тут же следовали указания, распоряжения, телефонные звонки, письма. И приходило тепло туда, где до его посещения было холодно, появлялись платья и кровати…
Однажды Феликс Эдмундович пригласил Софью Сигизмундовну посетить с ним детскую больницу для больных трахомой.
— Это ужасная, мучительная болезнь. Я переболел ею в первой ссылке. Тогда старухи из села Кайгородского лечили меня своими народными средствами, — рассказывал ей Дзержинский.
В больнице они обошли все палаты. Феликс Эдмундович беседовал с детьми и медицинским персоналом, подробно расспросил о нуждах больницы и сделал все от него зависящее, чтобы помочь маленьким страдальцам.
На обратном пути Дзержинский был задумчив и сосредоточен. Софья Сигизмундовна видела, что он обдумывает какой-то вопрос, и решила не мешать. Сам выскажется, когда захочет.
— Зося, — наконец сказал он, — я думаю о том, что помочь детям, больным физически, не так уж трудно. Меня тревожит судьба детей-правонарушителей. Тут дело значительно сложнее. Тюрьма их только портит. Труд — вот лучший воспитатель такого ребенка и подростка! Обязательно переговорю об этом с Дмитрием Ивановичем.
На следующий день о судьбе малолетних правонарушителей состоялся обстоятельный разговор между Дзержинским и народным комиссаром юстиции Д. И. Курским.
Феликс Эдмундович горячо доказывал необходимость создания для малолетних преступников трудовых коммун: особого типа, полузакрытых исправительных колоний, где бы управление строилось на самодеятельности самих ребят под руководством опытных педагогов, а в основе перевоспитания лежал труд, серьезная, полезная работа, не для формы и видимости. Пусть производственные мастерские и земледельческие хозяйства, созданные из малолетних правонарушителей, станут дополнительным средством улучшения материального положения коммун.
— Не поверите, но эти чумазые — мои лучшие друзья, — говорил Дзержинский, прощаясь с Курским, когда все вопросы были обсуждены. — Среди них я нахожу отдых. Всему надо их учить: и рожицу вымыть, и из карманов не тянуть, и книжку полюбить, а вот общественной организованности, мужеству, выдержке — этому они нас поучить могут. Стойкость какая, солидарность — никогда друг друга не выдадут!
Когда в подмосковном поселке Болшево была создана первая трудовая коммуна, взволновались крестьяне окрестных деревень. Прислали делегацию к Дзержинскому.
— Как же так, товарищ Дзержинский, ворье они, хулиганы, а без охраны? Они нам всю округу разграбят, молодежь спортят, — говорил пожилой крестьянин, комкая узловатыми, натруженными пальцами картуз.
— Вы, товарищ начальник, уж сделайте такую милость, прикажите перенести эту коммунию куда-нибудь в другое место, от людей подальше, — вторил ему другой делегат, почтенный старик с седой бородой.
Дзержинский внимательно выслушал ходоков, а затем долго и терпеливо рассказывал им о том, как миллионы маленьких страдальцев, оставшихся в результате войны, голода и тифа без родителей, кочуют по всей стране, ночуют в заброшенных подвалах или котлах для варки асфальта…
— Они воруют не из баловства, а чтобы не умереть с голода, и хулиганят потому, что ожесточились. Мы должны отогреть их маленькие сердца, научить трудиться, сделать полезными людьми.
Ходоки слушали внимательно, качали сочувственно головами, вздыхали. А когда Дзержинский окончил речь, тот, кто постарше, сказал:
— Правильно говоришь. Жалко ребят. И мы помочь готовы по силе возможности. Сложимся по целковому со двора, а то и больше. А коммунию все же от греха убери.
— Ну вот что, отцы, — уже строже ответил Дзержинский, — обещаю, что сам буду наблюдать за коммуной и не допущу никаких безобразий.
Феликс Эдмундович поехал в Болшево. Обошел все мастерские, общежитие, беседовал с воспитателями и ребятами, затем собрал общее собрание коммунаров. Рассказал им об опасениях местных крестьян.
— Я верю вам и поручился за вас. Не подведете меня, ребята?
Минуту-две стояла напряженная тишина.
— Я жду, — сказал Феликс Эдмундович.
— Не подведем, не подведем! — загалдели ребята.
И не подвели. Коммуна стала ремонтировать крестьянам сельскохозяйственный инвентарь, а когда коммунары начали устраивать у себя в клубе спектакли, танцы, киносеансы, то и сельская молодежь перешла на сторону коммуны. Село приняло соседа.
И Феликс Эдмундович не забыл своего обещания. Он часто бывал у коммунаров. По просьбе Дзержинского комсомольцы-чекисты взяли шефство над Болшевской коммуной.
Эта коммуна послужила прообразом для целой сети подобных детских исправительных учреждений.
Бывали случаи, когда Дзержинский сам вместе со своими сотрудниками подбирал на улицах беспризорников. Однажды ранним утром, проходя по Никольской улице с работы домой, в Кремль, он вытащил из асфальтового котла нескольких беспризорников. Среди них был лобастый мальчишка с пытливыми глазами, Коля Дубинин. Дзержинский предложил мальчику учиться, и вскоре учеба, а затем наука целиком захватили его. Дзержинский, разумеется, не мог тогда знать, что сыграл решающую роль в крутом повороте судьбы будущего крупного ученого, действительного члена Академии наук СССР Николая Петровича Дубинина. И дело, конечно, не в том, сколько беспризорников спасено при личном участии Дзержинского. Счет в ту пору шел не на единицы. Спасение и помощь миллионам детей — вот что явилось материальным воплощением благородного движения мысли и сердца Дзержинского.
И дети платили ему любовью. В служебном кабинете Дзержинского рядом с портретом сына Ясика стояли, были развешаны на стенах многочисленные фотографии коммунаров, воспитанников детских садов и пионеров, присланные ему на память. Каждый день в почте среди сводок о ликвидированных бандах и донесениях о враждебной деятельности еще не раскрытых контрреволюционных организаций лежали трогательные своей детской непосредственностью письма.
Среди других эпитетов, которыми еще при жизни наделяли Дзержинского, за ним твердо закрепили «всероссийский попечитель о детях»,
7 марта 1921 года Дзержинский был утвержден председателем комиссии по улучшению быта рабочих при Московском Совете.
— Удивляться не приходится, — говорил Ксенофонтов членам коллегии ВЧК, — он и до этого все время думал, чем бы облегчить тяжелое положение рабочих и их семей. Когда в феврале Феликс Эдмундович по поручению ЦК ездил на Украину по топливным делам, он там целый план Карлсону[70] оставил. Я вам прочту кое-что из его письма; очень любопытные мысли.
С этими словами Иван Ксенофонтович извлек из лежавшей на столе папки несколько сколотых листиков бумаги и, пробежав глазами, начал читать:
— «…Сейчас мы переживаем самое критическое время, и нужно нам собрать все силы для преодоления кризиса. Основа всего — хозяйственная разруха…» — Ксенофонтов пропустил несколько строк, нашел нужное место и продолжал читать: — «Вы должны наметить план, как ЧК и чем может улучшить положение рабочих, и дать в этом смысле указания всем своим органам…
Один из самых важных узлов — это Дебальцево, там продбаза для всего Донбасса. Между тем там саботаж самый отчаянный — и на станции в службе движения, и в депо… На Дебальцево обратите внимание в первую очередь, пошлите туда по соглашению с ЦК КП первоклассных работников». Прошу обратить внимание на концовку. Тут в одной фразе перестройка всей работы ЧК, к которой мы должны быть готовы. Вот: «Просил бы вас обратить внимание на борьбу с нерациональным использованием топлива как на железных дорогах, так и на рудниках и предприятиях. Урегулирование этого вопроса (например, уничтожение ненужных простоев поездов с паровозами под парами) дало бы колоссальные сбережения. Переводите аппарат ЧК на хозяйственные рельсы, т. е. мы должны иметь в виду всегда увеличение материальных благ страны».
За сухими строками протоколов заседаний комиссии по улучшению быта рабочих возникают тысячи рабочих семей, переселяемых из непригодного для жизни жилья в квартиры буржуазии, новые столовые, открытые на фабриках и заводах, рабочие огороды…
Работы много. Феликс Эдмундович обратился за помощью в партийную организацию, и пд его инициативе при бюро ячейки ВЧК и МЧК организуется бюро содействия комиссии по улучшению быта рабочих. Коммунисты-чекисты идут на фабрики и заводы. Дзержинский учит их не увлекаться обследованиями, не командовать, а «всю свою энергию употребить на изыскание практических мер и способов улучшения быта рабочих…. действуя исключительно через соответствующие советские, союзные и партийные органы и от их имени».
Но это одна сторона дела. А что сделать, чтобы приблизить рабочих к ЧК, добиться их более активной помощи? И Дзержинский решает создать чекистские группы при профсоюзах. Пусть чрезвычайные комиссии делают на предприятиях доклады о своей деятельности, а заводы направляют своих представителей для участия в работе ЧК.
Вскоре в ВЧК начали поступать резолюции рабочих собраний. Их внимательно читал Дзержинский.
«Общее собрание мастеровых и рабочих Крюковских вагонных мастерских постановило: считать политическую линию поведения ЧК правильной и всеми силами и средствами способствовать работе ЧК в ее трудной борьбе против всех паразитов рабочего класса, с какой бы стороны они ни исходили.
Поручить месткому подготовить трех кандидатов и на ближайшем собрании из числа этих кандидатов выбрать одного товарища в рабочую группу для работы при ЧК».
Феликс Эдмундович доволен. Он дорожил рабочим мнением и той оценкой, которую дают они работе чрезвычайных комиссий.
3
Транспорт долгое время оставался предметом заботы и волнений главы Советского правительства.
Несмотря на многочисленные совещания и постановления Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны, наладить работу транспорта никак не удавалось.
За три года было сменено четыре наркома. Последний нарком, Емшанов, был хорошим партийцем, кадровым железнодорожником, но ему не хватало широты, государственного подхода, организаторских способностей. Нужен был человек твердый, такой, чтобы «речей не тратил по-пустому, где нужно власть употребить».
И Владимир Ильич остановился на кандидатуре Дзержинского. Ленин знал, что тот мечтает о созидательной работе. И действительно, Дзержинского не пришлось уговаривать. Он прекрасно знал тяжелое положение транспорта и сразу же согласился взяться за его восстановление.
Декрет о назначении Дзержинского наркомом путей сообщения был принят экстренно, опросом.
14 апреля 1921 года Дзержинский был назначен народным комиссаром путей сообщения с оставлением его председателем ВЧК и наркомом внутренних дел.
Феликс Эдмундович, вернувшись из Кремля в ВЧК, вызвал к себе начальника транспортного отдела Г. И. Благонравова и потребовал немедленно дать сводные данные о состоянии железных дорог. Представленные ему сведения рисовали картину более ужасную, чем он предполагал.
«…Разрушенных мостов — 4322, разрушенных рельсовых путей — 2000 верст, разрушенных мастерских и депо — 400, свыше 60 процентов паровозного парка стоит на «кладбищах», вышло из строя 1/з товарных вагонов».
Тяжелое наследство принимал новый нарком.
— Состав железнодорожников сильно засорен, Феликс Эдмундович, — прервал его раздумья Благонравов. — В годы империалистической войны в поисках убежища от военной службы на транспорт ринулись кулаки, лавочники, чиновники, много среди путейцев меньшевиков и эсеров. Значительная часть железнодорожников развращена спекуляцией.
— Да, Георгий Иванович, работы нам с вами хватит. Главное, чтобы чекисты-транспортники не поняли бы превратно мое назначение и не вмешивались в административно-техническую деятельность железнодорожной и водной администрации.
Настороженно встретили специалисты-транспортники приход нового наркома. Тревожились: что будет? Возьмет да и начнет сажать в ЧК за всякую ошибку и упущение.
Их успокаивал Иван Николаевич Борисов:
— Напрасно волнуетесь, господа. Взял же он меня, бывшего путейского генерала, товарища царского министра путей сообщения[71], да и назначил главным начальником путей сообщения. И широкие права и полномочия предоставил. Уверяю вас, работать с Дзержинским можно, если, конечно, честно работать. Обманывать, пыль в глаза пускать не рекомендую. Этого он действительно терпеть не может.
Страхи понемногу улеглись. Новый нарком не торопился ни с увольнениями, ни с реорганизацией и никого не сажал под арест. Он учился. Терпеливо и настойчиво изучал сложное транспортное хозяйство и, что особенно подкупало, не стеснялся расспрашивать о вещах, которые были ему непонятны. Поражались быстроте, с которой осваивал Дзержинский технические вопросы строительства и эксплуатации транспорта, экономику, финансы. И никто, кроме жены да ближайших помощников, не знал, какую груду учебников и специальной литературы приходилось ему штудировать по ночам. А днем нарком мало сидел в кабинете. Чаще его можно было найти на путях или в депо, беседующего со стрелочниками, путейскими рабочими, машинистами…
Месяц спустя Центральный Комитет РКП(б) командировал Дзержинского на юг для руководства подготовкой железнодорожного и водного транспорта к предстоящим продовольственным и топливным перевозкам. «Попутно» Владимир Ильич поручил ему оказать партийным и советским органам Украины помощь в налаживании работы государственного аппарата. Ну а обследовать «попутно» чрезвычайные комиссии и помочь им в борьбе с многочисленными шпионскими гнездами и контрреволюционными организациями, оставшимися от гражданской войны, обязал он себя сам как председатель ВЧК.
Маршрут поезда наркома пролегал через Курск, Харьков, Александровск, Екатеринослав, Николаев. Всюду Дзержинский знакомился с состоянием железнодорожного хозяйства, проводил совещания, намечал, а часто прямо на месте принимал необходимые меры.
В Николаеве пересели на пароход, чтобы по Днепру через Херсон спуститься к Одессе.
Старенький «Нестор-летописец», шлепая плицами по тугой днепровской волне и мерно подрагивая всем корпусом, резво бежал вниз по течению. Под наскоро сооруженным на палубе дощатым навесом спасалась от яркого солнца небольшая группа, центром которой был Дзержинский.
Феликс Эдмундович, одетый по-летнему в белую косоворотку, снял фуражку и, подставив ветру коротко остриженную голову, внимательно слушал Манцева.
— В Одессе губчека нащупала сейчас широкий антисоветский заговор. Штаб заговорщиков обосновался в Елизаветграде, и руководит им бывший царский полковник Евстафьев, петлюровец и врангелевский агент под номером «39-а». Во главе одесских повстанцев, преимущественно бывших белых офицеров, Евстафьев поставил гвардейского полковника Мамаева. Оба полковника получают директивы из Польши: от Петлюры и от разведбюро 6-й польской армии. В Одесском районе организация опирается на банды атаманов Заболотного, Коваленко, Лыхо, Кошевого и повстанческие отряды немцев-колонистов.
Доклад Манцева был прерван появлением высокого, кряжистого мужчины с крупными, словно высеченными из гранита, чертами лица и молодой женщины в военной форме. Ее стройную фигуру перепоясывал ремень, на котором висел наган и охотничий нож в изящных ножнах.
— Позвольте, Феликс Эдмундович, представить вам Эльзу Грунтман, нашу отважную разведчицу. С ее помощью уже не одна банда ликвидирована на Украине. Думаю, что и в Одессе она себя покажет, — говорил начальник управления особых отделов Евдокимов, пропуская вперед женщину.
— Здравствуйте, здравствуйте, — Дзержинский пожал руку Грунтман. — А ведь я вас помню. Вы участвовали в разоружении одной из военных школ, когда ВЧК ликвидировала «Добровольческую армию Московского района». Рад слышать о вас такие лестные отзывы и лично познакомиться с вами.
Лицо Эльзы раскраснелось. Отважную разведчицу смутили похвалы Дзержинского, взволновала встреча с ним. Как только Дзержинский, Манцев и Евдокимов вновь вернулись к разговору о положении в Одессе, она поспешила отойти в сторону.
А Дзержинский, заметив появившихся в капитанской рубке начальника Николаевского районного управления водного транспорта И. П. Яворского и начальника Николаевского порта Г. В. Баглая, поднялся к ним. Следом двинулся было Евдокимов, но Манцев удержал.
— Не надо. Не мешай. Там теперь нам делать нечего. Народный комиссар путей сообщения беседует со своими подчиненными.
В Одессу «Нестор-летописец» прибыл под вечер
1 июня 1921 года. Дзержинский сразу же прошел в ЧК, где ее председатель Дейч ознакомил его с обстановкой. А с утра, как всегда бывало там, где появлялся Дзержинский, закружилось, завертелось. Началась напряженная работа. Днем знакомство с положением дел Одесского отдела железных дорог и в порту, встречи и совещания с местными партийными, советскими и профсоюзными работниками; ночью — в ЧК.
Уже на следующий день после прибытия в Одессу Дзержинского чекисты разгромили банду Кошевого. У убитого атамана нашли шифр и явки к «Одесскому политцентру» заговорщиков.
— Скоро рассвет, и вам надобно отдохнуть, — сказал Дейч, глядя на пожелтевшее от бессонницы лицо Дзержинского.
— Отдохнуть, говорите, — отозвался Дзержинский. — А как? Я не знаю, да к тому же днем я нарком путей, так когда же мне остается быть председателем ВЧК, как не ночью?
Голос Дзержинского звучал строго, а в глазах светился веселый огонек.
Утром Дзержинский созвал совещание по вопросу о выделении Одесского линейного отдела железных дорог из Южного округа и подчинении его непосредственно НКПС. Специалисты возражали. Они были против ломки привычных, сложившихся форм руководства.
— Позвольте, какая же ломка? — говорил Дзержинский. — Одесский отдел существует, и никакой ломки мы не делаем. Мы просто придаем ему большую самостоятельность и ставим в непосредственную связь с центром!
В Москву Дзержинский возвратился по железной дороге через Киев.
Многое дала ему эта поездка. Феликс Эдмундович пришел к очень важным для дальнейшей работы транспорта выводам. И вплотную занялся разработкой новой схемы организации железнодорожного транспорта. Подготовленный Дзержинским проект предусматривал значительное сокращение аппарата НКПС, предоставление больших прав железнодорожным округам и линейным отделам (дорогам), установление тесной связи транспорта с местными органами и развитие хозяйственной инициативы. Владимир Ильич поддержал проект, и в конце августа ВЦИК и Совнарком утвердили новое Положение о НКПС.
На пути восстановления транспорта стояли саботаж, грабежи и хищения грузов. Дело доходило до того, что по подложным накладным с товарных станций вывозились целые эшелоны грузов. Среди транспортных служащих широкое распространение получила коррупция и взяточничество.
— В Москве обнаружены тайные мастерские. Там изготовляли всевозможные резиновые, металлические и гравированные на меди печати и штампы. Вот посмотрите, есть даже штамп с вашей подписью, — докладывал Благонравов Дзержинскому. — Надеюсь, что с ликвидацией этой мастерской крупные хищения на московском узле резко уменьшатся.
— Предположим. А сколько их, самых примитивных, остается. И не только в Москве, а по всей стране. Что же делает ТОВЧК для усиления борьбы с ними?
— По нашей просьбе НКПС увеличил охрану…
— Думаю, Георгий Иванович, что до сих пор мы подходили к делу односторонне и неправильно — увеличивали охрану. И попали в заколдованный круг — надо охранять груз от собственной охраны. Нет, эта мера себя не оправдала. Прошу вас представить мне подробный план борьбы с хищениями. Не забудьте предусмотреть сокращение числа охраны, очистку ее от сомнительных людей при одновременном увеличении зарплаты остающимся, ограждение путей и беспощадные денежные штрафы за шатание по путям посторонних лиц. Укажите и на необходимость борьбы с отцепкой вагонов, ведь большинство хищений падает как раз на такие загнанные в тупики вагоны.
Но одних административных мер мало, — продолжал Дзержинский. — Мы не покончим с хищениями, если не привлечем к этому делу массы честных, сознательных железнодорожников. Этим я займусь сам.
Перу Дзержинского принадлежит вышедшая вскоре листовка-воззвание «Хищникам и ворам народного достояния — нет пощады!».
«…В то время, когда дорог каждый кусок хлеба и каждый пуд зерна для обсеменения обширных полей пострадавшего Поволжья, находятся паразиты и негодяи, которые расхищают народное добро из вагонов, пакгаузов и складов.
…Советская власть… призывает всех честных граждан на борьбу с паразитическими элементами, ворами и бандитами, разрушающими благосостояние Республики.
Все честные транспортные работники должны принять участие в этой борьбе совместно с карательными органами.
Будьте бдительны и вместе с рабоче-крестьянской властью беспощадно боритесь с волками и хищниками народного достояния».
Под воззванием поставил двойную подпись: «ПредВЧК и Наркомпуть Ф. Дзержинский».
Вскоре в газете железнодорожников «Гудок» появилось новое воззвание, написанное Дзержинским.
«Граждане железнодорожники!
Вечное позорище царской России — система откупа, лихоимства и взяточничества свила себе прочное гнездо в наиболее чувствительной области нашего хозяйственного организма — в железнодорожном хозяйстве…
На железных дорогах все возможно купить и продать за определенную мзду, которая умелыми подлыми руками развратителя пропорционально распределяется между стрелочником и высшими рангами…
Бедствия, причиняемые этим злом государству, неисчислимы и кошмарны по своим последствиям».
Воззвание рисовало страшную картину того, как беженцы из голодного Поволжья застревают на узловых станциях и обрекаются на нечеловеческие мучения, как продовольствие для спасения детей и женщин от голода где-то блуждает или стоит на путях. А дальше рабочие мастерских и депо, путейские рабочие, сотрудники товарных станций и служащие правлений железных дорог читали грозное предостережение:
«Где бы негодяй ни сидел: в кабинете ли за зеленым столом или в сторожевой будке, он будет извлечен и предстанет перед судом Революционного трибунала, карающий молот которого опустится со всей сокрушительной мощью и гневом, на которые он способен, так как нет пощады смертельным врагам нашего возрождения. Никакие обстоятельства не будут учитываться при вынесении приговора взяточнику. Самая суровая кара ждет его».
И призыв:
«…Советская власть призывает всех честных граждан, в ком живо гнетущее сознание несмываемого позора и разлагающего влияния взяток, прийти на помощь для обнаружения и извлечения негодяев-взяточников.
Будьте зорки и бдительны! Пролетарские руки не должны и не могут быть замараны взятками!»
Этим воззванием Дзержинский начал широкую кампанию борьбы со взяточничеством на транспорте. Он подключил к этому делу профсоюзы, комсомол, печать и, конечно, ТОВЧК и военно-транспортные трибуналы.
Центральный Комитет партии распространил кампанию по борьбе со взяточничеством, начатую Дзержинским на транспорте, на все ведомства. Во всех министерствах ив губернских комитетах партии были созданы комиссии по борьбе со взяточничеством. При Совете Труда и Обороны образована центральная комиссия, и ее председателем 1 сентября 1922 года назначен Дзержинский.
Тысячи взяточников были разоблачены, понесли административные наказания, уволены с работы или отданы под суд. К концу 1923 года со взяточничеством как с массовым явлением было покончено, и комиссия СТО по борьбе со взяточничеством ликвидирована.
Голод, голод! Голод миллионов людей не дает покоя Дзержинскому. Что может сделать ВЧК, НКПС, чтобы помочь в борьбе с этим бедствием?
12 июля 1921 года он предлагает Уншлихту принять срочные меры в связи с неурожаем в Поволжье. Иосиф Станиславович Уншлихт был назначен заместителем председателя ВЧК вместо Ксенофонтова, ушедшего на работу в аппарат ЦК партии. Дзержинский говорил Уншлихту:
— В связи с неурожаем в Поволжье ВЦИК обязал все наркоматы обсудить этот вопрос и принять меры. Необходимо и нам этим вопросом заняться срочно. На первых порах надо издать всем ЧК, губернским, транспортным и особым отделам циркуляр с описанием бедствия и его последствий для страны, указать на необходимость в кратчайший срок уничтожить всю белогвардейщину и заговорщиков, спекулирующих на голоде для своих целей.
— Но, Феликс, ты забываешь, что мы сейчас не пользуемся такими правами, — напомнил Уншлихт.
— Знаю. Пусть ЧК всюду вносят в губкомы и губисполкомы предложения: объявить всех политических спекулянтов на бедствии врагами народа с поручением ЧК беспощадно с ними расправляться. Разумеется, циркуляр этот должен быть одобрен ЦК и написан хорошим политиком. Думаю, что во все голодающие губернии надо послать выдержанных, серьезных уполномоченных ВЧК, наладить правильную, точную, ежедневную информацию, усилить органы транспортных ЧК для надзора за передвижением переселенцев, за контрреволюцией на путях, за состоянием санитарии и организацией питательных пунктов.
— Это, конечно, только первые мысли. Собери, пожалуйста, президиум, и обсудите, что еще следует сделать.
Контрреволюционные элементы пытались использовать голод также для того, чтобы сорганизоваться. Они приступили к созданию различного рода самочинных, так называемых «общественных» комитетов и других организаций помощи голодающим, используя их как прикрытие своей контрреволюционной деятельности. ЦК РКП(б) поручил ВЧК обратить сугубое внимание на эти попытки контрреволюционеров.
В конце августа ВЧК произвела аресты среди членов Комитета помощи голодающим. Комитет помощи голодающим — «Помгол» — был общественной организацией, созданной с разрешения Советского правительства группой так называемых «общественных деятелей», кадетов и эсеров. Однако «Помгол» занимался не столько помощью голодающим, сколько подготовкой к свержению Советской власти. «И мы, и голод — это средства политической борьбы» — так записал в своем дневнике один из заговорщиков — Булгаков.
— Вот все материалы по «Ломголу». Кстати, московские острословы называют этот комитет «Прокукиш», по начальным слогам фамилий его руководителей — Прокоповича, Кусковой и Кишкина, — говорил Менжинский, передавая Дзержинскому пухлую папку с документами.
Дзержинский решил досконально изучить дело. Объяснялось это тем, что Ленин не сразу дал свое согласие на арест заговорщиков, обоеновавшихся в «Помголе». Ильич опасался, что эта мера против людей, занятых «помощью голодающим», вызовет дикую кампанию против Советской власти на Западе и нежелательный резонанс внутри страны. Только после детального изучения материала Лениным Совнарком принял решение о роспуске «Помгола» и аресте заговорщиков.
Менжинский ушел, а Феликс Эдмундович углубился в чтение. Он желал убедиться, подтвердились ли данные ВЧК о «Прокукише», не подвели ли они Владимира Ильича.
Среди документов, изъятых при обысках, наибольший интерес представляли написанная рукой Кишкина подробная схема переустройства Советской России и тезисы доклада члена комитета Саламатова, полемизирующие со схемой Кишкина. Что хочет кадет Кишкин? Верховный правитель во главе страны, канцлер, — воссоздание Государственной думы и Государственного совета, а на местах — областные, губернские, уездные и волостные думы, областные, губернские, уездные и волостные начальники. Не очень-то оригинально! Фактически возвращение к старым, царским порядкам, только вместо царя верховный правитель. Саламатова и это не удовлетворяет. Он считает, что в переходный период после низвержения Советской России должен быть сильный единоличный диктатор; парламентаризм, особенно в национальных окраинах, неприменим. План, изложенный в тезисах Саламатова, основан на мысли о ряде местных восстаний, сливающихся затем в единое движение под единым руководством из центра.
Документы, изъятые у других арестованных членов и сотрудников «Помгола», изобличали заговорщиков в связях с контрреволюционными организациями на периферии.
Дзержинский сам написал докладную в ЦК партии и текст сообщения в газеты[72].
А в «Гудке» появилось новое воззвание к железнодорожникам и водникам, написанное Дзержинским.
«…Товарищи! От вас зависит усиленный выпуск из ремонта паровозов и вагонов для перевозки семян и хлеба голодающим. Только вы можете без малейшей задержки продвигать продовольствие и семена, на поддержку умирающих».
Для руководства работой по организации помощи голодающим НКПС и Цектран[73] создали центральную комиссию. Такие же комиссии были созданы на железных дорогах и в портах.
Но с ремонтом паровозов и вагонов, особенно вагонов, одним железнодорожникам не справиться. От быстрого ремонта вагонов зависят предстоящие продовольственные перевозки, а ремонт идет плохо. Недостает материалов, квалифицированных рабочих, хлеба для натурпремирования. Необходима самая энергичная помощь со стороны местных органов власти железным дорогам всеми доступными им средствами. И Дзержинский идет за помощью к Ленину. Он просит от имени правительства дать указание губисполкомам. Он заготовил и проект телеграмм. В нем перечислялись меры, которые следовало предпринять исполкомам Советов для помощи железнодорожной администрации. «Положение с товарными вагонами настолько серьезное, что только совместной, дружной работой можно добиться увеличения числа здоровых вагонов и тем облегчить тяжелое продовольственное положение страны». Ленин знал, что Дзержинский не станет просить, не использовав прежде всех своих возможностей. И очень хорошо, что он не стесняется обращаться за помощью, когда это действительно нужно.
Владимир Ильич сделал к проекту приписку: «Возлагаю на личную ответственность предгубисполкомов точное и энергичное исполнение и донесение о нем» и расписался — «Предсто Ленин»[74]. Ниже поставил свою подпись Дзержинский.
Выполняя решения X съезда, партия готовилась к чистке своих рядов. С докладом «О порядке и способах проверки и чистки РКП (б)» на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) выступил Дзержинский. Процедура, разработанная при активном участии Дзержинского, предусматривала проведение чистки на открытых партийных собраниях, с помощью беспартийных рабочих, крестьян и служащих. Чистка была суровой.
Иногда даже старые, известные революционеры нуждались в весьма солидных рекомендациях. Якову Станиславовичу Ганецкому дали свои рекомендации Ленин и Дзержинский. Пришлось Феликсу Эдмундовичу вмешиваться и в исправление отдельных ошибок, допущенных при чистке. По его ходатайству было отменено решение об исключении из партии начальника штаба войск ВЧК В. С. Корнева.
Исключили из партии около четверти ее членов. Зато состав партии значительно улучшился. Повысилась партийная дисциплина, окрепло ее единство и авторитет среди трудящихся.
4
5 января 1922 года от платформы Ярославского вокзала в Москве отошел поезд уполномоченного ВЦИК и Совета Труда и Обороны по вывозу хлеба и продовольствия из Сибири. Этим уполномоченным был Дзержинский.
Засуха, поражавшая два года подряд 34 губернии, вызвала не только голод в Поволжье, но отразилась и на других губерниях Европейской России. Не было хлеба, чтобы накормить голодных, и не было семян, чтобы его посеять в наступившем 1922 году. А между тем в Сибири хлеб имелся, но его нельзя было вывезти из-за слабой пропускной способности железных дорог.
В состав экспедиции уполномоченного входило сорок сотрудников Наркомата путей сообщения, Наркомата продовольствия, чекистов, членов военно-транспортного трибунала и профсоюзных работников.
На следующий день прямо в поезде Дзержинский провел совещание.
— Товарищи! Нам предстоит в течение января — марта вывезти из Сибири не менее 15 миллионов пудов продовольственных грузов. Чтобы справиться с этой задачей, нужно ежедневно отправлять 270 вагонов, а в декабре из Сибири отправлялось в среднем только 33 вагона в сутки. От нас с вами потребуются поистине титанические усилия. И мы не решим своей задачи, если не сумеем опереться на партийные и советские органы Сибири, если не поднимем массы железнодорожников. Нужно добиться слаженной работы всех звеньев железнодорожного организма.
Тут же на совещании были созданы комиссии: по вопросам эксплуатации (Грунин), по вопросам тяги и путей (Павлуновский), по вопросам сокращения штатов, учета и распределения рабочей силы и командного состава (Благонравов), по вопросам применения новой экономической политики на транспорте (Зимин).
Специалисты после совещания недоумевали, как это руководство такими административно-хозяйственными делами, как топливо и рабочая сила, Дзержинский поручил не хозяйственникам и не профсоюзникам, а чекистам Павлуновскому и Благонравову?
— Феликс Эдмундович смотрит на состав экспедиции как на единый коллектив и не руководствуется чисто должностными и ведомственными соображениями, когда дает поручения. Главное — подходит ли человек, — объяснял товарищам комиссар хозяйственно-материального управления НКПС Н. Н. Зимин.
В середине января появился в газетах приказ № 6 наркома пути и уполномоченного ВЦИК и Совета Труда и Обороны РСФСР Дзержинского «Всем рабочим и служащим железных дорог Сибири».
— Я убежден, что железнодорожники Сибири не позволят никому сказать, что дело помощи голодающим и восстановления крупной промышленности сорвано из-за плохой работы сибирских железных дорог, — говорил Дзержинский членам экспедиции. — Но одного энтузиазма недостаточно. Мы должны подкрепить его материально, создать условия для ударной работы тех категорий рабочих, от которых в первую очередь зависит дело.
По распоряжению Дзержинского на дорогах Сибири вскоре не только машинистам, но всему составу поездных бригад стали выдавать в пути горячую пищу; паровозные машинисты за экономию топлива при высоких показателях вождения поездов получили премию; железнодорожникам, связанным с движением поездов, выдали обмундирование. Правительство выделило для этого необходимые фонды.
Дзержинский вызвал к себе сотрудника полномочного представительства ВЧК по Сибири Чайванова.
— На станции Петропавловск сгрудилось много поездов. Нет топлива. Железнодорожные пути занесены снегом и захламлены. Ликвидировать пробку поручается вам.
И Дзержинский вручил Чайванову мандат, в котором говорилось, что «предъявителю сего предоставляется право принимать любые меры, необходимые для ударного вывоза в Европейскую Россию продовольственных грузов» и что невыполнение его приказаний «влечет ответственность по всей строгости революционных законов».
— Ясно, товарищ нарком, разрешите выполнять?
— Подождите минуточку, — остановил его Феликс Эдмундович. — Вы получили большие права, но у вас ничего не выйдет, если люди не поймут ваших прав, вашего задания. Не отрывайтесь от людей, опирайтесь на коллектив…
Чайванова сменил комиссар Омской дороги Дмитрий Сверчков.
— Товарищ Дзержинский! Машинист, член нашего учкпрофсожа[75], закончил опыт, который вы ему поручили. Он 48 часов маневрировал на паровозе, стараясь экономить топливо.
— А результат? — быстро спросил Дзержинский. В связи с нехваткой топлива его этот опыт чрезвычайно интересовал.
— Оказалось, что топлива требуется гораздо меньше, чем проектируется по норме, разработанной специалистами.
— Замечательно! Мы положим этот опыт в основу вычислений новых норм расхода топлива.
— Феликс Эдмундович, может, нам наградить как-нибудь парня? Ведь почти двое суток с паровоза не слезал.
— А он партийный?
— Да.
— Тогда не нужно. Он исполнил свой партийный долг.
Прошел месяц. День и ночь шли на запад хлебные составы. Только на запад. Все движение на восток Дзержинский категорически запретил, даже воинские перевозки. Дороги Сибири грузили уже 121 вагон ежесуточно.
Чего это стоило, знали только члены экспедиции да Софья Сигизмундовна. Феликс Эдмундович, выкраивая время, писал ей обстоятельные письма, отчитывался о своем состоянии, работе, делился планами.
Строки из писем Дзержинского к жене:
22 января из Новониколаевска: «…Здесь работы очень много, и идет она с большим трудом. Она не дает тех результатов, которых мы ожидали и к которым я стремлюсь… Итак, работаем мрачные, напрягая все силы, чтобы устоять и чтобы преодолеть все новые трудности. Конечно, вина наша — НКПС… Я вижу, что для того, чтобы быть комиссаром путей сообщения, недостаточно хороших намерений. Лишь сейчас, зимой, я ясно понимаю, что летом нужно готовиться к зиме. А летом я был еще желторотым, а мои помощники не умели предвидеть».
Софья Сигизмундовна хорошо знала, что еще в Москве, перед поездкой в Сибирь, Феликс был страшно переутомлен, работал из последних сил. В своих письмах она умоляла его скорее возвратиться.
7 февраля из Омска: «Тебя пугает, что я так долго вынужден буду находиться здесь… но я должен с отчаянной энергией работать здесь, чтобы наладить дело, за которое я был и остаюсь ответствен. Адский, сизифов труд. Я должен сосредоточить всю свою силу воли, чтобы не отступить, чтобы устоять и не обмануть ожидания Республики-
Сегодня Герсон[76] в большой тайне от меня по поручению Ленина спрашивал Беленького о состоянии моего здоровья, смогу ли я еще оставаться здесь, в Сибири, без ущерба для моего здоровья. Несомненно, что моя работа здесь не благоприятствует здоровью. В зеркало вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими глазами. Но если бы меня отозвали раньше, чем я сам мог бы сказать себе, что моя миссия в значительной степени выполнена, — я думаю, что мое здоровье ухудшилось бы».
20 февраля, по пути из Омска в Новониколаевск: «…Я не могу вернуться прежде, чем выяснится ситуация. Хлеб из Сибири для Республики — спасение…
Я живу теперь лихорадочно. Сплю плохо, все время беспокоят меня мысли — я ищу выхода, решения задач. Однако я здоров…»
— Последнее, чтобы успокоить меня, — шепчет Софья Сигизмундовна. — Ложь во спасение. Я-то знаю, как ты «здоров».
В конверте есть и шутливое письмо к сыну:
«Дорогой мой Ясик! Поезд везет меня из Омска в Новониколаевск, трясет, поэтому буквы моего письма становятся похожими на твои. Они качаются в разные стороны и шлют тебе поцелуй и привет. Я чувствую себя хорошо — работы у меня много. А ты что делаешь? Хорошо ли учишься и играешь ли?.. Поцелуй от меня маму 14 с половиной раз, а сам будь здоров. Целую тебя крепко. До свидания. Твой папа».
Софья Сигизмундовна положила это письмо на стул, рядом с кроватью Ясика. Пусть прочтет сразу, как проснется.
В вагоне Дзержинского шло очередное совещание, подводились итоги прошедшего дня. Секретарь экспедиции Дельгаз прочел сводные данные о погрузке, поступлении грузов на станции, наличии порожняка, ремонте вагонов. О выполнении полученных утром заданий отчитались члены экспедиции. Председатель выездной сессии военно-транспортного трибунала доложил о рассмотренных делах саботажников, диверсантов, виновных в поджогах складов и разрушении путей, и расхитителей грузов.
Когда все высказались, со своего места поднялся Дзержинский. Свет, падавший от настольной лампы с зеленым абажуром, делал еще более бледным его лицо. Тени резче обозначали складки вокруг рта и глубокие морщины на лбу.
— Я вижу, как вы все устали, как измучила вас непрерывная работа и оторванность от семей. И знаю, что многие из вас хотели бы поскорее вернуться домой. Поверьте, что и у меня такое же стремление. Это так естественно… Но позвольте напомнить, что Москва ожидает не нас, а хлеб от нас. От выполнения этой задачи зависит и наше возвращение.
И я хочу обратить ваше внимание на то, что сибирский хлеб и семена для весеннего сева — это не только наше спасение, но и наша опора в Генуе. На предстоящей Генуэзской конференции империалисты, безусловно, попытаются использовать наши хозяйственные затруднения, чтобы навязать Советской России кабальные условия соглашения. Чем успешнее мы с вами выполним свою задачу, тем увереннее и тверже будет позиция нашей делегации…
Феликс Эдмундович с удовлетворением наблюдал, как после этого совещания участники экспедиции заработали с новой энергией, самоотверженно. Даже старые специалисты напрягли все силы, не хотели отставать от коммунистов.
Вернулся Дзержинский в Москву только тогда, когда все семенные и мясные погрузки были полностью выполнены, а погрузка хлеба достигла размеров, не вызывающих опасения за выполнение плана перевозок.
Теперь он уже не был «желторотым». Пребывание и работа в Сибири, по собственному признанию Дзержинского, научили его больше, чем весь предшествующий год.
Он знал, что делать. Введение платности услуг и хозрасчета вывело транспорт из положения «иждивенца» государства в отрасль, приносящую доход. Аппарат НКПС был сокращен в пять раз, упразднен бюрократический аппарат линейных отделов, и вместо них созданы правления дорог, кровно заинтересованные в их хозяйственной деятельности. Это дало возможность направить непосредственно на линию большое количество специалистов, сидевших ранее в канцеляриях наркомата. За счет сокращения излишней рабочей силы была повышена заработная плата транспортников и их материальная заинтересованность. Упразднен изживший себя институт комиссаров и укреплено единоначалие. Развитие транспорта увязано с нуждами промышленности и сельского хозяйства; транспорт перестал быть «извозчиком», который возит кого угодно и куда угодно…
Все эти реформы не так-то легко было осуществить. Приходилось преодолевать косность, непонимание, неумение и нежелание работать по-новому. Даже в Коллегии НКПС Дзержинский встретил сопротивление многим своим проектам. Зато его начинания были поддержаны Центральным Комитетом партии.
Наступил январь 1924 года. XIII партийная конференция записала в своих решениях: «Транспорт находится в таком состоянии, когда он без особых затруднений способен удовлетворять все предъявляемые к нему народным хозяйством требования»[77].
На поздравления товарищей Дзержинский, отвечал:
— Основой нашего возрождения является сознательное и организованное участие рабочих транспорта.
5
— Здравствуйте, товарищ председатель Главного политического управления! — приветствовал Дзержинского Уншлихт, когда Феликс Эдмундович, только что приехавший из своей сибирской экспедиции, появился на перроне.
Дзержинский, разумеется, знал о постановлении ВЦИК от 6 февраля 1922 года. Всероссийская чрезвычайная комиссия упразднена, а при Народном комиссариате внутренних дел образовано Государственное политическое управление (ГПУ). Знал и о своем назначении председателем ГПУ, а все же с непривычки как-то не сразу дошло, что эти слова относятся именно к нему; на миг даже возникло желание оглянуться, посмотреть, кто это председатель ГПУ?
— Когда готовился проект постановления, я предлагал ограничить функции ВЧК борьбой с контрреволюционными деяниями, но оставить прежнее название и карательные функции Владимир Ильич не согласился, — говорил Уншлихт, рассказывая уже в кабинете на Лубянке о прошедшей реорганизации.
Дзержинскому вспомнился IX Всероссийский съезд Советов, Ленин на трибуне и его слова:
«Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, и тем уже становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков» [78].
Ленин предложил подвергнуть ВЧК реформе, ограничив ее работу задачами политическими.
И, как бы продолжая свои мысли, Феликс Эдмундович ответил Уншлихту:
— Ильич, безусловно, прав. В новых, мирных условиях чрезвычайные права должны быть отменены, а значит, и само название «чрезвычайная комиссия» уже не подходит.
И еще вспомнил Дзержинский, что съезд Советов, приняв решение сузить круг деятельности ВЧК, отметил «героическую работу, выполненную органами Всероссийской чрезвычайной комиссии в самые острые моменты гражданской войны», и ее громадные заслуги в деле укрепления и охраны завоеваний Октябрьской революции.
— ГПУ должно стать достойным преемником славных дел и традиций ВЧК! — подвел итог беседе Дзержинский.
Свою работу в качестве председателя Главного политического управления Дзержинский начал с сокращения штатов.
— Поймите, товарищи, — терпеливо убеждал товарищей по коллегии Дзержинский, — сократив штаты, мы избавимся от людей, от которых и так пользы мало, сделаем наш аппарат более гибким и более качественным, не говоря уже о том, что поможем государству сократить расходы и бросить дополнительные средства в сферу производства.
— Да, но сокращение может породить волокиту, центр не сможет быстро отвечать на запросы с мест, — раздавались голоса сомневающихся.
— Значит, надо сократить бумажную переписку. Введем повсеместно институт полномочных представителей ГПУ, скажем, в пределах сложившихся экономических районов, и дадим им широкие полномочия. Пусть руководят аппаратами ГПУ ряда губерний и координируют их деятельность с учетом местных условий.
Предложения Дзержинского были приняты, и жизнь доказала, что прав был он, а не защитники разбухших штатов. Год спустя Совнарком назначит Дзержинского председателем Комиссии по пересмотру структуры всех ведомств СССР и сокращению их штатов.
Одним из первых крупных дел, проведенных ГПУ, было дело ЦК партии правых эсеров. ГПУ удалось захватить архив ЦК правых эсеров. Дзержинский сам наметил меры, как использовать документы архива для разоблачения преступной деятельности этой партии.
Пятьдесят дней продолжался открытый судебный процесс. Защищать подсудимых прибыли из-за границы известные деятели II и II½-го Интернационалов Э. Вандервельде, Т. Либкнехт, К. Розенфельд. Защиту подсудимых членов ЦК партии правых эсеров взяли на себя также и «зубры» дореволюционной адвокатуры Н. Муравьев, А. Тагор и др. Но, как они ни изощрялись, на какие провокации вместе со своими подзащитными ни пускались, ничего не вышло.
Верховный революционный трибунал установил, что ЦК правых эсеров блокировался против Советской власти с самыми реакционными элементами, организовывал шпионаж в пользу белогвардейцев, направлял членов своей партии в Красную Армию в целях ее дезорганизации, организовывал кулацкие восстания и мятежи в деревне.
Наиболее гнусным из всех преступлений, лежавших на совести ЦК ПСР, был террор против вождей революции, убийство Володарского и покушение на Ленина.
Советский суд сорвал «социалистическую» маску с отъявленных контрреволюционеров. И хотя органам ГПУ и впредь приходилось вести борьбу с эсеровским подпольем, процесс правых эсеров означал политическую смерть этой партии.
Огромное значение для дальнейшей деятельности Государственного политического управления имела резолюция XII Всероссийской конференции РКП(б) «Об антисоветских партиях и течениях».
— Теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам, — говорил чекистам Дзержинский. — Конференция указала нам, что «антисоветские партии и течения еще не раздавлены. Они меняют тактику и, приспособляясь к новым условиям, стремятся, опираясь на европейскую капиталистическую реакцию, обойти Советскую власть с тыла». Партия наметила целую систему мер, направленных на ускорение начавшегося процесса разложения антисоветских партий и групп, но в резолюции конференции имеется и такой пункт: «Вместе с тем нельзя отказаться и от применения репрессий не только по отношению к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к политиканствующим верхушкам мнимобеспартийной, буржуазно-демократической интеллигенции, которая в своих контрреволюционных целях злоупотребляет коренными интересами целых корпораций и для которых подлинные интересы науки, техники, педагогики, кооперации и т. д. являются только пустым словом, политическим прикрытием».
Дзержинский остановился.
— Этот пункт, товарищи, относится непосредственно к нам, — сказал Уншлихт, поблескивая стеклышками пенсне.
— Ясно. Надо изолировать всех известных нам меньшевиков и эсеров, — предложил Самсонов.
Дзержинский внимательно посмотрел на него.
— Да, активно действующих, конечно. И особое внимание, товарищ Самсонов, обратите на меньшевиков. Они сейчас ведут широкую антисоветскую пропаганду среди рабочих, призывают к забастовкам. Но давайте при этом не забывать и другого указания конференции — о дифференцированном подходе.
И Дзержинский предложил тактическую линию ГПУ: сокрушительный удар по меньшевиствующей интеллигенции и метод убеждения по отношению к рабочим; уничтожение связей меньшевиков с заграницей и их печатной техники; чистка от меньшевиков государственного аппарата и высылка активных меньшевиков из пролетарских центров.
— Вся эта работа, — подчеркивал он, — должна проводиться совместно с партийными организациями и хозорганами.
Феликс Эдмундович упомянул хозорганы не случайно. И раньше, в письме к донецким чекистам, и теперь, когда коллегия ГПУ под его предводительством утверждала положение об экономическом управлении ГПУ, он настойчиво проводил мысль: органы ГПУ должны оказывать содействие экономическим наркоматам в выявлении и устранении дефектов в их работе.
— К борьбе с должностными преступлениями надо прежде всего привлечь самих хозяйственников. Когда надо, ГПУ должно пресекать преступления, но самая важная функция ГПУ — это информация, — говорил он.
Наступил декабрь. Чекисты готовились встретить пятилетний юбилей ВЧК — ГПУ. Позвонила из «Правды» Мария Ильинична Ульянова, попросила дать интервью. 17 декабря 1922 года запись беседы Дзержинского с корреспондентом «Правды» появилась в печати.
Феликс Эдмундович сделал краткий обзор деятельности ВЧК — ГПУ за пять лет, отметил, что только доверие рабочих и крестьян дало силы ВЧК и затем ГПУ выполнить возложенные на них задачи, и в заключение беседы заявил: «Нынешнее ГПУ и сейчас с той же энергией и преданностью делу рабочей революций и коммунизму будет добиваться доверия рабочих и крестьян для окончательной Победы над происками мировой контрреволюции и для обеспечения победы советским республикам на мирном фронте восстановления разрушенного хозяйства».
В тот же день на Красной площади Дзержинский принимал парад войск ГПУ. Феликс Эдмундович остался очень доволен. Бойцы и командиры продемонстрировали отличную строевую выучку и дисциплину. Неизвестный фотограф запечатлел его сразу после парада: Феликс Эдмундович стоит в толпе чекистов рядом с Уншлихтом, и оба улыбаются.
А вечером в Большом театре состоялось торжественное заседание коллегии ГПУ. Огромный зал был заполнен до отказа. Сотрудники Государственного политического управления, представители партийных, профсоюзных организаций, комсомольцы, зарубежные гости.
С приветственной речью выступает Председатель ВЦИК Калинин:
— Затрудняюсь говорить о роли и значении органов ВЧК, это ясно каждому рабочему и крестьянину. Органы ВЧК основательно поработали в борьбе с контрреволюцией, и не только русские рабочие и крестьяне, но и все человечество должно сказать спасибо русской ВЧК!
Слова Михаила Ивановича тут же находят подтверждение в горячих речах представителей Германской и Итальянской коммунистических партий. ВЧК — ГПУ приветствуют представители Высшего Совета Народного Хозяйства, Красной Армии. Все они отмечают выдающиеся заслуги Феликса Эдмундовича в борьбе с контрреволюцией.
Софья Сигизмундовна из зала видит, как смущен и подавлен обилием похвал ее Феликс.
— ВЧК — ГПУ своими заслугами обязаны не мне, а работе и борьбе всех чекистов! — говорит Дзержинский в ответном слове. Он снова подчеркивает значение доверия рабочих и крестьян в чекистской работе. — Это доверие пришлось завоевать долгой, упорной, самоотверженной, полной жертв борьбой, в результате которой ВЧК стала грозной защитницей рабоче-крестьянской власти!
А потом Софья Сигизмундовна услышала его слова, обращенные к чекистам:
— Кто из вас очерствел, чье сердце уже не может чутко и внимательно относиться к арестованным, то уходите из этого учреждения. Тут больше, чем где бы то ни было, надо иметь доброе и чуткое к страданиям других сердце.
Ее обрадовало, что даже в столь торжественный момент, когда все хвалят ВЧК — ГПУ за беспощадность к врагам революции, он не забывает напомнить о чуткости и гуманности.
В ознаменование пятилетия ВЧК — ГПУ был введен знак «Почетный чекист». Коллегия постановила знаком № 1 наградить Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Несколько дней спустя I съезд Советов СССР избрал Дзержинского членом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Было образовано Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете Народных Комиссаров СCCP. Председателем ОГПУ назначен Дзержинский, его заместителем В. Р. Менжинский.
6
Шли последние дни 1923 года. Троцкий все еще член Политбюро ЦК, народный комиссар по военно-морским делам и председатель Революционного военного совета республики. Однако делами, обуславливаемыми своими высокими партийными и советскими постами, он почти не занимался: был поглощен политическими интригами и фракционной деятельностью. Долгие годы боролся он с Лениным, пытаясь навязать партии троцкизм вместо ленинизма. И вот решил, что наконец его время настало. Ленин тяжело болен, и, по-видимому, неизлечимо. Самый подходящий момент, чтобы попытаться захватить руководство партией в свои руки.
В начале октября Троцкий обратился в Центральный Комитет с заявлением, в котором оклеветал работу Политбюро, ЦК и ЦКК. Затем последовало «заявление 46», подписанное уже не только троцкистами, но и участниками оппозиционных групп «демократического централизма», «левых коммунистов» и «рабочей оппозиции». Всех этих давно и неоднократно осужденных партией оппозиционеров объединил вокруг себя Троцкий и повел в бой против большинства Центрального Комитета, проводившего ленинскую политику.
Оппозиционеры, поставившие свои подписи под «заявлением 46», пытались натравить рядовых коммунистов на партийный аппарат, требовали свободы фракций и группировок, запрещенных X съездом партии. Письмо Троцкого и «заявление 46» троцкисты через голову ЦК стали распространять в местных партийных организациях, навязав партии новую дискуссию в столь тяжелый момент.
Положение, сложившееся в партии, 25–27 октября 1923 года обсудил объединенный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии совместо с представителями от десяти крупнейших партийных организаций. Дзержинский возглавил комиссию по подготовке резолюции. Пленум признал выступление Троцкого глубокой политической ошибкой. Дзержинский предлагал включить в проект резолюции следующие слова: «революционным долгом всех активных работников партии является обеспечить Центральному Комитету в это трудное время полное доверие и непоколебимую поддержку».
Но и после Пленума троцкисты не унялись. Троцкий выпустил брошюру «Новый курс», в которой обвинил партийное руководство в перерождении. Его сторонники стали выступать на собраниях низовых организаций с обвинениями против ЦК. В фабрично-заводских ячейках троцкисты обычно терпели провал, но лестью и обманом («учащаяся молодежь — барометр партии») им удалось склонить на свою сторону часть вузовских организаций и членов некоторых ячеек совучреждений.
Троцкисты сделали попытку внести раскол и в парторганизацию ОГПУ.
В декабре 1923 года на собрании в партийной ячейке ОГПУ обсуждалось положение в партии. После основного докладчика слово для содоклада от оппозиции дали Преображенскому. Он демагогически призвал к единству партии, но высказался «за свободу фракций и группировок».
Большевики-чекисты дали ему дружный отпор. В конце собрания с резкой отповедью троцкистам выступил Дзержинский. Он назвал их врагами партии и заявил: «Троцкистам нет места в ОГПУ».
Троцкисты пытались найти способ дезорганизовать работу ОГПУ, коль скоро нельзя овладеть им. Шла работа над сметами всех ведомств на 1924/25 бюджетный год. Вот они и решили воспользоваться этим. Троцкист Сокольников, в то время нарком финансов, срезал смету ОГПУ на 21 процент.
Дзержинский ответил письмом в Политбюро. Напоминая о проведенном им уже сокращении аппарата и сметы ОГПУ на 20 миллионов рублей, он писал: «Тов. Сокольников, требуя сокращения сметы нашей… безусловно, подходит сейчас к вопросу политически, желая ГПУ ослабить и свести на нет, считая, что этот орган уже свое время изживает. Между тем такой уклон чреват колоссальными опасностями. Сдача позиций и отступление по линии ГПУ… безусловно, означает дальнейшее отступление… и разоружение революции».
В свое время в «Экономической газете» троцкисты приписали Дзержинскому идею сокращения металлопромышленности, закрытия ряда заводов. Он опроверг это на страницах «Правды». Однако ведь можно в рамках общего плана по созданию в стране политического кризиса закрыть несколько заводов. Тогда опровержение Дзержинского будет взято под сомнение. Закрытие заводов вызовет раздражение среди рабочих и вообще, и против Дзержинского в частности. За это взялся заместитель Председателя ВСНХ Пятаков.
С вопросом о свертывании металлопромышленности Дзержинскому еще предстояло встретиться.
7
Софья Сигизмундовна пришла с работы, проверила уроки Ясика, поужинала вместе с сыном, уложила спать и принялась приводить в порядок его одежду. Мальчик есть мальчик — то придет с оторванными пуговицами, то пятно где-нибудь посадит.
Около полуночи пришел Феликс. На нем лица не было. Молча опустился на стул, даже фуражку не снял и замер, словно окаменел.
Софья Сигизмундовна испугалась. Что с ним? Никогда еще она не видела своего мужа в таком угнетенном состоянии.
— Феликс, что с тобой?
— Владимир Ильич умер, — ответил Феликс Эдмундович, не меняя позы.
— Что ты говоришь, Феликс?
— Ленин умер, — глухо повторил Дзержинский.
Софья Сигизмундовна заплакала.
Ночью экстренно собрался Пленум ЦК. Он принял обращение ЦК РКП (б) «К партии. Ко всем трудящимся». Президиум ЦИК СССР образовал комиссию по организации похорон Владимира Ильича Ленина. Председателем комиссии назначил Дзержинского.
Шесть суток непрерывного действия. Поток делегаций в Горки, траурный поезд с телом Ильича из Горок в Москву, девятьсот тысяч людей, прошедших перед гробом Ленина в Доме союзов, подготовка Мавзолея и сами похороны — все требовало глубоко продуманной организации, четкого выполнения принятых решений.
27 января в 16 часов по московскому времени соратники Владимира Ильича внесли его останки в Мавзолей. По стране раскатились залпы артиллерийского салюта. Траурные гудки фабрик и заводов разорвали морозный воздух, на пять минут приостановилась работа на всех предприятиях и в учреждениях, замерло движение на дорогах.
Вся страна в глубоком горе и трауре провожала в последний пусть своего учителя и вождя.
Советское правительство приняло решение о бальзамировании тела Владимира Ильича Ленина. Бальзамирование было поручено группе ученых во главе с академиком В. П. Воробьевым. Впоследствии профессор Б. И. Збарский, принимавший в этом участие, издал брошюру «Мавзолей Ленина» и рассказал там, в частности, о том, какую большую моральную поддержку получили они от Феликса Эдмундовича Дзержинского, как он заботился и помогал им. «Он это выполнял с такой чуткостью, — писал Збарский, — с таким тактом, что удачными результатами нашей работы мы во многом обязаны ему».
Партия дала клятву продолжать дело Ленина. И на этом сосредоточены теперь все помыслы Дзержинского. На это направлена вся энергия.
— Мне поручают ВСНХ, — сообщил Дзержинский жене, возвратившись домой с заседания Политбюро.
— Боже мой! Еще и ВСНХ! — воскликнула Софья Сигизмундовна с неподдельным ужасом: она серьезно опасалась за здоровье мужа.
Феликс Эдмундович рассмеялся.
— Успокойся, Зосенька, от путей сообщения меня освободили.
— Но почему все-таки тебя?
— Не знаю. Во всяком случае, известную роль сыграло то, что, работая на транспорте, я, как ты знаешь, много занимался вопросами топлива и металла. Генсек вспомнил мою докладную записку в СТО о металлопромышленности и сказал, что никто якобы не знает лучше меня этот вопрос, а металлопромышленность сейчас главное в работе ВСНХ.
Софья Сигизмундовна прекрасно знала всю историю этой докладной. Железнодорожный и водный транспорт — один из главных потребителей топлива и продукции металлопромышленности. Дзержинского как наркома путей сообщения волновало, что именно эти отрасли в своем развитии значительно отставали от других отраслей промышленности. По поручению Центрального Комитета партии он принимал личное участие в восстановлении Донецкого угольного бассейна, а за изучение состояния металлопромышленности засел по собственной инициативе.
И как ни протестовала Софья Сигизмундовна, как ни возражали врачи, а весь отпуск Феликс Эдмундович посвятил изучению этого вопроса. Свою докладную записку в Совет Труда и Обороны Дзержинский направил 20 ноября 1923 года.
2 февраля 1924 года состоялось постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР о назначении Дзержинского Председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Одновременно он оставался председателем ОГПУ.
К этому времени страна уже добилась крупных успехов в восстановлении промышленности и сельского хозяйства. Были преодолены продовольственный, топливный и транспортный кризисы. С 1921 по 1923 год валовая продукция крупной промышленности выросла вдвое. Это радовало. Но наряду с успехами нового Председателя ВСНХ со всех сторон теснили трудности и нерешенные проблемы. Прежде всего его беспокоило отставание темпов роста металлопромышленности от других отраслей: выплавка чугуна составляла только семь, а стали — около семнадцати процентов от довоенного уровня. Одни эти цифры могли привести в уныние, а тут еще кризис сбыта из-за «ножниц» — непомерно высоких цен на промышленные товары и низких на сельскохозяйственные, стремительное обесценение бумажных денег («совзнаков»), тяжело отражавшееся на работе промышленности.
Собственно, ничего неожиданного в том, с чем пришлось столкнуться Дзержинскому, для него не было. Общее состояние промышленности, особенно тяжелое положение металлопромышленности, он знал как член ЦК и правительства. А как председатель ОГПУ получал еще и сведения от экономического управления. Но одно дело знать, а другое — нести непосредственную ответственность за правильный рост и развитие народного хозяйства огромной страны. Да, нелегко вопросы ставить, но куда труднее их разрешать!
Состояние работы аппарата ВСНХ тоже огорчало. Собственно, ВСНХ как единого штаба, руководящего народным хозяйством, проводящего единую политику, не было. Был какой-то сложный конгломерат отделов, главков, трестов и синдикатов с запутанными взаимоотношениями и неясными правами. Каждый трест и синдикат работал сам по себе. И каждый норовил все свое «счастье» использовать для себя, а «несчастье» переложить на государство, требуя дотаций, субсидий, кредитов, высоких цен.
Феликс Эдмундович поделился своими впечатлениями с начальником объединения «Грознефть» И. Косиором. В начале письма шло несколько деловых соображений и советов по работе «Грознефти», а затем: «Я мечтаю о том, — писал Дзержинский, — чтобы все наши руководители основных трестов, каждый будучи на своем посту, представляли единое целое — единую государственную линию, единую государственную цель, единый блок во главе со мной, раз я назначен Председателем ВСНХ».
В этом же письме Дзержинский просил Косиора посылать ему оценку центрального аппарата ВСНХ, «как он Вам виден по своей работе, по «Грознефти», ибо «смотреть глазами своего аппарата — это гибель для руководителя».
Косиор несколько раз перечитал письмо. Такое начальство не часто встретишь. Не грозит, не требует, а советует, подсказывает, а главное — небывалая вещь! — просит у нижестоящего звена оценки деятельности руководимого им самим аппарата. Необыкновенный все-таки человек Дзержинский!
Утром Феликс Эдмундович прошел к себе в кабинет. Сотрудники секретариата ВСНХ переглянулись и дружно вынули часы. Они привыкли сверять их по Дзержинскому. Как бы поздно он ни ушел накануне, а ровно в девять появлялся в ВСНХ. Чайванов — после Сибири Дзержинский назначил его управляющим делами ГПУ, а теперь взял с собой в ВСНХ — прошел за ним в кабинет и вскоре вернулся с пачкой записок в руках. Это были «ночные» записки с запросами и поручениями разным работникам ВСНХ, составленные Дзержинским ночью в ОГПУ. «Дневные», к работникам ВСНХ или ОГПУ, писались здесь, в ВСНХ, или в Кремле на заседании Совнаркома или СТО. Поэтому эти записки-задания чекисты получали зачастую на бланках ВСНХ, и, наоборот, хозяйственники — на листочках блокнота со штампом ОГПУ.
— Возьмите на контроль, — неизменно говорил он Чайванову, передавая ему очередную партию «ночных».
— Будет сделано, — отвечал Чайванов. — А это оправки, которые вы требовали к сегодняшнему дню. Невыполненных заданий нет. — И Чайванов передавал папку с документами Дзержинскому.
Бывали случаи и невыполненных заданий. Тогда Чайванов докладывал, по чьей вине и по какой причине поручение Дзержинского оказалось не выполненным к указанному сроку. Впрочем, такие случаи встречались редко. Требовательность, точность и пунктуальность нового Председателя ВСНХ были известны всем.
К работе в ВСНХ он приступил 11 февраля после сдачи дел по НКПС новому наркому путей сообщения, старому товарищу по каторге Яну Эрнестовичу Рудзутаку. Все время, пока шла передача дел, Дзержинский думал о предстоящей работе. И чем больше думал, тем яснее для него становилось, что главное, за что надо взяться в первую очередь, это политика цен. Владимир Ильич завещал крепить смычку рабочего класса и крестьянства как основу диктатуры пролетариата. Высокие цены на промышленные товары и низкие на продукты сельскохозяйственного производства подрывают союз рабочего класса и крестьянства. Эти так называемые «ножницы» есть не что иное, как выражение линии Троцкого на индустриализацию за счет разорения крестьянства. Разумеется, большинство хозяйственников вовсе не были троцкистами; вздувая цены, они преследовали свои узковедомственные интересы, не умели взглянуть на дело в общегосударственном масштабе.
Через три дня на заседании Президиума ВСНХ рассматривался план на 1924/25 год. Дзержинский, к удивлению многих, большую часть своей речи посвятил не плану, а политике цен, убеждая присутствующих в необходимости снижения отпускных цен в промышленности.
— А рентабельность?! — раздалась реплика.
— Ваша рентабельность бумажная. Она только в ваших отчетах. А на деле товары лежат нереализованными, по нескольку месяцев не можете выплатить зарплату рабочим, и кое-где дело доходит уже до забастовок. Я не говорю уже о том, что крестьянин не в состоянии купить вещи, в которых он крайне нуждается. Кому нужна такая «рентабельность»? — резко ответил Дзержинский.
Теперь это уже пройденный этап. Потребовались, правда, новые решения партии и правительства, но цены на промышленные товары были резко снижены, затоваривание, больно ударившее по самой промышленности, ликвидировано. Все же приходится держать цены под пристальным контролем. Эта капризная экономическая категория все время проявляет нездоровую тенденцию к росту.
Государству удалось наконец ввести новую твердую денежную систему. Исчезли «лимончики», как народ презрительно окрестил денежные знаки с обозначением на них миллионов рублей, и на смену им пришел червонный рубль, базирующийся на золотом обеспечении.
При проведении денежной реформы произошел такой случай.
Дзержинскому доложили, что в стране не хватает меди для изготовления разменной монеты. Так выходило по разным сведениям и сводкам. Тогда по его приказу на базы, склады и предприятия, всюду, где могла оказаться медь, направились уполномоченные экономического управления ОГПУ. Медь была найдена. Даже более того, чем требовалось.
А сейчас разгорелась битва за металл, точнее, за восстановление и развитие металлургии и машиностроения.
Дзержинский раскрыл свою заветную тетрадь, где были выписаны высказывания Ленина и выдержки из партийных решений по промышленности, и прочел: «…без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна…
Тяжелая индустрия нуждается в государственных субсидиях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизованное государство, — я уже не говорю, как социалистическое, — погибли» [79].
Впрочем, к тетради Дзержинский мог бы и не прибегать. Эту цитату из речи Ленина на IV конгрессе Коммунистического Интернационала он знал наизусть. Но величайшее уважение к памяти Ильича заставляло его всякий раз, когда он обращался к нему, не доверять своей памяти, а вновь и вновь вчитываться в ленинские строки. Кроме того, Дзержинскому казалось, что так ему легче удастся проникнуть в глубины ленинской мысли.
Партия неуклонно следовала ленинским курсом. XIII партийная конференция выдвинула вопрос о металлопромышленности на первый план. XIII съезд партии, подтвердив решения конференции, признал поднятие металлургии «важнейшей задачей наступающего периода». «Наладить производство средств производства внутри Союза означает создать действительно прочную базу для социалистического хозяйства и в значительной степени освободить себя от необходимости передачи больших заказов за границу». И еще: «…сделать все возможное для проведения в жизнь всего плана электрификационных работ[80], имеющих такое громадное значение для упрочения нашего хозяйства и тем самым — для упрочения социализма»[81].
Конечно, основная часть практической работы по претворению в жизнь этих решений ложилась на ВСНХ, тресты, фабрики, заводы, шахты. На ВСНХ, а следовательно, и на него как на руководителя ложилась и тяжесть ответственности за подъем тяжелой индустрии и строительство электростанций. Но ведь это задача общегосударственного значения, и Феликс Эдмундович выходит с предложением создать Высшую правительственную комиссию по металлопромышленности. Такая комиссия (ВПК) была создана в марте 1924 года, и Дзержинский назначен ее председателем. В ее состав вошли: Председатель ЦКК и нарком РКИ В. В. Куйбышев, Председатель Госплана Г. М. Кржижановский, нарком путей сообщения Я. Э. Рудзутак, нарком финансов Г. Я. Сокольников и секретарь Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов А. И. Догадов[82].
«Пусть попробует теперь Каменев мариновать предложения такой авторитетной комиссии», — думал Дзержинский, вспоминая о том, как Совет Труда и Обороны, председателем которого после смерти Ленина стал Каменев, с декабря 1923 года и до создания ВПК не решил ни одного принципиального вопроса по работе металлопромышленности.
Линия партии ясна, задачи тоже, но развитие металлопромышленности наталкивалось на огромные трудности. Тут были и изношенность оборудования, и недостаток средств, и нехватка квалифицированной рабочей силы (лучшие свои кадры рабочий класс отдал фронтам гражданской войны), и низкая производительность труда. Наконец, отсутствие достаточного опыта у многих хозяйственников, ставших во главе трестов и предприятий.
Но рабочий класс — в этом Дзержинский был уверен — быстрее и легче преодолел бы эти трудности, если бы не путались под ногами троцкисты и присоединившиеся к ним сторонники других оппозиционных групп и течений. Разбитые в ходе ими самими же затеянных дискуссий, осужденные высшим партийным органом — съездами партии, они стремились использовать свое положение в государственном аппарате, чтобы срывать или тормозить меры, намеченные партией.
Вот тут-то Дзержинский и столкнулся вновь с приписанным ему ранее предложением о закрытии заводов. Это было 5 апреля 1924 года, вскоре после его прихода в ВСНХ. На междуведомственном докладом о положении и перспективах металлопромышленности выступал член правления «Главметалла» Вейцман. И совершенно неожиданно, как выход из тяжелого положения, в котором находится металлопромышленность, среди других мер он предложил закрыть 13 лучших заводов, в их числе «Красный путиловец» и Луганский. Вейцман обосновал предложение тем, что они-де нерентабельны, содержание их обходится слишком дорого государству.
Дзержинский был поражен. Год назад XII съезд партии отверг эту идею Троцкого. Казалось бы, вопрос решен. И вот опять. И хотят, чтобы и он подписался под таким предложением.
— Кто предложил закрыть эти заводы? — спросил Дзержинский председателя правления «Главметалла» Судакова.
— Предложение закрыть заводы исходило от вашего заместителя Пятакова. Он же назвал «Красный путиловец». Кто конкретно называл другие заводы, подлежащие закрытию, не помню.
— О закрытии заводов не может быть и речи. Это метод смазывания вопроса, а не его разрешения, — резко ответил Дзержинский. И, постепенно накаляясь, добавил: — Я запрещаю в дальнейшем говорить об этом! А вас, — Дзержинский обратился к Пятакову, — я попросил бы согласовывать такие вопросы со мной, прежде чем выносить на широкое обсуждение.
Пятаков склонил голову в знак того, что принял замечание к исполнению. Никто не заметил, как зло сверкнули при этом его глаза.
А Дзержинский перешел к очередным вопросам, полагая, что инцидент уже исчерпан. Он не знал, что эта была заранее задуманная провокация. На совещании он впервые со всей остротой поставил вопрос о поднятии производительности труда и в качестве примера привел Сормовский завод, где трудилось столько же рабочих, как и до войны, — одиннадцать тысяч, а продукции выпускалось в четыре раза меньше. Нет! Не в увеличении государственных кредитов и не в закрытии лучших заводов путь к рентабельности, а в повышении производительности труда, снижении накладных расходов и цен на промышленные изделия.
По его предложению совещание высказалось за то, чтобы каждый завод имел свой счет в банке и самостоятельный баланс, который позволил бы определить размеры его рентабельности или приносимого убытка.
Дальше начались события покрупнее и посерьезнее.
1 ноября 1924 года Феликс Эдмундович прочел в «Правде» статью Сокольникова. Народный комиссар финансов доказывал нецелесообразность форсирования роста крупной индустрии. За этим последовало предложение сократить выпуск изделий металлопромышленности почти вдвое.
14 ноября 1924 года по предложению Народного комиссариата финансов Совет Труда и Обороны сократил производственную программу металлопромышленности с 306 до 270 миллионов рублей. Была распущена и Высшая правительственная комиссия по металлопромышленности.
Дзержинский глазам своим не верил, читая это постановление. Сократить. Вопреки решению съезда партии?!
Конечно, было бы проще и спокойнее выполнять сокращенную программу, но Дзержинский решил не сдавать позиций. Он сам попросил назначить его председателем правления «Главметалла» и взял руководство металлопромышленностью непосредственно в свои руки.
Сколько энергии надо было потратить на изыскание внутренних ресурсов, чтобы в условиях сокращенной программы не потушить новую домну на Макеевском заводе, пустить домну на Надеждинском, увеличить выпуск меди, не допустить, казалось бы, неизбежного сокращения сельскохозяйственного машиностроения!
В эти трудные для металлопромышленности дни Феликс Эдмундович Дзержинский обратился за помощью к рабочему классу. Так он поступал всю свою сознательную жизнь.
21 ноября 1924 года Дзержинский выступил с докладом «Металлопромышленность — основа нашего хозяйства» на V Всесоюзной конференции профессионального союза металлистов.
— Я глубочайшим образом уверен, — говорил он, — что если мы именно в металлопромышленности вопрос поднятия производительности труда из плоскости споров и общих рассуждений перенесем в цех, мастерскую, к станку и там поставим вопрос, как улучшить, как поднять производительность труда в данном цехе, при данном станке, с данными рабочими, то именно там мы найдем на них надлежащий ответ. Именно там кроются колоссальнейшие источники средств.
Феликс Эдмундович рассказал, как повсюду растет спрос на изделия металлопромышленности. Отовсюду шли сообщения в ЦК, ВСНХ и «Главметалл» о недостатке металла и металлоизделий. Многие местные советские и партийные органы настойчиво требовали расширить программу металлопромышленности.
— В этих условиях сокращение программы не имеет под собой никакой почвы, — заключил Дзержинский.
Конференция рекомендовала составить перспективный план развития металлопромышленности, положив в основу рост спроса на металл.
Борьба вокруг программы металлопромышленности достигла особого накала в январе 1925 года.
7 января Совет Труда и Обороны, возглавляемый Каменевым, принял решение о дальнейшем сокращении темпа роста металлургического производства в стране. Программа СТО предполагала сокращение темпа роста металлургии юга в четыре раза и Урала в три раза по сравнению с предшествующим годом. Сокольников продолжал чинить препятствия не только росту металлургии, но и восстановлению основного капитала всей промышленности. Он и его единомышленники предлагали вместо роста отечественной металлургии и машиностроения увеличить ввоз готовых машин и других изделий из-за границы.
«Они говорят: «так дешевле», но за этим «дешевле» кроется превращение СССР в аграрный придаток развитых капиталистических стран, усиление экономической, а стало быть, и политической зависимости от них», — возмущался Дзержинский.
Свое решающее слово по вопросу о сокращении или увеличении темпов роста металлопромышленности должен был сказать Пленум ЦК РКП (б), открывшийся 17 января 1925 года.
Дзержинский представил на обсуждение Пленума обстоятельный доклад — «Положение и перспективы металлопромышленности». Большая часть доклада была посвящена обоснованию необходимости расширения программы.
Начались прения.
Дзержинский сосредоточенно ждал возражений, готовый дать сокрушительный отпор оппонентам.
Но большинство выступавших членов ЦК его поддерживают.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета, «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, оглядывая сквозь очки своими близорукими добрыми глазами зал, говорит об огромном значении металлопромышленности для развития сельского хозяйства; заместитель председателя Реввоенсовета Фрунзе решительно высказывается за увеличение производства меди и цветных металлов; начальник Военно-Воздушных Сил Баранов настаивает на развитии различных отраслей металлопромышленности, необходимых для авиации. Дзержинского поддерживают председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский и председатель Совнаркома Украины Чубарь.
На трибуну Пленума поднялся председатель Центрального Комитета профсоюза металлистов Лепсе.
— Сейчас, — говорил Лепсе, — «Главметалл» имеет председателя, работа которого дает нам всем полную уверенность в том, что развитие металлопромышленности успешно продвигается вперед… Предложения, которые делал товарищ Дзержинский, являются глубоко продуманными. Союз металлистов целиком их поддерживает, чтобы поставить на необходимую высоту металлопромышленность. Пленум ЦК должен их поддержать.
Сокольников выступил в защиту своей позиции, но — это было ясно всем — голос его не отражал мнения партийных масс и прозвучал диссонансом общему настроению, царившему на Пленуме.
Пленум одобрил в основном доклад Дзержинского и признал необходимым дальнейшее расширение металлургической промышленности в соответствии с потребностями рынка. ВСНХ было дано право разрешать заводам расширять производство в пределах до 15 процентов сверх программ, утвержденных СТО. ЦК предложил приступить к разработке плана восстановления основного капитала, переоборудования и постройки новых заводов (за что особенно бился Дзержинский). Вопрос о металлопромышленности решено было включить в повестку дня предстоящей XIV партийной конференции.
XIV партийная конференция, а затем и XIV партийный съезд окончательно подтвердили курс на индустриализацию страны, развитие производства средств производства и образование резервов для экономического маневрирования.
Дзержинскому приятно было вспомнить о том, что тезисы его доклада о металлопромышленности, представленные XIV партийной конференции, были приняты без всяких изменений в качестве ее постановления. Значит, правильно сумел он отразить в них линию партии, ее волю.
Прошло около двух лет после его прихода в ВСНХ и год е того момента, как он возглавил «Главметалл». Можно подвести итоги. За истекший 1924/25 хозяйственный год вся промышленность возросла по сравнению с предыдущим 1923/24 годом на 62 процента, превысив в два раза плановые предположения. Еще разительнее были успехи металлопромышленности. Здесь рост за год был более чем вдвое.
Так вопреки предсказаниям врагов, вопреки их надеждам Советская страна без посторонней помощи, своими собственными силами восстанавливала свою промышленность. Феликс Эдмундович задавал себе вопрос: «Откуда эта сила, почему ожидания наших врагов не оправдались?» И сам же отвечал на него:
— Эта сила, которая неизвестна буржуазным странам, которая неизвестна предателям рабочего класса, эта сила есть воля рабочего класса, если эта воля оплодотворяется и одухотворяется великими идеями коммунизма. Коммунизм и Коммунистическая партия, руководящая рабочим классом, передовой отряд рабочего класса, объединяющая весь рабочий класс, — вот эта сила обеспечит нам победу!
8
Весна 1924 года была ранняя и дружная. Начало апреля, а на подмосковной даче, где жили Дзержинские, снега уже как не бывало, ярко зеленеет молодая травка под ногами, на деревьях под теплыми лучами весеннего солнышка набухают почки, вот-вот покажутся из них маленькие, нежные листики.
Софья Сигизмундовна ходила по саду, наслаждаясь ярким весенним днем.
Она услышала, как у ворот остановился автомобиль, хлопнула дверца. Через минуту в саду показался высокий, худой, сутуловатый мужчина в элегантном пальто в фетровой шляпе. Он шел навстречу Софье Сигизмундовне, широко улыбаясь, снимая на ходу шляпу.
— Вячеслав Рудольфович, неужели и вы тоже не можете к нам запросто, без бумаг? — говорила Софья Сигизмундовна, указывая глазами на увесистый портфель гостя. — Только что уехал Чайванов, оставив у Феликса кучу документов из ВСНХ, теперь вы хотите его мучить, а ведь он в отпуске и должен отдыхать и лечиться.
— Да ведь он сам требует, — оправдывался Менжинский, — ну, предположим, я не приеду, так он примчится в Москву, вы же его знаете. Но, пожалуйста, дорогая Софья Сигизмундовна, не волнуйтесь. Я привез «хорошие» бумаги и постараюсь развеселить Феликса Эдмундовича.
И действительно, спустя некоторое время из кабинета Феликса Эдмундовича раздался веселый смех.
Он не мог удержаться от смеха, хотя и читал весьма серьезный документ — докладную записку начальника контрразведывательного отдела ОГПУ Артузова о ходе работы по делу зарубежного центра савинковского «Народного союза защиты родины и свободы» (НСЗРиС), делу под кодовым названием «Синдикат-2».
Докладная запаска сообщала о «нелегальном» путешествии по Советскому Союзу прибывшего из-за границы эмиссара Савинкова Фомичева. Фомичев всерьез верил в то, что встречается с настоящими «врагами Советской власти» и что его пребывание в СССР сопряжено с большой для него опасностью, тогда как встречался он с чекистами, которые контролировали каждый его шаг и оберегали от случайного провала. Комизм ситуации подчеркивался весьма серьезным, по-официальному сухим тоном, к которому прибегал Артузов.
— Я вижу, Артузов с большим мастерством водит за нос таких матерых конспираторов, как Савинков, — говорил Дзержинский, подписываясь под напечатанным крупными буквами словом «утверждаю» на плане дальнейших мероприятий, цель которых заставить Бориса Савинкова приехать в Советский Союз.
— Артузов — один из ваших учеников, Феликс Эдмундович, — отвечал Менжинский, забирая утвержденный план. — Подобные комбинации, насколько мне не изменяет память, вы проводили еще в восемнадцатом по делу казанского отделения НСЗРиС и при разоблачении Локкарта. Но ученик действительно талантливый, да и его заместители Пиляр и Пузицкий тоже под стать ему, умные контрразведчики.
Проводив Менжинского, Феликс Эдмундович не пошел работать. Остаток дня решил провести с семьей. Он был в отличном настроении, и Софья Сигизмундовна была благодарна Менжинскому: сдержал слово, отвлек Феликса от тяжелых дум о металле.
Феликс Эдмундович и Софья Сигизмундовна сидели на своей любимой садовой скамье и наблюдали, как невдалеке на лужайке играют Ясик, его товарищ Володя Овсеенко и племянница Феликса Эдмундовича Зося.
Зося была самой старшей в этой компании. Из угловатого подростка, каким встретил ее в двадцатом году в Харькове Дзержинский, она превратилась в красивую, стройную девушку с тонкими, «Дзержинскими» чертами лица. Зося часто гостила у дяди. Она к этому времени уже окончила рабфак и перешла на второй курс Харьковского финансово-экономического политехникума. Была активной комсомолкой.
Феликсу Эдмундовичу вспомнилось, как в 1922 году он старался приучать шестнадцатилетнюю Зоею к систематическим занятиям. Однажды он сказал ей:
— У меня к тебе большая просьба. Не можешь ли помочь мне в одном деле?
— Конечно! — обрадовалась Зося.
— Но это не так просто.
— Я постараюсь сделать все, что нужно.
— В таком случае возьми вот эту книжку. Меня просили сообщить, какого я о ней мнения, но ты знаешь, как я занят. Я прошу тебя хорошенько прочесть ее и рассказать мне, о чем в ней сказано, хороша ли она?
Книжка, на вид тоненькая, оказалась очень трудной для чтения. Стараясь понять ее, Зося убедилась, как мало она знает. «С тех пор, — писала впоследствии Софья Владиславовна, — у меня начался сдвиг в учебе, я поняла, что мне надо серьезно заниматься».
В тот же вечер у Дзержинского состоялся один разговор: Владимир Владимирович Овсеенко запомнил его на всю жизнь. К нему, тогда совсем юному комсомольцу, Феликс Эдмундович неожиданно обратился с вопросом:
— Скажите, Володя, во что коммунист должен верить?
Вопрос Володе показался странным. Как комсомолец он, конечно, был ярым атеистом, распевал с товарищами «Мы на небо залезем, разгоним всех богов» и не верил ни в бога, ни в черта. Уж не разыгрывает ли его Феликс Эдмундович? Володя замялся, не зная, что ответить.
— В коммунизм он должен верить, я так считаю. Не только по книгам, но всем своим существом коммунист должен быть уверен в победе революции, — сказал Феликс Эдмундович.
И по тому, как он сказал, Володя понял, что это очень серьезно.
Уехал домой Володя, спит в своей комнате Ясик, улеглась Зося с книгой в руках, а Феликс Эдмундович в спальне снова засел «часок поработать перед сном». Рядом Софья Сигизмундовна, помогает ему выверять таблицы. Как в Кракове, когда вместе готовили партийную почту в Россию.
Так проходил у Дзержинского отпуск. Правда, он считал отпуск несвоевременным, но товарищи знали, что выбрать время для отдыха ему самому никогда не удастся, и Политбюро, не считаясь с его протестами, обязало отпуск взять.
За неполный месяц пребывания на даче Дзержинский написал двадцать семь деловых писем, принял участие в пяти совещаниях. Там же, во время отпуска, им был составлен план работы Высшей правительственной комиссии по металлопромышленности. В пояснительной записке к плану Дзержинский предлагал привлечь к работе в ВПК «в первую очередь людей из других ведомств и учреждений, заинтересованных в удешевлении изделий металлопромышленности и ее упорядочении, не связанных с ее рутиной и могущих искать и не бояться новых путей».
Савинкова арестовали. Этого зубра контрреволюции привел из Парижа, как теленка на веревочке, чекист А. П. Федоров, отлично разыгравший роль одного из руководителей несуществующей антисоветской организации «Либеральные демократы». Савинков поверил в существование этой организации и в возможность своего выезда в СССР под чужим именем. Его обнадежили доклад благополучно возвратившегося в Париж Фомичева и письма другого эмиссара, Павловского. Он не знал, разумеется, что они написаны под диктовку чекистов!
— Уважаю ум и силу ОГПУ! — воскликнул Савинков, когда его доставили на Лубянку. И начал каяться.
Накануне судебного процесса с ним разговаривал Дзержинский. Савинков убеждал Дзержинского в том, что он разочаровался в белом движении, считает свою борьбу с Советской властью роковой ошибкой и хочет искупить ее честным трудом.
Феликс Эдмундович выслушал его внимательно и сказал:
— Мало, Савинков, разочароваться в белых и зеленых, надо суметь понять и оценить красных,
Савинков принял совет и постарался доказать это в суде.
«Белое движение разбито не только физически, но и идеологически и морально, — писала в передовой газета «Известия» 30 августа 1924 года. — Его наиболее решительный сторонник признал, что это движение антирусское, антинародное, что это движение антикрестьянское и антирабочее, что оно может быть только при поддержке иностранного капитала и что оно может быть только шпионской организацией иностранных генеральных штабов».
А год спустя на ту же приманку попался и Сидней Рейли, заочно приговоренный советским судом к расстрелу еще в восемнадцатом году как ближайший помощник Локкарта. Рейли, которому тогда удалось благополучно бежать из России, теперь сам прибыл в Москву нелегально по каналам Монархической организации центра России (МОЦР), контролируемой ОГПУ.
— Сам удивляюсь, как это нам удалось, — говорил Артузов, докладывая об аресте Рейли Дзержинскому. — Удивительно, что Рейли поверил в «силы контрреволюции» после ареста и суда над его другом Савинковым.
— Тут нет ничего удивительного. Его, как в свое время и Савинкова, ослепила классовая ненависть. Им так хочется свергнуть Советскую власть, что они готовы желаемое принять за действительность. Поэтому Рейли переоценил силы контрреволюционного подполья и троцкистской оппозиции, на которую он тоже делал ставку.
Оказавшись в тюрьме, Рейли обратился с письмом к Дзержинскому. «После прошедших со мной разговоров выражаю согласие дать вам вполне откровенные признания и сведения относительно организации и состава великобританских разведок и поскольку мне известны такие же сведения относительно американской разведки, а также лиц в русской эмиграции, с которыми мне пришлось иметь дело».
Показания Сиднея Рейли были использованы Советским правительством в ноте правительству Англии по поводу подрывной деятельности, проводимой британскими специальными службами в СССР.
Дзержинский несколько раз перечитал справку об антисоветской деятельности одного из инженеров ВСНХ. ОГПУ просило санкции на его арест. Феликс Эдмундович взял ручку, обмакнул в чернила перо и… отложил.
— Улики бесспорны, но он хороший специалист. Может принести большую пользу. Знаете что, Вячеслав Рудольфович, — сказал, оживляясь, Дзержинский, — оставьте его мне, я его переломлю. Многих людей можно приобрести и заставить работать честно, не доводя дело до суда.
Подобные разговоры у них уже были, и Менжинский знал, что Дзержинский сумел «переломить» не одного в прошлом контрреволюционно настроенного специалиста.
Менжинский уехал, а Феликс Эдмундович долго еще думал над давно волновавшим его вопросом: как в интересах социалистического строительства сплавить воедино революционный энтузиазм рабочего класса со знанием и опытом старой технической интеллигенции? Конечно, активных контрреволюционеров придется еще изолировать. Но на пути стояли не только консерватизм и антисоветские настроения части старых специалистов. Правильному и полному их использованию мешало недоверие к ним, нежелание учиться у них, бытующее среди советских хозяйственников и рабочих.
Этот вопрос Дзержинский решил поставить в своем докладе «О металлопромышленности» на XIV партийной конференции. Он говорил:
— Я должен сказать, что без знаний, без учебы нашей собственной, без уважения к людям, которые знают, без поддержки технического персонала, без поддержки науки, которая именно имеет целью поднять нашу промышленность и подвести научную базу под производственные процессы, мы без этого не сможем выполнить той задачи по поднятию производительности труда, которая перед нами поставлена. Как же мы подходим еще сейчас к техническому персоналу? У нас очень много пережитков в этой области. Мы помним еще то время, когда держали дубинку в руках и должны были держать для того, чтобы не позволить им изменять, а кто изменяет, того стукнуть и уничтожить. Остатков той психологии, которая была тогда уместна, у нас еще очень много держится до сих пор.
Дзержинский уловил шум в зале, остановился и спросил:
— Может быть, вам несколько странно, что я, председатель ГПУ, такие речи говорю?
Ответом был дружный смех.
— Но вы тем более должны прислушаться к тому, что говорит в этой области председатель ГПУ!
На этот раз уже не смех, а аплодисменты покрыли его слова.
— Я должен прямо сказать: мы рассматриваем их часто только как наемников. Я думаю, неправилен такой подход. Мы можем их завоевать как коллег, как тех товарищей, с которыми мы вместе работаем. Вопрос относительно того, чтобы мы подняли на высшую ступень науку и создали товарищеские условия работы нашему техническому персоналу, является основной задачей, без которой мы окончательно победить в экономическом отношении буржуазную Европу не сможем!
Техническая интеллигенция отвечала Дзержинскому на доверие доверием. Когда коммунисты «Главметалла» решили обсудить директивы XIV партконференции, на партийное собрание явились все беспартийные специалисты и приняли активное участие в обсуждении. А на организационном собрании Общества по изучению проблем межпланетных сообщений в президиум общества наряду с К. Э. Циолковским, Ф. А. Цандером и другими известными учеными и инженерами был избран и Ф. Э. Дзержинский.
9
Терпению партии пришел конец. В январе 1925 года Пленум ЦК РКП(б) сделал Троцкому категорическое предупреждение и освободил его от обязанностей председателя Реввоенсовета, так как дальнейшее пребывание его на этом посту могло отрицательно повлиять на боеспособность Красной Армии. Долго не могли решить, где его использовать, наконец в мае он был назначен членом президиума ВСНХ.
Свою работу в этом генеральном штабе советской промышленности Троцкий начал с докладной записки на имя Председателя ВСНХ Дзержинского, в которой предостерегал его против взятых темпов развития промышленности и предсказывал экономический кризис. Троцкого поддерживал Каменев. Он даже сформулировал его позицию в виде лозунга — «Реже шаг!».
— И это он пишет в тот момент, когда наша промышленность уже приближается к довоенному уровню, а вместе с тем во весь рост встает задача возобновления и расширения основного капитала. Забот и без того по горло, а тут еще с Троцким возись, — возмущался Дзержинский в разговоре с Манцевым и Менжинским.
— Меня удивляет, что Троцкий только недавно требовал сверхиндустриализации, а тут вдруг так резко переменил фронт, — сказал Манцев.
Дзержинский перетянул на хозяйственную работу в НКПС, а затем в ВСНХ большую группу чекистов. Манцев тоже работал теперь в ВСНХ членом президиума и заведующим отделом торговой политики.
— Да что вы удивляетесь, Василий Николаевич?! Троцкий — это же фигляр. Как Петрушка в балагане. Прыжок с поворотом на сто восемьдесят градусов, и вуаля, пожалуйста — «реже шаг», — при последних словах Вячеслав Рудольфович сделал руками жест, какой делает акробат после удачного прыжка. — Все дело в том, — продолжал Менжинский, — что Троцкому важна не столько индустриализация, сколько повод для новых нападок на линию партии.
— Но ведь Пленум потребовал от него полного и безоговорочного отказа от какой бы то ни было борьбы против идей ленинизма. Он предупрежден, что может поставить себя вне Политбюро, и даже устранен от работы в ЦК, — усомнился Манцев.
— И все-таки прав Вячеслав Рудольфович. Троцкий не остановится перед нарушением решения Пленума ЦК, как не остановился ранее перед нарушением решений партийных съездов, но Пленум постановил прекратить дискуссию, и я не хочу втягиваться в открытую полемику с ним, — говорил Дзержинский. — Пусть ответом ему будет мой доклад на III Всесоюзном съезде Советов.
И зачем только его направили в ВСНХ? — снова вырвалось у Дзержинского.
— А куда же еще, как не под гласный надзор председателя ОГПУ, — пошутил Менжинский.
На III съезде Советов Дзержинский сделал обстоятельный доклад о положении промышленности СССР. Многочисленные цифры и диаграммы подводили к единственно правильному выводу:
— Главнейшая и основная задача, которая стоит не только перед промышленностью, но и перед всем народным хозяйством и перед правительством, — это наметить в дальнейшем меры к тому, чтобы рост развития промышленности не только не был ослаблен, но был усилен и догнал потребности всего народного хозяйства.
В своем постановлении съезд Советов признал необходимым дальнейшее усиление темпов развития промышленности и в первую очередь расширение металлической промышленности.
Разумеется, Председатель ВСНХ занимался всеми отраслями народного хозяйства, а не только металлопромышленностью. Но тяжелой индустрией — в первую очередь.
— Некоторые товарищи тут также спрашивали: «Почему вы напираете на тяжелую индустрию, почему вы не разворачиваете легкую индустрию?»
Тяжелая индустрия обеспечивает рост легкой индустрии, и для того, чтобы легкая индустрия могла расширяться… мы должны соответственно заблаговременно подготовить и расширить нашу тяжелую индустрию, — так говорил Дзержинский на конференции московских большевиков в преддверии XIV партийного съезда.
XIV съезд партии вошел в историю как съезд индустриализации. Генеральная линия партии на индустриализацию страны вырабатывалась и последовательно развивалась в решениях съездов, конференций и пленумов ЦК РКП (б), проходивших и до XIV съезда. В этой коллективной творческой работе партии немалую роль сыграли доклады, выступления и статьи Феликса Эдмундовича Дзержинского.
— Феликс Эдмундович вырос в крупнейшего экономиста партии. Он дает партии такие постановки экономических проблем, которые при своем решении двигают хозяйство страны колоссальными шагами вперед. Не найдется ни одной проблемы, которая была бы поставлена развитием народного хозяйства с весны 1921 года, в которой не принимал бы самое непосредственное участие Дзержинский, — так говорил своим товарищам по ВСНХ заместитель председателя правления «Главметалла» В. И. Межлаук, вернувшись со съезда[83].
Трудно даже перечислить все проблемы, в разрешении которых принимал участие Дзержинский. И одна из основных — ей он придавал огромное значение — это привлечение масс рабочих к выполнению стоящих перед промышленностью задач.
«Кто не ставит себе в своей практической повседневной работе этой задачи — вовлечение этих масс в число сознательных участников производства, — тому не укрепить, не наладить нашей государственной промышленности… Если хозяйственник не знает массы, не умеет стать ее вождем, не сумел завязать с ней постоянных живых связей, то он не может быть ни хорошим членом партии, ни хорошим хозяйственником. Формой этого общения с массой и являются производственные совещания», — писал Дзержинский еще в июне 1924 года правлениям синдикатов, трестов и красным директорам предприятий.
Он двинул вперед развитие целого ряда отраслей промышленности, которые или вовсе не существовали, или находились в зародышевом состоянии. К ним относятся тракторостроение, автомобилестроение, авиапромышленность, цветные металлы, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение и другие. Неоднократно Дзержинский входил в правительство с просьбами запретить импорт тех или иных машин (например, тракторов), если их может изготовлять отечественная промышленность.
— Я не против ввоза вообще. Обойтись без импорта мы не можем. Но ввозить из-за границы надо то, что будет содействовать достижению нашей экономической самостоятельности, а не толкать нас в кабалу к заграничным капиталистам, — объяснял Дзержинский свою позицию.
И он добивается решения о строительстве тракторного завода в Сталинграде и завода сельхозмашин в Ростове-на-Дону.
С этих позиций Дзержинский подходит и к вопросу о концессиях.
В ВСНХ нашлись работники, предложившие передать восстановление богатейшего медного рудника Карабаш и Риддеровских свинцово-цинковых месторождений их старому хозяину, английскому капиталисту Уркарту. Дзержинский распорядился проверить, что собой представляют эти работники, которые действуют как агенты этого капиталиста. Он просил «составить список инженеров и ученых и наших коммунистов-администраторов, знающих дело и не имеющих слабости к Уркарту, дабы привлечь их к работе» и «собрать все силы и двинуть дело самым быстрым темпом».
Интересен результат. Уркарт просил кредит в 10 миллионов рублей и обещал, что Карабаш после трех лет будет давать 300 тысяч пудов меди. Когда за восстановление рудника взялось само Советское государство, то, вложив всего 900 тысяч рублей, уже через год получило 500 тысяч пудов, то есть полное довоенное производство.
Были восстановлены своими силами и Риддеровские рудники, на которые претендовал Уркарт.
— Я должен сказать, что если бы тут были просто наемные рабочие, если бы здесь была простая эксплуатация, а не борьба за строительство социализма, то ни в коем случае не могло быть речи о том, что можно было достигнуть таких результатов, — заявил Дзержинский.
Целый ряд кампаний, начатых Дзержинским, такие, как борьба за снижение розничных цен, за поднятие производительности труда, режим экономии, упрощение и удешевление государственного аппарата, приняли общегосударственный размах и значение.
Большую помощь и поддержку получали у Дзержинского рационализаторы и изобретатели…
…А здоровье становилось все хуже. В конце 1924 года у него был первый приступ грудной жабы. Врачи серьезно беспокоились за его жизнь, советовали беречься, ограничить работу четырьмя часами в день, соблюдать режим. Но он словно торопился сделать как можно больше за отведенный ему судьбой срок и по-прежнему работал по 16–18 часов.
В июне 1925 года Дзержинский посетил Волховстрой. Вместе с начальником строительства Графтио обошел стройку. Он внимательно выслушивал сообщения руководителей, беседовал с рабочими, рекомендовал им учиться монтажу турбин у шведских специалистов, чтобы затем самим управлять электростанцией.
Возвратившись в кабинет Графтио, Феликс Эдмундович сказал:
— Знаете, Генрих Осипович, доктора запретили мне даже на третий этаж подниматься, а сколько я исходил здесь, сами видели, и ничего… Воздух стройки полезен!
10
— Мы ведь, Зиновьев, не шутки шутим, а должны сохранить во что бы то ни стало единство нашей партии. И единство партии должно быть сохранено, оно должно быть свято для всех нас не формально, как вы пытаетесь предлагать и доказывать, а по существу, — говорил Дзержинский, обращаясь к лидеру «новой оппозиции», выступившей на XIV партийном съезде со своей «особой» платформой.
Зиновьев в то время возглавлял Ленинградскую партийную организацию. ЦК ВКП(б) направил в Ленинград для разъяснений решений съезда и антипартийной деятельности «новой оппозиции» группу членов ЦК — Андреева, Дзержинского, Калинина, Кирова.
Чрезвычайная конференция ленинградских коммунистов единодушно одобрила итоги XIV партийного съезда, отстранила Зиновьева и его единомышленников и избрала новый губернский комитет во главе с Сергеем Мироновичем Кировым.
Очень скоро «новая оппозиция» нашла общий язык в Троцким. В апреле 1926 года Пленум Центрального Комитета вновь обсуждал вопросы хозяйственного строительства. Троцкий и Каменев, которые совсем недавно выдвигали лозунг «Реже шаг!», неожиданно сделали новый крутой поворот и начали обвинять ЦК в том, что он слишком медленно ведет дело индустриализации. Они настаивали на совершенно нереальном ускорении темпов развития промышленности за счет выкачки денег из деревни. Собственно говоря, ничего нового в этих предложениях не было. Старая троцкистская позиция.
— В тех речах, с которыми здесь выступали Каменев и Троцкий, — говорил Дзержинский на Пленуме, — совершенно ясно и определенно нащупывалась почва для создания новой платформы, которая привела бы к замене не так давно выдвинутого партией лозунга «липом к деревне» лозунгом «кулаком к деревне». Те речи, которые здесь говорились ими, метод искания ими средств, постановка ими вопроса, откуда взять средства для индустриализации страны, — все это клонилось к тому, что надо обобрать мужика…
Если послушать вас, Каменев и Троцкий, то у вас как будто тут нет союза рабочих и крестьян, вы не видите этого союза как основу Советской власти, при диктатуре пролетариата. И поэтому этот совершенно ошибочный политический уклон может быть и для нашей промышленности, и для всей Советской власти убийственным.
Пленум отверг предложения оппозиции и одобрил курс, проводимый Центральным Комитетом и Политбюро.
Вопреки решениям XIV съезда партии оппозиция продолжала свою раскольническую деятельность. Она прибегла к таким приемам и методам борьбы, которые июльский объединенный Пленум ЦК и ЦКК квалифицировал как «небывалые» и «неслыханные» в жизни партии. Устройство нелегальных, конспиративных собраний, направление своих агентов в другие партийные организации с целью создания там подпольных фракционных групп, распространение среди местных организаций, помимо ЦК, тенденциозно подобранных секретных документов — такова была обстановка и накал борьбы внутри партии к моменту созыва июльского объединенного Пленума ЦК и ЦКК.
Феликс Эдмундович тщательно готовился к Пленуму. Линия ЦК должна быть подкреплена точными цифрами и данными, и это должен сделать он, Председатель ВСНХ. Мешает проклятая астма. Днями он перенес два сердечных приступа, но никому не сказал об этом. Опасался, как бы врачи не запретили выступать. Только записал для памяти в своем блокноте, чтобы уже после Пленума поговорить с ними.
А тут еще переворот в Польше. 13 мая 1926 года Пилсудский снова пришел к власти. Пилсудского поддерживают Англия и США. В ОГПУ поступили сведения о намерении английского генерального штаба с помощью Польши и других граничащих с СССР буржуазных государств организовать широкую диверсионную работу на советских промышленных предприятиях. Органы ГПУ уже задержали нескольких диверсантов, направлявшихся с такими заданиями в районы «Грознефти», Донбасса, Тулы. Участились пожары и взрывы на предприятиях, отмечалось усиление шпионажа.
Все это говорило о возрастании опасности прямого военного нападения на СССР. Надо принимать срочные, безотлагательные меры. Сразу же после переворота Пилсудского Дзержинский ставит перед ОГПУ задачу «все свои силы направить на подготовку к обороне» и намечает практические меры: вести энергичную борьбу с польской агентурой, петлюровскими и белогвардейскими бандами, с влиянием ксендзов, усилить пограничную охрану и разведку в пограничных местностях.
20 мая Дзержинский представил в комиссию обороны при Политбюро ЦК ВКП(б) доклад «О современном состоянии заводов военной промышленности».
11 июля Дзержинский сообщает в ЦК о подготовке Польши к нападению на СССР и оживлении деятельности белогвардейцев в Прибалтике и против Кавказа.
Он предлагает проверить состояние Красной Армии, обсудив этот вопрос в комиссии обороны.
Вместе с наркомом иностранных дел Чичериным они входят с предложением, чтобы Пленум ЦК заслушал информацию о внешнем положении СССР в связи с агрессивной политикой Польши и Англии.
В воскресенье, за два дня до своего выступления на Пленуме, Дзержинский до поздней ночи работал в ОГПУ. На следующий день выступил с речью на заседании Президиума ВСНХ о контрольных цифрах промышленности на 1926/27 год. Вернулся домой в 3 часа ночи страшно усталый.
Настало утро 20 июля 1926 года. Тошнота, признак сосудистого криза, подступает к горлу. Но на сегодня назначено его выступление. Надо преодолеть слабость и ехать. И Феликс Эдмундович, так и не позавтракав, отправился в ОГПУ, а затем в Кремль на очередное заседание Пленума.
Дзержинский занял место рядом с Микояном, достал блокнот и приготовился слушать доклад Каменева о хлебозаготовках. Каменев теперь народный комиссар внешней и внутренней торговли и отвечает за это дело. Вскоре карандаш в руках Дзержинского забегал по блокноту. Подбор экономических расчетов Каменев делает в духе концепции «новой оппозиции», пугает огромными прибылями частника, да к тому же обнаруживает полное незнание и непонимание вопроса, путая валовую прибыль с чистой прибылью. Придется в своем выступлении показать всю несостоятельность его выкладок.
— Слово предоставляется товарищу Пятакову, — слышится голос председательствующего.
Анастас Иванович Микоян видит удивление на лице Дзержинского.
— Странно, — говорит он, — Пятаков мой заместитель, а даже не поставил в известность о своем намерении выступить!
Пятаков говорил долго. Оперируя взятыми в ВСНХ данными, пытался доказать, что деревня богатеет чрезмерно, что партия задерживает развитие промышленности. Пятаков потребовал повышения оптовых цен, усиления налогового обложения деревни, уменьшения расходов бюджета на все нужды, чтобы за счет всего этого увеличить вложения в основной капитал промышленности.
Лицо Дзержинского покрывается пятнами.
— Феликс Эдмундович, не надо так волноваться. Ну кто не знает, что Пятаков троцкист, — говорит Микоян, видя, как нервничает Дзержинский.
— Пятаков мой заместитель. Фактически он делает содоклад. От чьего имени, спрашивается? От ВСНХ? Как же так, не предупредив даже, выступает с антипартийной программой? Не знаю, как вы это расцениваете, а я рассматриваю как вероломство. Если уж драться между собой, то соблюдая все правила борьбы…
В таком взвинченном состоянии Дзержинский поднялся на трибуну.
— Товарищи, я должен сказать, что в докладе Каменева и в дополнении к этому докладу Пятакова я поражен в величайшей степени тем обстоятельством, что один из них, будучи наркомторгом… а другой заместителем Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, проявили полное незнание и незнакомство с теми вопросами, о которых они здесь трактовали, — так он начал свою речь. А затем блестяще доказал это свое утверждение цифрами и данными, многие из которых знал наизусть или приводил, бросая лишь мимолетный взгляд на свои записи. Каменев, Пятаков, Троцкий все время перебивали его репликами, не давали говорить. После одной из таких реплик Дзержинский решил Пятакова осадить:
— Пятаков свое невежество уже обнаружил, и поэтому ему позволительно кричать.
— А вы всегда пользовались молчанием, товарищ Дзержинский? — с места выкрикнул Троцкий.
Дзержинский даже не обернулся в его сторону.
— Вы — свидетели уже не один день, как меньшинство желает вывести из равновесия большинство, — сказал он, обратившись к собранию, — и я не буду на такие реплики обращать внимания, ибо чем мы больше обращаем внимание на эти выходки, тем больше мы этим даем возможность оппозиции нашу деловую работу дезорганизовывать.
— Верно! Правильно! — поддержали его голоса из зала.
Но выкрики со стороны оппозиции продолжаются. Сторонники большинства тоже не остаются в долгу. Перекрывая общий шум, Дзержинский продолжает. Он приводит цифры, разбивающие в прах построения Каменева и Пятакова. Цифры эти свидетельствуют и об отличном знании Дзержинским дела, которое совсем недавно поручила ему партия. Он говорит:
— И тут выступает на смену программа Пятакова, бессмысленная, антисоветская, антирабочая программа ва повышение отпускных цен.
Впервые программа оппозиции названа антисоветской. На некоторое время зал стихает, затем шум усиливается; стенографистки уже не в состоянии улавливать и фиксировать отдельные реплики. Председатель объявляет, что время Дзержинского истекло. Дзержинский просит еще 10–15 минут.
— Не ограничивать! — требует зал.
Слышна реплика Каменева:
— Вы четыре года нарком, а я только несколько месяцев!
— А вы будете 44 года — и никуда не годны, — под общий смех отвечает Дзержинский, — потому что вы занимаетесь политиканством, а не работой. А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя, Каменев, никогда!
Голоса с мест:
— Правильно!
— И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите, — вновь обратился к залу Дзержинский. — Я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Мне одному справиться трудно, поэтому я прошу у вас помощи…
Дзержинский побледнел. Капельки пота поползли по лбу. Он почувствовал страшную слабость и головокружение, но, собрав последние силы, твердым голосом, прозвучавшим почти торжественно, закончил речь:
— …Вы видите, что именно все те данные и все те доводы, которые здесь приводила наша оппозиция, основаны не на фактических данных, а на желании во что бы то ни стало помешать той творческой работе, которую Политбюро и Пленум ведут.
Феликс Эдмундович сошел с трибуны под аплодисменты. Сел на свое место. Грудь распирала тупая боль. Он еще пытался слушать других ораторов, волновался, но вскоре почувствовал себя совсем плохо. Товарищи помогли выйти из зала, уложили на диван в одной из соседних комнат. Пришел врач, сделал укол камфары, дал ландышевых капель…
Феликс Эдмундович лежал и вспоминал слова старенького доктора из Сухуми: «Вас хватит не более чем на два-три года, если не будете лечиться и соблюдать режим». Это было в 1922 году. Неужели пришел срок? «Нет, — упрямо подумал Дзержинский, — мы еще поборемся», и когда немного отлегло, встал и направился домой.
Открылась дверь, и в квартиру вошел Феликс. Он был смертельно бледен и двигался медленно, с трудом. За ним Беленький и его секретарь по ВСНХ Реденс. Феликс Эдмундович крепко пожал руку Софье Сигизмундовне и молча направился в спальню.
— Я сам, — сказал он, когда Софья Сигизмундовна попыталась пройти вперед, чтобы приготовить постель.
Он упал без сознания между двумя кроватями. Беленький и Реденс подняли его и уложили на кровать. Прибежавший сосед по квартире старый товарищ Адольф Варский вызвал врача. Врач явился почти немедленно, но было уже поздно. Привычным движением доктор достал часы, щелкнул крышкой.
— Феликс Эдмундович Дзержинский умер в 16 часов 40 минут.
На вечернем заседании члены ЦК и ЦКК приняли обращение:
Ко всем членам партии, рабочим, трудящимся, к Красной Армии и Флоту Товарищи!
Сегодня партию постиг новый тяжкий удар. Скоропостижно скончался от разрыва сердца т. Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутомимый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев.
Товарищ Дзержинский умер внезапно, придя домой после своей речи — как всегда, страстной — на Пленуме Центрального Комитета. Его больное, вконец перетруженное сердце отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. Славная смерть на передовом посту!
Наша партия в лице товарища Дзержинского теряет одного из самых выдающихся и самых героических своих вождей. В застенках царской России, в сибирской ссылке, в нескончаемо долгие годы каторжной тюрьмы, в кандалах и на свободе, в подполье и на государственном посту, в ЧК и на строительной работе — всегда, везде, всюду Феликс Дзержинский был на передовой линии огня. Он строил с беззаветным героизмом пролетарскую партию Польши и Литвы, в самые ужасные годы был неустрашимым подпольным революционером, и как только великая революция расковала его кандалы, сразу стал в боевую большевистскую шеренгу. Герой Октябрьского восстания п один из его руководителей, Дзержинский вскоре стал на самый тяжелый и мучительно трудный пост. Под его руководством отражала ЧК натиски врагов. В самые тяжелые времена, времена бесконечных заговоров и контрреволюционных восстаний, когда советская земля пылала в огне и кровавое кольцо врагов окружало бившихся за свое освобождение пролетариев, Дзержинский проявлял нечеловеческую энергию, дни и ночи, ночи и дни без сна, без еды, без малейшего отдыха работал на своем сторожевом посту. Ненавидимый врагами рабочих, он пользовался громадным уважением даже среди них. Его рыцарская фигура, его личная отвага, его глубочайшая принципиальность, его прямота, его исключительное благородство создали ему громадный авторитет. Его заслуги громадны. Переоценить их нельзя.
Но вот кончилось время гражданских боев. И Дзержинский посылается на новую передовую позицию. Он собирается в поход против разрухи, с нечеловеческой энергией борется за наш транспорт, а потом за нашу промышленность. «Мирная полоса», которая для других стала временем отдыха, для Дзержинского этого отдыха не дала. И теперь он работал и днем и ночью. И теперь он не знал «праздников». И теперь он все силы своей личности, своего огромного темперамента, своего ума и своей воли отдавал делу, за которое сражался всю жизнь. Его дело было прекрасно. Прекрасной была его замечательная жизнь. Прекрасна его смерть на боевом посту.
Мы склоняем свои боевые знамена над твоим телом, бесстрашный наш друг! Мы призываем всех трудящихся, всех пролетариев отдать свой последний долг бойцу, имя которого незабвенно, дело которого завоюет мир.
Да здравствует коммунизм!
Да здравствует наша партия!
Центральный Комитет ВКП(б)
Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б)
Основные даты жизни и деятельности Ф. Э. Дзержинского
1877, 30 августа (11 сентября) — В имении Дзержиново Виленской губернии родился Феликс Эдмундович Дзержинский.
1895 — Дзержинский, ученик 1-й виленской гимназии, вступает в ряды литовской социал-демократии, примыкает к ее революционному крылу, руководит кружками ремесленных и фабричных учеников.
1896 — Дзержинский уходит из гимназии, становится профессиональным революционером.
1897, март — июль — Дзержинский ведет революционную работу в Ковно, выпускает польскую нелегальную газету, руководит забастовкой в Алексоте.
17 (29) июля — Арест Дзержинского.
1898, 12 (24) мая — Дзержинский в административном порядке выслан в Вятскую губернию.
1899, август — Побег из ссылки.
Декабрь — Дзержинский приезжает в Варшаву, создает «Рабочий союз социал-демократии».
1900, январь — Арест Дзержинского, заключен в X павильон Варшавской цитадели.
1901, октябрь — Подписано постановление о высылке Дзержинского на пять лет в Восточную Сибирь.
1902, май — Дзержинский руководит демонстрацией протеста политических заключенных в Александровской центральной пересыльной тюрьме.
12 (25) июня — Побег по пути следования к месту ссылки. Август — Дзержинский участвует в работе конференции СДКПиЛ в Берлине, избран в состав Заграничного комитета.
1903, июль — Дзержинский участвует в работе IV съезда СДКПиЛ, на котором принято решение об объединении СДКПиЛ с РСДРП. Избран в состав Главного правлении СДКПиЛ.
1903–1904 — Дзержинский работает в Кракове как заграничный представитель Главного правления СДКПиЛ, руководит изданием газеты «Червоны штандар».
1904, декабрь — Нелегально переезжает в Варшаву.
1905, 18 апреля (1 мая) — Организует первомайскую демонстрацию в Варшаве.
17 (30) июля — руководит Варшавской партийной конференцией. Арест Дзержинского.
20 октября (2 ноября) — Дзержинский освобожден из тюрьмы по амнистии.
Ноябрь — Участвует в работе краевой конференции СДКПиЛ.
14 (27) декабря — выступает в Домбровском районе с призывом начать всеобщую забастовку солидарности с московскими рабочими.
1906, апрель — Дзержинский участвует в работах IV (Объединительного) съезда РСДРП, где впервые встречается с Лениным.
Август — сентябрь — Дзержинский работает в Петербурге.
13 (26) декабря — Арест Дзержинского. Заключен в варшавскую следственную тюрьму «Павиак».
1907, 19 мая (1 июня) — На V съезде РСДРП Дзержинский заочно избран в состав ЦК партия.
22 мая (4 июня) — Освобожден из тюрьмы под залог.
1908, 3 (16) апреля — Дзержинский арестован и заключен в X павильон Варшавской цитадели.
1909, 15 (28) января и 25 апреля (8 мая) — Дзержинский по приговорам Варшавской судебной палаты лишен прав состояния и осужден на вечное поселение в Сибирь.
Август — Дзержинский выслан в распоряжение Енисейского губернского правления.
Ноябрь — Побег из ссылки.
1910, январь — Партия направляет Дзержинского на лечение в Италию, на остров Капри.
Март — декабрь — Дзержинский руководит подпольной революционной работой в Кракове, ведет борьбу с ликвидаторством и отзовизмом.
1911, 28 мая — 4 июня (10–17 июня) — Дзержинский участвует в совещании ЦК РСДРП, созванном по инициативе Ленина в Париже.
1912, январь — Дзержинский переезжает в Варшаву, ведет работу в Ченстохове, Домбровском бассейне.
1 (14) сентября — Арест Дзержинского.
1914, апрель — Дзержинский приговорен к трем годам каторжных работ.
Июль — Дзержинский переведен иэ Варшавы в Орловскую губернскую тюрьму, а затем в Орловский каторжный централ.
1916, март — Дзержинский переведен в Московскую губернскую тюрьму в связи с возбуждением против него нового судебного дела.
1917, 1(14) марта — В результате победы Февральской революции Дзержинский освобожден из тюрьмы.
24–29 апреля (7—12 мая) — Дзержинский участвует в работе VII (Апрельской) конференции РСДРП(б).
26 июля — 3 августа (8—16 августа) — Дзержинский участвует в работе VI съезда РСДРП(б). Избран членом ЦК РСДРП(б).
Август — Избран в узкий состав и в Секретариат ЦК РСДРП(б).
16 (29) октября — На расширенном заседании ЦК РСДРП(б) избран в Военно-революционный центр по руководству восстанием.
25 октября (7 ноября) — Дзержинский активно участвует в Октябрьском вооруженном восстании.
7 (29) декабря — Дзержинский назначен председателем ВЧК.
1918, 6–8 марта — Дзержинский участвует в работе VII съезда партии, избран членом ЦК РКП(б).
Август — сентябрь — Под руководством Дзержинского раскрыт и ликвидирован антисоветский заговор империалистических государств, организованный Локкартом.
1919, январь — Находится на Восточном фронте в составе партийно-следственной комиссии.
18–23 марта — Участвует в работе VIII съезда РКП(б), избран в ЦК РКП(б).
30 марта — Дзержинский утвержден народным комиссаром внутренних дел.
18 августа — Решением Оргбюро ЦК РКП(б) Дзержинский назначен председателем Особого отдела ВЧК. Сентябрь — Под руководством Дзержинского раскрыт и ликвидирован антисоветский заговор «Национальный центр» в Москве.
1920, 28 января — Дзержинский награжден орденом Красного Знамени.
19 февраля — Совнарком утверждает Дзержинского председателем Главного комитета по всеобщей трудовой повинности.
29 марта — 5 апреля — Дзержинский участвует в работе IX съезда РКП(б), избран членом ЦК РКП(б).
5 апреля — Пленум ЦК РКП(б) избрал Дзержинского кандидатом в члены Оргбюро ЦК РКП (б).
29 мая — Дзержинский назначен начальником тыла Юго-Западного фронта.
Июль — август — член Польревкома.
15 октября — Решением ЦК РКП(б) Дзержинский назначен председателем комиссии для выработки мер по усилению охраны государственной границы.
1921, 27 января — Дзержинский утвержден председателем комиссии при ВЦИК по улучшению жизни детей.
Январь — февраль — Дзержинский занимается вопросами восстановления угольной и металлургической промышленности Донбасса.
8—16 марта — Дзержинский участвует в работе X съезда РКП(б), избран членом ЦК РКП(б).
14 апреля — По предложению В. И. Ленина Дзержинский назначен народным комиссаром путей сообщения с оставлением на посту руководителя ВЧК и НКВД.
1922, январь — март — Дзержинский работает в Сибири как особоуполномоченный ВЦИК для принятия чрезвычайных мер по продвижению продовольственных грузов из Сибири.
2 февраля — Дзержинский назначен Председателем Главного Политического Управления (ГПУ) при НКВД.
27 марта — 2 апреля — Дзержинский участвует в работе XI съезда РКП(б), избран членом ЦК РКП(б).
20 июня — Постановлением Совнаркома Дзержинский введен в состав Особого временного комитета науки при СНК.
Август — Дзержинский назначен председателем комиссии СТО по борьбе со взяточничеством.
30 декабря — Дзержинский участвует в работе I съезда Советов СССР, избран членом ЦИК Союза ССР.
1923, 17–25 апреля — Дзержинский участвует в работе XII съезда РКП(б), избран членом ЦК РКП(б).
26 апреля — Дзержинский утвержден представителем ЦК РКП(б) в Центральную Контрольную Комиссию.
18 сентября — Дзержинский утвержден председателем коллегии ОГПУ СССР.
1924, 22 января — Дзержинский назначен председателем комиссии Президиума ЦИК СССР до организации похорон В.И. Ленина.
2 февраля — Дзержинский утвержден Председателем ВСНХ СССР.
21 марта — Под председательством Дзержинского при ВСНХ создан Центральный комитет содействия Донбассу.
23–31 мая — Дзержинский участвует в работе XII съезда РКП (б), избран членом ЦК РКП(б).
2 июня — Дзержинский избран кандидатом в члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б).
1925, 18–31 декабря — Дзержинский участвует в работе XIV съезда ВКП(б), избран членом ЦК ВКП(б).
1926, 1 января — Выступает на Пленуме ЦК ВКП(б) с речью, разоблачающей лидеров «новой оппозиции». Избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
6–9 апреля — Дзержинский участвует в работе Пленума ЦК ВКП(б), выступает с разоблачением предложений Троцкого и Каменева по вопросам индустриализации.
14–20 июля — Дзержинский участвует в работе объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б).
20 июля — Выступает на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) с речью, в которой разоблачает враждебную деятельность троцкистско-зиновьевского антипартийного блока. Скоропостижная смерть Дзержинского.
Краткая библиография
В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, тт. 9, 22, 25, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 51.
«Ленинский сборник», XXXIV.
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Изд. 7-е, ч. I–II. М., Политиздат, 1953.
«История Коммунистической партии Советского Союза». М., Политиздат, 1973.
«Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание третье. М., Политиздат, 1967.
Ф. Э. Дзержинский, Избранные произведения в двух томах. М., Политиздат, 1957.
Ф. Э. Дзержинский, Из дневника. М., изд-во «Молодая гвардия», 1939.
Феликс Дзержинский, Дневник. Письма к родным. М., изд-во «Молодая гвардия», 1958.
C. Дзержинская, В годы великих боев. М., изд-во «Мысль», 1965.
С. В. Дзержинская, Вечная жажда борьбы. М., библиотечка журнала «Пограничник», 1974.
В. Антонов-Овсеенко, В революции. М., Политиздат, 1957.
Ю. Бернов, А. Манусевич, Ленин в Кракове. М., Политиздат, 1972.
И. Викторов, Подпольщик, Воин. Чекист. М., Политиздат,
Д. Л. Голинков, Крах вражеского подполья. (Из истории борьбы с контрреволюцией в Советской России в 1917–1924 гг.). М., Политиздат, 1971.
Зинаида Гусева, Свидание на Капри. М., изд-во «Советская Россия», 1972.
С. И. Елкина, И. М. Мишакова, Феликс Эдмундович Дзержинский. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. М., Политиздат, 1972.
Н. Зубов, Ф. Э. Дзержинский. Биография, третье, дополненное издание. М., Политиздат, 1971.
«Из истории ВЧК». Сборник документов. Составители А. К. Гончаров, И. А. Дорошенко и другие. М., Политиздат, 1958.
О. Н. Иогансон, Дорогой борьбы. М., Политиздат, 1963.
Ф. Кон, Ф. Э. Дзержинский — несгибаемый борец за дело партии… М., ОГИЗ-ГИПЛ, 1945.
«Красная книга ВЧК» (под редакцией П. Макинциана), том первый. М., ГИЗ, 1920.
«Красная книга ВЧК» (под редакцией М. Я. Лациса), тол второй. М., 1922.
А. Куварзин, По заданию партии. Новые строки о Ф. Э. Дзержинском. Ж-л «Пограничник», № 4, 1973.
«Ленин в воспоминаниях чекистов». Сборник. Составители А. С. Масальская, И. А. Дорошенко. Библиотечка журнала «Пограничник». М., 1970.
Г. М. Любаров, Феликс Эдмундович Дзержинский. М., изд- во «Правда», 1950.
И. В. Малышев, Ф. Э. Дзержинский о коммунистическом воспитании. М., изд-во Военной инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского, 1966.
П. Мальков, Записки коменданта Московского Кремля. М., изд-во «Молодая гвардия», 1959.
С. Милейковский, Он был — сама революция (Ф. Дзержинский). М., Изд-во политкаторжан, 1931.
«Особое задание». Сборник. Составитель И. Е. Поликаренко. М., изд-во «Московский рабочий», 1968.
«Рассказы о Дзержинском». Сборник воспоминаний. Составители М. Ф. Розвадовская, А. И. Разгон. М., изд-во «Детская литература», 1965.
«Рыцарь революции». Воспоминания современников о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Сборник. Составители М. Ф. Розвадовская, В. М. Слуцкая. М., Полигиздат, 1967.
П. Г. Софинов, Очерки истории ВЧК. М., Политиздат, 1960.
А. В. Тишков, Первый чекист. М., Воениздат, 1968.
«Феликс Дзержинский». Сборник воспоминаний. М., Соцэкгиз, 1926–1931.
Ф. Фомин, Записки старого чекиста. М., Политиздат, 1962.
А. Ф. Хавин, У руля индустрии. М., Политиздат, 1968.
А. Ф. Xацкевич, Солдат великих боев. Жизнь и деятельность Ф. Э. Дзержинского. Издание третье, дополненное. Минск, изд-во «Наука и техника», 1970.
С.С. Хромов, Ф. Э. Дзержинский во главе металлопромышленности. М., Изд-во Московского университета, 1966.
«Пролетарская революция», 1926, Л. 9, 10.
«Красный архив», 1926, № 3.
Иллюстрации
Мать, Елена Игнатьевна Дзержинская (урожденная Янушевская).
Отец, Эдмунд-Руфин Иосифович Дзержинский.
Дом в Дзержинове Ошмянского уезда Виленской губернии, где родился Ф. Э. Дзержинский.
Дом в Дзержинове, а котором провел детские годы Ф. Э. Дзержинский.
Ф. Э. Дзержинский в восьмилетием возрасте.
Старшая сестра Ф. Э. Дзержинского — Альдона.
Ф. Э. Дзержинский (в центре) с матерью и братьями Казимиром (сидит слева) и Станиславом (стоит).
Здание 1-й виленской гимназии, где с 1887 по 1896 год учился Ф. Дзержинский.
В. И. Ленин. 1897 г.
Вильно. Заречье. В мансарде этого дома жил Ф. Э. Дзержинский (конец 1896-го — начало 1897 г.).
Изба, в которой Ф. Э. Дзержинский жил с конца 1898-го по 20 августа 1899 г., когда отбывал ссылку в с. Кайгородском Вятской губернии.
Ф. Э. Дзержинский в Седлецкой тюрьме. 1901 г.
Руководители социал-демократии Королевства Польского и Литвы: Роза Люксембург, Адольф Варский и Юлиан Мархлевский.
Ф. Э. Дзержинский в Бутырской тюрьме. 1902 г. (снимок жандармского управления).
Ф. Э. Дзержинский. 1905 г.
Ф. Э. Дзержинский. Краков. 1911 г.
С. С. Дзержинская в тюрьме. 1912 г.
«Договор Ленина с Юзефом» (автограф).
Ф. Э. Дзержинский в Цюрихе. 1910 г.
X павильон Варшавской цитадели, в котором неоднократно содержался в заключении Ф. Э. Дзержинский.
Ф. Э. Дзержинский в Орловском каторжном централе. 1914 г.
Ф. Э. Дзержинский. 1918 г.
Ф. Э. Дзержинский с сотрудниками ВЧК. 1918 г.
Дом в Петрограде, где размещалась ВЧК.
Ф. Э. Дзержинский с семьей. Лугано. Октябрь, 1918 г.
Анкета Ф. Э. Дзержинского. Автограф. 1918 г.
Ф. Э. Дзержинский с членами коллегии ВЧК. 1919 г. Слева направо: Уралов, Дзержинский, Валобуев (сидит), Васильев-Южин, Савинов, Ксенофонтов, Мороз.
Ф. Э. Дзержинский и И. К. Ксенофонтов.
Коллегия ВЧК. 1919 г.
Ф. Э. Дзержинский. Портрет, подаренный Уралову. 1919 г.
Ф. Э. Дзержинский и Я. X. Петерс.
В. Р. Менжинский.
Ф. Э. Дзержинский среди делегатов 3-й конференции чрезвычайных комиссий. 1919 г.
Ф. Э. Дзержинский — начальник тыла Юго-Западного фронта. Июнь-июль 1920 г.
Ф. Э. Дзержинский и С. С. Каменев с членами Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Сидят: М. К. Владимиров, С. С. Каменев, Ф. Э. Дзержинский. Стоят: Р. П. Эйдеман, М. Малиновский, Р. Берзин. 1920 г.
Ф. Э. Дзержинский за работой в штабе тыла Юго-Западного фронта. 1920 г.
Ф. Э. Дзержинский, Ю. Ю. Мархлевский, Ф. Я. Кон — члены Временного революционного комитета Польши. Крайний слева — И. И. Скворцов-Степанов. Август, 1920 г.
Ф. Э. Дзержинский, начальник Николаевского районного управления водного транспорта И. П. Яворский и начальник Николаевского морского порта Г. В. Баглай. 1921 г.
Ф. Э. Дзержинский с группой чекистов на пароходе «Нестор-летописец» по пути из Николаева в Одессу. Июнь, 1921 г. (Крайняя справа стоит Эльза Грунтман).
Наркомпуть и Председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский во время поездки в Сибирь. 1922 г.
Ф. Э. Дзержинский вручает знамя Президиума ВЧК отряду Особого назначения ВЧК. 1921 г.
Кавалеры ордена Красного Знамени автобронеотряда ВЧК имени Я. М. Свердлова, командование Южного фронта и члены Президиума ВЧК. 1921 г.
Ф. Э. Дзержинский и И. С. Уншлихт 17 декабря 1922 г. на параде войск ГПУ по поводу пятилетия ВЧК — ГПУ.
Коллегия ОГПУ. 1922 г. С. А. Мессинг, Я. X. Петерс, И. С. Уншлихт, А. Я Беленький, Ф. Э. Дзержинский, В. Р. Менжинский, Г. И. Бокий, А. X. Артузов.
Ф. Э. Дзержинский и Г. К. Орджоникидзе. Сухуми, 1922 г.
Автограф Ф. Э. Дзержинского (собственноручное дополнение к записи беседы с корреспондентом «Правды» от 13 декабря 1922 г.).
С. С. Дзержинская и Ф. Э. Дзержинский на даче под Москвой. 1923 г.
Ф. Э. Дзержинский и А. А. Андреев на конференции союза железнодорожников. 1923 г.
Ф. Э. Дзержинский и К. Е. Ворошилов у гроба Б. И. Ленина.
Ф. Э. Дзержинский на заседании Президиума ВСНХ. Февраль, 1924 г.
Ф. Э. Дзержинский в Ленинграде у здания Института прикладной химии НТО ВСНХ с группой ученых и сотрудников института. 1925 г.
В. В. Куйбышев (портрет и автограф).
Ф. Э. Дзержинский и С. М. Киров на XXII чрезвычайной ленинградской губернской конференции ВКП(б). Февраль, 1926 г.
Ф. Э. Дзержинский. 1926 г.
Примечания
1
«Пролетариат» — первая социалистическая партия польского пролетариата. Воспитывала рабочий класс в духе классовой борьбы и международной солидарности. Основана в 1882 году, разгромлена полицией в 1886 году. «Союз польских рабочих» — массовая пролетарская организация, возникшая в 1889 году. Просуществовала до 1892 года.
(обратно)2
«Союз польских рабочих» — массовая пролетарская организация, возникшая в 1889 году. Просуществовала до 1892 года.
(обратно)3
Зюк — подпольная кличка Пилсудского, который в описываемый период играл видную роль в виленской организации ППС.
(обратно)4
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», основанный В. И. Лениным в 1895 году.
(обратно)5
«Гороховыми пальто» называли филеров (сыщиков) охранных отделений и жандармерии.
(обратно)6
Розга — Роза Люксембург.
(обратно)7
Заключенные в книгах из тюремной библиотеки отмечали булавками буквы, составляя свое имя, фамилию, дату ареста, дело, по которому привлекается, и номер своей камеры.
(обратно)8
Максимилиан Уншлихт. Впоследствии утонул в Енисее во время побега из ссылки.
(обратно)9
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 201–202.
(обратно)10
Ныне металлургический завод имени Ф. Э. Дзержинского.
(обратно)11
Эндек — сокращенное название членов национал-демократической партии.
(обратно)12
Иосиф — по-польски Юзеф.
(обратно)13
Так в тексте. Явная описка полицейского чиновника. На самом деле это было 27 мая 1907 года.
(обратно)14
«История КПСС». М., Политиздат, 1971, с. 118.
(обратно)15
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т, 47, с, 151.
(обратно)16
Дзержинский ошибся и вместо «Кармелина» написал «Каролина».
(обратно)17
Дан — лидер меньшевиков.
(обратно)18
«Союз помощи политическим заключенным», секретарем которого был Богоцкий.
(обратно)19
Имеется в виду VI съезд СДКПиЛ (5—13 декабря 1908 года).
(обратно)20
ППС-левица возникла в 1906 году на базе левого крыла ППС.
(обратно)21
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 288.
(обратно)22
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I. М., 1953, с. 299.
(обратно)23
Ленин В. И., Полн. собр. соч., т, 25, с. 429–430.
(обратно)24
«КПСС в резолюциях…», изд. 7-е, ч, 1, с. 271.
(обратно)25
28 июня 1914 года в городе Сараеве (центр Боснии и Герцеговины) сербскими националистами был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд, что послужило формальным поводом к началу первой мировой войны.
(обратно)26
Окончательный ракол в СДКПиЛ был ликвидирован в 1916 году.
(обратно)27
«КПСС в резолюциях…», изд. 7-е, ч. 1, с. 345–346.
(обратно)28
Ф. Э. Дзержинский обстоятельно раскритиковал ошибочную позицию СДКПиЛ по национальному вопросу в письме к рабочим Довбыша. (См.: Ф. Э. Дзержинский. Избр. произв. М., Политиздат, 1957, т. 2, с. 167.)
(обратно)29
Военная организация при ЦК РСДРП(б).
(обратно)30
Узкий состав ЦК — рабочий орган Центрального Комитета партии для решения текущих вопросов в период между Пленумами ЦК
(обратно)31
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.34, с.280
(обратно)32
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.34, с. 340–341
(обратно)33
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.34, с. 391–392
(обратно)34
Плащ был оставлен Владимиром Ильичем на квартире Э. А. Рахья, где Ленин провел ночь с 10 на 11 октября 1917 года. После смерти Э. А. Рахья его жена Л. П. Парвиайнен переслала плащ Н. К. Крупской. В настоящее время он экспонируется в Центральном музее В. И. Ленина.
(обратно)35
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.34, с.395
(обратно)36
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.34, с.397
(обратно)37
Дан и Церетели — лидеры меньшевиков, Чернов и Год — эсеров. Этим партиям принадлежала руководящая роль в Центральном Исполнительном Комитете Советов.
(обратно)38
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.34, с.420
(обратно)39
Кроме доклада о мире, В. И. Ленин выступил па II съезде Советов с докладом о земле.
(обратно)40
Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.35, с.156
(обратно)41
Азеф — член ЦК партии эсеров, крупный провокатор царской охранки.
(обратно)42
Комуч — Комитет членов Учредительного собрания. Одно из самозванных белогвардейских «правительств», прозванное в народе «самарской учредилкой».
(обратно)43
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.37, с. 173–174
(обратно)44
ОРТЧК — отделение районной транспортной чрезвычайной комиссии.
(обратно)45
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.38, с.244
(обратно)46
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.38, с.399
(обратно)47
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.39, с.44
(обратно)48
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.39, с.61
(обратно)49
Ныне Краснодар.
(обратно)50
«Экс», экспроприация — так называли анархисты грабежи советских учреждений.
(обратно)51
«Известия ЦК РКП(б)», № 7, 1919, 22 октября. (Цит. по кн.: Софинов П. Г. Очерки истории ВЧК. М., Политиздат, 1960, с. 186–187).
(обратно)52
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.39, с.418.
(обратно)53
См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.40, с.101.
(обратно)54
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 113–121.
(обратно)55
«КПСС в резолюциях…», изд. 7-е, ч. 1, с. 490.
(обратно)56
Главкомтруд — Главный комитет по всеобщей трудовой повинности.
(обратно)57
Сектор ВОХР территориально соответствовал военному округу.
(обратно)58
Чусоснабарм — Чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны по снабжению армии.
(обратно)59
Сестра Ф. Э. Дзержинского, проживавшая в то время в Москве.
(обратно)60
В это время из пяти членов Польревкома двое отсутствовали: Эдвард Прухняк находился в Москве, а Иосиф Уншлихт — на излечении в Минске.
(обратно)61
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 266.
(обратно)62
17 августа 1920 года в Минске начались мирные переговоры с Польшей.
(обратно)63
Дзержинский говорит о ЦК Коммунистической рабочей партии Польши.
(обратно)64
Формирование 1-й Польской Красной Армии не было закончено в связи с заключением мира с Польшей.
(обратно)65
Сэвэр — Э. Прухняк.
(обратно)66
Децистами называли участников оппозиционной группы «демократического централизма», возглавляемой Сапроновым.
(обратно)67
«Ленинский сборник», XXXIV, с. 375.
(обратно)68
Комитет обороны фактически начал свою деятельность 17 октября 1920 года. Постановление СТО о назначении Ф. Э. Дзержинского председателем Московского комитета обороны состоялось 21 октября 1920 года.
(обратно)69
Ленин В.И., Полн. собр. соч., т. 44, с. 296.
(обратно)70
К. М. Карлсон — председатель Донецкой губернской чрезвычайной комиссии.
(обратно)71
Товарищ министра — до революции должность, соответствующая заместителю министра в настоящее время.
(обратно)72
См.: «Известия», № 199 (1342), 1921, 8 сентября.
(обратно)73
Цектран — ЦК профсоюза транспортных рабочих.
(обратно)74
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 53, с. 208.
(обратно)75
Учкпрофсож — участковый комитет профсоюза железнодорожников.
(обратно)76
Секретарь ВЧК.
(обратно)77
«КПСС в резолюциях…», ч. 1, с. 789.
(обратно)78
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 329.
(обратно)79
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.45, с. 287–288.
(обратно)80
Речь идет о плане ГОЭЛРО — генеральном плане электрификации России, принятом при жизни В. И. Ленина.
(обратно)81
«КПСС в резолюциях…», изд. 7-е, ч. 1, с. 819.
(обратно)82
Позднее состав комиссии был расширен и пополнен руководящими работниками ВСНХ, партийными и советскими работниками с мест.
(обратно)83
О Ф. Э. Дзержинском, как первом из большевиков, который после В. И. Ленина поставил широко проблему реконструкции промышленности, кроме В. И. Межлаука, пишут в своих воспоминаниях бывшие члены Политбюро ЦК ВКП(б) А. И. Микоян и А. А. Андреев, делегат III съезда Советов Н. П. Богданов. Доктор исторических наук С. С. Хромов, автор обстоятельной монографии «Ф. Э. Дзержинский во главе металлопромышленности», пишет: «Можно смело утверждать, что в первые годы после смерти В. И. Ленина никто из членов ЦК партии столь основательно не разрабатывал проблем тяжелой индустрии, как это сделал Феликс Эдмундович Дзержинский».
(обратно)
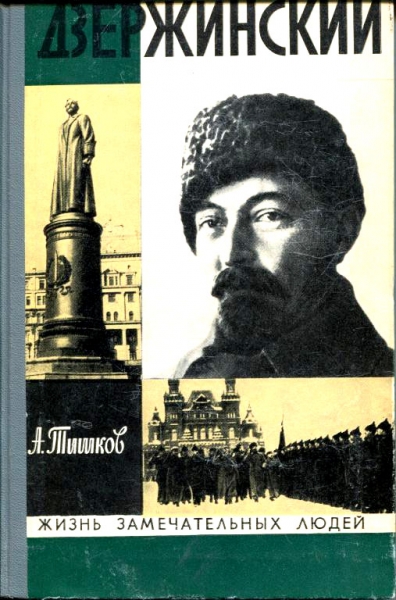


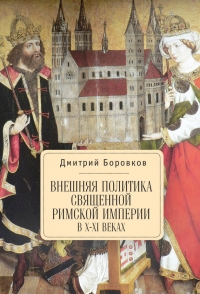


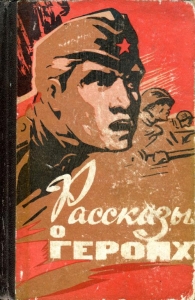
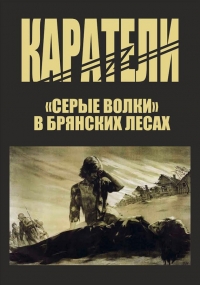

Комментарии к книге «Дзержинский», Арсений Васильевич Тишков
Всего 0 комментариев