Аннабел Фарджен Приключения русского художника. Биография Бориса Анрепа
© Ben Anrep, 2016
© Н. Жутовская, перевод на русский язык, 2003, 2016
© ООО “Издательство АСТ”, 2016
Издательство CORPUS ®
* * *
Глава первая Семья Анреп
Водиннадцатом веке эстонцы были известными пиратами, наводившими ужас на мореплавателей Балтики. Члены семьи Анреп, по домашним их преданиям, настолько преуспели в грабеже и потоплении судов, что стали среди разбойников и жителей побережья людьми весьма уважаемыми. Некогда на реке Липпе стоял замок и деревня Анрепен. Став рыцарями Ливонского ордена, Анрепы обратили в христианство множество эстонцев-язычников. Принадлежали они и к тевтонскому рыцарству, созданному для защиты Европы от “неверных”, а впоследствии превратившемуся в подобие военного клуба. В пятнадцатом веке к фамилии Анреп была добавлена приставка “фон”, шведская же ветвь этой семьи обрела титул графов Эльмптских.
В 1710 году, во время продолжительной Северной войны Фредерик Вильгельм I фон Анреп, капитан шведской армии, попал в плен, был отправлен в Москву, и с того времени его потомки жили в России, служа русским царям в армии или на флоте. Существует предание, что у Екатерины Великой от одного из ее многочисленных любовников родилась дочь, которая вышла замуж за представителя семейства Анреп. Императрица, таким образом, числилась в родственницах. Она пожаловала семье имение в Самарской губернии, которым Анрепы владели вплоть до большевистской революции.
Дед Бориса Анрепа, Константин-Иосиф, был молодым гардемарином, служившим под придирчивым оком Николая I. В 1852 году он умер от холеры, оставив сына десяти дней от роду. Василий Константинович с младенчества воспитывался матерью и дедом по материнской линии. В написанных по-английски в 1920‑е годы мемуарах, адресованных внукам, старик, тогда уже эмигрировавший в Англию, рассказывает о детстве и юности, проведенных в родовом имении, и об учебе в екатеринбургской гимназии.
Когда Васе было пять лет, к нему приставили бывшего несколькими годами старше крепостного мальчика Тиму, чтобы тот оберегал наследника во время детских игр. Вася и Тима вскоре подружились, однако юный аристократ никогда не забывал, что тот ему не ровня.
У нас было много слуг: кучера, конюхи, повара, прачки, несколько горничных, лакеев, дворников. И все они старались угодить мне или меня позабавить, чтобы показать свою любовь, – вспоминал он. – Они часто ссорились между собой, но стоило им завидеть меня, как кто-нибудь кричал: “Молодой барин идет!” Все разбегались, и становилось тихо. Так ко мне пришло смутное осознание того, что я человек важный, а потому я стал кричать на слуг, капризничал, бывал нетерпелив, топал ногами, когда мне что-то не нравилось, – например, когда меня слишком долго умывали по утрам. Я не просил, а требовал. И никто, ни дед, ни мать не останавливали меня, поскольку полагали, что так и следует обращаться со слугами. В России тогда еще существовало крепостное право, крестьяне принадлежали помещикам, которые могли продавать их, как скот, кому угодно, могли жестоко наказывать, отдавать в солдаты, разлучать семьи и заставлять работать с утра до ночи.
Я был вечно чем-нибудь занят. Рано утром мы обыкновенно шли в сад, где росло много ягод и фруктов. Хотя рвать их не разрешалось, искушение было слишком велико, и рот вечно у нас был набит сливами, вишнями, клубникой или крыжовником. А когда приходил слуга звать к чаю, мы прятались в кустах, откуда после долгих поисков нас и извлекали.
Чаепитие обычно длилось долго, и за чаем дедушка любил меня подразнить, иногда даже до слез, но потом в утешение он нередко обещал пойти со мной в конюшню и посадить в седло. Случалось, он и в самом деле велел седлать коня, садился на него сам и брал меня на руки; потом потихоньку ехал вокруг довольно большого двора. Конюх всегда шел рядом, поскольку лошади были молодые и пугливые. Хорошо было так кататься. Бывало, дедушка сажал меня в коляску, и мы вместе объезжали поля, где кипела работа, но, когда он сердитым голосом распекал работников, мне становилось скучно, а иногда и страшновато. Зато очень нравилось ездить с ним на мельницу – смотреть, как крутятся колеса и бурлит вода.
Почти весь день я проводил с Тимой, который очень любил собак – у нас их было несколько. Сам я поначалу собак боялся, потому что они были большие и казались злыми. К двум, сидевшим на цепи, я не осмеливался и близко подойти. Но Тима очень быстро заставил меня с ними подружиться, так что вскоре они стали участниками наших игр. Цепных собак мы даже отпускали, и они оказались нашими самыми лучшими и веселыми товарищами. С наступлением ночи сторож сажал их на цепь снова, ворча: “Какой же вы, барин, непослушный! Всех собак мне испортите”.
Иногда мы забирались в каретный сарай, где стояли старые экипажи, многими из которых давно уже не пользовались. Большие кареты, тщательно оборудованные для дальних поездок, с кроватями, складными столами и сундуками спереди, сзади и даже на крыше. Козлы были такими высокими, что я мог взбираться на них только с помощью Тимы. Огромные колеса поднимались выше моего роста, а тормоз был такой тяжелый, что мне никак не удавалось с ним справиться. Как весело мы там играли, в какие удивительные путешествия пускались в своем воображении!
А иногда кучер брал нас в конюшню, курил трубку и рассказывал длинные истории о лошадях – каких мы держали раньше, где их покупали и какие они были умные и сообразительные. Лошади между тем жевали сено, время от времени поворачивали головы и смотрели на нас своими красивыми глазами, и мне так хотелось погладить их, поцеловать в мягкую морду. Но об этом не могло быть и речи. Кучер не разрешал нам даже близко подходить: “Вы с ума сошли, барин, я и сам-то подхожу к ним с опаской”.
Я хорошо помню одного коня по имени Белоногий, который очень любил музыку. Когда мать играла на рояле у открытого окна, конь этот рысцой подбегал к дому, клал голову на по-доконник и долго-долго так стоял. Можно было трепать и гладить его по голове – он не обращал никакого внимания. Когда музыка умолкала, он медленно шел восвояси.
Мне очень нравилось кататься на лодке, ходить в лес за грибами. Наша усадьба стояла на берегу довольно широкой реки, а на другой стороне был большой лес, раскинувшийся на многие версты. Большая его часть принадлежала деду. Собираясь на пикник, мы серьезно готовились. Вперед на телеге посылали самое тяжелое – два больших самовара, кастрюли, сковородки и прочую посуду. Припасы грузили на другую повозку, и еще одна везла поваров и слуг. Сколько еды брали на пикник! Хлеб разных сортов, пирожные, печенье, пироги, колбасы, ветчина, курицы, варенье, чай – всего и не вспомнишь. Сами мы отправлялись часа через два. Я сгорал от нетерпения и всех торопил, повторяя: “Ну когда же, когда же мы поедем?” – “Будешь приставать, вообще не поедешь”, – отвечали мне, и я чуть не плакал.
…Наконец все готовы. Мы садимся в большую лодку с четырьмя гребцами в красных рубахах, дедушка – у руля. Вся семья и многочисленные слуги – каждый с корзинкой для грибов – заняли свои места. Лодка отчалила, собаки, заливаясь лаем, стали бегать вдоль берега. Я принялся их звать, и две, бросившись в воду, поплыли следом. Дедушка рассердился, но я упросил взять собак с собой. Тогда он велел остановиться, чтобы втащить их в лодку. Собаки тут же стали отряхиваться и обрызгали всех вокруг, но люди только смеялись и гладили их.
Целый час мы плыли до места, и я был счастлив, когда наконец ступил на берег. Мы пошли по лесу, разбредясь кто куда и собирая грибы. Я не слишком-то много находил, но стоило мне увидеть хотя бы один гриб, как я кричал от восторга и бежал к матери показать свой трофей. Очень скоро я утомился, и меня вместе с Тимой отправили отдохнуть в маленькую сторожку. Собаки бежали следом. Сторожка стояла на поляне, в ней было очень удобно. На полу лежали ковры и подушки, полным ходом готовился ужин. Я так устал, что сразу же лег и через несколько минут уже спал крепким сном.
Проснувшись, я обнаружил, что солнце садится. Мне захотелось есть. Однако из лесу еще никто не пришел. Мне стало скучно, и я стал звать: “Тима! Тима!” Но Тима исчез – снова пошел за грибами. Вскоре я услышал дедушкин голос, и постепенно все собрались в сторожке. Грибов было видимо-невидимо. Каждый хвастался, что нашел больше других. Потом уселись за стол, и, поскольку все были усталые и голодные, ужин затянулся. Слуги ели то же, что и мы, и пили одну чашку чая за другой – чай в те времена был для них редкостью, особенно с сахаром и печеньем. Все были веселы и довольны, принялись петь и готовы были даже танцевать. Но солнце опустилось уже совсем низко, пора было возвращаться домой. Мы снова плыли в лодке, теперь нужно было грести против течения, из‑за чего обратный путь оказался дольше. Я был так утомлен, что не успела няня меня раздеть, как я уже видел десятый сон.
Еще вспоминал Василий Константинович горькое негодование деда, когда сосед купил борзую, а затем обменял ее на крепостную девушку. “Негодяи! Как они могут менять людей на собак! Я бы выпорол их обоих. А еще называют себя дворянами!” – воскликнул он и так стукнул кулаком по столу, что загремела посуда.
Крепостное право отменили, когда Васе было девять лет. Тогда же его мать вышла замуж вторично – за поляка по фамилии Жутокинский, управляющего Государственным банком в Екатеринославле. В этом городе мальчик впервые увидел нарядно разодетых украинцев в рубахах с цветной вышивкой, в широких шароварах, сапогах, высоких серых каракулевых шапках и небрежно наброшенном на плечо армяке. Бород они не носили, но у всех были потрясающие огромные усы. В руках держали длинную палку или плетку.
От второго брака у матери Василия было шестеро или семеро детей. Все, кроме последнего, умерли во младенчестве. Последней была Ева, чье спасение приписывалось чудодейственному влиянию старушки-странницы, однажды постучавшейся в дверь к Анрепам и получившей подаяние.
Учился Василий хорошо. Он зубрил латынь, любил плавать и, несмотря на царившие в городе антисемитские настроения, дружил с двумя еврейскими мальчиками.
Однажды, гуляя у реки, он услышал, как находившиеся в лодке три маленькие девочки зовут на помощь. Лодка перевернулась. Василий снял сапоги и бросился в реку. С большим трудом ему удалось спасти одиннадцатилетнюю девочку, но две другие утонули. Позже его наградили медалью. Он пишет: “Я получил много орденов и звезд, иные из которых были очень почетными, но ни одной награде я не был так рад, как этой медали”.
У мальчика были не только хорошие способности, но и внушенные матерью высокие нравственные принципы. Она рассказывала ему о невероятных жестокостях старой системы. “Слава богу, – сказала она, – я дожила до тех счастливых времен, когда государь избавил Россию от позора крепостничества”. Возмущался Василий и преследованиями евреев. Позднее большое влияние на его нравственность оказало знакомство с судопроизводством, где царили бесправие, несправедливость и коррупция. Он всегда сочувствовал обвиняемым. Реформы понемногу набирали силу, и он решил стать адвокатом.
В конце своих коротких мемуаров Василий Константинович пишет внукам: “Каким я был в семнадцать лет? Я был неглупым, способным юношей, твердо намеревался использовать все свои дарования на благо соотечественников и к этому своему решению относился очень серьезно”.
Борис Васильевич Анреп излагает, впрочем, несколько иную версию обращения отца к высоконравственной жизни. Начинал Василий Константинович так же, как многие молодые аристократы, имевшие большие деньги, которые с легкостью транжирили. Он, как Вронский из “Анны Карениной”, участвовал в скачках; он играл, много пил, болел сифилисом. Его близкий друг Петр Шуберский вел себя со столь же сумасбродным эгоизмом.
Но однажды В. К. (как его называли в зрелые годы и как мы будем звать его далее) встретился с госпожой Гейден, рыжеволосой еврейкой, которая спросила его, почему такой умный молодой человек прожигает жизнь вместо того, чтобы использовать свои таланты на благо общества. “Вам должно быть стыдно! Вы – Анреп! А ведете такую беспутную жизнь!”
С этого часа жизнь В. К. круто изменилась. Он отправился в Гейдельбергский университет и получил положенные шрамы на лице – результат дуэлей. Стал доктором Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии, основал первую женскую больницу, был директором основанного им же Института Пастера. Одновременно с Зигмундом Фрейдом он открыл обезболивающие свойства кокаина, который стали использовать при глазных операциях. Судя по всему, В. К. также волновали вопросы женского равноправия, поскольку он содействовал организации первого женского медицинского училища и делал многое, чтобы обеспечить женщинам возможность получения высшего образования.
Петр Шуберский, товарищ его бесшабашной юности, ставший финансистом, женился на восемнадцатилетней Прасковье Михайловне Зацепиной. От этого брака родились двое сыновей – Владимир в 1877 году и Эраст в 1880‑м. Супруги вращались в кругу веселых кутил. Обнаружив, что его состояние растрачено, Шуберский пустился в недобросовестные спекуляции с деньгами своих клиентов, а потом повесился в бане. Такова версия Бориса Анрепа. Однако, по воспоминаниям внука Шуберского Андрея, дед лишил себя жизни более благородным способом: застрелился.
В предсмертном письме Шуберский просил своего старого друга В. К. позаботиться о жене и малолетних сыновьях. Просьбу покойного добродетельный доктор исполнил в полной мере, ибо два года спустя, в 1882 году, женился на вдове и вырастил ее детей. Поскольку сам В. К. рос без отца, то, наверное, испытывал сострадание к бедным сиротам. Относился он к ним так же, как к собственным сыновьям, родившимся в 1883 и 1889 годах. Прасковья Михайловна постоянно твердила старшему сыну Володе, что он всегда должен помнить доброту своего отчима. Все, что удалось мне узнать о матери Бориса, свидетельствует лишь о том, что она была женщиной строгих правил с довольно тяжелым характером. На фотографиях она туго затянута в корсет, выглядит чопорной и властной.
Женившись, В. К. основательно занялся своей карьерой, вызывавшей у окружающих неизменное уважение. Служил императору, являясь одновременно сторонником либеральных идей и консервативных норм поведения, преобладавших в конце XIX века среди многих представителей интеллигенции и обеспеченных высших классов. В отличие от жены, он не принял православия, полагая, подобно Толстому, что существующая Церковь служит угнетению народа. Как и Толстой, В. К. признавал необходимость крестьянского образования, хотя никогда не доходил до крайностей толстовского идеализма.
Глава вторая Детство и юность
Борис Васильевич фон Анреп родился в Кузнечном переулке в Санкт-Петербурге 28 сентября 1883 года. Спустя два года его отец, специалист по фармакологии, был переведен в Харьковский университет профессором медицины, а Бориса оставили в столице на попечении бабушки по отцовской линии. Бабушка эта происходила из семьи морских офицеров, имевшей земли в Черниговской и Подольской губерниях. Расположенные там имения впоследствии, по всей видимости, были переданы В. К. Считалось, что внешне Борис напоминает своего деда, погибшего во время службы на флоте, – человека крупного, с массивными ногами и руками, светловолосого и сероглазого.
Через некоторое время при содействии своего друга, принца Ольденбургского, В. К. получил назначение в Петербург для организации института экспериментальной медицины. Были устроены просторные лаборатории и помещения для животных. Квартиры сотрудников также располагались при институте. Семья поселилась в директорском флигеле, где в 1889 году у Прасковьи Михайловны родился последний сын, Глеб. Лет через пять отношения между В. К. и принцем стали натянутыми, былая симпатия постепенно исчезла.
В своих коротких воспоминаниях о Борисе он пишет:
Принцу Ольденбургскому нравилось совать нос в дела моего отца, в результате чего между ними произошло несколько ссор. Перед отъездом в Германию с целью покупки различных приборов для института отец отдал матери ясное распоряжение прислать ему в Германию телеграмму в случае, если принц Ольденбургский в его отсутствие отменит какое-нибудь из его указаний. Когда это произошло, моя мать поступила, как ей было сказано. Отец подал прошение об отставке и велел матери покинуть дом в двадцать четыре часа, что она и сделала[1].
Временно Прасковья Михайловна с детьми перебралась в квартиру на Загородном проспекте, найденную семейным плотником и мебельщиком.
К этому времени она, будучи дамой провинциальной, не слишком хорошо образованной, но очень нетерпеливой, уже начала сама давать Борису уроки. Как и следовало ожидать, эти занятия большим успехом не увенчались.
Когда я был еще совсем маленьким мальчиком, – пишет Борис, – мать сказала нам, своим сыновьям: “Мне не нужна ваша любовь. Мне нужно почтение и послушание”. Именно это она и получила, – с насмешливой улыбкой рассказывал Борис. – Она таскала и драла нас, детей, за уши очень больно! Если мы плохо себя вели, жаловалась отцу, который сидел в кабинете. Но когда мы повзрослели, став высокими юношами, гораздо выше ее, и она начинала щипать нас за уши, мы только смеялись и целовали ее. И тут она уже ничего не могла поделать.
Поступив в гимназию, Борис закончил подготовительный класс через две недели. Все дети Прасковьи Михайловны учились легко, трое старших сыновей закончили гимназию с серебряными медалями, а младший Глеб – с золотой. Конечно, мать была в восторге от таких успехов и хранила медали в коробочке, выложенной лиловым бархатом, – три серебряные медали размещались вокруг золотой, располагавшейся в центре. Коробочка всегда стояла на туалетном столике в ее будуаре.
На взлете своей карьеры профессор Василий Константинович фон Анреп стал членом Третьей Государственной Думы (1907–1911), состоявшей из девяноста восьми выбранных членов и такого же количества назначенных императором. С его умом и организаторскими способностями В. К. являлся одним из наиболее полезных представителей правящего класса. Но из‑за честности и присущего ему чувства справедливости он едва ли мог рассчитывать занять сколько-нибудь значительное положение при любом русском режиме.
В. К. выстроил себе в Петербурге большой дом по адресу: Лиговский проспект, 3/9. В здании с внутренним двором семья занимала бельэтаж. Кое-что из убранства комнат было привезено из Германии – бронзовые дверные ручки, танагры из Дрездена и ренессансные драконы. На стенах были немецкие золотые обои, тисненные черно-коричневыми драконами, все двери двустворчатые, на потолках изысканная лепка, а панели огромного буфета украшены собственноручно Василием Константиновичем, выжегшим узор на дереве раскаленной докрасна кочергой. Семейная жизнь Анрепов была устроенной, удобной и совершенно лишенной сантиментов.
Дома четверо сыновей пребывали в основном на попечении нянюшек и гувернеров, для изучения языков всегда нанималась француженка, немка или англичанка. Уроки частенько делали в спальне, столовой или даже в комнате гувернантки, поскольку при двенадцатилетней разнице в возрасте между старшим и младшим сыном приходилось подстраиваться под различные режимы дня. Серьезное классическое обучение в гимназии обычно начиналось, лишь когда мальчикам исполнялось одиннадцать. Оно длилось восемь лет и заканчивалось экзаменами. Если экзамены сдавались успешно, можно было поступать в университет.
Как и любой в ту пору работник умственного труда или поглощенный службой дворянин, домашними делами и воспитанием детей В. К. не занимался, о чем впоследствии сожалел: “С годами я все больше любил свою семью, и теперь мне бывает грустно, что уделял сыновьям так мало времени”.
К семи годам Борис уже много читал. Он вспоминает, как книга о странных обычаях некоего индейского племени вызвала у него первое запомнившееся эротическое переживание: Глеб лежал на руках у кормилицы, и Борис, увидев ее обнаженную грудь, бросился на молодую женщину и стал, подражая индейцам, эту грудь целовать. Женщина развеселилась и, как вспоминал Борис, “не стала отказывать себе в этом маленьком удовольствии”.
Была еще одна няня, немка, которая однажды, когда Борису велели пройти через темный зал к родителям, испугала его, сказав: “Niemand ist da”[2]. Борис подумал, что “niemand” – это такой человек, и вопил, пока на помощь не прибежала мать.
Дом родителей Бориса Анрепа.
Его первый настоящий грех надолго оставил в нем чувство вины. Он сидел рядом с гувернанткой, вышивая крестом, и, наверное, оттого, что занятие это ему надоело, принялся плакать. Прасковья Михайловна поспешила узнать, в чем дело.
“Что случилось? – спросила она мальчика. – Тебя ударили?” Всхлипывая, Борис сказал: “Да”.
Повернувшись к гувернантке, мать воскликнула: “Убирайтесь!”
Бедная гувернантка пыталась протестовать, но мать Бориса ответила: “Семилетние мальчики не лгут!”, сам же Борис продолжал настаивать, что его побили.
Гувернантка пожаловалась старшим детям, но ее все-таки уволили.
Второе преступление, по воспоминаниям Бориса, касалось трех рублей, которые ему вместе с большой коробкой шоколадных конфет всегда на день рождения присылала бабушка. В субботу днем после урока музыки Борис зашел по случаю получения бабушкиного подарка в кондитерскую лавку. Незнакомый гимназист постарше предложил купить пирожных, что и было сделано. Потом он предложил зайти в другую кондитерскую, после чего попросил дать ему взаймы рубль. Тут Борис заметил, что на часах уже половина девятого. А дома всегда обедали в шесть. Он помчался домой – мать была уже в истерике. О пропаже ребенка успели сообщить в полицию. Борис, оправдываясь, сказал родителям, что бегал смотреть, куда поехали пожарные.
Отец не поверил в эти выдумки и хорошенько его выдрал. Если профессору случалось разгневаться по-настоящему, он внушал сыну подлинный ужас. Подобные Василию Константиновичу, серьезные, высоконравственные натуры одним своим желанием привить ребенку безупречные моральные нормы способны запугать его так, что тот начинает врать уже из страха. Повзрослев, Борис стал придерживаться собственных моральных норм, не все из которых отец бы одобрил.
Во время летних каникул семейство снимало дачи в окрестностях Петербурга, пока наконец В. К. не купил участок земли на Волге, неподалеку от того места, где жила сестра Прасковьи Михайловны тетя Наташа. У тетки была собственность в Ярославской губернии – старая усадьба Емишево, где все еще сохранилось здание тюрьмы для крепостных. Муж тети Наташи был предводителем местного дворянства, и потому Прасковье Михайловне хотелось жить поблизости. Кроме жилья для прислуги, В. К. построил большой дом для своей семьи, назвав его “Основа”. В фундамент дома были заложены расколотые гранитные валуны, собранные по берегам Волги. Дача, построенная из сосновых бревен, была большой и просторной, с широкими окнами, крашеной железной крышей, балконами, верандами и гостиной, окна которой выходили на реку. Отштукатуренные комнаты были обставлены изящно, как в городском доме.
В. К. высадил целую аллею, ведущую к Волге, а кроме того, отдельно посадил березы, осины, сосны и рябины. У берега реки была установлена на якоре специальная клеть, как это делалось в Германии, чтобы мальчики могли плавать в полной безопасности. На другой стороне реки, бывшей в том месте шириной в полмили, располагался город Романов со множеством башен и луковок старинных русских церквей. Теперь четверо братьев могли проводить три месяца летних каникул в Основе.
Среди прислуги был один homme á tout faire[3], который обыкновенно отправлялся в Романов за покупками. Однажды он приобрел большую деревянную лохань глубиною в метр и диаметром в два метра, какие в те времена использовались в крестьянских хозяйствах. Сложив туда все покупки, он поставил лохань на телегу, в которой приехал из города. Тут вдруг началась гроза, и, накрыв лохань брезентом, слуга зашел в местный кабачок. Когда гроза стихла, наш герой уже начинал клевать носом, а потому привязал вожжи к телеге и, целиком положившись на лошадь, которая знала дорогу домой, сам улегся вздремнуть в ту же самую лохань. Дорогу из Романова до Основы пересекали два ручья, но кто мог предположить, что от сильного дождя они превратятся в бурлящие потоки! Спустя два часа жильцы Основы увидели наконец возвращающуюся домой лошадь, но с ней не было ни лохани, ни возницы. Немедленно организовали поисковые партии, уже готовые выступить, как вдруг кто-то заметил, что вниз по Волге, величественно покачиваясь на волнах, плывет лохань. Ее подтащили к берегу и внутри обнаружили свернувшегося калачиком и похрапывающего слугу вместе со всеми покупками.
Каникулы в Основе были счастливым временем. Юноши росли, а местные крестьянки, как выяснилось, отличались поведением весьма вольным. Более того, среди них считалось даже почетным переспать с кем-нибудь из молодых Анрепов или Шуберских.
Осенью, когда семья уезжала в город, окна закрывали ставнями, которые закручивались винтами. Но однажды в дом забрались грабители и некоторое время там жили, превратив спальню Прасковьи Михайловны в уборную. Вскоре, однако, они были пойманы – кто-то в городке заметил на одном из преступников ботинки В. К.
В 1899 году В. К. был назначен попечителем Харьковского учебного округа, и Анрепы вновь переехали на юг, в Харьков. В качестве жилья им предоставили дворец, построенный Потемкиным для Екатерины Второй во время поездки императрицы в Крым в конце XVIII века. Мебель с тех пор не меняли, но Прасковья Михайловна привезла с собой собственную кровать и некоторые предметы убранства будуара, чтобы создать необходимый уют. Это, несомненно, был мудрый шаг, поскольку в эпоху Екатерины было принято больше заботиться о великолепии, чем об удобствах. Стулья во дворце оказались жесткие, а в края золотых тарелок были вставлены бриллианты и бирюза. Этот стиль не вполне отвечал тем представлениям о домашнем уюте, в каком хотели бы жить Анрепы в конце XIX века. Правда, помещения были очень просторные, и Борису и Глебу рядом со спальнями даже отвели собственные большие кабинеты.
Старшие сыновья, Володя и Эраст, остались в Петербурге, поскольку оба были студентами университета. Борис начал ходить в харьковскую гимназию, где учился боксу, фехтованию и танцам – чаконе, падекатру, польке; Глебу же взяли гувернантку, англичанку по имени Эми Беатрис Данбар Котер.
Харьковская жизнь Бориса была отмечена романтической, невинной любовью к гимназистке Дине Ждановой одних с ним лет. Любовь эта вызвала большую тревогу у родителей обоих молодых людей. Поэтому в 1899 году с помощью Эми Данбар Котер была организована поездка на каникулы в Англию под предлогом совершенствования в английском языке. Среди образованных людей в России кроме французского, на котором говорили все представители высшего класса, было принято обучать детей английскому или немецкому, а чаще и тому и другому. В Англии Борис жил у пастора церкви Грейт Миссенден господина Нельсона и катался на велосипеде по Бакингемширу, останавливаясь в пабах, чтобы выпить сидру, которого раньше никогда не пробовал.
Дину Жданову отправили в Швейцарию.
Наиболее значительной стала дружба Бориса с поэтом Николаем Владимировичем Недоброво, который тоже потерял голову из‑за хорошенькой Дины. Вот что рассказывает Борис о своем первом впечатлении от знакомства с Недоброво в гимназии[4]:
Борис Анреп в молодые годы.
Класс был многочисленный, и инспектор посадил меня в передний ряд парт, что считалось привилегией. Парты были на двух учеников каждая, и рядом со мной был посажен некий хорошо воспитанный фон-дер-Лауниц, сын местного предводителя дворянства, очень милый, но не очень преданный школьным занятиям, будущий офицер, славно погибший в Первую мировую войну.
Ученики смотрели на меня с интересом, отчасти потому, что я был новичком из столичного Петербурга, а также потому, что я был сыном попечителя. Это любопытство было мне неприятно и заставило меня замкнуться – тем более что компания была весьма разношерстная.
Шел урок истории – пережевывание освобождения Греции. Меня мало занимало то, что говорил учитель, и я был занят более интересным делом: читал под партой “Prometheus Unbound” Shelley[5]. Я увлекался тогда этим английским поэтом и рассчитывал, что учитель, который стоял в проходе между партами у задней стены, не заметит моего “преступления”. Вдруг я услышал:
– Анреп, назовите греческого национального героя, который сыграл большую роль в освобождении Греции.
Я встал, отупев, но смутно вспомнил знаменитое имя.
– Падокордия! – объявил я громко и уверенно.
Общий хохот в классе встретил мое заявление. Учитель нахмурился:
– Рекомендую вам слушать меня более внимательно. Недоброво, может быть, вы ответите на мой вопрос?
Изящный ученик с последней парты первого ряда встал, улыбаясь:
– Каподистрия – он сыграл большую роль во время восстания греков против турок. Родился на Корфу в 1776 году, был некоторое время диктатором возрожденной Греции, но был убит политическими врагами в 1831 году.
– Прекрасно, – сказал учитель. – Я вам ставлю пятерку.
Урок кончился. Ученики бросились к выходу из класса.
Сконфуженный, я остался на своем месте и вынул английскую книгу из-под парты. Недоброво подошел ко мне, приятно улыбаясь.
– Да вы гений, вы нас всех развеселили.
Я вспыхнул.
– Вы читали, я вижу, английскую книгу. Позвольте познакомиться.
– Я не слушал, я читал Шелли. “Падокордия” – лучшее, что я мог придумать.
– Это было великолепно! Я тоже люблю Шелли, но не знаю английского языка, читаю в переводах. Пойдемте завтракать.
Старушка в коридоре сидела за прилавком и продавала чай, бутерброды, паюсную икру, пирожки с мясом и капустой. Мы разговорились.
– Зачем вы приехали в Харьков? Я только и мечтаю перебраться в Петербург. Я должен был бы быть в седьмом классе, но потерял целый год, заболев воспалением мозга, и доктора запретили мне всякие умственные занятия. Вел растительный образ жизни. Теперь воскрес.
Разговор перешел на литературные темы. За все время нашего знакомства и последующей дружбы это был наш главный предмет разговоров. Недоброво меня сразу прельстил и своим изящным видом, и прекрасными манерами, и высоким образованием. Он заставлял меня задумываться и высказываться о вещах, о которых я раньше и не думал. Со своей стороны, он любил анализировать и свои чувства, и поэзию, и философию, а если критиковал мои взгляды, то делал это всегда очень деликатно и очень умело заставлял меня принимать свои логические заключения и взгляды, ждал наших встреч, и каждая являлась для меня событием.
В первый же день нашего знакомства Недоброво ждал меня при выходе из гимназии.
– Нам по дороге, пойдемте вместе.
Мой сосед в классе, Лауниц, сказал мне, что Недоброво считает себя головой выше всех товарищей и мало с кем говорит. Он на это имел полное право. Он недостаточно знал иностранные языки, но иностранная литература была ему хорошо знакома, и он поражал меня острыми замечаниями об известных писателях. Я чувствовал, что я не на его высоте, и старался не ударить лицом в грязь. Я стал искать его дружбы, и мне льстило, когда я почувствовал, что и он ищет моей. Мы становились неразлучны. Обыкновенно он провожал меня до дому.
– До завтра, Борис Васильевич.
– До завтра, Николай Владимирович.
Мы всегда были на “вы” и на “имя-отчество”.
Жена ректора университета проф. Лагермарка при нашем приезде в Харьков познакомилась, конечно, с моей матерью, которая несколько времени спустя, по моем возвращении из гимназии, встретила меня взволнованная и сказала, что хочет поговорить со мной серьезно:
– Madame Лагермарк только что была у меня и сообщила, что ты дружишь с неким Недоброво, вот что она говорит: “Ваш сын в плохой компании. В прошлом году мать Недоброво (я с ней иногда встречаюсь) пригласила меня и моих двух сыновей (которые дружили с Недоброво в гимназии) на чай, так как это были ее именины. Можете себе представить, что во время общего разговора на какое-то замечание его матери, несогласное с его точкой зрения, Недоброво громко и дерзко крикнул:
– Замолчи, дура, ты в этом ничего не понимаешь!
Я была поражена, возмущена, мои сыновья были ошеломлены. Его мать вышла из комнаты. Мы поднялись и ушли. Я запретила своим сыновьям видеться с Недоброво. Я считаю, что должна вас предупредить”.
Я трясся от негодования.
– Она фискалка и сплетница; наверное, дело было не так, а кроме того, в прошлом году Недоброво был болен воспалением мозга, и, должно быть, нервы его были не в порядке.
– Как знаешь, – ответила мама, – можешь с ним видеться где хочешь, но чтобы в моем доме его не было.
За два года, что я жил в Харькове, я никогда не приглашал Недоброво к себе, также и он отвечал тем же.
М-me Лагермарк еще добавила: “Мать Недоброво живет, сдавая комнаты постояльцам, а, кажется, отец Недоброво – уездный полицейский чиновник или что-то вроде этого – с женой, говорят, не живет. А сестра Недоброво, очень красивая женщина, живет где-то актрисой, а вы знаете, Прасковья Михайловна, что это значит: актриса!”
У Недоброво была еврейская кровь, что, возможно, являлось еще одним источником предубеждения – антисемитизм тогда в стране процветал. Евреям, за исключением лишь очень богатых людей, не разрешалось жить ни в Москве, ни в Петербурге.
Каждый день Борис шел из гимназии домой вместе с Недоброво и, подчиняясь приказу матери, прощался с ним у дверей Екатерининского дворца.
Глава третья Выбор карьеры
Когда В. К. был назначен попечителем Петербургского учебного округа, семья вернулась в свой столичный дом на Лиговском проспекте. Здесь профессор с женой прожили вплоть до 1918 года.
В 1902 году Борис поступил в Императорское училище правоведения. В этом заведении, рассчитанном на ограниченное число дворянских детей, не только обучали юриспруденции – оно было определенной ступенью в гражданской карьере, сулящей в будущем министерское кресло. И Борис взялся за дело – красивый, живой, светский, остроумный молодой человек, исполненный энтузиазма. Примерно в это же время Николай Недоброво, уже студент Петербургского университета, познакомил его с художником Дмитрием Семеновичем Стеллецким. Стеллецкий первоначально был скульптором и театральным художником, потом стал специалистом по древним иконам. Борис посетил его мастерскую, и молодые люди сразу же подружились. Стеллецкий был представлен родителям, всех очаровал, рассмешил и в дальнейшем пользовался неизменной симпатией. Он вылепил бюсты Глеба, Бориса, Недоброво и – в натуральную величину – фигуру В. К., прогуливающегося с собачкой. Однажды В. К. дал скульптору в долг 10 тысяч рублей, которые к 1918 году так и не были возвращены. Профессор упоминает об этой сумме в своем завещании, присовокупив к ней еще 500 рублей в качестве процента.
Борису Анрепу 18 лет, 1901 год.
Среди друзей Анрепов было семейство Девелей, супружеская пара с тремя дочерьми, Ольгой, Ниной и Татьяной. Младшая, Татьяна, была примерно одних лет с Глебом. Их отец умер, когда дочери были молодыми девушками. На следующий год после его смерти по пути из Петербурга в Основу Борис заехал навестить госпожу Девель, жившую с дочерьми на своей даче на берегу Волги. Они прекрасно провели время, и, когда после ужина стало темнеть, госпожа Девель за самоваром предложила Борису остаться у них переночевать – она предоставит ему свою комнату, а сама будет спать с Таней. Борис принял приглашение, но, когда вошел в комнату госпожи Девель, его вдруг охватило такое жуткое предчувствие несчастья, что он не смог там остаться и, придумав какой-то невразумительный предлог, объявил, что вынужден немедленно уехать. Бегом добежав до пристани, он едва успел сесть на последний пароход до Основы.
В ту ночь на дачу Девелей забрались грабители, и мать, вернувшаяся к себе в комнату, была убита в постели.
Хотя Борис не склонен был преувеличивать свои экстрасенсорные способности, он всегда говорил, что ясновидение спасло его от ранней смерти.
Убийцами оказались молодые монахи из близлежащего монастыря, по ночам занимавшиеся грабежом и пропивавшие награбленное. Андрей Шуберский, сын Владимира, пишет в своих воспоминаниях, что все преступники были приговорены к повешению, и этот приговор нельзя было заменить даже сибирской каторгой.
Осиротевшие девушки стали теперь частью семьи Анреп. В. К. предоставил им отдельное жилье в своем доме, этажом выше тех комнат, что занимала его собственная семья, подновил его, и девушки, поскольку они были уже студенческого возраста, могли вести относительно независимый образ жизни.
Борис Анреп с Дмитрием Стеллецким в студии Стеллецкого.
Какими бы ни были намерения Бориса относительно будущей карьеры, он был уверен, что как светский человек должен завести роман с балериной. Так было принято в аристократических кругах. Самым известным примером был роман Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В балетной труппе Мариинского театра Борис выбрал красивую девушку, восхищавшую его своим сильным и грациозным телом, – Целину Спрышинскую. Она была coryphée, что означает: ведущая танцовщица кордебалета или исполнительница небольших сольных партий. Для начала прямо в театре молодой девице было послано письмо со стихами.
Но оказалось, как это нередко случается с балеринами, девушка не была готова к тайной любовной связи, и ответ, к разочарованию Бориса, пришел от ее матери. Он содержал приглашение посетить их дом. Спрышинские были почтенными поляками-католиками.
Вскоре между Борисом и Целиной завязалась дружба, и по вечерам, когда родителям Бориса не нужен был экипаж, молодой человек договаривался с кучером, чтобы тот ждал его на углу Лиговского проспекта, а затем к концу представления вез до служебного входа Мариинского театра. Оттуда в назначенный час появлялась Целина, садилась в экипаж, и парочка ехала ужинать в квартиру госпожи Спрышинской. Так продолжалось целую зиму.
В письме к Борису от 5 января 1968 года Таня Девель вспоминает, как он представил ее своей балерине:
На тему, как иногда неожиданно совсем забытое воскресает, могу рассказать: недавно в связи с просьбой одной знакомой балерины мне пришлось заглянуть в издание “200 лет Ленинградского хореографического училища: 1738–1938 гг.” и случайно наткнуться на Спрышинскую Целину Владиславовну – мигом вспомнилось, как тебе почему-то пришла фантазия меня с ней познакомить (что я, конечно, одобрила, как одобряла тогда все, исходящее от тебя). Не помню уж, на каком представлении в Мариинском театре мы с тобой улизнули в антракте из чинной ложи Прасковьи Михайловны, какими-то неведомыми путями вскарабкались куда-то наверх, где на повороте стояла “она” и произошло знакомство; а затем я добросовестно переписывала в тетрадь твои стихи, верно, ею вдохновленные:
Зачем слова? Я выше их, Раз и в немых движеньях Вольна я высказать себя.Борис сделал предложение, которое было незамедлительно принято. Но, к счастью, благодаря оставшимся крупицам здравого смысла, он вскоре объяснил невесте, что не может жениться, пока не станет профессором. Целина согласилась ждать. Борис подарил ей кольцо с искусственным рубином, а она ему – тяжелый серебряный браслет.
К тому времени Борис, чье сердце всегда было открыто новым чувствам, без памяти влюбился в гувернантку Глеба Эми Беатрис Данбар Котер, которая вскоре уехала в Мексику, чтобы выйти там замуж за горного инженера. Поскольку экзамены в училище правоведения были сданы успешно, Борис захотел последовать за гувернанткой. К его немалому удивлению, В. К. согласился оплатить путешествие. Возможно, дело было еще и в том, что, заподозрив какое-то новое увлечение Бориса, В. К. решил отослать его подальше за границу, ибо это средство уже помогло однажды, когда шестнадцатилетний мальчик влюбился в гимназистку.
После долгого путешествия на корабле и в поезде Борис прибыл в Мексику и в непритязательном кабачке маленького городка был встречен мужем гувернантки. До серебряной шахты, где жила семья, они должны были теперь два дня ехать на муле. Дорога шла по труднопроходимой местности, и горняк предупредил Бориса, чтобы тот не пытался управлять своим мулом на неровных и крутых тропах: мул лучше знает, как идти. Ничего более страшного молодому русскому испытывать еще не приходилось. Впрочем, на шахту они прибыли целыми и невредимыми. Место было ужасное – убогое и грязное. Всюду сновали крысы. Работали там нищие мексиканские индейцы. И все это вовсе не походило на романтический пейзаж, который Борис рисовал в своем воображении.
Почти сразу же Борис заболел желтухой. Он пролежал несколько месяцев весь желтый и беспомощный среди пустынных диких гор и шахт, предоставленный заботам гувернантки. Наконец худой как щепка он уплыл назад в Россию, излечившись и от болезни, и от любви.
После мексиканских приключений Борис написал Целине, что с их помолвкой ничего не выйдет, и та вернула ему все письма и подарки. Больше Борис ее не видел. Впоследствии она вышла замуж за танцора Иосифа Кшесинского, брата возлюбленной Николая II.
Когда я спросила Бориса в конце его жизни, каким был Мариинский балет в дни его юности, он ответил с пренебрежительной улыбкой: “Развлечение для детей и гене-ралов”.
Между тем Глеб, любимый сын В. К., собрался, следуя по стопам отца, избрать своим поприщем медицину. Однако в самом начале занятий он был захвачен опасным увлечением: влюбился в средних лет даму-медиума, так что, кроме любви, связали их и совместные спиритические сеансы. Кроме того, сильное впечатление на Глеба произвел некий американский “пророк”, внушавший своим русским последователям, что все, сказанное в Библии, должно сбыться буквально. Глеб подчеркнул то место в Апокалипсисе, где говорится об огнедышащем драконе, и написал на полях: “автомобиль”. Потом он занялся истязанием плоти.
Вы только представьте, – восклицал Борис, когда рассказывал эту историю, – однажды поздно вечером я зашел к нему в комнату поговорить и услышал странное позвякивание. Задираю его ночную рубашку, и что я вижу? Цепи под власяницей!
Спустя некоторое время отношения с любовницей у Глеба испортились. Его охватили тоска и отчаяние, поскольку он совершенно не занимался учебой и с приближением экзаменов стало ясно, что он провалится.
Однажды вечером, когда родителей не было дома – они часто играли с друзьями в бридж, – Борис услышал выстрел. Он бросился в комнату брата и увидел, что Глеб лежит, наполовину свесившись с кровати, а на груди сквозь рубашку сочится кровь. Револьвер валялся рядом-, на полу.
Борис послал прислугу за родителями и за доктором. Родители в панике вернулись, доктор прибыл тоже. Осмотрев раненого, он сообщил потрясенной семье, что Глеб вовсе не умирает – рана совсем пустяковая. Тот, как оказалось, прострелил лишь кожу слева над ребрами, предварительно ее оттянув. Пуля застряла в дверной коробке.
После ухода доктора Борис видел, как отец расхаживает взад-вперед по огромной гостиной, бормоча: “Как он мог так со мной поступить? Как он мог так со мной поступить?”
В первый и единственный раз Борис разразился обвинительной речью, обращенной к отцу. Он сказал отцу, что они с матерью думают только о себе и совершенно не интересуются собственными детьми. В. К., будучи человеком разумным и не чуждым добрых чувств, его понял.
Летом 1903 или 1904 года Дмитрий Стеллецкий прислал Борису письмо из Римини, в котором уговаривал приятеля продолжить путешествие вместе. Борис был в восторге, и оба молодых человека исколесили Центральную и Северную Италию, останавливаясь в маленьких городах, восхищаясь живописью, архитектурой и мозаикой, особенно мозаикой Равенны. Еще раньше, живя в Харькове, Борис ходил с родителями в круиз по Черному морю до Афин и Константинополя, мозаики которых произвели на него, как он пишет, “не очень ясное, но долго не проходящее впечатление”.
Во время путешествия по Италии со Стеллецким, ставшим его наставником, Борис проникся прелестью ранних римских мозаик (тогда как друг отдавал предпочтение поздним). Но, по склонности к “духовным абстракциям и символизму”, он увлекся вскоре мозаикой византийской.
Закончив училище правоведения, Борис решил стать профессором философии права. Чтобы достичь этого, требовалась степень Петербургского университета. Благодаря вмешательству императора три года обучения в училище были приравнены к университетским. Однако в университете к такой привилегии отнеслись с неодобрением, и Борису пришлось сдавать все университетские экзамены. В результате он успешно прошел и сдал четырехгодичный курс за двенадцать месяцев, что произвело впечатление на его учителя, профессора Петражицкого, который предложил Борису остаться у него на кафедре для получения звания магистра.
Обязательная военная служба Бориса не страшила – дворянам, закончившим училище правоведения, позволено было определять себе полк по собственному выбору. Наиболее престижным из них считался Конногвардейский, и Борис с приятелем по фамилии Галл, чей отец командовал как раз конной гвардией, были туда рекомендованы. Однако, когда приятелю за участие в собрании либеральной партии было отказано, Борис в знак протеста также от этого места отказался. Следует добавить, что генерал-лейтенант Девель, дядюшка сестер Девель, еще раньше настойчиво советовал Борису выбрать какой-нибудь другой полк, хотя причин и не объяснял. Дело же было в том, что поговаривали, будто, играя в клубе, Галл передергивает, и вскоре его действительно поймали. После такого позора командир был вынужден уйти в отставку. А Борис выбрал драгун.
Военная муштра за последние двести лет изменилась мало: самым главным тут всегда считалось владение саблей и верховая езда. Проносясь галопом по манежу, кадеты учились срубать с шеста на скаку кусок глины, заменявший вражескую голову. Для выполнения этого упражнения Борису дали одноухую лошадь, которая при приближении к шесту всякий раз кидалась в сторону, так что всадник никак не мог достать до цели. Оказалось, что во время тренировки какой-то кадет вместо глиняной головы отрубил бедному животному ухо.
На срочной военой службе.
Однажды во время смотра, который должен был делать войскам император, Борису пришлось сидеть на коне перед полком после ночной попойки. На дворе было жарко, император запаздывал. Войска томились в ожидании, Борис потихоньку задремал. Человеком он был крупным, тяжелым, и конь, послушный, но усталый, пошевелил крупом, чтобы перенести тяжесть с левой ноги на правую. При этом спящий офицер выпал из седла прямо на плац. К счастью, Николай II еще не прибыл, но свалившийся со спокойно стоявшего коня Анреп развеселил весь полк.
Попытки Бориса рисовать – несомненно, претенциозные и непрофессиональные – тоже вызывали в полку насмешки. Испытывая в то время сильное влияние Стеллецкого, он использовал любую возможность побывать у него в мастерской. Когда однажды скульптор объявил, что любой человек может рисовать, Борис ответил, что уж его-то это точно не касается. Тогда ему было велено снять сапог и нарисовать собственную ногу, что он и сделал. Результат был настолько хорош, что Борис тут же решил стать художником.
В 1905 году, возвратясь из бесплодного мексиканского путешествия, Борис, одинокий и несчастный, познакомился с Юнией Павловной Хитрово, и у них начался роман. Ее отец был богатым дельцом, в круг интересов которого среди прочего входили железные дороги. Кроме того, он служил в Министерстве финансов. К господину Хитрово, который злоупотреблял служебным положением, брал взятки и вел роскошную жизнь, тайно содержа вторую семью, В. К. симпатии не испытывал.
Юния же была девушкой доброй, благородной и одаренной. Она занималась скульптурой, много читала, прекрасно пела. У нее была бледная кожа, круглое лицо и желтые, как сливочное масло, кудряшки, которые, как позднее выразился Литтон Стрэчи[6], казалось, можно было снять вместе со шляпкой. Роман длился в течение всего времени военной службы Бориса. По его завершении, согласно логике профессора Петражицкого, для Бориса открывалась наконец перспектива стать профессором международного права.
Юния Анреп.
Но теперь, когда в его душу вошло прекрасное, Борис впервые посетил Эрмитаж. То, что до двадцати двух лет его никто не надоумил это сделать, говорит о безразличии семьи к искусству. В. К. был предан науке и общественной деятельности, а на досуге играл в бридж, Глеб увлеченно занимался медициной, а сводные братья, ставшие инженерами, – банковскими делами и строительством железных дорог.
Впечатление, произведенное эрмитажной коллекцией на романтически настроенного молодого человека, было, по-видимому, сильным.
К делу подключился Стеллецкий. Он объявил, что Борис – художник, что, посвятив себя изучению “юристики”, он только зря потратит время. Скульптор поговорил о будущем сына с В. К. и Прасковьей Михайловной, уверяя их, что тот обладает талантом. Борис оставил балы и приемы, стал сочинять стихи, начал общаться с художниками и литераторами.
В 1906 году он выполнил портрет Варвары Федосеевой, своей учительницы музыки: голова в три четверти, с глубокими тенями и смело прорисованными линиями волос, обрамляющих полное немолодое лицо. Свет направлен на щеку и сережку. Целый год Борис пребывал в смятении, не зная, на чем остановить свой выбор. Весной 1908‑го он наконец решился и сообщил профессору Петражицкому, что “чрезвычайно увлекся эстетической психологией”, не осмеливаясь, однако, признаться, что собирается поехать в парижскую художественную школу учиться рисовать.
Дома Борис пережил тяжелую сцену. В. К. объявил, что есть только два типа людей, посвящающих жизнь искусству, – это “Рафаэли и идиоты”! Добавим, что и впоследствии, пока отец был жив, Борис не переставал испытывать страх перед ним, а это успехам его художественной карьеры, безусловно, не способствовало.
Еще один семейный скандал разразился, когда перед отъездом Бориса в Париж к В. К. явился Эраст и сообщил, что Борис и Юния должны пожениться: он застал их вдвоем в постели. Со стороны Эраста это был хорошо продуманный шаг, поскольку в то время у него самого был роман с матерью Юнии, которой он хотел угодить, ускорив брак дочери с Борисом. Юнии, почти ровеснице Бориса, было двадцать четыре, их отношения длились уже два года, и едва ли она походила на невинную девочку – мать, возможно, хотела поскорее сбыть дочь с рук. Кроме того, Эраст был большим другом брата Юнии, полагавшего, возможно, что эти любовные связи – как матери, так и сестры – задевают его честь.
Как бы то ни было, Хитрово считались уважаемым семейством, и доводить дело до скандала, который бы случился, если бы эти отношения были раскрыты, никто не хотел. Чтобы доказать правдивость своих слов, Эраст предъявил В. К. украденное им письмо Бориса к Юнии, которое делало их связь очевидной.
Обе семьи настаивали на браке, и перед отъездом во Францию Борис сделал Юнии предложение.
Попрощаться с Борисом пришел профессор Петражицкий, его увлечение художествами осудивший. “Жаль, что вы меня покидаете, но я знаю, ветер скоро переменится”, – сказал он.
Борис сел на поезд и отправился в Париж.
Глава четвертая Шуберские
Всю жизнь отношения между четырьмя братьями были натянутыми. Владимира – за то, что тот был хитрым и ловким дельцом, – Борис презирал и с издевательским смешком звал проходимцем. Имя Эраста при мне не упоминалось, возможно, из‑за его предательства в истории с Хитрово. Постоянные разговоры Прасковьи Михайловны о том, что ее сыновья от брака с Шуберским должны быть благодарны своему отчиму, воспринимались детьми с раздражением и вряд ли способствовали хорошим отношениям между старшими и младшими братьями.
При всей своей щедрости к детям Шуберского и осиротевшим сестрам Девель, занятия детьми В. К. предоставлял жене, сам же следил за семейным бюджетом. Но и жена настаивала на его участии в семейных делах лишь в двух случаях – в предупреждении греха и одобрении поступков добродетельных. Немецкие традиции, перенесенные в Россию Екатериной II и ее соотечественниками, вполне укоренились, и в семьях респектабельного высшего класса, а также буржуазии многие дамы исповедовали принцип “Kinder, Küche und Kirche”[7] (хотя в действительности заботились они о детях мало и никогда не готовили). Без сомнения, Прасковья Михайловна очень внимательно следила за соблюдением необходимых условностей.
Прасковья и Василий фон Анреп.
Деятельность В. К. носила либеральный характер и в основном касалась образования соотечественников – и мужчин, и женщин. По воспоминаниям Андрея Шуберского, радикальное предложение В. К. ввести в России всеобщее образование было отвергнуто императором и его окружением. Вследствие этого В. К. ушел из правительства, хотя и остался тайным советником.
Оглянемся в этой главе на типичную для обеспеченных классов жизнь семьи Владимира Шуберского, великолепно описанную в мемуарах его сына Андрея.
Влияние такой жизни на Бориса, который отвергал ее принципы в течение пятидесяти лет, но в конце концов, уже в Англии, оказался вынужден им подчиниться, оказалось все же значительным.
Володя Шуберский получил специальность инженера-строителя. В начале 1900‑х годов он женился на Евдоксии, дочери князя Михаила Хилкова, министра путей сообщения, который в юности по приказу Александра II изучал строительство локомотивов и работу железной дороги в Англии и Америке. Поэтому казалось естественным, что его зять тоже станет работать на железной дороге. Володю назначили инспектором императорского пути, а это означало, что он нес ответственность за все маршруты, по которым должен был проезжать император. Поскольку на пути следования императора вполне могли заложить бомбу, Володе следовало ехать на отдельном паровозе впереди императорского поезда в качестве подставного, чтобы в критической ситуации его взорвало первым.
У Владимира и Евдоксии было двое детей: сначала в 1902 году родилась дочь Паша, потом в 1907‑м – сын Андрей. Когда Андрею исполнилось три года, в Петербурге для семьи был выстроен дом. Возможно, при строительстве Владимиру помогал приемный отец – во всяком случае, план дома № 9 по Мытнинской улице схож с тем, по которому строился и дом В. К. Здание было большое, с двором посередине, где хранились – в количестве, достаточном, чтобы отапливать все здание зимой и круглый год обеспечивать жильцов горячей водой, – сложенные высокой поленницей березовые дрова. В боковых флигелях жили слуги, там располагалась отопительная система, кухни, кладовые и прачечные, а в главном корпусе, выходящем на улицу, проживала семья Шуберских. Квартиру в верхнем этаже занимал Эраст. Женат он не был, жил один с доберман-пинчером. Его любовница, госпожа Хитрово, навряд ли когда-нибудь в этой квартире бывала.
В воспоминаниях Андрея Шуберского мебель описывается подробнее, чем люди, но чувствуется, что вся атмосфера дома была пропитана духом роскоши, столь свойственным богатой русской семье. Перечень предметов убранства длинен – в те времена в комнатах обычно было множество вещей. Андрей видел дом внимательными глазами одинокого ребенка – сестра его, пятью годами старше, жила в Смольном институте, где благородных девиц готовили к самому главному – будущей семейной жизни.
Квартира Владимира и Евдоксии Шуберских располагалась на втором этаже. Как и в доме В. К., здесь были большие двустворчатые двери. В кабинете Владимира стояла тяжелая темная мебель, обитая зеленым бархатом, темно-зеленый ковер, у стены диван, над которым висела книжная полка, и тяжелый письменный стол с зеленой кожей поверху. Андрей не помнил, чтобы отец когда-нибудь там работал.
Полы везде паркетные, в гостиной – розового дерева. Зимой их устилали коврами. В одном из углов гостиной лежала шкура белого медведя. Разложенный в центре большой ковер и стены были розовато-красных оттенков. У стен между окон стояли горки с памятными предметами, принадлежавшими когда-то деду, князю Хилкову; там же, вдоль стен, были расставлены канапе и кресла в стиле XVIII века, обитые шелком, на которых маленькому Андрею сидеть не позволялось. В центре с потолка свешивалась люстра, привезенная из Венеции Борисом в качестве свадебного подарка. Она представляла собой множество частично перекрывающих одно другое стеклянных страусовых перьев розоватого цвета, среди которых угнездились многочисленные электрические лампочки. По форме люстра напоминала грушу. Еще одним следствием неожиданного приступа дружеских чувств к брату было украшение одной из дверей в квартире Шуберских, выполненное Борисом совместно со Стеллецким. Стеллецкому нравились традиционные русские темно-красные цвета и средневековые узоры.
Другая гостиная, столь же большая, была выдержана в серо-голубых и розовато-лиловых тонах. Здесь красавица мать принимала гостей. На ее письменном столе стояли всевозможные безделушки, в том числе и специальное приспособление для запечатывания писем, состоящее из спиртовки и ложечки, в которой плавили сургуч. Потом сургуч наливали на клапан конверта и прижимали печаткой с фамильным гербом. Был там и маленький серебряный локомотив на подставке, во всех деталях повторяющий настоящий, подаренный князю императором по окончании строительства Транссибирской железной дороги. В одном углу стоял рояль, а в другом лежала медвежья шкура. Здесь же стояло на задних лапах чучело еще одного медведя. По семейным преданиям, все медведи были убиты в Сибири дедом Хилковым (надо сказать, что в те времена принято было драться с медведем один на один, вооружившись лишь пикой).
Андрей вспоминает, как испугался он моли, услышав возглас матери: “Боже мой, моль съела медведя!”
Дверь, ведущую в розово-лиловую гостиную, охраняло чучело оскалившегося волка.
В каждой комнате висела икона – Христос, Богоматерь или какой-нибудь святой – деревянная, часто в серебряном окладе. Перед иконой день и ночь горела лампадка.
Спальня Андрея была завалена игрушками. На стульчике-качалке были вырезаны два гуся, с помощью которых его и приводили в движение. Кроме того, была еще лодка-качалка, в которую помещались четверо или пятеро детей. И в придачу качающаяся лошадка. Однажды Андрей обнаружил игрушечные сервизы севрского фарфора – чайный и обеденный – необыкновенной красоты и изящества, присланные в подарок матери персидским шахом. Их тогда сразу убрали, чтобы ребенок нечаянно чего-нибудь не разбил.
Евдоксия Шуберская была красивой дамой, всецело занятой светской жизнью. Как повелось в семействе Анреп, Андрея воспитывала английская гувернантка, с которой он проводил почти все время, пока не пошел в школу, – мисс Уайтхед. Экономкой была старая двоюродная тетушка Евдоксии, которая, пишет Андрей, всегда носила черное и семенила по дому как таракан.
Каждую весну в доме устраивали грандиозную уборку – являлась целая армия рабочих с огромным пылесосом, который устанавливали на улице перед домом, а длинный шланг просовывали в окно. После чистки покрывавшие весь пол большие ковры поднимались, сворачивались и убирались в специальные холодные кладовые, где не могла завестись моль, – они хранились там до следующей осени. Рабочие убирали все комнаты, пока каждый уголок не начинал сверкать чистотой. Затем вынимали внутренние рамы двойных окон и тоже убирали до осени. На зиму между рамами клался мох.
Приметой наступления весны было для Андрея появление на улице торговцев с огромными корзинами раков на спине. Они кричали “Раки! Раки!”, кухарка выскакивала из дому, покупала, и потом вся семья наедалась до отвала.
К 1912 году Владимир занялся банковским и промышленным делом. Он был директором Русско-французского банка, через который проходили средства, вкладывавшиеся Францией в русские государственные железные дороги. Также он имел долю в горнодобывающей уральской промышленности, в сталелитейной и воздухоплавательной. Среди прочих признаков достатка был домашний телефон и швейцар, встречавший посетителей в прихожей и одетый как адмирал Руритании[8]. Довольно рано Шуберские сменили конный экипаж на автомобиль. Что же касается В. К., то он предпочитал пользоваться своим старым выездом с парой лошадей. Проезжая по Невскому, вспоминает Андрей, В. К. выглядел весьма внушительно.
Борис, похоже, был веселым дядюшкой. Однажды он привез из‑за границы в подарок Андрею игрушечное ружье. Оно стреляло резиновыми пулями с помощью пистонов.
Мы решили испытать ружье, – вспоминает Андрей, – и выстрелили через открытые двери моей комнаты, спальню родителей и столовую в самый конец квартиры. К несчастью, в розовой гостиной на секретере стояла большая ваза севрского фарфора, в которую и угодила пуля. Ваза разбилась вдребезги, так что стрелять из ружья мне больше не пришлось.
Глава пятая Сомнения
Когда Борис в возрасте двадцати пяти лет оставил спокойную, обеспеченную жизнь в Петербурге и, устремившись к великому искусству, приехал в Париж, он был встречен там Стеллецким, который для начала помог ему устроиться. Потом рекомендовал ему художественные школы и студии: Академи Жюльен для утренних занятий, затем “Ля Палетг”, где острый на язык и, как поговаривали, сексуально неполноценный Жак Эмиль Бланш по прозвищу le vipère sans queue[9] целый день преподавал живопись, и “Ля Гранд Шомьер” для вечерних занятий рисунком.
Между тем заболел отец Юнии Хитрово, и доктора посоветовали ему отправиться в Ниццу. В этой поездке его сопровождала дочь. Там в 1908 году в русской православной церкви Борис и Юния обвенчались, причем жених прибыл лишь за день до торжественной церемонии. Он вспоминает, что уже до свадьбы чувствовал к Юнии охлаждение.
Прасковья Михайловна, приехавшая на юг Франции, встретилась с Борисом на платформе вокзала в Ницце. Она собиралась проследить за тем, чтобы сын вел себя как подобает. Хотя она относилась к этому браку неодобрительно, приличия требовали, чтобы молодые люди поженились. Однако, поскольку гражданской церемонии не последовало, брак этот по французским законам считался недействительным. Мать Бориса на венчание не пошла, ясно давая понять, что она недовольна их постыдной добрачной связью.
Судя по многим свидетельствам, недовольство было главным чувством, руководившим поступками госпожи фон Анреп.
Молодая чета поселилась в квартире, которую Борис уже успел снять на бульваре Распай. Здесь, вспоминает он, Юния “шила платья, пела и следила за квартирой”. Спустя годы он как-то раз заметил, что женился на ней, потому что их застали в постели и потому еще, что у нее была прекрасная средневековая мебель.
В Париже началась дружба со многими иностранцами, ей суждено было продлиться долгие годы. В Академи Жюльен Борис сидел рядом с художником Пьером Руа, которого Андре Салмон назвал “быть может, истинным отцом сюрреализма”. Поначалу Руа думал, что его сосед – англичанин, так как тот много общался с англичанами, Борис же принял Руа за японца. Разобравшись с национальностями, они подружились на всю жизнь.
В “Ля Палетт” секретарь занялся созданием музыкального общества и, обнаружив, что Борис играет на виолончели, предложил ему присоединиться к другим музыкантам. Так началась дружба Бориса с Генри Лэмом. Лэм великолепно играл на фортепьяно, Борис же, хоть и считал себя немузыкальным, наверное, настолько хорошо за семь лет освоил виолончель, что мог справляться со струнными квартетами Моцарта. Музыкальные встречи устраивались раз в неделю в течение всей зимы.
Генри Лэм был жизнерадостным молодым человеком, сыном уважаемого манчестерского врача. Как и Борис, он отказался от надежной карьеры, в данном случае медицинской, и сбежал в Лондон с красоткой весьма вольного поведения, также занимавшейся живописью. Он поступил в художественную школу в Челси, где попал под влияние яркой индивидуальности Огастеса Эдвина Джона, живописца и портретиста. Его облик преобразился: развевающиеся волосы, золотые серьги, бархатные пиджаки… Еще он отпустил бородку, как у Христа, носил охотничий костюм и узкие брюки со штрипками.
Вскоре после приезда в Париж, гуляя по Люксембургскому саду, Борис обратил внимание на очень странное семейство и, не удержавшись, сел напротив, чтобы разглядеть его повнимательней. У мужчины были длинные засаленные волосы и борода, и похож он был на цыгана. На нем был такой же охотничий костюм и брюки со штрипками, как у Лэма. Две женщины – смуглые, странные и романтичные – почему-то показались Борису похожими на скандинавок. На них были широкие длинные чесучовые юбки белого цвета, плотно застегнутые корсажи с круглым вырезом и короткими рукавами и черные лакированные туфли на высоких каблуках. У одной волосы были длинные и распущенные, у другой собраны в пучок. На головах большие соломенные шляпы. Тут же стояла коляска с двумя маленькими детьми.
Борис Анреп и Генри Лэм.
Оказалось, что Генри Лэм хорошо знаком с этим семейством – Огастесом Джоном, его женой Дорелией, сестрой Эди Макнил и множеством детей. В начале 1900‑х годов Лэм, кроме того что стал подражать манерам и внеш-ности Джона, еще и влюбился в Дорелию. Об этой встрече Борис написал Лэму любопытное письмо на довольно своеобразном английском языке, которым, похоже, владел еще не слишком хорошо:
Если бы Вы могли проникнуть в мое сердце и разум, который Вы удостоили сообщением некоторых деталей о характере Ваших отношений с Джоном и его семьей, Вам бы стало дурно, и Вы бы почувствовали, что отравлены той желчью, которая взыграла во мне, когда я впервые увидел Джона. Кошмар состоял в том, что, вполне сознавая мощь его личности и ее варварскую красоту, я испытал сердечное отвращение ко всем тому гадкому, низменному и жестокому, что ощущалось в его лице и манерах.
Лэм был в восторге от знакомства с русским – он только что узнал великих русских писателей XIX века, которых читал с большим воодушевлением. Был и еще сближающий момент: Лэм недавно женился на Юфимии, той самой красотке вольного поведения, однако, как и у Бориса, первоначальное увлечение дамой ко времени женитьбы у него заметно остыло. Отвергшие свои прежние профессии, Борис и Генри Лэм были сравнительно с другими учениками студий уже вполне взрослыми людьми. Лэм, честолюбивый, остроумный, хорошо образованный, был красив своеобразной мрачной красотой и, несмотря на маленький рост, неизменно привлекал своей элегантностью и женщин и мужчин. Его всегда восхищали аристократы, и то, что Борис был “фон” и к тому же мог наследовать титул графов Эльмптских, было для Лэма особенно притягательно. Борис, уверенный в себе великолепный высокий блондин, судя по всему, был полон оригинальных планов. Его присутствие в любом обществе создавало веселую атмосферу жизнелюбия, внушало ощущение бьющей через край энергии, против чего, если учесть еще и его невероятную сексуальную привлекательность, устоять было трудно.
Однако в первые парижские годы Борис, по его словам, был больше дружен не с Генри Лэмом, а с Пьером Руа. Однажды, когда Юния уехала навестить родных в Минск, Борис был приглашен провести две недели у бабушки Пьера в Порнике, в Бретани, где собралась вся семья Руа. На подобное приглашение мало кто мог бы рассчитывать – французы вообще редко приглашают знакомых к себе домой.
В “Декларации”, написанной в 1947 году для нью-йоркского Музея современного искусства, Руа сообщает:
Году в 1909‑м у меня был русский друг, Борис фон Анреп, бывший офицер, который стал великолепным мозаичистом, единственным мозаичистом, по-настоящему оказавшим на меня влияние. С его рассказами о степях и лесах, о византийском искусстве, о русском балете, о лондонском обществе, с его приятной простотой в обращении он до сих пор остается моим добрым другом.
Именно с Руа Борис отправился на bal des quatre arts[10], где обнаженную Юфимию Лэм выносили на вытянутых руках шесть молодых американцев. Борис изображал бога солнца Ра и тоже был обнаженным, если не считать леопардовой шкуры cache-sexe[11] и изображения солнечного диска на голове, вокруг которого обвился урей, ужасная священная змея. То, что большой светлокожий русский решил изображать египетского бога, дает некоторое представление о тщеславии и популярности Бориса среди учеников художественных студий того времени.
Однажды в Академи Жюльен объявился Питер Маннок, молодой человек, по происхождению шотландец, с которым Борис подружился. Шотландец уговаривал Бориса поехать учиться рисованию в Эдинбург, который называл Новыми Афинами Европы. Учителя направили Маннока в Мадрид копировать Гойю и Веласкеса. Так, дружба с Манноком помогла Борису познакомиться с приемами и секретами старых мастеров, главным образом венецианцев, творчество которых, по словам Маннока, великолепно исследовали в Эдинбурге.
Приехав погостить домой, в Петербург, Борис встретил своего товарища по училищу правоведения. После обмена новостями товарищ спросил, получил ли Борис свое жалованье.
– Какое жалованье? – удивился будущий художник.
– Ваше жалованье государственного служащего. Разве вы не знаете, что после сдачи экзаменов вам автоматически назначили жалованье чиновника девятого класса. Нужно только пойти и получить его.
Борис немедленно поспешил за жалованьем, накопившимся за все время, что прошло после окончания училища, и, вернувшись домой, сообщил о триумфе отцу. Хотя В. К. сам материально поддерживал Бориса в его семейной жизни, такая беспринципность его возмутила. Он воскликнул, что тот ничем не заслужил никаких денег. Узнав же, что так поступают все сдавшие экзамен, независимо от того, состоят они на службе или нет, В. К. объявил, что на следующий же день идет к императору, чтобы положить конец такому чудовищному положению дел. Так он и сделал, и с тех пор ни его сын, ни кто-либо другой не получили ни рубля из этого источника.
Молодая чета Анрепов отправилась в Эдинбург и поселилась в Уоррендер-парк-террас, в квартире, состоявшей из спальни и гостиной. Борис начал посещать художественную школу, но необходимость постоянно рисовать с натуры античные гипсовые образцы его удручала. Студенты в общем были ему неинтересны, хоть он и хаживал в их компании лунными ночами по двадцать миль через холмы Пентленд-Хиллз и обратно.
В Шотландии Анрепы провели девять месяцев, таких же скучных, как традиционный для тех мест ранний ужин с чаем, исключительно невкусный. Жизнь была очень далека от парижской, и обещанные Новые Афины Эдинбург вовсе не напоминал. И все же рядом была Англия, которая Борису по-прежнему нравилась. Совершенно случайно он вновь встретился с Генри Лэмом, писавшим портрет жены адвоката, красавицы миссис Джеймсон.
Затосковав в Эдинбурге, как и Борис, Юния надолго уехала к своим родным. Борис остался один и окончательно пал духом. Тогда-то он и послал телеграмму профессору Петражицкому с вопросом, можно ли ему приехать и вернуться к изучению международного права. Вскоре пришел ответ: “Рад, что ветер переменился”.
Вновь оказавшись в Петербурге, Борис снял квартиру на Невском проспекте, которую обставили средневековой мебелью Юнии. Деньгами отец дочери не помогал, у нее оставалось лишь множество фамильных бриллиантов. Прожив в роскоши всю жизнь, господин Хитрово умер, как оказалось, без гроша за душой, поэтому теперь Юнии пришлось возвратить свои бриллианты матери.
Чтобы получить степень магистра, Борис вернулся к университетским занятиям у Петражицкого, но вновь заскучал. В. К. помогал ему профессиональными советами, однако так и не смог пробудить в сыне интерес к международному праву. Борис написал портрет Юнии в русском стиле: округлое свежее лицо кудрявой блондинки в высоком, шитом золотом головном уборе и в горностаях. Портрет подарили В. К. и Прасковье Михайловне, которым он чрезвычайно понравился. Между тем профессор Петражицкий, переболев оспой, собирался ехать в Швейцарию для поправки здоровья. Больше терпеть эту скуку Борис не мог. Решив возвращаться в Париж, к искусству, он отправил профессору букет белой сирени и прощальное письмо с извинениями.
Должно быть, в это же время Борис уговорил Пьера Руа приехать в Россию, так как 2 августа 1909 года, гостя в родительском доме Юнии в Минске, он написал Пьеру на своем довольно своеобразном английском следующее письмо (похоже, что в Петербурге они так и не встретились):
Мой дорогой друг Пьер!
Твой Борис сообщает тебе последние новости. Ну вот ты и au courant[12] всех самых русских произведений искусства, самых потрясающих… твое образование между стеной и балюстрадой… твои впечатления… Бог мой! Ты говоришь мне о Стеллецком и о <?>[13] Я вижу их отсюда, но потом, после ужина, твои размышления не говорят мне ничего […] Прости эти грубые выражения, но мне до определенной степени присуща отвратительная русская привычка использовать бульварные галлицизмы. Но что ты думаешь о русском театре, о декорациях, великом Шаляпине, балете и пр.? Друг мой, я полагаю, это было для тебя откровением. Или я не прав?
Жизнь моя в беспорядке. Великолепная жизнь, которую предлагает мне мой учитель Петражицкий, полна камней. Блестящая карьера меня не ждет, но мне нужно реализовать две-три идеи. Вот о чем я мечтаю. Должен сообщить, что, увы, в живописи я, как всегда, проявляю нерешительность, очень немногое влечет меня. Поэзия предлагает мне такие причудливые игры, такие гирлянды идей и звучных понятий, что я предаюсь им всем сердцем. […] Мне снится Данте. Уверен, ты читал его только в школе. Я ничего не печатаю. В поэзии моей много глупостей, идущих от художественного бессилия, но много и “высокого”. Когда б я мог запечатлеть четыре стороны моей философии, изложив это в религиозной, библейской манере, в стиле таинственных легенд и преданий, скрывающих и вместе с тем раскрывающих перед читателем строгие принципы самой передовой науки, взятой в ее абстрактном, обобщенном виде, это обрело бы силу великой поэзии.
Юния Павловна целует тебя в щеку, шлет поклон твоим родителям и просит сохранить хорошие русские манеры, чтобы не позорить своего друга, когда приедешь сюда.
В 1909 году Борис пишет “Оду”, которую посылает Недоброво, чтобы узнать его мнение. Недоброво стал теперь известным литературным критиком и поклонником Анны Ахматовой, которой было тогда двадцать лет и которая находилась в центре самого изысканного литературного круга. Позже Борис сам перевел “Оду” на английский, дав ей название “Предисловие к «Книге Анрепа»”. Его английский был в ту пору довольно бедным, в стихах же ощущалось влияние Библии и Блейка. Английские слова и выражения, хотя и не вполне ему понятные, его восхищали. Вот отрывок из “Предисловия к «Книге Анрепа»”[14]:
В лесу были распутницы. Подобно побродяжкам валяясь под кустами, они нагло звали меня возлечь с ними. Безрассудно ласкал я молодых девиц. Они были полны лукавого искусства и алчности, прельщая меня одна за другою, я же был полон доверия.
Твари разодрали ручного кролика. “Дай мне твои руки, ты играл со мной!” – “А мне отдай ногу!” – “И мне тоже!” Горе мне! Зубастые волчицы! Они разбросали повсюду куски моей плоти и грызли их со скрежетом зубовным. И оставили меня умирать и хрипло смеялись, потешаясь друг над другом. Таково было горе, что стал ненавидеть я всю сладость любви. Поглоти вас мрак, потаскухи с зловонным дыханьем, гибель вам, нарывы вам и струпья, сушь и гниение! Горе мне, подобному телеге без колес и оглобель: лишь чрево и чело, изливающие кровь! Хладные тучи, словно черные слизняки, влекут меня за волосы, слипшись с ними своею слизью. Скорбь и сумрак стоят надо мною.
Таковы были “гирлянды идей и звучных понятий”, которым предавался Борис.
Тот факт, что их сын мечется между искусством, правоведением и поэзией, должно быть, доставлял Прасковье Михайловне и В. К. большое огорчение. Казалось, молодой человек никогда не угомонится и не займется серьезным делом.
В конце концов, все же не пав окончательно духом, Борис и Юния вновь сели на поезд и вернулись в Париж, где сняли новую квартиру с мастерской на рю Буассонад. Борис продолжил занятия в Академи Жюльен.
Летом профессор Анреп с женой, пожелавшие познакомиться с рисунками сына, их навестили. Анрепы были из тех родителей, которые к любым начинаниям детей относятся с полной серьезностью. Тогда наконец В. К. одобрил и благословил старания Бориса, что стало в жизни нашего героя важным событием.
Глава шестая Хелен Мейтленд
По дороге из Эдинбурга в Санкт-Петербург, собираясь покончить с искусством и вновь заняться правоведением, Борис на одном из обедов в Лондоне повстречал Генри Лэма, танцевавшего со своей любовницей Хелен Мейтленд. В воспоминаниях Мод Рассел, последней возлюбленной Бориса, утверждается, что тот, по его словам, не обратил тогда на эту молодую и хорошенькую женщину никакого внимания, но через двенадцать месяцев был ею околдован. Сама же Хелен писала: “В тот день он сказал Лэму, что я бродяжка, но позже признался мне, что не мог выбросить меня из головы”.
Хелен Мейтленд родилась в 1885 году в шотландской семье. Воспитывалась она в обстановке напряженной – ее отца, когда выяснилось, что он не желает овладевать достойной профессией (то есть, как это было принято в семье, становиться юристом), богатые эдинбургские родственники, обвинив в расточительстве, с позором изгнали в Америку. Женившись на мисс Луизе Джелл и эмигрировав на калифорнийское побережье, Уильям Мейтленд купил ранчо неподалеку от Санта-Крус. Поначалу жизнь складывалась прекрасно: жена родила дочь Хелен Энн, виноградник и персиковый сад приносили большой урожай – эти культуры росли здесь особенно хорошо. Но через несколько лет все круто изменилось. С ранчо вела дорога, спускавшаяся по высокой скале – корзины с персиками и бочки с вином вывезти по ней было невозможно. Обычно их вывозили через земли соседа, но однажды Мейтленд с ним поссорился, и в проезде ему было отказано. Хелен, тогда еще маленькая девочка, запомнила гниющие персики в деревянных ящиках и непроданное вино в огромных бочках, стоявших на ранчо повсюду. Но на этом злоключения не кончились. Мейтленд влюбился в дочь другого соседа, пианиста, и, как рассказывали, завел на стороне большую семью.
Когда впереди замаячило банкротство, Мейтленд бросил жену и дочь, и Луиза Мейтленд оказалась оставлена на милость не получивших жалованья китайских рабочих с весьма неуравновешенным нравом, поскольку все они курили опиум. Рабочие забрались в винный погреб и напились так, что матери и дочери пришлось прятаться. Добросердечный китайский повар запер их для безопасности в подвале.
Миссис Мейтленд и Хелен перебрались в Сан-Франциско и жили там в бедности. Мать писала маслом небольшие картинки – букетики фиалок или калифорнийских маков в вазе – которые продавала перекупщику по имени Викери по пять долларов за штуку. Хелен бродила по улицам в поисках деревяшек на растопку, чтобы можно было готовить и обогревать их единственную комнату. Девочке было одиноко, она сидела у окна и мечтала пойти поиграть с уличными детьми, что, конечно, было немыслимо, ибо она была ребенком из благородной семьи. Так и не утратив сознания своего благородного происхождения, она позже, когда оказалась в нужде снова, часто спрашивала себя с грустью: “Что за радость быть леди, если у тебя нет денег?”
Луиза Мейтленд, дама с упорным характером, наконец нашла работу – место библиотекаря в Стэнфордском университете. “Мы прожили в Стэнфорде около пяти лет, – пишет Хелен, – за это время моя мать стала профессором не знаю точно каких наук, но поскольку она много читала по-немецки и по-французски, я думаю, речь шла об иностранной литературе”.
В письме шотландским тетушкам со стороны отца (Хелен и Энн, в честь которых была названа девочка) Хелен обрисовала ситуацию, сложившуюся после того, как отец их бросил, и тогда матери с дочерью была выделена небольшая сумма, чтобы они могли вернуться в Европу. Здесь их ждала кочевая жизнь, начавшаяся в Швейцарии, где за жилье они платили пять шиллингов в день. Потом они жили во Франции, в Италии, каждый раз находя столь же дешевое жилье. Они старались выбирать себе квартиру над каким-нибудь модным рестораном, договариваясь с поваром, чтобы тот за умеренную плату посылал им оставшуюся еду.
Миссис Мейтленд была одной из тех одиноких волевых англичанок, которые стали характерным явлением той эпохи. Они жили за границей, главным образом во Флоренции или в Париже, на небольшой доход, вращались в обществе бывших своих соотечественников, хорошо знавших литературу и искусство и находивших моральную поддержку в осознании своей принадлежности благородному сословию высшей нации. Ее вполне удовлетворяла самостоятельная жизнь без мужа, чьи безумные прожекты стать миллионером привели лишь к тому, что и он сам, и его семья обнищали. Миссис Мейтленд вновь занялась живописью, посещала художественные школы. Теперь ее картины, вполне сносные, уже не найти, поскольку дочь относилась к ним презрительно и не хранила.
Хотя сама Хелен картин не писала, она довольно много времени проводила в галереях, воспитывая собственный вкус. Во Флоренции она осмелилась заявить, что не любит Боттичелли, что в этом городе было “почти преступлением”. Она писала, что “была увлечена Беренсоном и его «тактильными ценностями», с которыми, впрочем, не знала, что делать”.
В 1909 году, после переезда в Париж, Хелен через своего родственника Дункана Гранта познакомилась с Генри Лэмом.
Все они работали в студии свободных художников на Монпарнасе, – пишет она. – Сперва он показался мне человеком бледным и неприметным, но вскоре, узнав поближе, я полностью поддалась его влиянию. Он рассказал мне о своей страсти к Дорелии Джон и о том, как они сбежали вместе и скитались, рисуя портреты посетителей кафе, чтобы прокормиться, как ночевали в сараях и стогах сена, как Джон, хотя его предыдущая жена еще не умерла, а была беременна своим последним ребенком, который, по словам доктора, должен был ее убить, разыскал их и утащил Дорелию с собой присматривать за семьей из семи человек. Она была большим другом первой жены Джона и пообещала никогда не покидать ее детей.
Хелен рассказывает, что, как и Борис, впервые она встретила Дорелию в Люксембургском саду, где, к ужасу прогуливавшихся парижан, дети Джонов, раздевшись, купались в пруду. Хелен и Дорелия растирали их потом изо всех сил.
Еще один рассказ о любовной истории Лэма содержится в дневнике Франсес Партридж за 1949 год:
Вчера вечером Хелен рассказала нам о своей жизни в Париже много лет назад, когда она познакомилась с Генри Лэмом, Огастесом Джоном и Дорелией.
– Генри, наверное, был очень привлекателен. Вам он нравился? – спросил Реймонд [Мортимер].
– Нравился? Я была безнадежно влюблена в него не один год!
Смелое признание.
Потом она рассказала, что Генри и Дорелия безумно полюбили друг друга с первого взгляда и, следуя стилю “пикарески”, модному в те годы, ушли в горы, уведя за собой двух маленьких детей, но Огастес бросился следом и вернул их назад.
В это время Луиза Мейтленд была увлечена теософией, а также занималась живописью в студии свободных художников под руководством господина Тюдора Харта, который среди прочего утверждал, что любое искусство может быть переведено на язык другого. Когда он устраивал выставку-конкурс своих учеников, то результаты сам изображал в танце.
Нет сомнения, что подобные выкрутасы воспринимались Хелен и ее друзьями, художниками более серьезными, с презрением. У нее начался роман с Лэмом, длившийся два года – “два самых ужасных года моей жизни”, призналась она мне. Это был ее первый роман, а ей к тому времени было уже двадцать три. В потрепанной маленькой тетрадке Хелен начала писать карандашом письмо к Лэму, которое после предполагала переписать набело:
Очень боюсь, что я не могу прибегнуть к полумерам. Вы часто говорили мне, когда я жила с Вами, что, как Вам кажется, я вся […] – более, чем любая известная Вам женщина. Конечно, это верно, но лишь потому каждая частица моего естества стремится к этому, сердце, ум и тело… Я любила Вас так, что невозможно выразить словами, и страдала как проклятая […] Я не только страдала беспрерывно и бессмысленно, но, по-видимому, стала причиной всего, что есть в Вас самого дурного.
На протяжении последующих пяти страниц она обвиняет его в самом ужасном художественном грехе, доступном ее воображению:
Кажется, верх Ваших амбиций – стать вторым Франсом Хальсом, чего с Вашими дарованиями и умом добиться совсем нетрудно, особенно если учесть Ваше равнодушие к моральной стороне дела.
Этот свойственный юности упрек оборачивается горечью в черновике другого письма:
Я прошу прощения за свою тупость. И в самом деле невозможно извинить человека, который не понял того, на что Вы так упорно все время пытались намекнуть… Но будьте достаточно мужественны, чтобы признать, что Вас, или Ваше отвращение, или Ваше нежелание тратить на меня настоящие чувства я была способна терпеть. Все это было бы легко простить. Простить, по-моему, нужно, ибо как же девушка может догадаться, сколь мало значат все эти месяцы поцелуев и слов. Разумеется, если девушка эта неопытна.
И с мужчинами, и с женщинами, которые его любили, Лэм вел себя безобразно, умея, когда ему было нужно, выглядеть либо очень милым, либо в той же степени мерзким. Ему всегда хотелось уничтожить чувство уверенности в себе у того, кто его любит. Единственным исключением была Дорелия Джон: она бы не стала терпеть пренебрежения от любовника, сколько бы ей ни приходилось вынести от мужа. Несмотря на продолжительную привязанность, которую питал к ней Лэм, Дорелия с Хелен остались близкими подругами на протяжении всей жизни. Отвратительно вел себя Лэм и с Литтоном Стрэчи, который любил его и с которым однажды они провели ужасные каникулы. Несчастный Стрэчи писал своему брату Джеймсу: “Он самый восхитительный спутник на свете – и самый неприятный”.
Пьер Руа. Студия на бульваре Апаро, 65 (изображенный на картине бюст Анрепа – плод воображения художника).
Лэм написал изящный портрет Хелен в темных тонах, где она изображена в шляпе с перьями. Она кажется романтичной и привлекательной. Портрет создан человеком умным, понимающим гармонию и изобразившим задумчивую красоту молодой дамы – голубые глаза, каштановые волосы, розовые щеки. В картине есть, кроме того, что-то таинственное. Видно, что женщине на портрете присуще любопытство и увлеченность жизнью. На другом портрете Лэм изобразил Хелен в оранжевом платье в черную полоску – на этот раз в прилизанной академической манере. Художник с горечью жаловался, что ему неинтересно писать женщину с такими правильными чертами, как у нее. Второй портрет Хелен не любила, ее оскорбляло, что она изображена на нем девушкой, впервые оказавшейся в свете, – может быть, такой же простушкой, как на полотнах Хальса. Она часто позировала, и все ее портреты хорошо раскупались.
Когда она впервые встретилась с Лэмом, он был очень беден. Брак с Юфимией явно не оставлял никаких надежд: оба были неверны друг другу и даже не пытались себя сдерживать, оба думали о разводе, который получили только в 1920‑х годах. В Париже Лэм менял свое местожительство дважды в неделю, Юфимия столь же часто меняла круг друзей. Тогда, в 1910 году, во время романа с Хелен, Лэм увлекся интрижкой с леди Оттолайн Моррелл. Его подражание Огастесу Джону распространялось даже на любовниц Джона, а кроме того, как и Джон, Лэм всегда восхищался титулами.
Хелен чувствовала себя совершенно несчастной, ей нужны были перемены. Она преданно относилась к Дорелии, и когда у той случился выкидыш, Хелен бросилась к ней на южный берег Франции, в Мартиг. Там она занималась детьми и ухаживала за больной. С ней вместе, к ужасу Джона, приехал и Лэм. “В связи с особой ситуацией мы договорились об амнистии”, – писал тот Оттолайн Моррелл.
Хелен Анреп (урожденная Мейтленд).
В 1911 году Пьер Руа предложил Борису занять одну из студий на бульваре Апаро, где вокруг сада, рядом с тюрьмой Санте, обосновались художники. Бульвар представлял собой красивую аллею конских каштанов с широкими, даже для Парижа, тротуарами, придававшими наполненной светом улице какое-то сельское очарование. Там были рестораны, магазинчики и булочная, куда каждое утро привозили свежий хлеб и круассаны. Здания художественных студий были низкими, говорят, из‑за крайне ненадежных фундаментов, в которых, возможно, находились входы в катакомбы.
Руа здесь было выделено место для работы, а Борис стал не только работать, но и жить в студии, поскольку в ней были две большие комнаты, одна над другой, а над кухней еще и маленькая спальня. Въехав сюда вместе с Юнией, Борис много трудился, хотя часто отлучался в Лондон, чтобы посетить друзей и лучше познакомиться с писателями и художниками кружка Блумсбери.
Однажды в студию явился Лэм. Он привел с собой Дорелию Джон, ее сестру Эди и Хелен Мейтленд. На всех трех дамах были красивые наряды в духе Джонов, все три были молоды и обворожительны. Особенно поразила Бориса очаровательная Хелен, ее красота, обаяние, готовность его слушать. Несомненно, она была леди, но все же держалась непринужденно, с пренебрежением к условностям – следствие ее кочевой жизни.
Борис снова влюбился.
Глава седьмая Искусство в Париже и Лондоне
С 1908 по 1912 год Борис и Юния жили как муж и жена, хотя очень часто бывали в разлуке. Юния ездила к родным в минское имение, а Борис – в Лондон или в Петербург. Мы не знаем, как реагировала Юния на происходившие в чувствах Бориса перемены; впрочем, Лэм в самом начале романа Бориса с Хелен Мейтленд заметил: “Бедная Юния… Она на себя не похожа – раздражена и очень нервничает!”
В 1910 году сам Лэм занялся Оттолайн Моррелл, и однажды Борис даже одолжил им свою студию на бульваре Апаро, чтобы страсть их была утолена. Леди Оттолайн, привыкшей к комфорту, изысканности и услугам горничной, простая парижская студия, должно быть, показалась поистине спартанским пристанищем, пусть и романтическим. Эта худая как щепка аристократка шести футов ростом являла собою поразительное зрелище – орлиный нос, напоминавший своей изломанностью боксерский, и восхитительные наряды, похожие на декорации русского балета, гремевшего в Париже в 1909 году. Британская толпа в изумлении расступалась, когда леди Оттолайн шла по Тоттнем-Корт-роуд в своем варварском великолепии.
Оттолайн подружилась с Юнией и в марте 1911 года пригласила ее погостить в своем загородном доме Пеппард в Оксфордшире, где Лэм писал портрет хозяйки. “Она была белокурым очаровательным существом, похожим на ребенка, – пишет Оттолайн о Юнии. – Очень русская, веселая и умная. Мы стали большими друзьями. Она была куда умнее большинства англичанок”. По-видимому, Юния, помимо прочего, помогала ей совладать с раздражительностью Лэма. Однажды, например, когда Лэм заявил, что прядь волос у позирующей совершенно не на месте, Юния велела ему не говорить глупостей. Такой выговор порадовал Оттолайн.
Запутанные любовные отношения были в ту пору делом обычным. В том же году, несколько позднее, Оттолайн убеждала Лэма, что у нее достаточно любви, чтобы ее хватило и на него, и на Бертрана Рассела. Лэм, естественно, начал ревновать и приказал ей возвращаться в Париж. К письму Лэма Борис присовокупил и собственную просьбу:
Не могли бы Вы в течение нескольких дней пренебречь своими домашними обязанностями и посредством такого преступления доставить нам радость, которую теперь затмила мрачная хандра?
Именно в это время Борис приобщился к богемному образу жизни: атмосфера южного берега Сены вполне соответствовала его наклонностям. Он любил простоту в повседневной жизни, и, несмотря на то что вырос в богатой семье, роскошь была для него необязательна, хотя и приятна. Он всегда был готов влюбиться, не задумываясь о последствиях; вместе с тем в нем формировалась уверенность в своем мужском превосходстве и в праве мужчины подчинять себе женщину. Его дух и плоть жаждали женщин, на что, возможно, повлияли воспоминания о ласковой няне брата и крайняя холодность матери. Однако главным образом его увлеченность женщинами происходила из непоколебимой уверенности в том, что все они созданы исключительно для него.
Разочаровавшаяся в Генри Лэме, злившаяся на его скверный характер и потерявшая из‑за его измен уверенность в себе, Хелен Мейтленд была польщена и обрадована ухаживаниями обаятельного и энергичного русского. Когда они встретились впервые, Хелен со своей очаровательной насмешливой улыбкой сказала Борису что-то язвительное, чем привлекла его к себе еще больше. Она снимала небольшую квартирку недалеко от Пантеона, из окон которой были видны пять куполов. Ее воспоминания об этом жилище пронизаны радостью, и кажется, что, живя там, она была счастлива.
Демонстрируя свои чувства новой возлюбленной, Борис быстро выучился играть на фортепьяно, чтобы иметь возможность аккомпанировать ее пению. Продолжая утверждать, что у него нет склонности к музыке, Борис тем не менее владел фортепьяно и виолончелью – у него были талантливые руки и хорошая голова.
Может, Лэм и надеялся вернуть себе Хелен. В 1911 году, когда Оттолайн уехала из Пеппарда, он поселился в маленькой деревенской гостинице “Дог-инн”, используя в качестве мастерской обширный каретный сарай. Томясь по уехавшей великосветской любовнице, он написал ей: “Я жажду покрыть твое тело своим”, добавив, впрочем, что подумывает пригласить к себе в гостиницу Хелен. Вскоре Оттолайн вернулась и привезла с собой писателей-“блумс-берийцев” – Дезмонда Маккарти, Клайва Белла, Вирджинию Стивен[15] и Роджера Фрая. Приехала в “Дог-инн” и Хелен – только, к несчастью, вместе со своим новым любовником, Борисом Анрепом, – и Лэм возненавидел весь мир.
Борис был очарован английскими интеллектуалами, ставшими его новыми друзьями, однако, несмотря на их влияние, сохранял в своих обычаях полную независимость. Этот человек был полон joie de vivre[16] и бьющей через край энергии. Самовлюбленный, он носил экстравагантные костюмы и цветистые галстуки в романтическом стиле. Белокожий мужчина атлетического сложения с длинными руками и ногами был явно доволен собой. Его руки напоминали руки мясника или средневекового рыцаря, с детства обученного владеть огромным мечом; у него была мощная шея, бледное лицо, прекрасный нежный рот, серо-голубые глаза, полные щеки и едва намеченные брови, красноречиво и изящно выражавшие то веселую заинтересованность, то презрение, то восхищение. Он был уверен в своих чувствах и никогда не боялся их проявлять, будь то радостный хохот, вопли ярости, мрачное уныние или страсть к работе: одно сменяло другое совершенно естественно. Только когда он наблюдал или ждал, трудно было понять, что у него внутри, – он вдруг овладевал собой, закрывался, давая понять, что не позволит лезть к себе в душу.
Как-то Лэм в письме к Литтону Стрэчи процитировал одно из ярких стихотворений Бориса, на что 5 января 1911 года получил от Стрэчи ответ: “Цитата из Анрепа! Я подумал про себя (с некоторой злостью, но что поделать): «Так-так, посмотрим, на что в самом деле способен этот замечательный человек», а потом стал читать, и когда дочитал до конца, то распростерся у его ног. Храни нас Боже! Но не подправил ли ты у него кое-что? Хотя никакой правкой такого не добьешься. Он что, Достоевский? Или все русские обладают столь мощными способностями? Я ослеплен – и уничтожен – так это восхитительно. Орфография близка к гениальной[17]. Однако, полагаю, нам не следует продолжать это знакомство”.
Позже Лэм писал: “Когда-нибудь ты непременно должен познакомиться с Анрепом, хотя бы для того только, чтобы пережить ужас, узнав от него, как Нижинский пожимает руку”. На это Стрэчи ответил:
Я определенно мечтал об этом божественном мальчике для любовных утех, воображая его бесконечно изящным и утонченным, но, когда получил твою зарисовку, – mon dieu![18] – какая непомерная похотливость! Говоришь, Анреп с ним знаком? О! О! Быть знакомым с таким существом! Но неужели он действительно может так выглядеть?
Тридцатидвухлетний Стрэчи впервые встретился с двадцатидевятилетним Борисом в 1912 году. Питавший пристрастие к плотным молодым блондинам, Стрэчи влюбился в Бориса, которому забавно было обнаружить в себе подобие некоего ответного чувства, хотя любовь к женщинам всегда была в нем намного сильнее. Он никогда не мог удержаться от обращенных к дамам соблазнительных нежных речей и улыбок, от заинтересованного и оценивающего взгляда, говорящего о том, что он непременно дождется благоприятного момента и нанесет удар. Он был прирожденным совратителем и прирожденным тираном, жадным до всяческих удовольствий.
Вот что Стрэчи рассказывал Генри Лэму:
Вчера я послал тебе короткую записку – с намерением пощекотать твое любопытство по поводу Анрепа – я был прямо-таки ошеломлен! По какой-то причине мне он представлялся гораздо старше и суше. Когда он приехал в Трон-Холл [дом Оттолайн Моррелл на Бедфорд-сквер в Лондоне] (а я явился туда специально, чтобы его увидеть – он прибыл в Лондон вместе с женой на день-другой), я был ослеплен. Мне не удалось поговорить с ним с глазу на глаз, но ясно, что он совершенно божествен. Полагаю, отчасти тут дело в физическом здоровье, которое он излучает, но это далеко не все: его разум, похоже, наделен тем же качеством – или это его душа? Конечно, он много говорил… и вдруг прочел нам длинную лекцию о русской поэзии с древнейших времен и до наших дней, по ходу дела забравшись на стул. Мне понравилось ВСЁ, но я подумал, что, наверное, всего слишком много. Назавтра я встретился с ним в галерее Графтон, и он показывал мне русские картины, пускаясь в длинные объяснения. Это было весьма интересно, и я счел за честь быть его спутником. К несчастью, мерзкий Маккарти тоже был там – не отходил от нас ни на шаг, – поэтому мне так и не удалось поговорить с Анрепом с глазу на глаз. Думаю, я ему понравился. Он сказал, что удивился, когда увидел, что я… румянее, чем на твоем портрете. Вижу, что было бы практически невозможно что-то ему объяснить, но вижу также, что это не имеет никакого значения. При прощании он так божественно мило на меня посмотрел! Он уехал обратно в Париж. Блумсберийская братия отнеслась к нему отвратительно, включая, к сожалению, и Дункана [Гранта]. Похоже, их близорукость заразительна. Я не пишу о его картинах, выставленных в галерее Графтон, поскольку там были в основном те, что ты уже видел. Есть, правда, одна новая и в ином стиле – намного больше других и очень изящная, но на мой взгляд, слишком похожая на иллюстрации.
Двадцать третьего ноября 1912 года Лэм отвечал Стрэчи:
Я никак не ожидал, что ты будешь очарован им так быстро. Ура! Все эти годы только я и верил в его славу и принимал на себя груз его недостатков, но быть одиноким энтузиастом очень неудобно. Я боялся, что ты встретишь его в состоянии раздражения и станешь задирать нос, как наши друзья-блумс-берийцы.
Лэм, как и многие другие, часто менял свое отношение к Борису. Всего несколько месяцев спустя он писал Стрэчи: “Когда следующий раз увидишь Анрепа в одном из своих вонючих притонов, будь любезен, скажи ему от меня «Merde»[19]”.
Глава восьмая “Измы”
Сначала 1900‑х годов вплоть до Первой мировой войны художественная жизнь в Париже била ключом. Там публиковались такие эксцентричные писатели и поэты, как Пруст, Кокто, Стайн и Аполлинер. Сати писал музыку под названием “Хромая прелюдия для собаки” и “Пьесы в форме груши”, поражавшую и тревожившую слушателей своими диссонансами. Публику шокировали фовизм Матисса и Вламинка, кубизм Брака и Пикассо. Борис в те годы Пикассо обожал, хотя позже звал этого маленького, жесткого, черноглазого испанца, у которого никогда не было недостатка в новых идеях, шарлатаном. Гертруда Стайн, мудро предвидевшая мощь Пикассо и воздавшая ему должное за то, что он одним из первых понял разницу между веком девятнадцатым и двадцатым, писала: “Двадцатый век – это время, когда все ломается, уничтожается и разъединяется. Время, гораздо более значительное, чем те эпохи, когда все обстоит нормально и течет, повинуясь логике”.
В мировом искусстве того периода процветали всевозможные “измы”. Кроме кубизма и фовизма, были еще реализм и экспрессионизм, символизм и постсимволизм, импрессионизм и постимпрессионизм. Борис не был знаком с ведущими французскими художниками, но какой молодой человек, вырвавшись из косной, душной атмосферы Петербурга, смог бы устоять перед той стихией художественной игры, которая захватила в те годы парижские кафе и студии? Жизнерадостной, свободолюбивой и анархической натуре Бориса атмосфера Франции глубоко импонировала.
Появление русского балета подарило Европе новый предмет восхищения. И Борис, полагавший, что отечественный балет годен только для старых генералов и маленьких детей, был, наверное, рад его успеху, хотя личные его пристрастия были отданы Айседоре Дункан с ее свободными и простыми неогреческими импровизациями.
Премьера в 1913 году балета Стравинского “Весна священная” с участием Нижинского вызвала невероятный скандал. В театре на Елисейских полях музыку освистали с первых же аккордов, и тогда французский импресарио Астрюк наклонился над залом из своей ложи и, грозя кулаком, закричал публике: “Сначала послушайте – потом свистите!” После этого господа и дамы во фраках и вечерних туалетах принялись тузить друг друга. Одни балет защищали, другие проклинали, действие же между тем продолжалось, утопая в страшном реве. Эта сцена, наверное, позабавила бы Бориса, случись ему присутствовать в театре. Яркое оформление других балетов, выполненное Бакстом и, по словам Кокто, “забрызгавшее красками весь Париж”, несомненно, было оценено Борисом по достоинству.
Леон Бакст, чей нос Стравинский сравнивал с носом комедийной маски венецианского карнавала, был русский еврей. Со свойственным ему лукавым юмором Борис рассказывал историю женитьбы Бакста. Для того чтобы поселиться в Москве или в Петербурге, еврей Бакст женился на богатой русской даме и крестился. Но к христианству он хотел приобщиться в самой минимальной степени, поэтому сначала явился в Британское посольство в расчете сделаться протестантом. К сожалению, капеллана на месте не оказалось, и Баксту пришлось принять православие. После чего он пришел к раввину.
– Понимаю, что должен быть ненавистен вам за то, что совершил, – сказал он, – и, быть может, вы не пожелаете со мной говорить, но я хочу задать вам лишь один вопрос.
– Спрашивай.
– Когда я умру, я попаду в еврейский или православный ад?
– Твоя мать была еврейка?
– Да, моя мать была еврейка.
– Значит, ты попадешь в еврейский ад.
Бакст был счастлив. Для него не имело значения, что происходит сейчас, но вот что будет с ним за гробом, волновало его чрезвычайно.
Борис получал странное удовольствие, повествуя о подпорченной репутации христианина Бакста, но вместе с тем испытывал своеобразное уважение к умению этого человека преодолевать препятствия, вызванные его национальной отверженностью.
Оторвавшись от русского общества, Борис обрел в Париже новые стимулы для своих честолюбивых планов.
Его целью было искусство в широком смысле – картины и стихи. Поэтому в 1912 году, по своей склонности к “духовным абстракциям” и символизму, Борис вернулся к изучению искусства Византии и одного из его главных направлений – мозаики. Пьер Руа, с которым он обсуждал свои устремления, предложил ему отправиться на парижскую фабрику Эбеля и изучить там технологию создания мозаик.
Талант и способности Бориса поддержал Роджер Фрай, признанный авторитет в художественных кругах, автор журнала “Берлингтон Мэгэзин”. Фрай пригласил Бориса участвовать в организации русского раздела Второй выставки художников-постимпрессионистов в галерее Графтон, и Борис поехал в Москву и Петербург отбирать картины. Там он столкнулся с трудностями, так как довольно быстро понял, что в России никаких постимпрессионистов попросту нет. Однако он все же отобрал работы Ларионова, Гончаровой, Стеллецкого, Рериха и Головина, добавив к ним шесть собственных произведений. К несчастью, картины Ларионова и Гончаровой прибыли уже после открытия выставки, и Фрай был разочарован отсутствием русской живописи, выполненной в современном стиле.
Вот отрывок из написанного Борисом “Введения” к выставочному каталогу, где говорится о работах русского раздела:
Русская духовная культура сформировалась на основе смешения ее исконного славянского характера и византийской культуры, а также культур различных азиатских народностей. В более поздние времена заметное влияние на русскую жизнь оказала Европа, однако она не захватила русского сердца, в котором по-прежнему струится восточная, славянская кровь. Одной из особенностей восточного искусства является склонность к декоративности в трактовке натуры, ее идеографическому изображению и оригинальному рисунку. Романское и готическое искусство Западной Европы имеет во многом сходный характер, однако европейское искусство тяготело к натурализму, русское же настойчиво придерживалось древних традиций. Влияние Византии имело огромное значение для России, ибо оттуда пришел свет христианства. Вместе с религиозными верованиями и обрядами в русскую жизнь вошли византийские символические изображения Божественного, реализованные в образах, именуемых “иконами” и созданных для религиозных целей. Каноны древней иконописи оставались единственным в стране живописным языком до конца семнадцатого века, а само искусство носило исключительно религиозный характер и регламентировалось особыми правилами. В восемнадцатом веке русские живописные формы испытывают на себе сильное европейское влияние и с тех пор начинают следовать европейским идеалам. В настоящее время западное влияние рассматривается людьми, приверженными национальной идее, как несовместимое с глубинными устремлениями русской души. Художники, исполненные восхищения перед красотой и выразительностью древнерусского искусства, видят свою цель в том, чтобы его продолжить, минуя западное влияние, которое считается чужеродным и губительным для расцвета восточных мотивов в русском искусстве. Главной отличительной чертой их собственного творчества является декоративная и символическая трактовка природы в сочетании с оригинальными цветовыми решениями, что, как им кажется, в наибольшей мере отвечает их русской душе. Только последние пятнадцать лет видные художники работают над возрождением национального искусства. Ближе всего к древним формам подходит г‑н Стеллецкий. Его произведения – это не копии икон, а результат исчерпывающего знания всех тех возможностей, которые дает древнее искусство; он использует древний алфавит, лучшее средство, считает он, для проявления своего художественного воображения. Граф Комаровский обладает не меньшим талантом, но его краски и формы нежнее и чувствительнее. Г‑н Рерих принадлежит той же новой “византийской” группе, хотя полностью не принимает иконные формы. Возможно, воплощая в своей оригинальной манере суть русского религиозного и фантастического духа, он добился успеха более других. Воображение уносит его все дальше к заре русской жизни, и он передает эмоциональное ощущение доисторических славянских язычников.
Г‑жа Гончарова не воспроизводит в своем искусстве силу и декоративно-каллиграфические качества иконописи, но она стремится к истинному изображению древнего русского Бога, которого считает своим, и Его святых. Поэтому сладость, нежность, радость и чувственность так же далеки от ее искусства, как далеки они от русского понимания Божественного. Ее святые непреклонны, суровы и строги, тверды и ожесточенны. Возрождение русского национального искусства пробудило у некоторых художников интерес к современному народному искусству, искусству необразованного люда, рисующего для собственного удовольствия и таким образом раскрывающего свой простой, свежий и наивный дух. Эти художники приобщились к народному искусству и испытывают радость от его искренней прямоты. Их творчество приветствуется как противовес слишком изысканным и изнеженным вкусам влиятельной группы эстетствующих “гурманов” Петербурга. Во главе таких “примитивистов” стоит г‑н Ларионов.
Этот отрывок позволяет понять творческую направленность самого Бориса, показывает, насколько глубоко повлияли на него иконы и формы культа, принятые в его стране, хотя он и не принадлежал Православной Церкви. Нас трогает то, как много для Бориса значила эта аморфная субстанция, русская душа. Ни один англичанин никогда бы не стал говорить в подобных выражениях о душе своего народа, даже о самой возможности народа иметь такую общую для всех сущность. Ближе всего к столь примитивному ощущению понятного, но бессознательного явления, называемого “душа”, стоит национализм, который, впрочем, есть нечто совсем иное.
На выставке были представлены следующие шесть работ Анрепа:
1. Аллегорическая композиция (из собрания леди Оттолайн Моррелл).
2. L’Arbre Sacre[20] (из собрания леди Оттолайн Моррелл).
3. Запустение.
4. L’Homme construisant un puits pour désaltérer de bétail[21].
5. Проект стенного украшения.
6. Физа, играющий на арфе.
Выставка, как всегда, вызвала ожесточенные споры. Франсес Сполдинг пишет в биографии Роджера Фрая, что сильнее осуждения работы Уиндема Льюиса[22] были только презрение и непонимание, предназначенные для кубизма Пикассо: “Однако шок, ужас и смятение, вызванные этой выставкой, не помешали ее финансовому успеху”.
Финансовый успех, правда, не коснулся Бориса. Мне не удалось разыскать ни одной из выставленных им картин, хотя должна существовать акварель, перешедшая по наследству внуку Оттолайн Моррелл.
Глава девятая Друзья в Париже и Лондоне
Крепла дружба Бориса с Пьером Руа. За годы их знакомства Борис купил или получил от художника в подарок шесть живописных полотен, среди которых собственный портрет маслом, написанный около 1909 года. Это большая картина, размером в один квадратный метр, на которой Анреп-поэт изображен в несколько неряшливом лавровом венке. На Борисе, сидящем, свободно откинувшись, в плетеном кресле, белый шелковый шарф, завязанный на груди бантом. Из-под сложенных крупных рук выглядывает красная “Книга Анрепа”. Картина написана в смелой, свободной и гораздо более раскованной манере, чем последующие работы Руа, выполненные в сюрреалистическом стиле. В лице заметна присущая Борису нервная энергия и решимость в странном соединении с немного скептической ухмылкой.
“Книга Анрепа” представляет собой поэму, снабженную иллюстрациями в виде акварелей с причудливыми узорами и картинками; стихи же звучат весьма своеобразно – английским автор владел далеко не в совершенстве. Поэма была опубликована в сентябре 1913 года лондонским книжным магазином “Поэтри букшоп” в своем ежеквартальном журнале “Поэзия и драма” (“Poetry and Drama”) с черно-белыми гравюрами на дереве. Первоначальный вариант с цветными иллюстрациями, расположенными посреди и вокруг текста, был гораздо более впечатляющим. Они были замечательны своей яркостью, страстностью и великолепием.
Пьер Руа. Портрет Бориса Анрепа, ок. 1909 года.
Появление гравюр объясняется в небольшой заметке, написанной главным редактором Харолдом Манроу:
Мы публикуем стихотворение под названием “Предисловие к «Книге Анрепа»” и в данном случае отступаем от наших обычных принципов, предлагая его читателю в иллюстрированном виде. Это сделано по настойчивому желанию автора, который хочет сохранить в издании своей работы единство идеи, присущей общему замыслу и имеющей как литературную, так и пластическую природу. Со своей стороны, мы рассматриваем это стихотворение как произведение самодостаточное и при обычном течении дел издали бы его без каких-либо иллюстраций. Автор, однако, в данном вопросе остался непреклонен, поэтому мы, решив не отказываться от возможности познакомить читателей с книгой, подчинились его желанию.
Цитировавшиеся выше стихи Бориса, весьма странные и витиеватые, должно быть, поразили редактора до такой степени, что он отважился их напечатать. Решение Манроу было для Бориса очень важным. В том же номере журнала мы встречаем имена Эдварда Томаса, Ласселлса Аберкромби, Эрнеста Риса, рецензии на стихи Элис Менелл, “Павлиний пирог” Де Ла Мара и “Золотой путь в Самарканд” Флеккера.
Отношения между Борисом и Юнией становились все более натянутыми, и летом 1912 года Юния уехала в свое минское имение, Борису же было приказано принять участие в военных маневрах неподалеку от Петербурга. Там он и получил письмо от Хелен с сообщением, что она ждет ребенка. Через два месяца Борис и Юния вернулись в Париж, но Хелен там уже не было. Госпожа Мейтленд, возмущенная случившимся с дочерью, увезла ее в Лондон и поместила в монастырь “Голубых сестер” в районе Патни. Там обычно принимали незамужних беременных женщин.
Борис как раз был занят подбором русских картин для Второй выставки постимпрессионистов. Он забрал Хелен у монашек, отвез назад в Париж и поселил в маленькой комнате, расположенной над студией. Перед ним был пример Огастеса Джона, чьи жены, любовницы и дети часто жили одной семьей.
Смена любовниц и любовников, несомненно, представляла собой занятные хитросплетения в этом богемном мире. Генри Лэм жонглировал своими дамами, как заправский фокусник. У его жены Юфимии уже был роман с Огастесом, когда сам Лэм влюбился в жену Огастеса Дорелию, и их отношения длились, между прочим, более двадцати лет. Через некоторое время у Огастеса начался роман с леди Оттолайн Моррелл, которая потом перешла к Лэму, а тот между тем переживал агонию в отношениях с Хелен Мейтленд. Борис влюбился в Хелен, переключившуюся, в свою очередь, с Лэма на русского. И Хелен, и Оттолайн были в восторге от талантов Лэма, но страдали от его безобразного характера и, судя по всему, не могли вынести его ядовитого языка. Единственным выходом для обеих было найти других любовников.
Вплоть до 1914 года Лэм постоянно присутствовал в светской жизни Бориса. Именно он познакомил Бориса с Огастесом и кружком, сформировавшимся вокруг семейства Джона в Челси, а также с Литтоном Стрэчи и блумсберийцами, среди которых были сестры Вирджиния и Ваннесса Стивен, Роджер Фрай, Дункан Грант, Дезмонд Маккарти и Мейнард Кейнс.
В Челси женщины играли вспомогательную, подчиненную роль, они нужны были лишь как сексуальные партнерши, участницы светской жизни и домохозяйки. В Блумсбери же женщины занимались собственным делом, и им не нужно было греться в лучах славы своих мужчин.
В понимании Бориса, пальма первенства, несомненно, принадлежала мужчинам, поэтому и в эмоциональном, и в интеллектуальном плане он был ближе к кружку в Челси. И все-таки, несмотря на соперничество этих молодых художников и их женщин, кажется, вражда между ними постепенно проходила, и со временем все становились более покладистыми, не испытывая уже ни особой злобы, ни убийственной ревности.
Возможно, Юния не была в восторге от приезда Хелен и ménage à trois, но вела она себя благородно. Тот факт, что сама она была бесплодной, наверное, объясняет ее примирение со сложившейся ситуацией.
Я всегда чувствовала, как удивительно добра была ко мне Юния, позволившая мне жить вместе с ними, – писала Хелен, – но, насколько я знаю, моя мать прочитала ей длинную и страстную лекцию, призывая немедленно уйти из семьи. У Юнии никогда не было детей, и ей очень хотелось считаться матерью моего ребенка, но я даже слышать об этом не могла, и вскоре у меня родилась дочь.
Борис писал Хелен из Петербурга, что отправляет в Лондон семьдесят живописных работ и рисунков и что в воскресенье он будет, возможно, играть в теннис. “Я люблю тебя. Мучаю кошку. Ненавижу свою работу. Люблю тебя ОЧЕНЬ. Поцелуй Юнию и ребенка”.
Женщины ладили между собой неплохо. Хелен вообще была человеком отзывчивым и всегда проявляла сочувствие к другим, стоило кому-то чихнуть или пожаловаться на головную боль. Она многих согрела своим добрым сердцем.
Когда в декабре 1912 года родилась Анастасия, Борис в письме сообщил об этом отцу. Ответа не последовало, но деньги продолжали поступать, как и раньше. Помощь отца была весьма существенной для Бориса, поскольку теперь ему приходилось содержать двух женщин и ребенка, а кроме того, платить за обучение в Академи Жюльен, куда он продолжал ходить параллельно с работой на фабрике Эбеля.
В это время он был чрезвычайно увлечен мозаикой. Этот вид искусства как раз соответствовал творческим амбициям человека, понимавшего, что ему хорошо дается дизайн, и стремившегося создавать масштабные произведения. Мозаика требовала также от художника физической силы, проявление которой было для Бориса естественно и даже приятно. На фабрике он сделал три мозаичных плиты, которые, как он признался позже, были “подражательными и примитивными”.
По протекции Огастеса в октябре 1913 года состоялась персональная выставка Анрепа в галерее “Ченил” в Челси. Здесь были выставлены рисунки, акварели, гуаши, три панели мозаики и две вышивки, созданные по рисунку художника Юнией фон Анреп. Также была выставлена рукопись “Предисловия к «Книге Анрепа»” в кожаном переплете, оцененная в 100 фунтов. Предисловие к каталогу написал Роджер Фрай, что говорило о многом, ибо Фрай, являясь весьма влиятельным художественным критиком, был придирчив в своих оценках и никогда не хвалил работы только потому, что это работы друзей или знакомых.
Борис Анреп – это русский художник, который работает в Париже, – писал Роджер Фрай. – С Востока он несет нам осознание своей духовной жизни, выраженное гораздо ярче и точнее, чем принято у людей западной цивилизации. По темпераменту и склонностям он символист. Но если бы он был замечателен только этим, вряд ли его творчество произвело бы на нас впечатление. Его знакомство с жизнью и искусством Запада научило его делать символ выразительным независимо от того, что этот символ обозначает. Для него это символ, для остальных – выразительная форма. Символизм Анрепа есть ядро, вокруг которого, как кристаллы, вырастают художественные образы, ядро, являющееся стимулом его творческих усилий. Начинает он с идей, которые могут быть выражены словами (как часто и случается, потому что Анреп – поэт, пишущий и по-английски, и по-русски); но когда он берется за художественное изображение, то переходит от идей в ту область, где их точный смысл оказывается не важным. По своей сути, Анреп – художник. Сосуществование в одном человеке художника и символиста мы наблюдаем не так часто – чаще символизм искажает и портит искусство. Я не утверждаю, что в творчестве фон Анрепа символизм и искусство всегда совместимы. Временами я замечаю голову или руку, написанные чересчур экспрессивно или слишком подробно, чтобы стать естественной частью картины как единого целого, но художник может с поразительной силой преобразовывать ощущения своего религиозного опыта в зримые формы.
Большинство современных художников черпают вдохновение из созерцания внешних явлений. Фон Анреп, как мне кажется, – из движений своей внутренней жизни. Среди английских художников мы можем заметить нечто подобное у Блейка, и посетитель выставки наверняка вспомнит этого художника, но не столько из‑за формального сходства, сколько благодаря несомненно схожим методам. Конечно, такая манера сопряжена с определенными опасностями, но имеет также и ряд преимуществ. Среди последних мы отмечаем отсутствие суетной натуралистической мелочности, оказавшейся столь губительной для большей части современного искусства. Увлеченный своими видениями, фон Анреп обычно лишь в общих чертах намечает движение фигуры. Он видит фигуры как целостные, самодостаточные, объемные элементы общего рисунка; они становятся выражением единого, легко воспринимаемого ритма; более того, художник с поразительной легкостью улавливает отношения элементов между собой. Во многих его работах все сводится к решению отношений между двумя единицами движения. Возможно, кому-то такая задача покажется простой, однако художники заметят, как ярко демонстрирует фон Анреп свое умение ее разрешить. Он делает это снова и снова, не впадая, впрочем, в однообразие и без видимого напряжения, которые могли бы быть сопряжены с его новаторским подходом.
Следует отметить еще одну поразительную особенность, а именно редкую чувствительность фон Анрепа к материальной красоте своих произведений. Стремясь выразить свои ощущения, он в совершенстве овладел некоторыми техническими приемами, рождающими оригинальную манеру – особый стиль картин, выполненных гуашью, совершенно новое и замечательное владение китайской тушью, сочетающее в себе туманное изящество рисунка размывкой с некой плотностью и обстоятельностью, присущей работам, выполненным маслом, наконец, мозаичные произведения, при создании которых использовались три различные техники. В современном искусстве редко встретишь такое ценное качество. Художники в большинстве случаев вполне довольствуются вторичной красотой, производной от привычных им средств, и не придают большого значения технической изобретательности. Такое обращение с материалом, какое мы наблюдаем у фон Анрепа, свидетельствует о религиозности художника, и еще в большей мере оно характеризует религиозное искусство Востока, Византии и Китая. Оригинальность работ фон Анрепа, таким образом, представляется нам прямым следствием его темперамента и национальной принадлежности.
Связи с блумсберийцами становились теснее, и в 1913 году Борис и Стрэчи общались все с возрастающим удовольствием. В июне Стрэчи писал Лэму: “Незапланированный ленч с Анрепом – пышущим здоровьем и излучающим радость жизни, как никогда. Весьма мил и обаятелен – и совсем не скучен”.
В июле Стрэчи вновь пишет Лэму из дома Леонарда Вулфа в графстве Суссекс и повествует о светском водовороте, в котором кружился.
Итак, поскольку пишу тебе наспех, попробую предложить твоему вниманию главу “Об Анрепе”, которой, по совести, следовало бы занять страниц сорок ин-фолио. Он появился в моем “тире” [лондонская квартира Стрэчи] в десять утра в прошлый вторник. Я принял его, лёжа в постели. Он сразу же начал говорить о тебе и об искусстве, и так продолжалось до часу дня. Но к этому времени мы уже были в районе Мекленбург-сквера – он заставил меня встать, одеться и отправиться туда вместе с ним на втором этаже автобуса – причем поток его речей ни на секунду не прекращался. Mon dieu![23] Временами я испытывал ужасную усталость; но постепенно стало полегче. Он сказал, что собирается написать тебе – интересно, написал ли? Просил, чтобы и я тоже отправил тебе письмо и изложил все им сказанное. Я согласился, оговорив, впрочем, что добавлю к его словам собственные комментарии. Все его обвинения вкратце сводятся к тому, что ты не являешься П-И [постимпрессионистом] в полной мере. Таков был итог его рассуждений, и хотя я слушал очень внимательно, никакого смысла во всем этом не уловил. Большая часть его разглагольствований показалась мне не относящейся к делу. Кажется, он полагает, что хорошо писать можно только в одной манере – византийско-иконного постимпрессионизма, а поскольку в твоем творчестве ничто не свидетельствует о выборе именно этого пути (особенно в портрете Кеннеди), ты находишься в опасном положении. Рассуждая об искусстве вообще, он говорил много ерунды в духе Роджера, Клаттона и Брока, которую конечно же я знаю наизусть, чем привел меня в сильное раздражение. Какой это ограниченный, холодный, невеселый, доктринерский взгляд! В своем недовольстве я мысленно награждал его всеми этими эпитетами, но недолго, потому что было бы нелепо на самом деле считать его таким человеком. С ним очень трудно спорить, и мне пришлось довольствоваться лишь злобными выражениями несогласия, время от времени прерывая его речь, – но я вложил в них как можно больше яду. Возможно, мое поведение было слишком вольным, но как иначе заставить его тебя заметить? Анреп, однако, был удивительно мил. В конце концов, сидя в автобусе, он, кажется, отказался от большей части всех этих глупостей и стал говорить о значении страсти, утверждая, что художник должен писать со страстью. Я согласился, но никак не мог заставить его понять, что трудность-то как раз и состоит в том, КАК эту страсть выразить. Заключил он тем, что я должен передать тебе от его имени, чтобы ты верил в страсть. Да, но mefìe-toi de la passion facile![24]
Не знаю, передал ли я тебе все мои ощущения в полной мере, гораздо легче было бы изложить их в личной беседе, но, думаю, тут нет ничего для тебя нового. В тот же день я вновь встретился с Анрепом в Трон-Холле, и на этот раз он с большим удовольствием обсуждал МЕНЯ, утверждая, что мое призвание – стать эссеистом, а потом объяснил мне, кто такой эссеист. Оказалось, его очень приятно дразнить. Не ты ли говорил, что дразнить его невозможно? Что касается его физической привлекательности, то я не увидел даже ее тени. ПОТОМ наконец он дал мне свое стихотворение, я прочел его, и мы расстались. На следующий день я написал ему длинное письмо с критическим разбором этого стихотворения. Надеюсь, оно было не слишком злым. Но я решил, что пора ему понять, что, каким бы ни было его творение, оно написано не на английском языке. Именно так я ему и сказал.
На этом главу “Об Анрепе” кончаю. Глава “О Джоне” будет короче. Этот негодный тип так и не пришел в тот вечер в “Кафе-рояль”! Я ждал, ждал – и все зря. Поев, я отправился в Трон-Холл и, как оказалось, попал прямо в разгар обеда – перед моими глазами предстали ослепительные Нортон, Вулфы, Каннаны, Анреп и княгиня Апраксина. Потом Оттолайн сообщила, что днем, вызванная телеграммой, была у Джона, который сказал, что не может меня видеть.
Осенью Литтон Стрэчи провел целый день с Борисом, блуждая по Лондону, виделся с ним и на следующий день. В ноябре он спрашивал в письме, что стало с человеком, который поклялся прийти к нему в гости – и не пришел. В декабре, пытаясь совладать со своей влюбленностью, Литтон писал Лэму: “Надеюсь, ты УЖАСНО СТРАДАЕШЬ из‑за Анрепа”.
Сам Литтон так или иначе страдал.
Глава десятая Возрождение мозаики
Нисколько не удивительно, что Роджер Фрай постоянно подчеркивал религиозный характер творчества Бориса. Хотя русский вырос человеком, как он сам писал, “абсолютно неверующим”, его мать, соблюдавшая необходимые условности, позаботилась о том, чтобы в детстве он придерживался традиций Православной Церкви, – так мальчик усвоил основы христианства. “Слушаю с благоговением и музыкальным удовольствием церковное пение и восхищаюсь пасхальной обедней”, – писал Борис. В молодости он увлекался национальным язычеством – подобные настроения были в ту пору распространены среди многих европейских интеллектуалов. В Ирландии Уильям Батлер Йейтс и леди Грегори обратились к далекому прошлому кельтов; в Англии стали поклоняться Пану, а Клиффорд и Арнольд Бакс писали стихи и музыку, призывая вернуться к естественной жизни; во Франции поднялась волна увлечения африканским искусством, на гребне которой возвышались Пикассо и Модильяни; в России же интерес к древним языческим ритуалам выразился в первую очередь в балете Стравинского “Весна священная” с декорациями Рериха.
В 1913 году Оттолайн Моррелл пригласила Бориса на чай, куда также был приглашен и Нижинский, и она вспоминает, что эти двое проговорили несколько часов кряду о древнерусской мифологии и религии. Их обоих явно увлекала тема страха и религиозного экстаза на грани безумия.
Мода на подобную тематику проявлялась у Бориса скорее в поэзии, чем в изобразительном искусстве, хотя первая заказанная ему мозаика выполнена в подчеркнуто примитивном стиле. Для своих ранних мозаичных панелей, выставленных в галерее “Ченил”, он использовал различные технологии, которым обучился в Париже. Во-первых, это был “прямой” способ, когда камни вдавливаются во влажный цемент, штукатурку или другой затвердевающий материал, даже грязь. Во-вторых, “обратный” способ, когда на листах плотной бумаги или льняном полотне создается рисунок, который раскрашивается зеркальным образом. Такая заготовка называется “картон”. Затем выбираются камни нужного размера и цвета и приклеиваются на картон лицевой стороной вниз с помощью гуммиарабика (смешанного с соленой горячей водой, разлитой перед использованием в бутылки). Потом на место, где предполагается поместить мозаику, наносится цементная основа, и, если необходимо, для крепости внутрь ее укладывается мелкая проволочная сетка. Когда верхний слой цемента затвердевает до нужной консистенции, на него под давлением укладывается мозаика бумажной стороной вверх, которая затвердевает вместе с цементом. Когда все засыхает, бумага намачивается, а затем смывается, оставляя мозаичную картину.
Три мозаики, которые Борис выставил в галерее “Ченил”, назывались “Хозяйка дома” (40 фунтов), “Дух рассуж-дения” (35 фунтов) и “Труженик” (25 фунтов).
В кратком постскриптуме к каталогу Борис писал:
Выставленные мозаики представляют собой попытку возродить мозаичное искусство, которое было полностью забыто. С его помощью люди умели создавать божественные символы христианства, величайшие и вечные. В наше время искусство это выродилось, с одной стороны, во флорентийские сувениры для дамских будуаров, с другой – в безжизненные имитации академической живописи.
Современные мозаичисты совершенно не осведомлены об истинных принципах своего искусства. Вместо того чтобы добиваться художественного результата, основываясь на природе материала, с которым они работают, они заставляют камень противоестественным образом уподобляться инородному и чуждому искусству, которое сводит на нет всю первоначальную силу и выразительность мозаики, подменяя ее строгий, пророческий язык банальным и скучным рифмоплетством.
Неизвестно, были ли те три мозаичные плиты, что Борис представил в галерее “Ченил”, а впоследствии назвал “подражательными и примитивными”, сделаны на фабрике Эбеля, однако они положили начало делу всей его жизни и сразу же принесли доход. Одну купил Огастес Джон. Кроме того, на выставку пришел господин Сиорде, представлявший одну из галерей на Бонд-стрит и рекомендовавший Эрика Гилла для работы в Вестминстерском соборе, где тот выполнил резные изображения остановок Христа на крестном пути. Заинтересовавшись мозаиками Бориса, Сиорде познакомил его с архитектором собора и предложил Борису работу в капелле склепа.
В отделке интерьеров этого католического собора, построенного Дж. Ф. Бентли в 1895–1903 годах на месте Брайдуеллского исправительного дома, должны были, по замыслу архитектора, использоваться мозаика и мрамор. Это было огромное здание в византийско-итальянском стиле с круглыми арками. Пока собор стоял без украшений, его темные кирпичные стены поражали своей таинственной и зловещей красотой. Теперь, когда он уже отделан большими плитами узорчатого и цветного мрамора, мозаичными библейскими историями, выполненными руками многих мастеров, включая Анрепа, атмосфера в нем праздничная, радостная, величественная. Но можно отметить и отсутствие стройности, присущее многим итальянским церквам.
Первый заказ, выполненный Борисом и скрытый от глаз большинства прихожан в соборном склепе, – это мозаика, покрывающая верхнюю часть небольшой арки над гробницей кардинала. По обеим сторонам парят серафимы, напоминающие зеленых гарпий, почти бестелесные и покрытые перьями, причем у каждой фигуры по четыре крыла. В центре помещена грубо прорисованная книга, разделенная на четыре квадрата, которые символизируют четыре евангелия. Кардиналы остались недовольны мозаикой, так как посчитали ее слишком архаичной. Других украшений в капелле нет. Чтобы посмотреть на эту работу, в Лондон приехал Стеллецкий, но большого впечатления она на него не произвела. Гонорар едва покрыл издержки, и вся эта история вызвала разочарование как у Бориса, так и у его предполагаемых почитателей. Хотя Борис и не свернул с намеченного пути, но, должно быть, суровая критика Стеллецкого нанесла серьезный удар по его самолюбию.
Между тем Оттолайн Моррелл увлеченно рекомендовала новоявленного мозаичиста своим знакомым. О приехавшем из Парижа Борисе она писала как о человеке “умном, толстом, добродушном, чувственном и в то же время полном молодой жизненной силы и русского веселья”. Энергия и энтузиазм были присущи Борису всю жизнь. Оттолайн рекомендовала его богатой, некрасивой и обаятельной Этель Сэндз, которая в то время строила себе дом на улице Вейл в Челси. Сэндз попросила Сиккерта[25] написать для столовой серию больших картин на музыкальную тему, а Бориса – сделать мозаичный пол в холле. Сиккерт не взялся за этот заказ, и столовую украсил Дункан Грант. За пол Борису предложили 60 фунтов стерлингов. Поразившись такой ничтожной плате, Борис все же принял предложение, зная, что у Сэндз бывают богатые люди, понимающие толк в искусстве. Затем Борис отправился на мозаичную фабрику господина Раста в лондонском районе Бэттерси и попросил разрешения выполнить заказ там. Господин Раст дал согласие, отметив, что дама удачно пошутила, предложив шестьдесят фунтов за такую работу. Эту историю Борис поведал Литтону Стрэчи, и тот написал Этель Сэндз письмо, в результате чего плата поднялась до восьмидесяти фунтов.
Уэнди Бартон пишет, что работы Анрепа не были тогда никому известны, и это стало “первой для него серьезной попыткой создать мозаичное произведение, которыми он так прославился позже, после войны”. В 1914 году Генри Джеймс говорил о “некоем домашнем Сан-Марко”, создаваемом Этель Сэндз, что недвусмысленно указывает на мозаичный пол в холле.
В это время Борис жил в маленькой комнате на Полтонз-сквер и каждый день ходил на другую сторону Темзы в Бэттерси, чтобы работать над мозаичным украшением пола для дома номер 15 по улице Вейл. На темном фоне Борис изобразил крупные фигуры византийского типа в стилизованных позах, стоящие или сидящие, как на светском приеме. Знатные особы беседуют между собой, сидя с бокалами на скамьях; красные, желтые, зеленые, белые полосы на их платьях подчеркивают складки одежд. Аристократ держит кубок; у молодого слуги в одной руке корзина, а на ладони другой, поднятой над плечом, блюдо с едой. Жонглер подбрасывает мячи, развлекая компанию. Пальцы у мужчин и у женщин вытянуты либо угловато согнуты, а выразительные восточные глаза внимательно смотрят на ноги тех, кто проходит по холлу. Смелость и оригинальность цвета и композиции, ощущение радости жизни делают эту мозаику одной из самых удачных напольных мозаик на Британских островах.
Для Бориса жизнь в Лондоне была отнюдь не скучной. В районе Хэмпстед[26] под крышей одного паба у Генри Лэма была мастерская, выходящая окнами на пруд в долине Хит и состоящая из нескольких комнат, где Борис тоже некоторое время работал, хотя, в отличие от Лэма, никогда не ночевал. Случалось, Дорелия Джон, устав от сексуальной и алкогольной невоздержанности мужа, приезжала к Лэму, чтобы утешиться и отомстить. Однажды, когда она покидала мастерскую, Борис предложил проводить ее домой в Челси, поскольку сам возвращался туда же, к себе на Полтонз-сквер. Они наняли двухколесный экипаж и, проехав десять или более миль на юг, добрались до Мэллорд-стрит уже поздно ночью. Борис остановил кучера, они вышли и сразу же столкнулись с Джоном, который, увидев свою жену в сопровождении Бориса, недолго думая, набросился на того с кулаками. Борис ответил ударом на удар, и началась отчаянная потасовка. Дорелия поспешила вмешаться, пытаясь убедить Джона, что Борис всего лишь провожал ее домой. С улыбкой она взяла мужа под руку одной рукой, Бориса – другой, и они, радостные, все вместе вошли в дом, где Огастес уговорил Бориса распить бутылочку вина. Эта драка, наверное, послужила источником слухов о том, что Анреп – единственный человек в Лондоне, который может дать отпор Джону.
Литтон Стрэчи, безусловно, слушал эту историю с чрезвычайным интересом, как и другие истории о ночных богемных сборищах в мастерской на Мэллорд-стрит, в которых Борис принимал самое активное участие.
Пока Борис старался занять подобающее место среди людей своей профессии, Хелен и Юния жили в парижской студии, волей-неволей довольствуясь компанией друг друга. Борис бывал в Париже только наездами. Хелен пишет, что во время одного бурного семейного воссоединения в ноябре 1913 года она зачала второго ребенка.
Казалась неизбежной война с Германией, поэтому Хелен перебралась из Парижа в Экиен, деревню на северном берегу Франции, неподалеку от Булони. Вероятно, ей, кроме всего прочего, хотелось укрыться от упреков матери, поскольку Луиза Мейтленд наверняка была в негодовании от этой второй безответственной беременности. Но что еще важнее, Борис мог приезжать к ней, пересекая Ла-Манш, на выходные дни.
Экиен – это рыбачья деревушка, где в 1907 году некоторое время прожил Огастес Джон, увлеченно писавший рыбачек. Дорелия же с четырьмя детьми устраивались среди песчаных дюн, по которым, как заметил Джон, детям было удобно и безопасно ползать. Берег за деревней был каменистый и крутой, с широкой полосой песчаного пляжа, усеянного ракушками, к западу поднимались дюны. Возможно, рекомендация Джона как раз и повлияла на выбор Дорелией этого чудесного места.
Десятого июля 1914 года в фермерском доме, где Хелен жила с дочерью Анастасией, родился сын Игорь-Ярослав. Борис, обнаруживая совершеннейшую эгоистичность и невнимание к женщине, живущей с новорожденным младенцем и полуторагодовалой дочерью в убогой обстановке французской фермы, прислал ей письмо с описаниями своей лондонской светской жизни[27]:
Дорогая моя Хелен!
Наконец я вижу сына. Благодарю тебя за длинные письма, но, думаю, они чересчур длинны и, боюсь, тебе тяжело их писать, да и скучно. Пиши открытки, их вполне достаточно, чтобы я пребывал в хорошем настроении. Вчера вечером я был у л. О. [леди Оттолайн] дома. Я пришел очень поздно и ушел очень рано нарочно, чтобы показать, что я не тряпка. Там был старина Аскит, и мы с ним побеседовали, он смешной старик, но очень мил и хороших манер. Было много разного народу, но не знаю, что о них сказать, разве только то, что они стояли и дышали. Мисс Моррис, танцовщица, была, пожалуй, самой красивой, потому что под одеждой у нее не было надето нижнего белья. Нэнси, конечно, не пришла. Боюсь, она задирает нос перед л. Оттолайн и больше я ее не увижу.
Рад, что тебе понравился доктор. Я служу почтальоном у Г. Лэма и Дорелии. Почему-то он решил, что Джон перехватывает его письма. Здесь был Стрэчи и Роберт Росс и другие мерзавцы. Как ты себя чувствуешь, любовь моя? Приехала ли Юния? Уоррен пристает ко мне с лекцией, и, возможно, я ее прочитаю. Не знаю, прибыла ли мозаика, полагаю, что нет, но я ею доволен. Мозаика в соборе определенно не удается, и это меня беспокоит, потому что когда я работаю, то все время думаю, как сделать что-то хорошее и никого не шокировать.
До свидания, моя любовь. Да, Поппет и Эд [Поппет Джон трех лет и Эди Макнил, ее тетка] приехали, и я их видел.
С любовью к тебе и семье,
моя дорогая, дорогая жена,
твой Борис. Заплати ей [?] 100 франков, конечно, но отдай сотню перед отъездом из дома.Хелен отплыла в Англию лишь за несколько дней до того, как Франция объявила войну Германии. С собой она взяла пожилую крестьянку. Им повезло, они нашли телегу с последней лошадью, которую не успели реквизировать, и добрались до Булони. Первые недели на английской земле Хелен, французская крестьянка и дети провели в гостинице “Чаринг-Кросс”, пока, как пишет Хелен, “не был снят мораторий” и не оказалось возможным получить деньги в банке, чтобы заплатить по гостиничному счету. Она прибыла слишком поздно и разминулась с Борисом, который вместе с братом Глебом уехал в Россию.
Борис позвонил Наталии Бенкендорф, дочери русского посла в Лондоне, и конфиденциально спросил ее совета, не следует ли ему в момент военного кризиса вернуться на родину. Она посоветовала ему ехать немедленно. Поскольку мозаика для Этель Сэндз была закончена, хотя еще не установлена в доме, он попросил Генри Лэма помочь в перевозке ее в Челси, а также заменить некоторые камни на шее одной из фигур и закончить лицо.
Когда это было сделано, Борис без колебаний, повинуясь требованиям военного времени, забрал Глеба, работавшего физиологом в Юниверсити-Колледж, медицинском колледже Лондонского университета, и братья покинули Англию на шведском судне, отплывавшем из Гулля. Из русского посольства они получили письмо, в котором им не советовали ехать через Германию, поскольку Россия уже вступила в войну. Через Стокгольм они добрались до Санкт-Петербурга.
Отца они встретили у дверей дома.
– Я знал, что вы вернетесь, – сказал В. К., и все было прощено.
Глава одиннадцатая Война в Галиции
Вначале войны русское командование полагало, что общая неподготовленность армии может быть компенсирована надежной кавалерией. Оно почти не извлекло уроков из поражения в Русско-японской войне.
В звании лейтенанта Борис начал служить в Седьмом кавалерийском корпусе под командованием генерала фон Экка. Он догнал армию на западной окраине Львова [в то время называвшегося Лемберг и принадлежащего Галиции в составе Австро-Венгрии] – русские уже разбили австрийцев и преследовали бегущего в беспорядке противника. Обязанности Бориса были самыми разнообразными – он состоял при штабе, бывал на полях сражений, занимался разведкой. Кит Клементс в книге “Генри Лэм”, основываясь на письмах того времени, говорит, что Борис проявил исключительное мужество в боях и считал себя “счастливчиком, ибо выжил, находясь под вражеским огнем, а также подвергаясь прочим опасностям, угрожавшим его жизни”.
“Я был офицером, обеспечивавшим связь между двумя соседними корпусами, и должен был носиться между ними один на великолепном коне ‹…› – писал Борис. – Смерть на поле боя не кажется столь уж мрачной. Все происходит так просто, что в бою не чувствуешь никакой усталости”. За участие в кампании он имел пять наград, но позже в разговоре с Ральфом и Франсес Партриджами шутливо отмахнулся от своего геройства: “Всего лишь балет, всего лишь балет, люди бегут, падают, всего лишь балет”.
Он слал бодрые письма и телеграммы Хелен, жившей теперь в Фэрфорде, в графстве Глостершир, сначала с Юнией, которая вскоре вернулась в Россию, чтобы стать сестрой милосердия, потом с Луизой Мейтленд, которая приехала помочь дочери справляться с двумя маленькими детьми, Анастасией и Игорем.
У деревни Бариня <?> наступление Седьмого корпуса было остановлено, волна пошла вспять, русские начали отступление. По причине плохого обеспечения боеприпасами в течение пяти месяцев императорская армия в Галиции сдерживала наступление австрийцев почти голыми руками. Снаряды стали такой роскошью, что однажды, когда в какой-то корпус доставили пятьдесят штук, офицер, попросивший разрешения использовать хотя бы два, получил отказ. Доставка боеприпасов сопровождалась ужасной неразберихой, и командованию было приказано снабдить подчиненных топорами с длинными рукоятками, чтобы было чем вести бой. Позже говорили, что германская армия имела огромное преимущество по сравнению с русской в материальном отношении и даже при более умелом руководстве русские не могли бы противостоять немцам. Казаков, правда, очень боялись: их жестокость внушала ужас австрийским и немецким солдатам. Кроме того, казаки были великолепными разведчиками. Но отсутствие хорошего вооружения их, естественно, деморализовало: многие становились симулянтами, не возвращались вовремя из увольнения, вели себя с молчаливым нахальством. Зимой, когда склоны гор покрыл снег вперемешку с грязью, лошади часто оказывались полезнее, чем машины. Велики были потери, связанные с болезнями и морозом.
Окруженный казаками, на своем высоком коне, размахивая кривой саблей в белой мускулистой руке, Борис, долж-но быть, имел великолепный и лихой вид, более подходящий для какой-нибудь средневековой битвы, чем для окопных боев с пулеметами и танками.
Одно из первых писем с фронта было написано между 11 и 26 сентября 1914 года:
Моя дорогая, письма твои приходят и приносят мне много счастья. Пожалуйста, продолжай писать. Как я тебе говорил, я нахожусь глубоко в Австрии, около 300 миль в глубь ее территории. За последний бой меня представили к награде, хотя я ничем не рисковал, не пролил ни капли вражеской крови, а находился в безопасном месте, где спокойно занимался своим делом. Пожалуйста, не беспокойся обо мне из‑за того, что я не в СПб., а в армии. Мне поручено довольно безопасное дело – обеспечивать связь между корпусами. Горы, расположенные неподалеку, очень красивые, невысокие и покрыты лесом. Люди, с которыми я живу, не очень симпатичны. К сожалению, они относятся к той породе офицеров, которые всю жизнь состоят при штабе, редко бывали под огнем и думают в основном о своей карьере. Хотя теперь я принадлежу к таким же штабным офицерам, все мои симпатии относятся к тем, кто постоянно находится под огнем, между жизнью и смертью. У них совсем иной характер. В штабе люди сплетничают, ссорятся, едят, пытаются разбогатеть, получить для себя какие-нибудь выгоды и очень немногие сохраняют человеческий облик.
У меня очень плохо со снаряжением, потому что пришлось все время носиться по России с огромной скоростью. Только мой пистолет и макинтош вызывают зависть, но у меня нет походной кровати и прочих необходимых вещей, и надо бороться, чтобы их достать. Приходится ждать, пока мы прибудем в большой город. Мы уже миновали Львов, но у меня было так много дел, что я не смог ничего купить. Теперь, думаю, придется подождать до Вены. Как было бы славно выйти с полком к Ла-Маншу и переплыть на другой берег к тебе. Но это невозможно. И мне остается только страстно ждать встречи с тобой и возвращения к более осмысленной жизни. Большую часть времени я провожу в компании молодого офицера, помещика с юга России, он очень весел, всегда счастлив и рассказывает мне забавные истории. Еще он знает много французских песен. Он милый парень и лентяй. Он независимее других, потому что мобилизован из резерва, и ему наплевать на военный шик. Я рассказываю ему все, что знаю, об Англии, он тоже рассказывает мне всякую ерунду, и мы оба смеемся. У него есть собака, поэтому у нас полно блох, к которым добавляются другие, поджидающие нас в тех грязных лачугах, где мы ночуем.
13–26 сентября 1914 года:
Сегодня погода хорошая. Пушки слышны в десяти милях к северу. Там стоит крепость, принадлежащая австрийцам, которую мы теперь окружаем. Правда, сегодня мы не продвигаемся, и я собираюсь немного поездить верхом, потому что делать мне нечего. Я получаю приказы, только когда идет бой. В промежутках же бездельничаю, что действует довольно разлагающе. Устаю от разговоров с людьми, которые мне неприятны, а сплю с хитрющим псом, который ластится ко всем вокруг. Он по-своему умен и помогает обществу. Чувствую себя чужим среди этих людей. И часто бываю нетерпим. Думаю, они будут без конца враждовать друг с другом, и все эти разговоры об очищающей силе опасности и героизма годятся только для душ исключительных – выше или ниже обычного уровня, но что касается всех этих интеллектуальных гибридов, то они остаются очень жадными, очень противными и подлыми всю войну. Люблю тебя, моя дорогая жена‹…›
Твоя истинная любовь Б.
Не беспокойся, если военная удача временно отвернулась от нас – скоро все должно измениться. Удача – такая шлюха, но ты ведь знаешь, что достойный – побеждает!!!!?
Четырнадцатого октября он сообщал: “…спал в очень грязном месте со свиньями, но с ними очень тепло, и мне стали нравиться эти животные”. Через двенадцать дней он написал, что одну ночь спит во дворце, другую в хлеву со свиньями, очень забавными соседями. Он хочет получить, нет, ему просто необходимо иметь фотографии детей, Хелен, их теперешнего дома.
Ты не представляешь, как я буду им рад. Юния в Минске, и я мало что о ней знаю. Слышал, она выходит к поездам помогать раненым, когда эшелоны идут через город ‹…› Но поверь, я не иду на неоправданный риск и не особенно стремлюсь потерять свою шкуру на этой проклятой войне.
В письме, отправленном между 23 ноября и 6 декабря, Борис рассказывает:
Все время я бездельничал, ничего существенного мне не поручали. Поэтому я раздобыл альбом и теперь попробую нарисовать в нем несколько голов, чтобы развеяться. Но, боюсь, я уже совсем разучился рисовать. Дело в том, что хорошо рисовать я никогда не умел, а теперь и вовсе забыл, как это делается.
В другом письме он пишет: “…обидно знать, что ты губишь свое здоровье из‑за детей”; он пошлет денег, чтобы нанять няню, так как “ты не должна выглядеть измученной, когда через пару лет я вернусь”.
Он предчувствует, что: “теперь война долго не продлится, что мы вернемся домой к Рождеству, прямо к пудингу. Черт возьми, какое счастье было бы снова вас всех увидеть дома и съесть на ужин утку с яблоками. И со сливками в придачу”.
Рождество он провел в Петрограде, собираясь, впрочем, назад на австрийский фронт.
Интересно, как выглядят дети, – пишет он. – Умоляю, пришли фотографии. Ты, бессовестная, так долго мне их не присылаешь.
Отец чувствует себя лучше, поэтому они с матерью отправились с визитами, и я один в нашем жутком старом доме, который ненавижу с детства. Встречался с Недоброво и еще несколькими друзьями, они все настаивают, чтобы я вернулся в Россию. Этот вопрос мне всегда очень трудно решить. Ты должна приехать сюда и посмотреть, сможешь ли ты здесь жить, поскольку все зависит в основном от тебя, ведь я не в состоянии жить вдали от тебя, но и не могу привезти тебя туда, где может пострадать твое здоровье. Я справлялся по поводу русских законов касательно Бабы [Анастасии] и Яры [Игоря-Ярослава], все очень просто и беспокоиться нам нечего. Нужно только взять свидетельство о рождении и послать прошение Императору, которое Он обычно удовлетворяет. Я забываю английский, дорогая, ты мне очень нужна, когда-нибудь я сойду с ума ‹…› Моя мать очень взволнована сообщением о Бабы и заговаривает о ней, я же стараюсь этого избежать. Больше всего ее беспокоит, что ребенок некрещеный. О Яре она ничего не знает. Дорогая, о моя дорогая жена, сколько еще у тебя будет очаровательных, прекрасных детей!!!
То, что Борис не сообщил родителям о рождении сына, свидетельствует о его опасениях, что они устроят ему сцену по поводу незаконнорожденности наследника. Его беспокоил собственный возраст – так много предстояло сделать и ничего еще не было завершено. Узнав, что Дорелия собирается произвести на свет еще одного “щенка”, он воскликнул: “Какой конвейер!”
Борис Анреп (крайний слева) с сослуживцами.
В одном из сентябрьских писем Борис описывает наступление, вскоре превратившееся в отступление:
Моя дорогая девочка, мы находимся в роскошном историческом особняке польско-русской фамилии. Я живу в домашнем театре – великолепном побеленном помещении со сценой, но без печки. Мерзну и злюсь. На прошлой неделе у нас были большие успехи на юго-западном фронте, взяли пленными более 85 000 австрийцев и немцев. Через неделю мне будет 32 года. Голова понемножку становится все глупее, и только желание есть разгоняет кровь. Жизнь, другая жизнь, кажется сном.
Постоянная любовь и желание увидеть вас согревает и дает пищу воображению, не творческому, а совершенно эгоистическому.
Мой дорогой друг, из нас двоих пусть хотя бы ты будешь всегда спокойной и мужественной. Просто поразительно, как жизнь может создавать такие продолжительные мерзости, как затяжные войны. Война – кровавое дело, даже когда она быстро заканчивается, но, когда она тянется, как болезнь, ее ужас невыразим не только из‑за уничтожения людей, убитых и раненых (прости меня, Господи!!), но и из‑за их разложения. Сами сражения длятся недолго, а между ними – тоска. На поверхность выходят все худшие человеческие качества.
Так много идей выветрились у меня из головы, что я очень похож на пустую бочку. Ты когда-нибудь пробовала разговаривать с пустой бочкой, засунув в нее голову. Какое гулкое эхо отражается от дна!
В октябре он писал:
Какая Баба негодница, что притворяется, будто не умеет ничего делать. Ты думаешь, я такой же? Ошибаешься. Я нечто прямо противоположное. Я хочу делать то, что не могу ‹…› У меня теперь новый конь, очень высокий. В нем половина доброй английской крови (такими же будут и наши детки). К тому же выносливый. Обошелся мне дешево – в 30 гиней. Трудно залезать в седло, поскольку он такой высокий, что мне не сунуть ногу в стремя.
Далее он спрашивает, нужны ли ей деньги, и просит, чтобы она написала ему о планах на будущее: “Только знаю я твой легкомысленный ум, ты скажешь: рисовать, писать стихи, наслаждаться жизнью и т. д. Но дело в том, что теперь мне это совсем не нравится, а хочу я только одного – любить тебя без устали и с усердием”.
Письма к Хелен 1914 и 1915 годов полны нежности, даже страсти. Вновь и вновь он проявляет беспокойство о здоровье Хелен и ее матери, которой всегда восхищался. И вновь встает вопрос о том, где им жить:
Конечно, мы поселимся в славном месте, но я чувствую себя таким беспомощным в России, не работником, а человеком из общества. И тогда все вокруг кажутся мне такими умными, что сам я в своих глазах становлюсь гораздо менее образованным и совсем тупым. В Англии я чувствую себя свободнее. Кроме того, положение художника, которое есть у меня в Англии, совершенно не признается в России, здесь требуется совсем другая фигура, которая бы способствовала развитию нашего русского искусства, например фигура Джона.
В другом письме без даты:
Думаю, мы поселимся в какой-нибудь деревне в Подмосковье. Конечно, было бы прекрасно жить где-нибудь на Волге. Дело в том, что я больше не боюсь России. И, мне кажется, тебе тут понравится. Здесь так много прекрасных мест и люди гораздо умнее, чем европейцы, хотя много и негодяев. Было бы замечательно иметь на реке моторную лодку, тогда можно совершать долгие путешествия до Каспийского моря и по реке <…?>, и это было бы очень дешево.
Представления Хелен о предполагаемой русской жизни были столь же безоблачны. В одном из немногих сохранившихся писем она писала:
Я обдумываю и планирую наш сад и дом в России. Мне придется со временем переделать дом, потому что, кроме сада, у меня будет еще и внутренний двор. Сад можно обнести оштукатуренной стеной, не так ли, как это принято на юге России, ведь, мне кажется, таким и должен быть дом, правда? И у нас будет кладовая, где я буду делать вино и наливки, и мы будем сами изготавливать лавандовую воду. В твоей библиотеке вокруг стола будут стоять “честерфилды”[28], а за окном мы посадим персиковое дерево, так чтобы лепестки падали в твою комнату. Другое окно должно выходить на дорожку, по обе стороны которой будут расти тюльпаны. “Честерфилды” следует покрыть русскими коврами… Доброй ночи, любимый. Я все время хочу тебя.
Так шла переписка между Борисом и Хелен в первую половину войны.
Во время военной кампании в Галиции Борис составил собрание икон. В гористой местности, где шли сражения, стояли старинные церкви из дуба и ясеня с куполами и башенками необыкновенной красоты, возводившиеся с поразительным мастерством, с помощью одного лишь топора, без использования гвоздей. В тех районах, где шли бои, многие храмы были разрушены, и Борис обнаруживал древние православные иконы, которые висели под открытым небом, омытые дождем и припорошенные снегом, или лежали, покрываясь плесенью, в сараях. Поэтому по ночам, когда обстрел прекращался и бой стихал, он брал двух казаков и телегу с лошадью, шел на нейтральную зону и собирал все предметы культа, какие попадались под руку. Таким образом он набрал огромное количество икон, которые отослал домой в Петроград. Большая их часть теперь находится в Эрмитаже.
Андрей Шуберский рассказывает, что, узнав об этих хищениях, австрийцы заявили протест, и лейтенант фон Анреп был отозван с поля боя. История представляется сомнительной, поскольку воюющие стороны обычно не склонны сотрудничать в вопросах, связанных с присвоением чужого имущества.
Глава двенадцатая Анна Ахматова
Пятого февраля 1914 года Борис получил письмо от Николая Недоброво:
Дорогой Борис Васильевич!
Не сумею Тебе хорошенько рассказать, как остро томилась моя совесть каждый раз, как я вспоминаю Тебя в течение последних примерно 2‑х месяцев, что я не писал Тебе. Но или в самом деле я в муке переживаю переход от юности к зрелости (или к старости?), или все это совершеннейший вздор и я еще настолько молод, что во мне просто кипит пленной мысли раздраженье, но, как ни будь, а я томлюсь, мучусь и молча испытываю такой поток лирики, что с гордостью подчас думаю о своем воздержании от одного или двух томов психологических в стихотворной форме, отбросов. Однако я в Павловске все-таки написал 2 лирических стихотворения. (Оба они еще не считаются оконченными, особенно первое.)
Заяц
На лыжах пробираясь между елей, Сегодня зайца я увидел близко. Где снег, волной прибоя, от мятелей Завился, заяц затаился низко, Весь белый, только черными концами Пряли его внимательные ушки. Скользнув по мне гранатными глазами, Хоть я и вовсе замер у опушки, Он подобрался весь, единым махом Через сугроб – и словно кто платочек Кидал, скакал, подбрасываем страхом. Горячей жизни беленький комочек На холоду. Живая тварь на воле! Ты жаркою слезой мне в душу пала, Такую нынче мерзлую, как поле, Где вьюга от земли весь снег взвевала…Второе менее серьезно, хотя и важно для меня. Оно написано к Ахматовой, давшей мне на просмотр рукопись новой книги своих стихов.
С тобой в разлуке, от твоих стихов Я не могу душою оторваться. Как мочь? – В них пеньем не твоих ли слов С тобой в разлуке можно упиваться. Но лучше б мне и не слыхать о них! Твоей душою словно птица бьется В моей груди у сердца каждый стих, А голос твой у горла ластясь вьется. Беспечной откровенности со мной И близости – какое наважденье! Но бреда этого вбирая зной, Перекипает в ревность наслажденье. Как ты звучишь в ответ на все сердца, Ты душами, раскрывши губы, дышишь, Ты, в приближеньи каждого лица, В своей крови свирелей пенье слышишь. И скольких жизней голосом твоим Искуплены ничтожество и мука. Ты встрепенись: пойми, чем я томим, Переживи – ведь для меня – ни звука…Стихотворение это не подлежит оглашению. С тех пор мое томление утолено многими стихами.
Что-то во мне ломается, как лед весной. Если бы, если бы Ты приехал. Во все лучшие минуты я вспоминаю Тебя. Не в мгновения слабости, но в ощущении силы я всегда призываю Тебя – цени, дорогой, этот вид дружбы. “Вечер” нами с восторгом благополучно получен. Мы очень благодарим Тебя за него. ‹…›
С Девель мы совсем не видимся. Девицы эти, очевидно, целиком подпали под литовское влияние, а нам кажется, наша неизменная к Тебе дружба, особенно выразившаяся в жизни у Вас, не прощается. Поцелуй от меня руки Юнии Павловне. Любовь Александровна ее целует, а Тебя от души приветствует.
Любящий Тебя Недоброво.Приписка на полях: “Придумал две первых главы романа”. По-видимому, Недоброво ничего не знал об отношениях Бориса с Хелен и о рождении у нее дочери и сына, иначе он бы не писал, что жена целует Юнию. Но, возможно, Борис и Недоброво еще не встречались после произошедших перемен, поскольку Недоброво жил с Любовью Александровной в Царском Селе.
Борис Анреп с прислугой, 1916 год.
В первый период войны с августа 1914 года по март 1916‑го, проводя отпуск или приезжая по делам военной службы в Петроград, Борис останавливался в родительском доме на Лиговском проспекте. Но большую часть свободного времени проводил с новой знакомой, с которой свел его Николай Недоброво, – поэтом Анной Ахматовой. Именно на квартире у Недоброво они и познакомились: Борис, которому был в ту пору тридцать один год, и двадцатипятилетняя Ахматова. Хотя Недоброво был женат, его восхищение Ахматовой, тогда уже признанным поэтом, было страстным и неизменным. За присылку ее первой книги стихов “Вечер” Недоброво благодарит Бориса в цитируемом выше письме. Анатолий Найман, секретарь Ахматовой в последние годы ее жизни, пишет, что Недоброво был “человеком, сыгравшим исключительную роль в поэтической и личной судьбе Ахматовой”[29]. Она считала его лучшим критиком своих ранних стихов.
Ее вторая книга “Четки” произвела большое впечатление на читающую русскую публику. Многие знали и о ее частной жизни: гимназисткой шестнадцати лет она познакомилась с поэтом Николаем Гумилевым, которому после четырехлетнего настойчивого ухаживания и двух попыток самоубийства удалось наконец в 1910 году уговорить ее выйти за него замуж. В стихотворении Гумилева “Отказ” нарисован портрет молодой Ахматовой:
Царица – иль, может быть, только печальный ребенок, – Она наклонялась над сонно вздыхающим морем, И стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок, Он тайно стремился навстречу серебряным зорям. Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица, И вот перед ней замелькали на влаге дельфины. Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца, Они предлагали свои глянцевитые спины. Но голос хрустальный казался особенно звонок, Когда он упрямо сказал роковое “не надо…” Царица – иль, может быть, только капризный ребенок, Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.В 1910 году Ахматова, Гумилев и Осип Мандельштам организовали в Петербурге “Цех поэтов”, просуществовавший, впрочем, недолго. Ахматова, по словам Наймана, говорила:
В середине десятых годов возникло общество поэтов “Физа”, призванное, в частности, – как и некоторые другие меры, – для того, чтобы развалить “Цех”. Осип, Коля и я шли в гору, а что касается “Цеха”, то он должен был кончиться сам собой. “Физа” было название поэмы Анрепа, прочитанной на первом собрании общества в отсутствие автора, он находился тогда в Париже[30].
В России прочно укоренилась традиция читать стихи вслух перед аудиторией или в кругу близких друзей. Поэты читали стихи, обсуждали их, потом ужинали. Для Мандельштама, Гумилева и Ахматовой общество “Физа” стало центром акмеизма, который был провозглашен противоположностью символизму, – слова должны были теперь значить именно то, что они значат, а не выражать то, что таится за их значением. Раньше в поэтических кругах были модны туманные мысли, теперь же акмеист Сергей Городецкий позволил себе написать: “Роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подробностями с мистической любовью или чем-нибудь еще”[31] (знаменитая фраза Гертруды Стайн – “роза это роза это роза” – воплощала ту же идею).
Однако удивительная и незрелая фантазия Бориса, которую хвалил Недоброво, была гораздо ближе к символизму, чем к акмеизму. Чтение ее, должно быть, занимало часа полтора, и весьма вероятно, что некоторые поэты засыпали во время слушания. Вот как она начиналась:
“Где ты, Физа, твой край на ложе пустует, Смяты простыни, шерстит мех. Нет тебя, и бок мой остыл. Ты же не у Маи, ибо я просила, и ты сказал: Пересплю с тобой. – Слово твое точно, а ты не тут”. Тогда вошла в спальную Мая и промолвила: “Юния, я слышу, ты – одна. Не со мною Физа, Но у печей своих и у молота”. Юния обняла Маю и сказала: “Не уснуть мне не согретой. Побудь со мною ночь, Физа и до дня не вернется”. Физа же, отойдя от дома и приблизясь к печам, Упер свой лоб о горн плавильный, Локти прижав к груди и ладонями защитив уши. Так стоял Физа и озадачил мысли: Зорки глаза мои, но око внутри меня зорче всего. Глаза мои только явное видят, Око внутреннее сон мой снабжает. Не края, но суть им определена. Глаза мои обозревают страны и моря, Окраску и пышность уборов. Внутреннее око пытает тайны, Сокрытые под пестрой одеждой. Мое любопытство – не в путешествиях, Но в рассечении основ и строенья. Разделяя, я разделил даже воздухи, Воды, металлы и камни. Трудом потным обольются мышцы, Но жажда пытанья томится не меньше. Не согнулось долбило, не проржавлено, не затуплено. Легко выколоть мои глаза, Но око заочное как вырвать? Схоронясь за костью, оно рыщет оттуда Неустанно, верно и свирепо…Далее на пороге появляется Учитель Физы и велит ему все вокруг уничтожить – разрушить свой дом, срубить рощу, разрыть под домом гору, чтобы найти “светород”. Юния узнает об этом, но ей не хочется уничтожать отчий дом, зато Мая все выполняет, как велено, и Физа замечает, что Мая покорнее. Вместе со старшими детьми Физа разрушает дом, срывает половину горы и наконец после тяжелых трудов и длинной череды строф находит “светород”. Соглядатаи доносят Князю о сокровище Физы, и тот берет в заложники его сыновей. В конце Физа ушел по темя в землю, и дух его “втек в волоса его”. Птица, взяв его золотые волосы в когти, вознеслась и натянула их, как золотые струны, закрепив за стропила небесные. Потом, слетев вниз, стала перебирать их[32].
В Петербурге было кабаре под названием “Бродячая собака”. Оно располагалось в подвале с забитыми окнами, где стены были расписаны в ярких цветах Сергеем Судейкиным, которого нередко приглашали Балиев, Дягилев и другие театральные импресарио для создания декораций. Основателем “Бродячей собаки” был Судейкин вместе с Борисом Прониным. Здесь читала стихи Анна Ахматова. Ее эффектное появление описывает Бенедикт Лившиц:
Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина вписать в “Свиную книгу”[33] свои последние стихи… В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь “кинжального” взора в спину[34].
К 1913 году Ахматова и ее первый муж уже не были счастливы вместе. Она говорила, что ее брак с Гумилевым был не началом, а началом конца. Даже в молодости Ахматова держалась величественно, как будто осознавала, сколь значима ее персона. Ей всегда сопутствовала бедность, но даже в бедности она была великолепна. Свои стихи она читала просто, без театральных эффектов, совсем не так, как, например, Евтушенко, который декламирует свои творения с преувеличенным пылом, напоминая слишком усердствующего викторианского актера.
Борис Анреп и Анна Ахматова познакомились в конце 1914 года и сразу же почувствовали взаимную симпатию, смешанную в случае Бориса с благоговением. Историю этой любви он описал в эссе “О черном кольце” (см. Приложение). Речь идет о кольце, которое поэтесса подарила ему во время чтения Владимиром Недоброво его длинной драмы “Юдифь”. Борис хранил это кольцо как самую главную свою реликвию.
Рассказ об отношениях с Ахматовой, хотя и написанный Борисом в старости, поражает свежестью чувств. В истории этой ощутим энтузиазм молодости, она не содержит ни сплетен, ни фантазий, завершается же полной эмоциональной катастрофой.
Около 1915 года, вернувшись с австрийского фронта, Борис подарил Ахматовой деревянный престольный крест, который она хранила до самой смерти и который теперь находится в ее музее. Такие кресты использовались для благословения, его длина примерно восемнадцать дюймов, а для того чтобы крест можно было держать или устанавливать в вертикальном положении позади алтаря, у него имеется ручка. Резьба примитивная, но красивая, рельефно изображающая распятого Христа. Борис нашел этот крест в полуразрушенной церкви в Карпатских горах. Он говорил, что для него это был не религиозный символ, а знак того, что их пути пересеклись – перекрещенные палочки означали в древности драматическую любовную встречу. Свой подарок он сопроводил следующим четверостишием:
Я позабыл слова, я не сказал заклятья, По немощной я только руки стлал, Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья, Которые я ей в знак нашей встречи дал.Между 1915 и 1917 годами Ахматова посвятила Борису много любовных стихотворений, и еще больше – после его отъезда из России. Это была безумная влюбленность, страсть, подогреваемая тем обстоятельством, что объект ее был вне досягаемости. По словам Наймана, любовная связь Бориса и Ахматовой возникла, как только они познакомились, хотя, когда я стала спрашивать о ней подробнее, Найман ответил, что прямых свидетельств тому нет. Однако, если принять во внимание, что оба к любви относились свободно, предположение об их близости становится более чем вероятным. Борис всегда любил женщин, хотя никогда не рассказывал о своих победах: такое поведение казалось ему неблагородным, немыслимым. Но однажды, в 1950‑е годы, он мне коротко сказал: “У нее было много связей, даже с моим братом Володей – но с ним была всего лишь любовь в стоге сена”.
Тогда я почувствовала своего рода негодование из‑за того, что этот презренный сводный братец переспал с великой поэтессой, пусть даже “в стоге сена”. Слишком уж часто Володя и его брат Эраст вмешивались в любовные дела Бориса. Касаясь отношений Ахматовой и отчаянно влюбленного в нее Недоброво, Найман пишет, что позже “Анреп вытеснил Недоброво из ее сердца и из стихов. Тот переживал двойную измену болезненно и навсегда разошелся с любимым и высокоценимым до той поры другом”[35]. И все-таки Недоброво написал Борису очень дружелюбное письмо в 1917 году, Борис же всегда говорил о нем с большой теплотой. Стихи Ахматовой, посвященные Недоброво, также производят впечатление сохранившегося надолго искреннего чувства.
Портрет этого безукоризненного молодого человека, такого же гордого собой, как Ахматова, прекрасно обрисован Найманом: “В ее фотоальбоме был снимок Недоброво, сделанный в петербургском ателье в начале века. Тщательно – как будто не для фотографирования специально, а всегда – причесанный; высоко поднятая голова; чуть-чуть надменный взгляд продолговатых глаз, которые в сочетании с высокими длинными бровями и тонким носом с горбинкой делают узкое, твердых очертаний лицо «портретным»; строго одетый – словом, облик, который закрывает, а не выражает сущность, подобный «живому» изображению на крышке саркофага”[36].
В своих стихах Ахматова с нежностью говорит о Недоброво, скончавшемся от туберкулеза в 1919 году. Но выговаривает Борису:
Высокомерьем дух твой помрачен, И оттого ты не познаешь света.Борис также посвятил Ахматовой три стихотворения, в одном из которых выражает боль расставания и сожаление, что его мечта о продолжении их отношений не может осуществиться. Еще одно стихотворение датировано 13 февраля 1916 года:
Мне страшно, милая, узор забавных слов В живую изгородь над нами разрастется, В трехсмысленной игре тугим узлом совьется: Кокетства ваш прием остер и вечно нов. Но как несносен он! Как грустно будет знать, Что переплет листвы изящной пестротою Скрывал простор лугов с их теплой простотою. Деревню бедную, затопленную гать, Березовый лесок за тихою рекою.В 1917 году Ахматова снова обвиняет своего возлюбленного – на этот раз за то, что он покинул Россию. Сама она была патриоткой и не поддалась на уговоры своей подруги Ольги Судейкиной, танцовщицы и жены Сергея Судейкина, уехавшей во Францию. Танцовщица предсказывала, что Ахматова с ее репутацией “Клеопатры Невы” покорит Париж. Но Ахматова отказалась покидать любимую родину и в негодовании писала Борису:
Ты – отступник: за остров зеленый Отдал, отдал родную страну, Наши песни, и наши иконы, И над озером тихим сосну.Прощаясь с ним, в январе 1917 года она писала:
По твердому гребню сугроба В твой белый, таинственный дом, Такие притихшие оба, В молчании нежном идем. И слаще всех песен пропетых Мне этот исполненный сон, Качание веток задетых И шпор твоих легонький звон.Нет сомнения в том, что любовь Бориса к Анне Ахматовой, как и к Хелен Мейтленд, была искренней. Однако в его сознании обе эти женщины существовали отдельно, как две непересекающиеся прямые. Ахматова была отлична от других его женщин – как художник она принадлежала к совсем иной категории. Он писал как-то, что в образованном русском обществе испытывает болезненное ощущение своей неполноценности. Ахматова была ему ровней, даже выше его, и требовала серьезного и уважительного отношения. Но у Бориса имелось множество предрассудков, касающихся женщин и их места в обществе. Он был самоуверен и с удовольствием сознавал свою мужественность; кроме того, на него влиял пример Огастеса Джона – художника, любовника и отца множества детей. В сознании Бориса столкнулись, перепутавшись между собой, буржуазные традиции и традиции богемы. Ахматова была для него случаем исключительным: великолепная и умная grande dame, провидица, гений.
Любовный треугольник, нарисованный в “Физе”, дает представление о воображаемом блаженстве, которое рисовалось Борису: для семейной жизни ему нужны были две женщины, и он не испытывал никаких угрызений совести, когда спал с ними по очереди. Он полагал, что они должны прекрасно ладить между собой и не могут платить мужу той же монетой, как это делала Дорелия Джон, периодически уходившая из семьи и жившая с Генри Лэмом.
Способность делить свою любовь между несколькими женщинами свойственна многим, но в целом западная культура все-таки склонна к моногамии. Борис, привыкнув жить с несколькими женщинами, даже не пытался искать себе оправданий. До тех пор пока это было возможно, он старался не обращать внимания на женскую ревность. И лишь на семьдесят пятом году жизни ограничился одной возлюбленной.
Любовная биография Ахматовой тоже была трудной. Ни один мужчина так и не смог полностью соответствовать ее требованиям. Но о Борисе, расставшемся с ней до того, как их первоначальное чувство успело перерасти в явный антагонизм, она почти до конца своей жизни вспоминала со страстью, как бы даже не нуждавшейся в воплощении.
Глава тринадцатая Военные действия на Севере
Положение на фронте было отчаянным – не хватало боеприпасов и людей, умеющих воевать на современном уровне. Было решено закупить в Англии 100-миллиметровые гаубицы. Великий князь Николай, под командованием которого находились южные силы в Галиции, распорядился, чтобы по одному офицеру в сопровождении двух солдат от каждого минометного дивизиона отправились в Англию, в военную школу “Ларк-Хилл”, расположенную на равнине Солсбери, для обучения обращению с этими орудиями. Когда, вернувшись в штаб, Борис узнал о таком распоряжении, он сразу же решил, что будет одним из посланных. Кавалерийский полк, где служил Борис, не имел никакого отношения к гаубицам, поэтому, по его же собственным словам, ему пришлось ловчить и интриговать, пока он не добился своего. Остальные военные, отправившиеся с ним на курсы, были довольны – из пятидесяти солдат и двадцати четырех офицеров Борис был единственным, кто говорил по-английски. Их путь лежал через норвежский город Берген до Абердина, а оттуда на юг до Лондона, где на вокзале их встретила Хелен. На ней было черное пальто и черная шапка, лицо раскраснелось. Борису показалось, что она дурно одета, и ему стало стыдно перед друзьями-офицерами.
Стиль одежды Хелен практически не менялся с тех пор, как она попала под влияние художественных вкусов семейства Джонов. Она сама шила себе романтические платья, но часто кроила материал не слишком внимательно, и края юбок шли волнами. В ее одеяниях шелк или хлопок ниспадали свободными складками, корсаж застегивался спереди на маленькие пуговицы, рукава были длинные, талия низкая, юбка в сборку доходила до щиколоток.
Борис хотел, чтобы Хелен последовала с ним вместе в Солсбери, несмотря даже на столь эксцентричные наряды. В одном из писем он сообщает, что некий фермер сдает гостиную с двуспальной кроватью за двадцать пять шиллингов в неделю. А также что “в гостинице «Савой» одного молодого лейтенанта угробила шлюха из‑за пятидесяти фунтов, которые были у того в кармане”. В другом письме он пишет:
Душа моя! Думаю, что сниму для нас комнату в деревне, неподалеку от лагеря. В маленьком домике. Говорят, там довольно чисто. Офицеры живут с семьями в деревнях. Завтра узнаю все наверняка. Офицер будет возить меня каждый день на машине в деревню и обратно, так что я смогу являться на службу вовремя.
Нужно взять с собой подобающую одежду, так как без нее невозможно. Пожалуйста, сделай себе сейчас же хорошенькую шляпку и купи пару скромных носков. Люди здесь столь откровенно примитивны, что шокировать их невозможно. Как только сниму комнаты, напишу, чтобы ты сразу же приезжала; конечно, Баба понимает, что тебе идет, а что нет.
Если у тебя есть другие планы, то поступай, как считаешь нужным. Ты должна взять много теплой одежды для Баба и семьи, потому что здесь постоянно дует пронизывающий ветер, который сегодня прекратился, но в любой момент может начаться снова.
Жду тебя с радостью.
Целую.
Борис.
В другом, написанном наспех письме содержится прямо противоположный совет: “Думаю, в твоем приезде сюда нет большого смысла. Поскольку погода просто ужасная, идет мокрый снег, влажно и ветрено”.
По приезде в военную школу русские обнаружили, что им предстоит обучаться всем вместе, что поразило как солдат, так и офицеров.
Борис не вернулся с минометным дивизионом на поля сражений – он вместо этого был принят на службу в Русский правительственный комитет, расположенный в здании Кингзуэй-хаус в Лондоне, чему, вероятнее всего, способствовало его владение английским языком. Комитет был создан для содействия экспорту оружия в Россию. Первым назначением Бориса стал пост начальника отдела взрывчатых и химических веществ, затем помощника юрисконсульта, затем военного секретаря комитета (должность, которую он сам для себя придумал) и, наконец, главного офицера штаба. Все эти перемены происходили в 1916 году.
В первом ряду: Василий Константинович с пасынками Владимиром и Эрастом Шуберскими; во втором ряду: Прасковья Михайловна, Борис и Глеб Анрепы.
Среди писем тех лет сохранилось три письма от В. К., который советовал сыну оставаться в Англии и рассказывал о семейных новостях: что Прасковье Михайловне только что исполнилось шестьдесят, но выглядит она на сорок пять; что Володя зарабатывает большие деньги; что Эраст служит на железной дороге и любит хорошо пожить; что Глеб много занимается физиологией, хотя “пока без воодушевления”[37]. Его сообщения об успехах трех других сыновей, наверное, были своего рода укором Борису, до сих пор в жизни не преуспевшему. Далее В. К. писал:
Вне семьи дела обстоят не слишком хорошо. Отсутствие организации и бестолковость не уменьшились. Почти каждый день возникают новые комитеты, комиссии, устраиваются заседания, а результат все тот же. Организация общества в земствах и городах ничуть не лучше. Однако это официальная сторона дела, представленная теми, кто управляет, люди же, подлинно воплощающие собой Россию, выше всяких похвал. Никто не ворчит и не падает духом, нет даже горечи, которая была бы вполне естественной. Тяготы переносятся, успехи принимаются без шума и хвастовства, и твердая уверенность в победе – какой бы ни была цена – растет с каждым днем. Люди достойны восхищения и лучшего будущего, хотя мы никогда не будем ни англичанами, ни французами, и маловероятно, что мы достигнем того уровня независимости и гражданской мудрости, который позволил бы нам обойтись без западной опеки.
В августе строились планы покупки дома для семьи Бориса на деньги Хелен. После долгих раздумий, колебаний и совещаний с агентом Поттерсом из Хэмпстеда в фэрфордский домик от Бориса пришла открытка, написанная карандашом: “Думаю, Понд-стрит подойдет. Я много работал в комитете. Генерал, к моему удовлетворению, подписал бумагу. Розы отправлены твоей матери”. Также он сообщал Хелен, что Лэм получил офицерское звание.
Что касается Понд-стрит, то речь шла о трех стоящих рядом домах в стиле эпохи королевы Анны[38] в Хэмпстеде, где теперь расположена Королевская бесплатная больница. Два дома планировалось сдавать, а жить в третьем, самом большом, стоявшем на возвышенности. Такова была традиция семейства Анрепов – частично сдавать внаем городское жилище, что являлось прекрасным способом получать доход без особых затрат. Однако выяснилось, что Хелен не может использовать полученный от шотландских родственников капитал, пока не выйдет замуж, поэтому покупка состоялась только в 1918 году, а пока Хелен с детьми оставалась в деревне.
Продолжая исполнение военных обязанностей, Борис смог теперь вновь взяться за мозаику в доме Этель Сэндз. “С радостью начал работать над мозаикой”, – писал он. Но позже признался: “К несчастью, не смогу закончить мозаику на этой неделе, потребовалось гораздо больше времени, чем я думал”.
Занимала его и светская жизнь. Уэнди Барон пишет: “Став первой патронессой Бориса в Англии, Этель взяла этого огромного, дородного человека в блестящей военной форме и казацких сапогах под свое крыло. Она приглашала его на званые обеды, полагая, что «его английский сам по себе уже занимателен». О своих солдатах он говорил: «Они хорошо обращаются с девушками. У нас не бывает изнасилований и детей, родившихся на войне»”.
Уик-энды Анреп проводил у леди Оттолайн, в Оксфордшире. Там он очаровал Марию Нюс, бельгийку, находившуюся на попечительстве Оттолайн, и она, вдохновленная Дороти Брет, убежала в Лондон, где собиралась помогать Борису делать мозаику. Зная репутацию Анрепа, Оттолайн содрогалась при мысли о том, что может ожидать ее молодую подопечную. Как-то она получила письмо от жившего в Гарсингтоне Олдоса Хаксли, также увлеченного Марией. Хаксли, похоже, особого беспокойства не испытывал.
Мария весьма рассудительна, – писал он Оттолайн, – и каким бы неотразимым ни был Анреп, требуется все-таки участие обеих сторон, чтобы совращение увенчалось успехом ‹…› Мария, кажется, очень и очень счастлива; единственная ложка дегтя – это Ваш ужас перед поведением Анрепа и, как следствие, неодобрение ее поступков.
Некоторое время спустя, будучи крайне недовольна Борисом, Оттолайн написала:
В воскресенье утром появился Анреп в сопровождении двух русских офицеров. Они были в парадной военной форме и русских сапогах. Они были невыносимы с их душевной дикостью и грубостью. Они смеялись по поводу военных зверств: “Конечно, это было с обеих сторон, солдаты жгли и грабили, где бы ни находились”. Без сомнения, такое признание гораздо честнее, чем все наши возвышенные представления о войне, но я просто онемела.
Подобную антипатию испытывала не одна Оттолайн. Олдос Хаксли, пораженный стилем жизни русских и их успехами у дам, жаловался:
Можно только открыть рот в болезненном недоумении, глядя на ‹…› Анрепов со всего света, порабощающих венецианок одним лишь нахальным напором. Чем наглее манеры, тем быстрее и окончательнее победа. ‹…› Наблюдая манеры Анрепа в течение недели, приобретаешь потрясающий опыт.
В мае 1916 года в Фэрфорд пришла открытка от Бориса, где он писал, что
устроил солдатам прощальный вечер вместе с Огастесом Джоном. Подрался на улице с кондуктором и полицией.
Целую.
Борис.Бориса часто приглашали в гости, но, как и Оттолайн, Хелен была неприятно поражена переменой в своем возлюбленном. На войне его чувства так огрубели, что Хелен не могла испытывать к нему прежней симпатии – больше она его не любила. И все-таки – а может быть, как раз потому, что ее чувства к нему охладели, – сам Борис все так же любил Хелен, хотя едва ли собирался жить с ней обычной семейной жизнью.
Второго апреля 1916 года Хелен получила отправленное из Риги письмо от Юнии:
Хелен, дорогая! Я так рада, так рада за тебя – ты, должно быть, так счастлива, что Б. с тобой или недалеко от тебя, и я рада, что он наконец вернулся к couche matrimoniale[39], я давно и много раз говорила ему – он женится на тебе, и у вас всех будет нормальная, настоящая, прекрасная жизнь. Иногда мне хочется получать от тебя писем побольше, хочется увидеть тебя и детей, поговорить с тобой, но жестокая судьба смеется над нами, и война разъединяет.
Теперь я нахожусь в новом месте, и на этот раз одна. Это дачное местечко, милое и живописное, с множеством полуразрушенных вилл, холмами и лесами вокруг. Здесь есть и озеро с романтическим названием Лебединое. От города довольно далеко, зато это самое близкое место к линии фронта. Думаю, что нет ни одной женщины, которая была бы ближе к фронту, чем я. Мой славный домик стоит посередине холма, рядом и позади меня артиллерийские батареи, и, поскольку немцы в них целят, я постоянно нахожусь под огнем. Вся земля вокруг покрыта осколками. Все грохочет. Стреляют не переставая день и ночь. Вчера они хотели атаковать нас, и что за ночную музыку мы слушали! Здание сотрясалось, я спала вместе с солдатами в блиндаже. Странное чувство испытываешь, находясь под обстрелом, я очень устаю от грохота, хотя пытаюсь привыкнуть. Я вижу здесь простых и серьезных людей, настоящих героев, целые полки, покрытые славой. Теперь, когда я узнала, что значит находиться под огнем, то просто не могу найти слов, чтобы описать их героизм. А ведь многие из них молоды, совсем еще дети. Но их не назовешь “интересными людьми” в нашем понимании.
Здесь у меня есть ванна и чайный барак, шесть лошадей и аппарат для дезинфекции – все это в моем ведении. Приятно смотреть, как солдаты и даже офицеры радуются, что вымылись. Здесь немного народу, но все они каждый день смотрят в лицо смерти, это серьезное место. И насколько все кажется абсурдным в солнечный весенний день!
Война дала много разных впечатлений, и печальных, и хороших. Я встретила славного смуглого юношу, который на какое-то время сделал меня счастливой. Я сама удивилась, что могу чувствовать нечто подобное. Это было недолгое и свежее чувство, я постаралась взять от него все, что можно, не позволяя себе слишком привязываться к нему. Он очень милый мальчик, наивный, не понимающий многого из того, что знаем мы, но обладающий какой-то своей мудростью, которая меня очаровала; свежее, непосредственное, чистое и чистосердечное создание и при всем том настоящий мужчина. Но это в прошлом, потому что, кажется, он отправляется в школу авиаторов, и я больше его не увижу.
Хелен, дорогая, ты поймешь меня: знаешь ли, несколько дней я думала, что у меня будет ребенок. Я понимала, что мне будет очень тяжело (быть может, мой мальчик даже об этом не узнает). Я не могла бы дать ребенку фамилию Бориса, но все равно была абсурдно, безумно счастлива. Иметь свое маленькое, родное существо, за которым я бы ухаживала, воспитывала, сделала бы его человеком, это было чувство, которое я не могу описать. Какая радость просто иметь ребенка! Об отце я даже думать забыла. Это дитя любви могло бы быть хорошеньким, здоровым и талантливым существом.
Но, конечно, все это оказалось ерундой. Все эти дни я так плохо себя чувствовала и так много думала о тебе. Сидела в углу своей маленькой комнаты, улыбаясь, словно в каком-то блаженстве, – и была счастлива.
Какие прекрасные, должно быть, у тебя дети. Бабе уже исполнилось три. Большая девочка, дорогая девочка. Я никогда не забуду, что когда-то она любила меня больше, чем тебя.
Хотела бы рассказать тебе о многом, но совсем забыла английский. Теперь я не думаю о будущем, живу, как и все здесь – день за днем. Вряд ли мы когда-нибудь встретимся, вряд ли я смогу увидеть тебя после развода, о котором писал Б. В его отношении ко мне я не нахожу возможности взаимного счастья. Я знаю и верю, что он испытывает ко мне добрые чувства, но это не то, что мне нужно.
Я бы хотела увидеть его, когда он вернется, он должен предупредить меня заранее о своем приезде. Можно было бы устроить мой приезд в Петроград, но, поскольку я нахожусь в действующей армии, мне это сделать нелегко.
Шлю самые теплые приветы всем вам, ты милое, дорогое существо, и я счастлива за тебя. Целую тебя от всего сердца.
Ю.В продолжение войны Великобритания поставляла своим русским союзникам крупные партии вооружений, но потом Русскому правительственному комитету стало очевидно, что английские поставки сокращаются – большая часть того, что производилось, шло теперь на Западный фронт, во Францию. Осенью 1916 года русскому правительству было крайне необходимо получить груз селитры, требующейся для производства пороха. И когда в этой просьбе русским было отказано, в Кингзуэй-хаусе пришли в ужас. Однако Борис дал понять, что он знаком с влиятельным экономистом Мейнардом Кейнсом, работавшим тогда в Министерстве финансов.
Вечером Борис явился в дом Кейнса на Гауэр-стрит, но ему сказали, что хозяин еще в министерстве. Борис не ушел, а остался ждать на улице. Пробило девять часов, стало темно, потом десять, одиннадцать, Борис все ждал. Без десяти двенадцать из‑за угла появился кэб и остановился возле дома. Выскочив из кэба, Кейнс взбежал по ступенькам. Борис тотчас же бросился следом и, пока Кейнс поворачивал ключ в замке, бросился к нему с объятиями:
– Мейнард! Как я рад вас видеть! А я как раз проходил мимо и вдруг вижу – вы приехали домой.
Мейнард был рад встрече и пригласил Бориса зайти выпить по рюмочке.
Они сидели, беседуя, и наконец вышли на главную тему. Борис рассказал Кейнсу о проблеме, с которой столкнулась Россия: нет селитры для изготовления пороха. Это катастрофа! Кейнс задал несколько вопросов, Борис отвечал. Селитру следовало посылать морем, огибая Норвегию, через Северный Ледовитый океан, так как германский флот патрулировал Балтийское море и прямой путь был опасным. А селитра очень нужна. Борису удалось убедить Кейнса помочь, и, счастливый, он покинул дом на Гауэр-стрит.
Этот успех поднял репутацию Бориса в глазах комитета. Однако было решено, что ему следует лично проследить судьбу отправленного груза. Поэтому второй раз за ту зиму Борис отправился в Россию в сопровождении нескольких британских морских офицеров и с ящиком виски от Наталии Бенкендорф для ее брата Константина, адмирала.
Прибыв в порт Романов, Борис был поражен, обнаружив, что склады и часть территории порта завалены грудами ящиков, в которых ржавели мокрые от снега и дождя орудия и боеприпасы. Тут же среди множества стоящих на якоре судов находился и присланный стараниями Кейнса корабль, который не мог выгрузить селитру, поскольку порт был переполнен. Другое судно, пришедшее еще раньше, также с грузом селитры на борту, находилось в подобном положении.
Прихватив ящик виски, Борис в тревоге поспешил к графу Бенкендорфу, которого застал на адмиральском судне беззаботно выпивающим в компании морских офицеров. Ему объяснили, что боеприпасы очень трудно доставить к линии фронта: река и канал, по которым вооружение переправлялось на барже, замерзли, а идущая в южном направлении железная дорога, проложенная значительной частью по тундре, тяжелых составов не выдержит – если грунт не промерзнет как следует, что происходит лишь на короткое время, поезда провалятся в трясину. Таковы были причины, по которым огромное количество вооружения и боеприпасов застряло в порту. Комендант боялся сообщить об этом правительству и потому сидел сложа руки, в то время как русская армия тщетно ждала боеприпасов и вооружалась топорами.
Через лондонское Адмиралтейство Борис послал генералу Гермониусу, главе Русского правительственного комитета, телеграмму следующего содержания:
Три причала разгружаются в Романове также причал равный четверти причала, четвертый причал будет готов к концу февраля по русскому стилю. Пятый причал Дровяной к концу марта останется невостребованным так как не достигнута связь с железной дорогой и службой по колке льда. Возможность разгрузки на каждом причале в лучшем случае составляет 360 тонн в день. До сегодняшнего дня, однако, средняя разгрузка за сутки была менее 200 тонн.
Ввиду вышеизложенного совершенно невозможно даже при самых благоприятных обстоятельствах разгрузить на романовских верфях между 1 февраля по русскому стилю и 1 мая более 100 000 тонн, из которых свыше 30 000 тонн уже находятся в порту и разгрузка которых займет более 40 дней если верфи будут обеспечены вагонами.
Серьезным препятствием, мешающим разгрузке, является нехватка подвижного состава и плохая его эксплуатация. Например, в последние три дня работа на верфях свелась к ничтожному минимуму из‑за отсутствия вагонов-платформ. Я же вижу, что без дела стоят около 100 платформ с боеприпасами и никто не пытается их разгрузить. Работа на берегу выполняется в основном увечными солдатами, которые работают небрежно и неторопливо почти без всякого надзора.
Здесь практически нет ремонтных мастерских и десятки товарных платформ не могут быть использованы из‑за неисправности.
В настоящее время только один поезд из 15 вагонов отправляется из Романова ежедневно. Если хватит подвижного состава, теперешнее состояние железной дороги позволит отправлять три поезда в день. Для того чтобы отправить по железной дороге 100 000 тонн до 1 мая, необходимо чтобы с 20 февраля из Романова ежедневно отправлялись 8 поездов, с 1 марта 9 поездов, с 1 апреля 11 поездов, из расчета по 15 вагонов в поезде, конфигурация пути позволяет использовать только это количество. Чтобы достичь вышеизложенного, необходимо усовершенствовать путевые узлы, водоснабжение и все ветви управления, а также обеспечить достаточное количество подвижного состава. По этой причине я начал исчисление с 20 февраля, и все же нет уверенности, что эти усовершенствования смогут быть закончены вовремя для выполнения означенного плана до 1 мая, дальнейшее использование железной дороги вызывает сомнения из‑за весенней распутицы, которая повредит дорогу во многих местах.
Здесь есть 7 складов годных для хранения вооружения общей сложностью 2500 тонн, но они в настоящий момент заняты грузами военно-морской базы.
Свободное для хранения вооружений место длинное и узкое, около 8000 квадратных саженей, расположено между зданиями. Более 6000 тонн боеприпасов сейчас находятся в открытом хранении, большинство из которых взрывчатые вещества включая порох. Опасность возникновения пожара очевидна, поскольку рабочие бараки, кухни, пекарни расположены поблизости и разводится большой огонь; в Романове действительно уже было несколько пожаров.
Даже если возникнет небольшой пожар в местах проживания рабочих, Романов обречен взлететь на воздух.
Здесь только один плавучий кран на 45 тонн, если он сломается, разгрузка тяжелых грузов будет приостановлена, сейчас он временно не работает.
Транспортировка артиллерии по железной дороге может быть осуществлена, если сделать некоторые приготовления. Они были обсуждены мною с офицерами транспортной службы. Подробности в личном докладе. Уезжаю в Петроград завтра четверг.
Анреп.Эта телеграмма и сделанный позже полный доклад о состоянии дел в Архангельске ни у кого радости не вызвали. Граф Бенкендорф никогда больше не разговаривал с Борисом, а комендант порта застрелился.
Глава четырнадцатая Русский правительственный комитет
Перед отъездом из Лондона в Архангельск в январе 1917 года для выяснения причин задержек транспортировки вооружения Борису вручили два мешка секретных документов, которые надлежало доставить в Генеральный штаб военно-морских сил в Петрограде. Кроме того, генерал Гермониус попросил, чтобы на обратном пути Борис взял с собой в Англию знакомую одной машинистки, работавшей в его конторе. Девушка, жившая в Петрограде, умоляла приятельницу помочь выехать из России – ей была уже обещана работа в комитете.
В Петрограде, у родителей, Борис встретился с Глебом, недавно женившемся на девушке из театральной семьи. Познакомившись с невесткой на семейном обеде, Борис преподнес ей английскую сумочку из свиной кожи. За разговорами он посетовал, что ему предстоит утомительное дело – сопровождать в Англию какую-то неизвестную девицу, да еще оформлять ей паспорт и разрешение на выезд.
– Как ее зовут? – спросила Ольга.
– Мария Волкова.
– Неужели?! Ведь это моя сестра! Она давно ждет разрешения выехать в Лондон. Вы только подумайте!
Маруся Волкова.
Марусе тут же позвонили, пригласили на чай к Анрепам, и она приехала знакомиться со своим будущим спутником. Оказалось, что это восемнадцатилетняя красавица, черкесская княжна с бледно-оливковой кожей, огромными темными глазами, черноволосая и чернобровая. За ее спокойствием и величавостью ощущалось присутствие скрытой страсти. Необходимость быть ее попутчиком Бориса уже не угнетала. 4 марта он получил для себя и Маруси новые паспорта.
Тем временем в городе было неспокойно. Из‑за некомпетентности и коррупции руководства в стране не хватало продовольствия, и 8 марта 1917 года у булочных уже выстраивались длинные очереди. На следующий день полиция стреляла в толпы недовольных. Тогда встали все заводы, закрылись школы, и люди вышли на улицы. В городе произошли столкновения, солдаты стали переходить на сторону народа. Собирались митинги, шли рабочие демонстрации под красными флагами. Император приказал генерал-лейтенанту Хабалову, командующему войсками Петроградского военного округа, подавить восстание, и по демонстрантам был открыт огонь. Вскоре, однако, стало очевидно, что власти больше не могут управлять ситуацией. 12 марта Волынский полк присоединился к восставшим, которые прорвались в Арсенал и завладели оружием. Затем из тюрем были освобождены заключенные, здание охранки сожжено.
Борису следовало спешить – позже его отъезд мог бы осложниться. Он кинулся в Британское консульство, и за день до отречения Николая II А. У. Вудхауз дал капитану фон Анрепу и Марии Волковой визы на пребывание в Лондоне в течение неопределенного времени. Но капитану еще нужно было проститься с Ахматовой, с которой он встречался в эти дни при любой возможности.
Он вновь был захвачен присущим ей мистическим чувством судьбы, ее трагической изысканностью и стихами. Ее чувства к нему остались прежними, хотя он еще раз повторил ей, что намерен связать свою дальнейшую жизнь с Англией. Вдали от семьи его романтическая влюбленность приобрела особую значительность, чего никогда не случилось бы в обычной жизни. Хнычущие дети и женщина, не умеющая одеться как подобает и не переносящая светского общества, никак не способствовали подобным чувствам. И все же Борис тянулся к семье. Хотя он и был по природе своей авантюристом, его привлекали английский здравый смысл, честность и свобода, а это в свою очередь выражалось в стремлении к стабильной семейной жизни.
В своих воспоминаниях он писал:
Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила в квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой, на Выборгской или на Петербургской стороне, не помню. Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов. Помню, посреди реки мальчишка лет восемнадцати, бежавший из тюрьмы, в панике просил меня указать дорогу к Варшавскому вокзалу. Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. “Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах”. – “Я снял погоны”[40].
Борис “горел в бесплотном восторге”, когда целовал ее руки.
Их встрече Ахматова посвятила два стихотворения: одно – “Мы не умеем прощаться…” и другое, в котором говорится, как они вдвоем гуляли по городу, несмотря на опасность:
Как площади эти обширны, Как гулки и круты мосты! Тяжелый, беззвездный и мирный Над нами покров темноты. И мы, словно смертные люди, По свежему снегу идем. Не чудо ль, что нынче пробудем Мы час предразлучный вдвоем? Безвольно слабеют колени, И, кажется, нечем дышать… Ты – солнце моих песнопений, Ты – жизни моей благодать. Вот черные зданья качнутся, И на землю я упаду, – Теперь мне не страшно очнуться В моем деревенском саду. Март 1917Об этом событии писал в 1925 году (запись от 2 и 3 марта) Павел Лукницкий. Ахматова со свойственной ей прямотой сказала:
– …И не потому что любил – просто так приходил. Ему приятно было под пулями пройти…
– Он не любил вас? – спросил Лукницкий.
– Он… Нет, конечно, не любил… Это не любовь была… Но он все мог для меня сделать – так вот просто…[41]
Перед отъездом из России Борис встретился с Юнией, которая дала согласие на развод. Теперь следовало подумать об Игоре-Ярославе как о наследнике имений Анрепов и продолжателе фамилии. Юния вернулась на фронт.
Как только после стачки возобновилось железнодорожное сообщение, Борис и Маруся отправились на север в город Торнио, расположенный на границе Финляндии со Швецией. 22 марта им в паспорта благополучно поставили штемпель Британского военного контроля, они проехали через Норвегию на юг, в Берген, затем пересекли Северное море, высадившись в Абердине. И наконец прибыли в Лондон. Это путешествие заняло около двух недель, что позволило им неплохо узнать друг друга. На корабле Борис и Маруся стали любовниками.
В Лондоне мисс Волкова была принята на работу машинисткой, а Борис написал доклад, который отправил одновременно генералу Гермониусу и в британское Адмиралтейство. Теперь поставки вооружений были приостановлены, а те тридцать кораблей, что Борис видел в Романовском порту, получили приказ вернуться в Англию не разгружаясь.
Борис ожидал, что в Русском правительственном комитете его встретят приветливо, ведь он выяснил, куда деваются поставки. Но его встретили, как он писал, с постными лицами и, возможно, с определенным недоверием. К счастью, неведомый Борису английский капитан подтвердил верность его доклада. Однако русские наверняка были злы на него из‑за того, что британскому правительству была продемонстрирована их некомпетентность. Они “потеряли лицо”.
В недолгий период между падением самодержавия и большевистской революцией Уинстон Черчилль писал о России с энтузиазмом: “Затяжное отступление прекратилось; снабжение боеприпасами наладилось; оружие поставлялось непрекращающимся потоком; более сильные, более многочисленные и гораздо лучше вооруженные армии сдерживали огромный фронт”. Оружие, несомненно, шло “непрекращающимся потоком”, но сомнительно, чтобы оно достигало линии фронта. Образовавшееся после отречения Николая II Временное правительство было слабым. Русская армия не хотела воевать, в течение двух месяцев два миллиона человек дезертировали, что усиливало беспорядки в тылу.
Но в лондонском Кингзуэй-хаусе продолжал действовать правительственный комитет, работники которого, кажется, уже занимали все здание. Сохранилась двадцать одна ведомость за февраль 1918 года, большие пожелтевшие написанные под копирку листы, содержащие любопытные сведения о жалованье различных сотрудников. Среди 260 младших сотрудников, включавших машинисток и посыльных, значится мисс Мария Волкова, получающая 4 фунта в неделю, мисс Битли, получающая 2 фунта 10 шиллингов, и мальчик-посыльный Аллен – 16 шиллингов 6 пенсов. Княгине Барклай де Толли платили 5 фунтов, тогда как графине Толстой только 3 фунта 10 шиллингов. Женщины занимали должности секретарш, не выше, да и тех было немного. Зафиксированы имена еще 280 сотрудников, служивших в различных областях, начиная от отдела взрывчатых веществ и окопных боев (в котором, судя по всему, поначалу работал Борис), ликвидационного подразделения оптической и санитарной комиссии, финансового и угольного подотделов и кончая комиссией тросов. В последней числилось лишь двое сотрудников: глава комиссии лейтенант Дриженко с жалованьем 98 фунтов 17 шиллингов 2 пенса в месяц и его помощник г‑н Пржедетский <?> с жалованьем 35 фунтов в месяц. Была еще ликвидационная комиссия военно-морского атташе, глава которого капитан 1‑го ранга Г. Блок получал 145 фунтов 6 шиллингов и 9 пенсов в месяц. Борис как главный офицер штаба получал 106 фунтов 13 шиллингов 7 пенсов в месяц, что для того времени было очень приличным доходом.
По-гоголевски абсурдная бюрократическая пирамида обходилась русскому правительству более чем в 33 000 фунтов в год – по тем временам огромная сумма! – и все только для того, чтобы организовывать импорт оружия, которое редко достигало своего назначения.
Борису следовало выполнить еще одно поручение, данное ему в Петербурге, – доставить письмо от друга В. К. генерала Девеля, дяди девочек-сирот. Генерал вручил Борису письмо, запечатанное огромной красной печатью, с просьбой передать его лично в руки своему другу, великому князю Михаилу. Великий князь Михаил был троюродным братом императора и теперь жил в Кенвуд-хаусе на Хэмпстед-Хит[42], состоя в морганатическом браке с правнучкой Пушкина графиней Торби Меренберг[43], которую не принимали при русском дворе по причине отсутствия соответствующей родословной.
Договорившись по телефону о встрече, Борис надел свою парадную форму с медалями на груди и начищенными пуговицами, высокие сияющие сапоги и отправился в Кенвуд-хаус.
Его провели в библиотеку, длинную комнату, выходящую окнами на искусственный пруд, со старинными книгами в изящных книжных шкафах, вмонтированных в стены. В конце комнаты на возвышении стояли два позолоченных кресла, в которых сидели великий князь Михаил в парадной форме и его жена в длинном белом атласном вечернем платье, белых лайковых перчатках выше локтя и с диадемой на голове. Чета была явно взволнована.
Серьезным светским тоном великий князь поблагодарил Бориса за его визит, Борис же вручил ему письмо, которое великий князь перевернул и передал графине Торби. Она тоже повертела его в руках и протянула назад мужу. Оба как будто боялись вскрыть конверт, имевший, похоже, какую-то особую значимость. “Может, они считают это письмо политически важным?” – промелькнуло в голове у Бориса.
Великий князь поднялся и с побледневшим лицом принялся ходить по комнате, затем передал письмо назад Борису. Сел на свой трон и сказал: “Анреп, я вам полностью доверяю. Откройте его и прочтите вслух”.
Взволнованный Борис распечатал конверт и прочел: “Ваше Императорское Высочество и дорогой друг, прошу Вашей помощи в получении английской визы для моего сына, находящегося во Франции, которому, кажется, трудно ее получить. Буду Вам бесконечно признателен и пр. и пр.”.
Воцарилась тишина. Лица великого князя и его супруги выражали шок и оцепенение. Русский трон им предложен не был. Никогда больше Борис не испытывал такой неловкости.
Еле сдерживая разочарование и ярость, великий князь воскликнул: “Что же я могу сделать? Это меня не касается. Сами займитесь этим, Анреп!”
Он протянул Борису руку, и тот удалился.
Некоторое время спустя в Кенвуд-хаусе произошла еще одна встреча. Графиня Торби позвонила Борису в Кингзуэй-хаус и дрожащим голосом попросила его прийти. Явившись, он застал графиню сидящей на диване в одной из гостиных. Она указала ему на место рядом с собой. Со слезами в голосе она описала ему плачевное положение, в котором находились она и великий князь. “Видите ли, когда великий князь женился на мне, император не одобрил нашего брака, что существенно повлияло на наше положение, а теперь, когда в стране революция, нас ждут огромные трудности”. В порыве чувств она соскользнула с дивана и упала на колени. Сложив руки, она умоляла Бориса: “Вы должны что-нибудь сделать для него. Вы же Анреп. Вы поймете. Вы должны спасти его!”
В смущении и замешательстве Борис поднялся. Наклонившись, он поцеловал графине руки, поднял ее и осторожно усадил на подушки. “Я сделаю все, что в моих силах, обещаю”.
Когда он выходил из комнаты, графиня Торби прикладывала к глазам платок.
Об этой истории Борис сразу же рассказал генералу Гермониусу, и они стали размышлять, как помочь великому князю. Впоследствии была достигнута договоренность с военно-промышленным концерном “Викерз”, производившим военную технику, что великий князь войдет в состав Совета директоров и будет получать скромное жалованье.
В России Временное правительство возглавлял Александр Керенский, и, несмотря на отречение императора, воцарение другого Романова казалось возможным. Поэтому в сентябре было решено, что генерал Гермониус вместе с генералом Пулом отправятся в Россию и постараются разобраться в сложившейся ситуации. В качестве переводчика генералы взяли с собой Бориса. Они посещали военные совещания и осматривали военные заводы. Вскоре стало ясно, что страна на грани катастрофы. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов был в ссоре с премьером Керенским. Корнилова арестовали, и вслед за этим, как обычно случается при теряющем власть правительстве, последовали взаимные упреки и такие попытки исказить или скрыть истину, что обе стороны оказались дискредитированы в общественном мнении. Борис настоял, чтобы английские генералы покинули Россию.
По возвращении Бориса в Лондон, в октябре, всего за несколько недель до большевистского переворота, русские эмигранты устроили обед, на котором попросили его поделиться соображениями о состоянии дел на родине. Он рассуждал довольно легкомысленно, однако закончил рассказ на печальной ноте, объявив, что интеллигенция не смогла спасти страну, и если еще возможно что-то сделать, то рассчитывать приходится лишь на Советы. Такой резкий переход от легкомысленной болтовни к трезвым оценкам был типичной манерой, с которой он вообще рассматривал серьезные вопросы, точно не мог обнаружить перед всеми свои истинные чувства и поэтому скрашивал их ни к чему не обязывающими остроумными байками.
Два дня спустя к Борису зашел с рекомендациями от Чарльза Эйткена, директора Галереи Тейт, некий господин М. Литвинов, рассчитывавший получить работу в комитете. По словам Бориса, это был “огромный, толстый еврей устрашающего вида”. Поскольку то, что он знал о Литвинове, Борису не нравилось, он ответил, что ничем помочь не может. Однако Литвинов умудрился найти работу в другом отделе, не связанном с поставками вооружений. Письмо № 653 военного секретаря к капитану Вильяму Джорджу Ормзби-Гору от 30 января 1918 года многое объясняет:
Дорогой капитан Ормзби-Гор!
В связи с нашим разговором я должен познакомить Вас с информацией, полученной от генерала Ермолова, о человеке по имени Литвинов.
1. Этот человек уехал из России в 1906 году с немецким паспортом под вымышленным именем Густав Граф.
2. Впоследствии он жил во Франции под вымышленным именем Майер Гейнах Бакках.
3. Его настоящее имя, по всей вероятности, Мордехай Мордкович Бухман.
4. В настоящее время он живет под фамилией Литвинов и, по-видимому, подписывает документы этой вымышленной фамилией.
5. По некоторым официальным документам он был также известен как Харрисон. Имел связи с германскими социал-демократами. Согласно донесениям русского Генерального штаба, занимался шпионажем в интересах Германии, разъезжая по юго-западной части Англии с целью сбора материалов об аэродромах и других средствах обороны.
(Подпись) Генерал-лейтенант Ермолов. Что касается пункта 4, мне известно от частных лиц, что он имеет русский паспорт, выписанный на имя Максима Литвинова.Это был тот самый Литвинов, который стал важным проводником советской международной политики в двадцатилетний период между двумя мировыми войнами. Что касается множества его фамилий, то у большевистских агентов менять фамилии было обычным делом – так, переезжая с места на место, они сбивали со следа полицию.
Еще одним любопытным постскриптумом к деятельности Русского правительственного комитета было сообщение, написанное Борисом в марте 1918 года, когда писатель Хью Уолпол, работавший тогда в Министерстве информации, сделал следующий запрос:
Дорогой сэр!
Мне рассказал мистер Линтотт, которого Вы, без сомнения, помните по Британскому посольству в Петрограде, что Вы были свидетелем сцены, имевшей место в Финляндии несколько месяцев назад, когда несколько русских офицеров были зверски убиты солдатами-большевиками. Мне было бы чрезвычайно интересно получить информацию об этом событии из первых рук, и, коль скоро Вас это не слишком обременит, буду весьма признателен, если Вы предоставите мне ее в любое удобное для Вас время. Заранее благодарен,
Искренне Ваш Хью Уолпол.Ответ пришел несколько дней спустя, 22 марта 1918 года:
Дорогой мистер Уолпол,
мне было очень приятно узнать, что Вы отдаете мне должное, полагая что я был непосредственным свидетелем ужасного убийства, о котором Вы пишете, и при этом избежал смерти!
Я помню, что описывал обстоятельства этого печального происшествия на званом обеде в присутствии мистера Линтотта. Вся моя семья приняла эту историю очень близко к сердцу, поскольку один из убитых офицеров, лейтенант Михайлов, был моим кузеном. Поведал же мне о случившемся матрос, служивший у моего кузена, который был все время при нем и действительно являлся свидетелем его смерти. Рассказ этого человека полностью подтвердился показаниями его товарища. Вкратце дело обстояло так.
Действия генерала Корнилова вызвали беспорядки на флоте, и все офицеры попали под подозрение в сочувствии контрреволюции. В экипаже каждого корабля, как Вы знаете, был создан комитет, входивший в состав центрального органа – Центрального флотского комитета. Экипажи нескольких кораблей, стоявших в Гельсингфорсе, решили, что необходимо проверить политические взгляды офицеров, и потребовали, чтобы те подписали бумагу, где говорилось о верности демократическим принципам, выразителем которых выступают Советы рабочих и солдатских депутатов. Четверо офицеров военного корабля “Петропавловск” отказались подписывать такую бумагу на том основании, что они присягнули на верность Временному правительству и никаких других демократических институтов в России не знают. Прочие офицеры пытались их уговорить подписать бумагу ввиду опасности, которой они в противном случае подвергались, однако те не согласились. Вследствие этого команда объявила их контрреволюционерами и потребовала ответить на следующие два вопроса:
1) Станут ли они стрелять в тех, кто поддерживает Керенского, если на то будет приказ Совета рабочих и солдатских депутатов?
Они ответили: “Нет”.
2) Станут ли они стрелять в рабочих и солдатских депутатов, если им отдадут такой приказ их флотские начальники?
Они ответили: “Да”.
После этого офицеров арестовали. Некоторые члены команды требовали убить их немедленно, но большинство членов комитета корабля на это не согласились и решили передать их Комитету флота в Гельсингфорсе для принятия решения. Комитету сообщили об этом решении, и его представители ждали, когда арестованных доставят с корабля на берег. Поздно вечером офицерам велели сесть в шлюпку, но как только они отчалили, офицеры обнаружили, что их везут те члены команды, кто голосовал за их немедленную смерть, и что шлюпка направляется не к причалу, а к пустынному месту на берегу. Один из офицеров выпрыгнул за борт, но был пойман и втащен в шлюпку, причем ему сломали руку веслом. Как только шлюпка причалила, офицеры были грубо вытащены на берег и убиты с помощью револьверов и кортиков. Когда убивали моего кузена, он воскликнул: “Негодяи!” На его теле обнаружили шестнадцать ран. Тела были брошены на берегу. Находившиеся на расстоянии полумили от места убийства представители Комитета, услышав выстрелы, сразу же бросились туда, где лежали трупы.
Если Вы помните, это убийство вызвало серьезное возмущение в Петрограде, ожидали, что убийц накажут. Был дан приказ об их аресте, но поскольку остальная часть команды отказалась их выдать, приказ этот исполнен не был. Правительству осталось только издать манифест, в котором осуждались подобные меры, а Совет рабочих и солдатских депутатов издал указ, осуждающий несогласованные действия членов экипажа корабля, направленные против контрреволюционеров. В результате убийцы не понесли никакого наказания.
Искренне Ваш Борис Анреп.После подписания мирного договора в 1918 году Русский правительственный комитет закрылся, однако Борису удалось найти работу в качестве секретаря К. В. Набокова, поверенного в делах в Русском посольстве. Генерал Гермониус, организовывавший доставку оружия Белой армии, приглашал Бориса в Париж. Но Борис отказался от этого предложения, правда, не по политическим, а по личным мотивам. От России его отдаляло все – двое детей, две любовницы, художественная карьера и симпатии к Англии.
Глава пятнадцатая Дома в Лондоне и Кенте
Делам, связанным с Россией, Борис посвящал в Лондоне отнюдь не все свое время. Была еще светская жизнь. В письме к Литтону Стрэчи художница Дора Каррингтон, описывая вечеринку, дает хорошее представление о развлечениях художников тех лет. Вечеринка была устроена в честь барменши, покидавшей свой бар в Челси. На ней среди приглашенных присутствовали Дора Каррингтон, Нина Хэмнет, Амброс Макевой, Айрис Три, Джеффри Нельсон и прочие, принадлежавшие к кружку Челси. Об этих прочих Каррингтон писала Стрэчи, что они были
ужасно потасканные персонажи, траченные молью и обшарпанные художники, а также un petit garçon[44] от Слейда, который бы уложил ТЕБЯ на обе лопатки!! Но, похоже, у него совсем нет мозгов. Несколько русских и дам высшего света в вечерних платьях. Несколько кошмарных хлыщей из армейского или флотского племени. Дороти Уоррен и еще сколько-то хорьков неизвестного происхождения.
На кухне за куском пирога с мясом Джеффри устроил мне страстную сцену, объясняясь в самом серьезном и непреходящем чувстве. Я же, в манере божественного Стрэчи, сказала: “По-моему, ты несколько впал в истерику. Мне, видишь ли, известно, каков ты на самом деле и что творится у тебя в душе”, – и прочла ему длинную лекцию о том, что он неискренен и намеренно создает кризисные ситуации. Тогда он с отчаянным видом нахмурился, уверил меня, что я его совсем не поняла, а потом так униженно валялся в пыли, как мужчине совсем уж не подобает. Я же набросилась на него и горячо понеловала, что привело его в крайнее замешательство и смущение!!!
Джон предпринял много серьезных попыток покуситься на мою непорочность, однако был слишком шелудив, чтобы даже на секунду ввести меня в искушение. “Двадцать лет назад все было бы совсем по-другому, мой дорогой сэр”. Кроме того, барменша и другие шлюхи требовали внимания, поэтому n’importe[45]. Была еще одна впечатляющая сцена, когда барменше преподносили в дар часы. Джон в цилиндре шел к ней через всю залу по натертому до блеска полу, а она сидела потупившись на диване у камина, невероятно смущенная всем происходящим, и хихикала от удовольствия. Джон ступал с важным видом, и зад его раскачивался из стороны в сторону. Затем он галантно опустился на колено, держа на подушечке часы. Потом они вдвоем танцевали посреди комнаты, а остальные толпились вокруг, что-то крича. Позже приятно было наблюдать, как, лежа раскинув ноги на оттоманке, в самом жеманном и мелодраматическом настроении, Джон целует эту толстую бабенку, залезая ей под корсаж.
Вскоре стало довольно тоскливо, так как все эти траченные молью ковры проснулись и стали выкидывать номера, состоявшие в исполнении песен на кокни[46], не имевших ни конца, ни смысла. Один за другим старые джентльмены приходили в себя, воодушевлялись и квакали. Всех превзошла Дороти Уоррен. Поэтому Эван и я принялись громко разговаривать, и дух Челси был задавлен. Тогда на мои прелести обратил внимание Борис, начавший скучно и навязчиво ко мне приставать. Было слишком жарко. Возобновил свои ухаживания и Джон, который к этому времени еле держался на ногах. Всегда забавно наблюдать, как вечеринка затухает и собравшиеся разделяются на парочки. Фейт совершенно без сил, и ее ласкает абсолютно деградировавший старый песочник. Макевой и Нина. Джон и барменша. Наконец, о радость! в три приехала машина, и мы быстро смылись. Анреп действовал настолько усердно, насколько позволяла рука, тянувшаяся с другого края такси.
В это время Борис жил в Лондоне, а Хелен с двумя детьми оставалась в Глостершире, поскольку капитал, оставленный ее шотландской тетушкой, оказывался доступен ей только в случае замужества. Думая о своем будущем, Борис понимал, что после захвата власти большевиками делать ему в России нечего; впрочем, в течение многих лет он все ждал перемен, которые позволили бы ему вернуться на родину и потребовать возвращения петербургского дома, дачи Основы, имения в Самаре и еще двух имений, принадлежавших В. К. Пока были живы эти надежды, он не спешил брать дом в Англии в долгосрочную аренду. Следовало как-то зарабатывать на жизнь, и самое лучшее, что он мог придумать, – это продолжить занятия мозаикой. Но для этого нужен был дом в Лондоне, поэтому, когда Володя телеграфировал в апреле 1918 года, что развод с Юнией оформлен, Борис и Хелен зарегистрировали свой брак в Хэмпстедской ратуше. После этого Хелен смогла купить три дома в стиле королевы Анны на Понд-стрит, те самые, которые приглянулись Борису в 1916 году. За все заплатили две тысячи фунтов, и семья переехала в самый большой из них, в глубине которого была просторная комната, где предполагалось разместить мастерскую.
После прихода к власти Ленина финансирование Русского правительственного комитета естественным образом прекратилось. Потеряв работу, Маруся Волкова осталась без гроша. Английский она знала очень плохо, поэтому надеж-ды найти другую работу у нее не было. Борис обсудил с Хелен сложившуюся ситуацию, и было решено, что Маруся станет жить вместе с ними. Маруся могла бы присматривать за детьми, учить их русскому языку, шить и помогать Борису в мозаичных работах. Маруся переехала и, как пишет Хелен, “вскоре стала проклятием моей жизни”. Неприязнь матери передалась детям, которые учили русский язык без заметных успехов. Однажды Игорь, сидя у Маруси на коленях, проколол ей верхнюю губу остро отточенным карандашом.
Два других дома были сданы. Один – мистеру Александеру, золотых дел мастеру, жившему с двумя красивыми дочерьми; другой – Дороти Брет, любимой подруге Оттолайн Моррелл. Брет была художницей, порвавшей со своей аристократической семьей ради общения с художниками и интеллектуалами, в том числе Д. Г. Лоуренсом[47]. Глухая, со слуховой трубкой, стеснявшаяся мужчин, она все же сдала комнату художнику Марку Гертлеру, который окрестил ее “тетушкой-девственницей”.
С Анрепами, кроме Маруси, жил русский солдат Николай Карпович, которого называли Мивви. В армии он служил у Бориса денщиком. Человек этот был замечательный плотник, который мог делать мебель без гвоздей, с помощью деревянных колышков и клиньев – как это делалось в его родной деревне. Когда Борис купил одинокий домик берегового охранника на болотах Нью-Ромни в Кенте – домик, стоявший на каменистом морском берегу в конце труднопроходимой тропинки, – то Мивви именно таким образом великолепно смастерил там все столы и скамейки. В Лондоне он на лестничной площадке второго этажа построил себе маленькую отдельную комнатку, где стояла кровать и хранились инструменты.
Он был своеобразным Лепорелло в любовных похождениях Бориса и сам без конца ухаживал за женщинами с неотразимой, таящейся в морщинках улыбкой, полной славянского очарования. Он был мастером на все руки, выполнял заказы в различных домах Блумсбери и Хэмпстеда и, как пишет Хелен, “рассорил всех служанок Ванессы Белл, как наших, так и тех, что служили у других”. Служанки мечтали выйти за него замуж. Однако ходили слухи, что в России у него есть жена, и вскоре он очень затосковал по дому и по родине. Мивви работал у Хьюберта Хендерсона, экономиста и редактора “Нью стейтсмена”, у Клайва и Ванессы Белл, у Вирджинии и Леонарда Вулфов, у Глеба Анрепа. Когда на летние каникулы Хелен с детьми приезжала в кентский домик, Мивви тоже являлся туда и рассказывал им удивительные истории о голодных волках, которые зимой нападают на его деревню или гонятся за санями, мчащимися по заснеженным полям. Еще он рассказывал, что жители деревни полностью обеспечивают себя собственным хозяйством, покупая только соль и железо. В конце концов он все же вернулся в Россию – в 1924 году.
Кроме того, в семье жил Том, большая лохматая бело-серая овчарка с подрезанным хвостом, которую обожали дети и которая обычно спала с Борисом и Хелен в ногах их небольшой двуспальной кровати, что, наверное, было весьма неудобно.
Отношения с мужем, по словам Хелен, были испорчены из‑за его связи с Марусей. У Бориса, без сомнения, были все основания считать холодность жены реакцией на эту связь, но именно ее холодность отчасти оправдывала другие его романы. Мне кажется, ménage à trois было скорее подражанием Огастесу Джону, чья первая жена Ида и любовница Дорелия жили вместе в разумном согласии, любя не только друг друга, но и детей от обеих, ко всеобщему удовольствию.
Когда Дороти Брет съехала с Понд-стрит, дом снял издатель Ноэль Каррингтон, влюбившийся в одну из дочерей своего соседа, мистера Александера. У Каррингтона была небольшая открытая машина, в которой он возил мисс Александер кататься, а девятилетнего Игоря сажали сзади на откидное сиденье в качестве провожатого молодой особы. Мальчик не знал, чем именно захотят заниматься взрослые, но на всякий случай говорил, что может тихонько удрать. Позже мисс Александер и Каррингтон поженились.
Анастасия и Игорь никогда не относились к отцу слишком уж с большим почтением и часто величали его, большого и гладкого, “толстым слоном”. Это смешное, добродушное прозвище возражений у Бориса не вызывало – но лишь до тех пор, пока употреблялось среди своих. Однажды он с детьми выехал с вокзала Ватерлоо в Нью-Ромни. В вагон села хорошенькая молодая дама, и Борис сразу же оживился. Потом он вышел из поезда купить газету, которые в те годы продавались в киосках на платформах. Так как он долго не возвращался, а поезд вот-вот должен был тронуться, Анастасия и Игорь высунулись из окна и закричали: “Толстый слон, иди сюда!” Такое проявление неуважения в присутствии молодой дамы привело Бориса в страшную ярость, и он даже сел в другой вагон, где провел весь оставшийся путь. Дома он всегда злился, если дети ему мешали или задевали его самолюбие. “Обычно он считал ниже своего достоинства опускаться до нас, – вспоминает Игорь. – Он всегда звал мать, чтобы она как-нибудь утихомирила этих невоспитанных детей. Сам он никогда не заходил в детскую”.
Борис Анреп с сыном Игорем.
Каникулы в домике у моря были для ребят счастливым временем. В соответствии с обычаями семейства Джонов они постоянно расхаживали голыми. Однажды летом у них распухли гланды, и доктор Маршалл поставил диагноз: туберкулез. Чтобы поправиться, им было предписано ни в коем случае не напрягаться, даже запрещалось ходить – это означало, что теперь детей всюду следовало носить на руках. В Нью-Ромни осуществить это было непросто. Каждый день Хелен должна была одного за другим спускать детей на руках вниз по лестнице и нести на пляж. Оба ребенка были крупными для своих лет, Хелен же была невысокого роста. На пляже они играли в камешки или мать читала им комиксы, купленные в ближайшей деревне, до которой приходилось идти пешком две мили. Иногда Мивви рассказывал им свои истории.
Тем временем в Хэмпстеде Борис и Маруся делали мозаику. Вестминстерский собор заказал большое панно, на котором следовало изобразить мученика XVI века Оливера Планкетта. Кроме того, нужно было сделать камин для холла в доме Огастеса Джона в Челси. В Лондоне Борис вел светский образ жизни, вращаясь в кругах Мейфера[48] и Блумс-бери. Он утверждал, что такого мужества, как званый вечер у леди Оттолайн, не требует даже сражение на фронте. Несомненно, Борис наслаждался своими успехами в свете, но все же после обеда с китаистом Артуром Уэйли признавался в письме к Хелен: “Он был один, но я чувствовал такую усталость и отупение, что не мог поддерживать разговор, и тогда он постарался исправить положение и говорил все время; обед был тоже очень хорош”. Для Уэйли, которого жена называла “безудержно молчаливым”, это был героический поступок.
Анастасия и Игорь Анреп.
Работал Борис увлеченно. Он принадлежал к тем людям, которые в любое занятие – будь то мозаика, беседа, теннис, любовь или еда – вкладывают всю свою энергию. Его очень волновало финансовое положение семьи, и он прилагал все усилия, чтобы каждому заказчику сделать мозаику как можно быстрее.
У него были веские причины не брать на приемы в Мейфер ни жену, ни любовницу, хотя вечера в Блумсбери Хелен, несомненно, посещала. Борис привык к избранному петербургскому обществу, и в определенной степени мир бомонда был ему приятен. Кроме того, было очевидно, что если он хочет получать заказы, ему следует знакомиться с богатыми меценатами. Но Хелен презирала этот мир за его художественное невежество: она привыкла к умному литературному разговору, серьезным обсуждениям проблем искусства или остроумным шуткам, понятным только семейству Стрэчи и блумсберийцам. Она не терпела принятого у богачей легкомысленного тона, считая его вульгарным. И конечно, ее наряды не годились для фешенебельного общества. Маруся тоже не могла соответствовать этому кругу, но по другим причинам. В ней была своего рода сельская простота, никаким образом не сочетавшаяся с изощренным снобизмом лордов и леди.
Генри Лэм. “Семья Анреп” (Борис, Хелен, Анастасия и Игорь).
Среди богатых знакомых Бориса были Арчибальд Синклэр, Лесли Джоуитт, Кристабель Макларен, Сэмюэль Курто, Сибил Коулфакс и Мэри Хатчинсон. Эти люди более терпимо, чем блумсберийцы, относились к его самодовольной манере поведения и с удовольствием слушали его романтические и скандальные истории. Борис, этот экзотический, великолепный чужестранец, оживлял их приемы.
Анрепы также устраивали приемы в своем новом доме. В 1918 году Николай Гумилев, будучи в Лондоне и работая с Борисом в шифровальном отделе Русского правительственного комитета, читал свои стихи в гостиной дома на Понд-стрит. После чего леди Констанс Ричардсон танцевала в обнаженном виде, а русские офицеры смотрели на нее открыв рот. В тот раз Борис дал Гумилеву отрез шелка, чтобы тот вручил его Анне Ахматовой.
Дружба с Генри Лэмом не прекращалась. В 1920 году художник написал большой портрет “Семья Анреп”, где на заднем плане была изображена изящная и смуглая Маруся. Когда ему позировали дети, то своими насмешками над религией и разговорами о том, что “Бог – фигура нелепая”, он поколебал их веру.
В 1918 году умерла Прасковья Михайловна, а к 1921‑му все четверо ее сыновей покинули родину. Володя Шуберский эмигрировал в Париж, захватив с собой большое состояние, которое было понемногу растрачено в мошенничествах и неудачных спекуляциях. Его сын Андрей был отправлен в частную привилегированную школу для мальчиков в Рагби. Отец с сыном не ладили: Володя любил читать нотации, Андрей же был ребенком замкнутым. Поэтому Борису и Марусе приходилось во время каникул брать Андрея к себе, так же как позже они брали сына Глеба – Джона.
Первое время Андрея очень обижали другие школьники. Его отец, проворачивая сомнительные комбинации с привезенным во Францию миллионом, не обращал на это никакого внимания. Когда племянник пожаловался дяде на те издевательства, которые ему приходилось терпеть в Рагби, Борис взорвался:
– Ты большой и сильный русский мальчик! И ты позволяешь себя обижать этим хилым мальчишкам-англичанам! Тресни им как следует, чтоб не встали!
В следующем семестре Андрей, по-видимому, последовал дядиному совету, поскольку Борис получил письмо от директора школы, в котором тот грозил исключить Шуберского, если мальчик не перестанет избивать своих товарищей. На каникулах довольный Борис предупредил племянника, что бить надо не слишком сильно, и вручил в награду пять фунтов.
Эраст Шуберский уехал в Югославию, где женился и вновь стал работать на железных дорогах. Сведений о его жизни почти нет – известно, что умер он от сифилиса.
Глеб покинул Россию, чтобы вместе с профессором Старлингом в Юниверсити-колледж, медицинском коллед-же Лондонского университета, заниматься исследованием кровоснабжения сердца и легких. На родине он считался любимым учеником Павлова и, конечно, был человеком умным, но вел себя с подчеркнутым высокомерием.
Сам В. К. оставался в Петербурге, пока его не обвинили в сокрытии запасов муки. Дважды его арестовывали, один раз на целых полгода. Некто Беков <?>, личность довольно темная, был послан Борисом для обсуждения возможных путей вызволения В. К. из Страны Советов, которая, судя по всему, не собиралась оставлять старика в покое.
Летом 1921 года, когда Хелен с детьми жили в Нью-Ромни, Борис писал им нежные письма, например:
Дорогая моя любовь, как меня беспокоит, что темп[ература у детей] поднимается. Я был так рад получить твое письмо.
Последние дни я по вечерам играл в теннис и так уставал, что не мог сесть за письмо. Завтра сюда приезжает Володя. Бек<ов> сделал в Риге все возможное. Договорились, что отцу дадут разрешение. Так что я надеюсь на лучшее. Препятствий еще много, но ситуация в целом неплохая. Бек<ов> поехал в Москву. Должен сказать, это очень смело с его стороны, и он наверняка сделает журналистскую карьеру. Я хорошо поработал. Достану тюльпаны и посажу их к твоему приезду, так как я уже очень без тебя скучаю, чувствую раздражение и злость. Карпович убрал печку и бак, так что, когда приедешь, тебя ждет много сюрпризов. Прилагаю чек из Шотландии, который ты должна подписать, как указано: X. Э. Мейтленд – и послать мне назад. Ты также должна написать Линзи Хау, чтобы он подтвердил достоверность чека, и послать им адрес твоих братьев. Мивви уехал, и в доме чувствуется некоторое облегчение.
Передай привет детям и скажи, что я скоро приеду их повидать. Моя дорогая, дорогая Хелен, как жаль, что мне приходится тебя видеть в постоянном беспокойстве и усталости. Люблю тебя, дорогая.
Твой Б.Бекову удалось раздобыть эстонский паспорт для В. К. (как он это сделал и для любовницы Г. Уэллса Муры Будберг), хотя Анрепы уже триста лет как не жили на эстонской земле. В. К. приехал в Лондон – невысокий печальный беженец шестидесяти девяти лет. Таким образом, и Анрепы, и Шуберские покинули родину. Тоби Хендерсон, тогда еще ребенок, запомнил В. К. в Хэмпстеде импозантным джентльменом с седой бородкой клинышком. Он жил с Глебом и его женой в Дауншир-Хилле, но отношения отца и сына опять не складывались. Оба занимались физиологией, но, когда старик пытался обсуждать с сыном медицинские вопросы, Глеб разговаривал с ним свысока, давая понять, что отец не в состоянии понять современные пути развития медицины.
Каждую субботу днем Игорь сопровождал В. К. из Дауншир-Хилла на ленч в дом на Понд-стрит. По дороге В. К. спрашивал внука: “Как твои успехи в школе? Какие у тебя отметки? Какое место ты занимаешь в классе?” Ответы на все вопросы, как правило, были крайне неудовлетворительны, и взаимное разочарование и неловкость делали эту неторопливую прогулку унылым времяпрепровождением. Когда же они наконец приходили домой, следовал обычный скандал из‑за горчицы, которую неделей раньше готовил В. К.
Субботнее приготовление горчицы было важным ритуалом. В миску насыпался горчичный порошок, сверху вливался кипяток, и все тщательно размешивалось до пастообразной консистенции деревянной ложкой. Потом смесь оставляли на неделю и только перед ленчем добавляли в нее приправы и сахар. Новую порцию горчицы на следующую неделю готовили до ухода деда. Скандалы происходили из‑за количества кипятка. Борису обычно казалось, что отец наливает слишком мало, и поэтому после ухода В. К. он добавлял еще. После чего чувствовал, что поступил нехорошо, и, чтобы не портить смесь, ставил миску в большую тарелку и опускал в тарелку веревочки, разложенные по краям миски, надеясь таким образом избавиться от избытка воды. Но это не всегда получалось. Боясь, что отец заподозрит его в порче продукта, он убирал веревочки в субботу утром перед приходом В. К. Но старик всегда догадывался, что с горчицей творили что-то неладное, и предъявлял претензии сыну. Борис шумел и кричал, а его отец пожимал плечами и возражал со спокойной язвительностью. Тихие попытки Хелен перевести разговор на другую тему, Марусины объяснения, резкие реплики Анастасии в защиту отца – все было бесполезно. Все пребывали в дурном настроении, и ленч в очередной раз оказывался неудачным.
Однажды В. К. обнаружил у Бориса в сердце шумы и объявил, что это означает серьезное сердечное заболевание. Игорь нашел все семейство молчаливо и печально сидевшим на стульях. Явился Глеб, прослушал сердце и сказал, что все ерунда. Так что Борис вновь вернулся к теннису, к тому времени прекрасно освоив игру и став грозным противником.
С той детской поры, когда крепостной мальчик Тима научил В. К. не бояться собак, они всегда у него жили, и он их очень любил. В. К. чрезвычайно привязался к терьеру Глеба, неизменно сопровождавшему старика во время его неторопливых прогулок по Хэмпстеду. Однажды пес пропал. Его искали, но тщетно. Вернувшись вечером из колледжа, Глеб признался, что взял собаку для опытов. Такой поступок показался В. К. отвратительным, и он, как король Лир, решил переехать жить к другому своему ребенку, на этот раз к приемному сыну Володе.
Глава шестнадцатая Мозаика
Слово “мозаика” происходит от греческого mou-seion, что означает “принадлежащий музам” – древние греки видели в мозаике слияние нескольких искусств. Плиний писал, что греки украшали мозаиками мостовые. Римляне покрывали мраморными мозаиками полы – мрамор выдерживал воздействие тысяч ног. Для стен и сводов применялась эмаль или же стекло, окрашенное с помощью различных окисей металлов, в результате чего изображение получалось ярче и больше напоминало живопись. В наше время португальцы делают мозаику из кирпичей, булыжников или мрамора самой разнообразной формы, цвета и рисунка, украшая ею центральные улицы городов, что особенно характерно для Лиссабона.
Обычно для создания мозаики берутся мрамор, цветное стекло или смальта, а также золото или серебро – эти металлы укладываются между прозрачными слоями стекла, и все обжигается в печи. Полудрагоценные камни – лазурит, малахит, перламутр – также могут использоваться для специальных цветовых эффектов, при этом их колют на квадратики размером примерно от четверти до половины дюйма по диагонали. В эпоху Возрождения, когда мозаика служила украшением многих соборов, Ватикан гордился мастерской по производству смальты, имевшей триста тысяч оттенков. Когда Борис занялся мозаикой, изготовление смальты переместилось в Венецию, и он с удовольствием ездил туда, на фабрику братьев Орсони, выбирать нужные ему оттенки. Также он посещал в Италии многие каменоломни, где выискивал разнообразные сорта мрамора. В Венеции он купил себе замечательные тупоносые кожаные ботинки черного цвета, сделанные специально на заказ для хождений по каменоломням, и они стали заметной деталью его туалета.
Прекрасная статья Вильяма Ричмонда о мозаике, написанная для Энциклопедии Британника в 1911 году, вполне соответствует и взглядам Бориса, которые, впрочем, шли вразрез с тогдашней модой.
Художник, который творит в этом материале, – писал Ричмонд, – должен забыть о тех принципах, которым его учили при создании живописных произведений как маслом, так и темперой. ‹…› Если мастер сам не испытал тяжелого изнурительного труда, укладывая мозаичные кубики, он не может никого научить. Он должен быть ремесленником в той же мере, в какой и творцом, и знать по опыту занятий этим трудным делом, что подвластно данному материалу, а что недоступно в силу изначально присущих ему ограничений. Если же художник не имеет такой практики, то он наверняка станет приукрашивать то, что следует изображать условно.
Ричмонд также утверждал, что творец должен “стремиться к наибольшей простоте, лишенной, однако, однообразия, к достижению наибольшего эффекта простейшими средствами, а чтобы добиться этого, ему следует знать материал, с которым он работает, иначе его ожидает неудача”. Ричмонд отдавал предпочтение “прямому” способу изготовления мозаики, потому что на стенах и сводах мозаика должна не только отражать свет, но и порождать его. Как и Борису, ему не нравилась мозаика в Большой галерее Музея Виктории и Альберта. Он утверждал, что она неинтересна, поскольку кубики уложены так ровно, что они уподобляются “картине маслом, нанесенной в виде аппликации на ровную поверхность”.
В XIX веке художники обычно отдавали свои шедевры для мозаичного исполнения какой-нибудь коммерческой фирме – классические пуристы считали мозаику в те времена искусством варварским и недостойным внимания. У Бориса же все делалось под его наблюдением или при его прямом участии. Он научился избегать однообразия. Он вынимал камни и вновь их вставлял, чтобы свет отражался под иным углом и поверхность оживала.
В мозаике есть некая лапидарность и есть чувственность: занимаемое ею пространство на сводах или на полу должно выглядеть величественно и благородно, а не мелко и не изощренно. Именно потому мозаика так Борису и нравилась – интуитивно он понимал, что его талант лучше проявится в крупномасштабных произведениях.
Временами Борис бывал варварски грубым, временами мудрым и тонким. Но то, что столь умный человек – обладавший обширными познаниями в юриспруденции, научившийся ради своей возлюбленной играть на фортепьяно, умевший преодолевать неудачи и хранить секреты, излучавший очарование и вызывавший интерес как у простых людей, так и у взыскательной публики, – то, что этот человек решил зарабатывать на хлеб насущный мозаикой, говорит о его изрядной оригинальности и смелости.
Это искусство предоставляет идеальную возможность рассказывать истории с детской простотой, ясностью и убедительностью. И Борис с удовольствием воплощал в своих работах нравоучительные и исторические сюжеты или же истории собственных приключений, рассказанные с юмором и занимательностью. В мире, увиденном его глазами, всегда присутствовало некое волшебство.
Для работ, занимающих большие площади, например огромных куполов, стен и полов, приемлемым оказывался лишь “обратный” способ нанесения мозаичного рисунка. В этом случае требовалось нанять искусного художника, который бы скопировал или перевел рисунок на листы плотной бумаги, раскрасил и разрезал бы их на куски удобного размера, примерно от одного до пяти метров по диагонали, а затем сделал бы пронумерованный чертеж. Сначала все это осуществлял сам Борис, потом Леонид Инглесис, русский художник, проживавший в Париже. Другие рабочие приклеивали камешки к бумаге на нужное место, и так месяц за месяцем, пока не заполнялись все листы целиком. Затем листы пронумеровывались и упаковывались в деревянные ящики. Когда их привозили на место, раскладывание листов по чертежу напоминало составление гигантской картинки-головоломки. Далее элементы картинки вдавливались тыльной стороной в затвердевающий цемент. И наконец оказавшаяся сверху бумага смывалась и соскабливалась, открывая законченный мозаичный рисунок.
Борис принимал участие в работе на всех ее этапах – наблюдал, распоряжался, покрикивал, а самые трудные операции производил собственноручно. Клей, делавшийся из гуммиарабика, разведенного в горячей воде и разлитого перед использованием в бутылки, становился при высыхании ломким, и камни во время транспортировки или нанесения мозаики на поверхность выпадали. Но Борис заметил, что после добавления в клей небольшого количества соли он начинает удерживать влагу, и камни приклеиваются гораздо лучше даже в том случае, если они лежали упакованные в деревянные ящики в течение нескольких месяцев или, как это произошло однажды, в годы Второй мировой войны, целых пяти лет. Ящики, упакованные в Париже и предназначенные для Банка Англии, были в конце концов перевезены через Ла-Манш в устье Темзы и в Лондонский порт.
В 1919 году Огастес Джон заказал мозаику для вестибюля своего дома на Мэллорд-стрит. Она должна была быть девяти футов высотой и располагаться вокруг камина. Борис изобразил Огастеса с его семьями. Рядом с ним вторая жена Дорелия с теснящимися вокруг нее, словно гроздь винограда, детьми – именно так, как они всегда вокруг нее и толпились. Над ними парит призрак первой жены Огастеса – Иды, окутанный в вуаль, похожую на мешок. Другие любовницы и дети сидят или стоят на боковых панно. Все это выглядит довольно странно, но окрашено своего рода ироничным сочувствием. Выбранный Борисом мрамор был серо-зеленого приглушенного цвета (который теперь кажется совсем уж приглушенным, поскольку материал, покрытый пылью, лежит лицевой стороной вниз в хранилище Музея Виктории и Альберта в Бэттерси).
С этой работы началась учеба Маруси, которая впоследствии стала одной из наиболее способных помощниц Бориса. Теперь в доме номер 4 на Понд-стрит у Бориса было два прекрасных ассистента, ибо Мивви с большим успехом выложил пол в холле у Этель Сэндз.
В том же году последовал еще один заказ – от леди Тредегар, которая строила себе новый дом. Борис сохранил копию своего письма, датированного 19 октября 1919 года:
Дорогая леди Тредегар,
мне было очень жаль узнать от Вашего секретаря, что у Вас возникли новые сложности со строительством дома. Я вполне понимаю, что работа не может продолжаться до особого уведомления. Однако мне бы хотелось услышать от Вас, могу ли я продолжать подготовку в мастерской, что займет несколько месяцев, или Вы считаете, что лучше отложить и эту часть моей работы, пока меня не известят специально.
Я был бы Вам чрезвычайно признателен, если бы Вы могли предоставить мне аванс в размере 300 фунтов, поскольку я уже затратил значительные суммы, покупая материал, и в настоящее время нахожусь в стесненном положении.
Пожалуйста, не думайте обо мне плохо из‑за доставленного Вам беспокойства по поводу денег, но, кроме моих официальных дел, я рассчитывал на этот заказ как на надежную работу, которая продлится всю зиму.
Очень благодарен Вам за согласие пожертвовать витражом ради моей мозаики.
Я, без сомнения, изменю центральную часть пола, чтобы угодить самому щепетильному чувству приличия.
Надеюсь увидеть Вас до Вашего отъезда за границу.
Искренне Ваш, Б. Анреп.Рисунок пола утрачен, поэтому неизвестно, в чем состояло его неприличие. Как бы то ни было, леди Тредегар аннулировала заказ и не заплатила ни пенса. В отместку в день Гая Фокса дети Анрепов сжигали ее чучело на костре[49].
Пол для дома Этель Сэндз был великолепен. Когда он был закончен, мисс Сэндз была в восторге от его изысканного цвета и рисунка и вовсе не расстроилась, обнаружив, что он не сочетается ни с чем вокруг: мебель фирмы “Омега” выглядела тут глупо, а картины на стенах казались совершенно неуместными. Проблема была решена, когда Борису поручили выполнить мозаику также и для стен, но то, каким образом мисс Сэндз сделала свой заказ, вызвало в душе художника горькие чувства. Вот что он писал Хелен в Нью-Ромни:
Вчера мисс Сэндз пригласила меня на обед и попросила сделать мозаичные украшения также и на стенах холла. Я составил небольшой проект того, как можно это сделать, соединив мозаику со штукатуркой, и она дает мне 200 фунтов, что совсем мало, так как такая работа займет много времени. К счастью, у меня есть материал. Мне, однако, кажется, что она изумлена собственной щедростью.
Работы столько же, сколько и с полом, и те 80 фунтов таким образом превращаются в 160. Она призналась, что всегда считала пол подарком, и стало быть, теперь снова рассчитывает на подарок. Самая скромная цена за такую работу составила бы 500 фунтов. Но все же я думаю, что придется за нее взяться. Или, думаешь, мне стоит поторговаться и повысить цену хотя бы до 300? Злодейка хочет, чтобы все было готово к 1 октября. ‹…› Я был с Володей на Анонимной выставке [в Королевской академии?], и, к моему удивлению, ему понравились, кроме парочки прилизанных академиков, Гвавазе, Спенсер и мое окно. Он очень независим в своих суждениях.
Моя дорогая и любимая, твое письмо придало мне силы, и я ужасно хочу увидеть [тебя]. Наверное, мне следует приехать к тебе на несколько дней на следующей неделе. Ужасно грустно быть без твоего совета, глаз и милых рук.
Стены холла у Этель Сэндз были украшены портретами некоторых знаменитых друзей: Вирджиния Вулф спускается по лестнице, и вокруг ее головы сияют звезды; Литтон Стрэчи смотрит из окна своего дома на Каррингтон, она с нежностью глядит на него. У окна в клетке сидит попугай. Стены были покрыты штукатуркой, а фигуры, деревья и окна тонко намечены мозаикой. Наверху – четыре строчки по-русски красными и золотыми буквами:
О величайшая из всех моих потерь, Ты мысль, мелькнувшая, забытая сознаньем, И как ее ловлю с внимательным страданьем, Твоей души я так хочу теперь.Возможно, это посвящение адресовано Ахматовой. Не случайно оно звучит загадочно – такая манера была свойственна автору, увлекавшемуся туманными пророчествами и таинственными шарадами.
Мисс Сэндз решила, что атмосфера в холле получилась “веселая, раскованная и абсолютно очаровательная”. К сожалению, последующие владельцы дома так не посчитали – в наши дни стены частично закрашены. Когда я разглядывала мозаику на стенах, оставались только стихотворение и попугай.
В 1920 году пришел заказ от Вестминстерского собора сделать настенное панно с изображением блаженного Оливера Планкетта, ирландского католического священника XVII века, несправедливо обвиненного в измене и четвертованного в Тайберне[50]. Портрет мученика был сделан Борисом в полный рост. Он трактовался со всей серьезностью – традиционный образ, статичная фигура, облаченная в серебряно-золотые церковные одежды. Лицо, правда, небезупречно. Оно никак не согласуется с одеянием. На всей поверхности выступают неровности, потому что в то время Борис еще не придумал, что можно использовать для укрепления мозаики мелкую проволочную сетку.
Следующий важный заказ поступил из Королевского военного колледжа в Сэндхерсте. Теперь стало ясно, что мозаикой можно содержать семью. Но денежные заботы не оставляли Бориса, и его сын разгуливал по Хэмпстеду без ботинок.
Глава семнадцатая Шелли или Китс
Когда Борис вернулся к Хелен после войны, она ужаснулась произошедшей в нем перемене. Вместо изысканных манер и тонких художественных чувств, которые покорили ее, теперь в нем все чаще проявлялся грубый цинизм. Несомненно, многие мужчины меняются под влиянием военного опыта, главное в котором – возможность безнаказанного убийства. Возвращение к гражданской, цивилизованной жизни может оказаться потрясением и для солдата, и для его близких. Хелен почувствовала, что к ней вернулся варвар. К тому же ее оскорбляла связь Бориса с Марусей, от которой уже, казалось, невозможно избавиться – она стала почти членом семьи. Хелен больше не хотелось видеть мужа в своей постели, но тот почему-то все время там оказывался. Конечно, Борис был бы страшно раздражен, узнав, что он ей неприятен, и она могла бы превратиться в одну из тех женщин, которые после рождения детей уже не знают плотской любви. Как бы то ни было, Хелен оставалась натурой нежной и романтичной, отдающей предпочтение Китсу, а не Шелли.
Борис же, напротив, предпочитал Шелли. Его любимым английским стихотворением было следующее:
Опошлено слово одно И стало рутиной. Над искренностью давно Смеются в гостиной. Надежда и самообман – Два сходных недуга. Единственный мир без румян – Участие друга. Любви я в ответ не прошу, Но тем беззаветней По-прежнему произношу Обет долголетний. Так бабочку тянет в костер И полночь к рассвету, И так заставляет простор Кружиться планету[51].Хелен, должно быть, считала мужа ужасным лицемером, умудряющимся сочетать столь возвышенные представления с содержанием любовницы, да еще и в собственном доме. Изменял он Хелен и с другими женщинами. Но для него секс был чем-то совсем иным, нежели поэтические рассуж-дения о поклонении и любви. Несколько лет спустя он сказал своему подросшему сыну, что секс – это самое прекрасное, что дано испытать мужчине. И ему самому казалось вполне естественным получить в этом смысле от жизни все, что возможно. Он, без сомнения, оправдывал себя, когда, если обстоятельства тому благоприятствовали, искал наслаждения с другими женщинами, хотя по-прежнему любил и обожал свою жену.
Письма к Хелен 1920–1922 годов – нежные и дружеские, в них он беспокоится по поводу ее усталости, от которой она всегда страдала и на которую в год, когда у детей обнаружили туберкулез, у нее были все основания жаловаться. Но часто Хелен говорила об усталости как изнеженная знатная леди – например, если ее будили утром слишком внезапно, ей надо было еще долго оставаться в постели, чтобы оправиться от шока. Когда дети собирались в школу, она не вставала: с самых юных лет они сами готовили себе завтрак.
К 1922 году Хелен уже начала думать о том, чтобы уйти от Бориса. Она хотела продать дома на Понд-стрит, и на эти деньги, а также на небольшой доход, поступающий от шотландских родственников, жить в Италии. Однако, как она мне однажды призналась, поразмыслив над этой идеей, она сказала себе: “Если я с детьми уеду, что будут делать Борис и Маруся? Где они будут жить? И на что?”
Поэтому Хелен осталась. Тем временем Анастасия и Игорь пошли в довольно консервативную школу в Хэмпстеде. Но из‑за эксцентричных родителей учиться им было непросто. В своих мемуарах Хелен пишет:
Боюсь, я усложнила детям жизнь, потому что я одевала их не так, как было принято в обычных семьях. На меня оказал влияние стиль одежды Дорелии, среди прочего я носила большой черный плащ, из‑за чего другие школьники говорили детям: “Ваша мать – ведьма”.
А Игорю приходилось носить под шортами черные чулки с помочами, потому что мать считала, что ноги у него долж-ны быть в тепле. Без сомнения, потом в “маленькой блумс-берийской академии” Марджори Стрэчи на Гордон-сквер помочи у мальчиков удивления не вызывали.
Лето обычно проводили в Нью-Ромни, а на пасхальные каникулы Хелен брала детей к Джонам, сначала в Олдерни-Мэнор в графстве Дорсет, потом во Фрейн-Корт в Гемпшире. Здесь Анастасия и Игорь подружились с девятью детьми Джона, старший из которых, Каспар, был уже взрослым, а младшая дочь Вивиан почти одних лет с Игорем. Вивиан помнит, как Игорь варил суп из грибов, которые собрал в лесу, и как во время игры, когда она уронила мяч, сказал, что у нее “дырявые руки”, и девочка расплакалась.
Неподалеку от Олдерни-Мэнор жил Генри Лэм. У него был очаровательный домик в георгианском стиле[52] на Хилл-стрит в городе Пуле, и он часто навещал Джонов, особенно в отсутствие Огастеса. Когда он замечал, что девочки – Поппет, Вивиан и Анастасия – замышляют что-то против Игоря, он по доброте душевной отвозил мальчика к себе домой в собственной машине, которая мчалась, ревя и трясясь, по усаженной деревьями дороге со скоростью пятьдесят миль в час. Дома Игорь помогал ему красить лодку. Дорелия, когда любовные похождения мужа становились совсем уж ей нестерпимы, тоже уезжала в Пул и оставалась там со своим любовником.
Однажды на Пасху Огастес, увлеченный новым романом, уехал в Лондон, не сказав никому ни слова. Он никогда не устраивал ménage à trois, как Борис, но порой водил девиц к себе в мастерскую. Дорелия, у которой характер был посильнее, чем у Хелен, не стала бы терпеть постоянную соперницу. Но в этот раз Дорелия тоже исчезла. Женщин, чтобы вести огромное хозяйство, в доме хватало: Хелен, Эди – сестра Дорелии, их мать Макнил, прислуга. Куда она едет, Дорелия не сообщила никому, и со дня на день все ждали вестей. Но прошло две недели, а от нее не было ни звука. Дамы волновались все больше и даже собрались поставить в известность Огастеса, что было бы шагом весьма решительным. Тут в очередной раз девочки заявили, что не хотят играть с Игорем, мальчик вышел на дорогу и сел в автобус, идущий в Пул, купив билет на ту мелочь, что оказалась у него в кармане. По поводу ухода из дому восьмилетнего мальчика у Джонов волновались не слишком. Он прошел через весь город и нашел Хилл-стрит. Парадная дверь оказалась открыта, что было обычным делом в те времена. Войдя, Игорь направился в гостиную. К его изумлению, за роялем сидела пропавшая Дорелия и вместе с Лэмом исполняла дуэт в четыре руки. После того как ее убежище было обнаружено, беглянка покорно вернулась в семью.
Несмотря на взаимные измены, Джоны никогда не считали, что их брак не удался. Хотя однажды Дорелия сказала с горечью в присутствии Игоря: “Если Огастес не гений, я зря потратила на него свою жизнь”, из чего можно заключить, что она полагала, будто жертвует свою жизнь великому художнику, а не обыкновенному мужчине. Огастес, однако, привык к восхвалениям и не переносил критику, хотя Хелен всегда говорила ему что думает.
Вообще этот человек устрашающе действовал на всех, а малыши его просто боялись. Но хотя девять детей Джона страшились отца и, случалось, говорили о нем дурно, они не стали бы терпеть враждебное отношение к нему посторонних. Уиндем Льюис назвал Огастеса Джона “великим деятелем, в чью руку феи вложили кисть вместо меча”.
Борис и Хелен предпочитали бывать в Олдерни-Мэнор, когда Огастес отсутствовал. Им обоим не нравилось его грубое поведение и британское пристрастие к выпивке. Многолюдные приемы часто длились в Олдерни-Мэнор по нескольку дней, и пьяные гости укладывались спать в каретном сарае, оборудованном под мастерскую Огастеса.
Дом был построен в неоготическом стиле XIX века, он был ветхий и романтический, штукатурка и краска отслаивались и трескались. В глубине здания был высоко подвешен на веревке большой колокольчик, в который звонили, чтобы созвать всех к столу. Детям Анрепов Джоны казались людьми очень важными, ведь у них были слуги, автомобили, лошади для верховой езды и две ярко раскрашенные цыганские кибитки, в которых Игорь и Вивиан любили прятаться. Сын Дорелии Ромили часто брал своих двух сестер вместе с Игорем и Анастасией в долгие прогулки по болотам под проливным дождем, они шагали, увязая в грязи, и он рассказывал им удивительные истории о болотных человечках и феях.
Когда Джоны переехали в Фрейн-Корт, их образ жизни стал менее богемным. Вокруг было больше богатых и титулованных особ. Поппет и Вивиан серьезно занялись верховой ездой: Поппет увлекалась охотой, а Вивиан завоевывала призы на спортивных соревнованиях. Устраивались завтраки на шестнадцать и более персон, кто-то приезжал на собственных машинах без приглашения, слышался гул голосов многих гостей самых разных возрастов, и тогда из мастерской выходил Огастес в мрачном или веселом настроении – в зависимости от результатов утренней работы.
Рассказ Игоря дает представление об обществе, в котором он проводил свои пасхальные каникулы:
В семействе Джонов бродило много бредовых философских идей, хотя мальчики были умны и легко учились. Каспар очень рано покинул дом, чтобы стать морским офицером в Дартмуте. Он научил меня ездить на велосипеде по грязи, хотя у меня ноги еле доставали до педалей. Генри стал талантливым деятелем ордена иезуитов. А вот у Ромили точно были бредовые идеи. Он поступил в Кембридж, чтобы учиться инженерному делу, но учиться не хотел. Вместо этого он предпочитал спорить с преподавателями о теории Эйнштейна, о которой он, естественно, знал очень мало. Преподавателям было совсем неинтересно спорить с невеждой, поэтому, проучившись половину курса, он переключился на изучение английского языка. Девочки почти не получили образования, они занимались только верховой ездой. Из сыновей я дружил с Эдвином, который увлекался боксом. Сам Огастес был очень умным человеком, ему все давалось легко. Он мог прекрасно писать по-французски, хотя никогда этому не учился, мог хорошо говорить, если того хотел, но чаще молчал, пребывая в тяжелой депрессии, или пил. Думаю, депрессия и была причиной его пьянства.
Дом был всегда полон людей либо совершенно очаровательных, либо совсем уж отвратительных. Некоторые являлись в гости на уик-энд и никак потом не уезжали, за что все их тихо ненавидели. Додо (Дорелия) была человеком очень выдержанным и разрешала им жить в доме по полгода, пока и ее терпение не исчерпывалось. Она придерживалась строгих нравственных принципов касательно правил гостеприимства. Борис обычно заезжал на уик-энд, чтобы потом забрать семью назад в Лондон. Если Огастес оказывался дома, между ними возникал слишком сильный дух соперничества, который не давал Борису загоститься, хотя оба они уважали и любили друг друга.
Летом 1921 года мозаика, изображающая видения Иоанна Богослова, для Королевского военного колледжа в Сэндхерсте была закончена. Ее разместили в высоком своде позади алтаря часовни. У явившегося Иоанну “подобного Сыну Человеческому” серебристо-белые развевающиеся волосы и очи “как пламень огненный”. В деснице у него семь звезд, в левой руке – ключи ада и смерти, из уст выходит обоюдоострый меч. Впечатление, когда ступаешь в эту очень аккуратную, ничем не примечательную часовню, потрясающее – фигура захватывает все внимание зрителя, предвещая грядущие страсти. Мозаика выполнена из перламутра, золота, венецианской эмали; складки огромных рукавов закручиваются вокруг верхней части туловища синими, черными и красными линиями. Сверкающее серебро волос в сочетании с медно-красным сияющим фоном создает впечатление великолепия и ужаса.
Борис остался работой доволен и захотел устроить специальную экскурсию на шарабане, чтобы показать ее друзьям. На обратном пути он запланировал пикник.
Джон в городе, – писал он Хелен, находившейся в это время в Нью-Ромни. – Мы собираемся отправиться от его дома в воскресенье 26‑го. Не могла бы ты приехать 25‑го, а потом вернуться с Фейт [Хендерсон]? До свидания, моя дорогая. Я бы так хотел быть с тобой; в такое время плохо жить в Лондоне, и я постоянно полон нежнейшей любви к тебе. Твой Борис. Поцелуй за меня Бабу и Игоря.
Эту поездку запомнил младший сын Ванессы Белл, Квентин, которому тогда исполнилось одиннадцать лет, а его брату Джулиану – тринадцать. Среди приглашенных были Огастес, Ванесса и Клайв Белл с двумя сыновьями, Роджер Фрай, Дункан Грант, Фейт Хендерсон, затем светские дамы Мэри Хатчинсон (любовница Клайва), Кристабель Макларен и Лесли Джоуитт, Альваро Гевара (недавно написавший портрет Эдит Ситуэлл), Мейнард Кейнс и прочие, о которых ничего не известно.
Мы отправились довольно рано, – пишет Квентин, – и посетили украшенную мозаикой церковь. Потом выехали за город, останавливаясь в каждом красивом месте, где были холмы и ‹…› лес. Взрослые собрались вокруг костра, пообедали и запили обед шампанским. Потом они играли в “поцелуйчик”[53] – помню, Дункан поймал и поцеловал Лесли Джоуитт. Под конец играли в другую игру: поставили около десятка пустых бутылок и бомбардировали их другими (тоже, по-видимому, пустыми). Удачливее всех была Ванесса. Вскоре трава под деревьями покрылась ковром из битого стекла.
Джулиан и я, поев сэндвичей, пошли побродить одни, но не слишком далеко, так что видели, как веселятся взрослые, и были глубоко потрясены. Нас возмутил устроенный ими бедлам. Нас всегда учили, что к красивым уголкам природы следует относиться бережно. Только самый последний хулиган оставит после себя битое стекло. Такое поведение с точки зрения нравственности казалось нам тягчайшим преступлением. Впрочем, тогда у нас были странные понятия о нравственности. Нас совсем не поразило то, что произошло по дороге домой.
Я сидел между Ванессой и Мейнардом. В начале поездки случилась одна неприятность. Огастес нарисовал всех участников поездки на бумажных тарелках, взятых для пикника (одна из них до сих пор находится в Чарлстоне). Человек, сидевший рядом с Ванессой, утащил рисунок, принадлежавший тому, кто сидел перед ним, и отказывался его вернуть. Ванесса самым изысканным светским тоном попросила укравшего показать ей тарелку и, получив ее, тут же передала законному владельцу. Не ожидавший такого подвоха, вор возмутился, но, поскольку до драки дело не дошло, я потерял к происходящему всякий интерес и переключил свое внимание на Мейнарда.
(Борис рассказывал эту историю несколько иначе. Один третьеразрядный критик украл много тарелок. Когда же он отказался вернуть их владельцам, Кристабель Макларен, молодая леди, к тому времени уже довольно пьяная, вскочила и с криком “Вор! Вор! Кто ты такой? Откуда ты такой взялся?” схватила беднягу за горло. Третьеразрядный критик побелел от ужаса и вернул большую часть тарелок.)
Мейнард был счастлив, но стал еще счастливее, когда купил вечернюю газету и обнаружил, что на фондовой бирже что-то там поднялось – или, наоборот, упало. Он сказал мне, что благодаря этому выручил огромную сумму, и дал мне полкроны, что для меня тоже было огромной суммой. Мейнард стал разглядывать пешеходов, людей весьма респектабельного вида, возвращавшихся, наверное, с работы в городе. Они показались ему печальными, и он решил их немного развеселить. Когда мы притормозили у перекрестка, он высунулся из шарабана (так как он был открытый) и, приподняв шляпу, обратился к одному, судя по внешности, весьма состоятельному джентльмену с самым серьезным и участливым видом: “Простите меня, сэр, простите, но боюсь, что вы потеряли самоидентичность”.
Такие экспедиции нравились Борису: он любил смеяться, любил веселье и пирушки, любил эксцентричные выходки своих приятелей.
В 1924 году Дора Каррингтон, нуждавшаяся в деньгах, объявилась в мастерской на Понд-стрит, чтобы делать декоративные картины из стекла. К тому времени она и Литтон переехали в Хэм-Спрей-хаус в Уилтшире, где жили вместе с Ральфом Партриджем, которого любил Литтон. Поскольку Каррингтон любила Литтона, а Ральф Партридж любил Каррингтон, они образовали идеальный любовный треугольник.
Борис с Дорой Каррингтон и Франсис Маршалл в Хэм-Спрей.
Борису очень понравились замысловатые узоры на стекле, где переплетались изображения птиц и цветов. На задней стороне зеркала Дора выцарапывала пятна и линии и покрывала их краской или яркой, узорчатой фольгой, аккуратно извлеченной из шоколадок. Она имела явную склонность к утонченному викторианскому стилю. Но Борис посоветовал ей создавать рисунки более смелые и свободные. Потом он попросил ее украсить стеклянные вставки для своего бара между кухней и столовой. Дора использовала тонкое зеркало, и, как всегда, Борис так критиковал и поучал ее, что иногда ей приходилось исправлял работу пятнадцать раз, чтобы он остался доволен. В течение нескольких месяцев она практически жила в доме. Стеклянные вставки получились, по-видимому, очень красивые, и всем понравились, но были уничтожены строителями, когда семья распалась и маленькую террасу продали.
Одно из писем Каррингтон, вернувшейся в Хэм-Спрей-хаус, свидетельствует о дружбе, которая завязалась у нее с Хелен:
Суббота. Предательница! Больше никогда тебя не приглашу! А я только что вымыла вместе с Вим все подоконники в твоей комнате, чтобы продемонстрировать свою любовь к тебе. Какой смысл готовить обед по поваренной книге Марселя Булестена для таких варваров! Небеса проливают слезы ярости вместе со мной.
Дорогая Хелен, очень была рада повидаться с тобой вчера. Потом мне всегда кажется, что, общаясь с тобой, я слишком много говорю, но дело в том, что ты просто так влияешь на меня и превращаешь в болтунью.
Борису приветов не передавай, потому что он нарушил свое обещание. Литтон очень расстроен, Ральф тоже. Извинения бесполезны.
Если в этом месяце я снова буду в Лондоне, то зайду к тебе. Но этим летом я в Лондоне бываю нечасто и как-то утратила к нему вкус. Но теперь, когда ты там, я постараюсь приехать.
Наш серый кот только что сошел с ума, сделал несколько кругов по комнате, как скаковая лошадь, и исчез в трубе, прыгнув вверх сквозь языки пламени. Точно воскрес дух Блейка. Мы потушили огонь, и через двадцать минут кот спустился вниз весь в саже, но в здравом рассудке. Литтон утверждает, что он определенно Кошачий король. Дорогая Хелен, несмотря на твое двойное предательство, я повторяю свое вечное приглашение – пожалуйста, приезжай к своей Каррингтон, когда захочешь.
Р. S. Но только не в следующий уик-энд. В любое другое время. Пожалуйста, пиши мне иногда.
В 1923 году Роджер Фрай и его сестра Марджери были приглашены на обед на Понд-стрит. У Хелен было небольшое недомогание, так что Борис принес ее вниз в пеньюаре и усадил во главе стола. Ей было тогда тридцать восемь, она была хорошенькая и голубоглазая, с коротким носиком, изящная, полная сострадания к чужим неприятностям, интуитивно понимавшая многое. Она знала, что у Роджера Фрая есть жена, которая заперта в сумасшедшем доме, что у него любовные связи с Оттолайн и Ванессой, что он художник и критик, влиятельный знаток искусства, который восхищается талантом Бориса.
За обедом Марджери Фрай, бывшая тогда начальницей женской тюрьмы Холлоуэй и влиятельным членом Говардской лиги, борющейся за реформу пенитенциарной системы, рассказывала смешные истории из жизни своих заключенных, а Хелен обнаружила, что ей очень приятно беседовать с ее братом. Она рассказала ему о Каледонском базаре, огромной территории под открытым небом, где продавали подержанные товары и можно было очень дешево купить предметы антиквариата, так как в основном они были крадеными. На этом базаре обнаруживались настоящие сокровища. Он располагался между вокзалом Кингз-Кросс и Кэмден-роуд, недалеко от дома Роджера и Марджери на Долмени-авеню, и поскольку Фрай ничего не знал об этом месте, Хелен пообещала его туда отвести. На базаре Хелен нашла потрясающую восьмиугольную деревянную шкатулку XVIII века, которую Фрай тотчас же ей купил. Когда они вернулись на Понд-стрит, Борис, увидев шкатулку, сказал Роджеру кислым, оскорбленным голосом: “Как мило с вашей стороны сделать нашей семье такой подарок”. Затем Фрай купил подарки детям, но Борис их тут же вернул.
Среди заказов тех лет был заказ от генерала Стерлинга и его жены, ревностных католиков. Они видели панно Оливера Планкетта в Вестминстерском соборе и решили заказать мозаику для своей собственной часовни в Шотландии: на позолоченном куполообразном потолке ангелы возносят фигуру Христа. Для выполнения заказа Борис в качестве помощницы взял в Шотландию Марусю.
Незадолго перед отъездом Борис, обедая с Фраем, попросил его пригласить Хелен куда-нибудь, пока он будет отсутствовать. Говоря о собственности Анрепов на Понд-стрит, Фрай воскликнул: “Дома ведь принадлежат ей!” Тот факт, что Хелен сообщила Фраю такую подробность их семейной жизни, поразил и расстроил Бориса.
Стерлинги бы не одобрили любовной связи художника с Марусей, и, естественно, их поселили в разных комнатах. Но поскольку все вставали рано к общему завтраку, и только Маруся оставалась в постели и настаивала на том, чтобы завтрак ей подавали наверх, неодобрение по поводу помощницы все же было высказано.
Установив мозаику, Борис позвал Роджера Фрая посмотреть работу. К его раздражению, Хелен тоже приехала на поезде с их новым другом, который купил ей букетик фиалок. Этот подарок особенно оскорбил Бориса, он не был умиротворен даже реакцией Фрая на его мозаику: “Знаете, она мне действительно нравится. Хороша”. Он откровенно ревновал и был не в состоянии смириться с тем, что его жена имеет право симпатизировать кому-то другому или пользоваться чьей-то симпатией. Хелен не только уважала Роджера Фрая за его ум, еще больше она ценила его сочувствие к той печальной ситуации, в которой оказалась. Они начали тайно встречаться. Они полюбили друг друга. И теперь у Хелен был веский повод уйти от мужа.
Глава восемнадцатая Разрыв
Борьба Хелен за свободу началась в 1924 году. Ей было тогда тридцать девять, Борису сорок один, Фраю пятьдесят восемь. Дома происходили жуткие сцены: Борис кричал, побледневшая Хелен не могла вымолвить ни слова. После скандала сын находил ее за дверью в слезах. К декабрю она стала нервной и скрытной. Они прожили с Борисом двенадцать лет, за это время Борис поселил в доме молодую любовницу, имел многочисленные связи и вел себя с таким мужским эгоизмом, который больше напоминал нравы веков прошедших, чем мир свободомыслящих художников 1920‑х годов. Борис остался жить в Англии, поскольку его восхищала английская свобода личности, но о существовании женских свобод он даже не подозревал. В отличие от блумсберийского круга, и, в частности, от такого человека, как Клайв Белл, который имел любовниц, но одновременно признавал, что у его жены тоже есть право заводить любовников на стороне, Борис впадал в ярость при мысли, что Хелен уходит к другому. А так как он привык к постоянному успеху у женщин, полученное оскорбление становилось вдвойне невыносимым.
Этот большой русский медведь был известен своей недюжинной силой, а если его раздразнить, то и огромной яростью. Узнав, что Хелен и Фрай по-настоящему любят друг друга, что у них роман, он потерял всякое здравомыслие, твердя, что Фрай сошел с ума и его следует посадить в сумасшедший дом. Но поскольку из этого ничего не вышло, он грозился вывалять соперника в смоле и перьях.
Фрая эти угрозы пугали. Он не отличался хорошим здоровьем и никогда не придавал значения физической силе, поэтому ему пришлось купить пистолет. Фрай был джентльменом строгих квакерских принципов, и оружие это предназначалось не для убийства и даже не для запугивания противника. Он предполагал убить себя, потому что не смог бы стерпеть унижения.
Хотя Хелен все больше и больше боялась мужа, она придумывала способы, как тайно поддерживать связь с Фраем. Она сходила на почту кентского городка и узнала, можно ли получать адресованные ей письма там. Одновременно Ванесса и ее друг Джеральд Бренан предлагали свои услуги по отправке и получению корреспонденции. Нельзя было допустить, чтобы письма Фрая находились в доме на Понд-стрит – там их мог обнаружить Борис, поэтому, получив конверт, надписанный рукой Ванессы, Хелен тайно читала содержащееся в нем письмо и сразу же отправляла его назад на хранение.
В феврале 1925 года она начала письмо к Фраю так:
Роджер, дорогой, я закрылась в ванной и притворилась, что моюсь, – я должна написать хотя бы твое имя. Я так много хочу сказать, что мои слова становятся бессвязными. В марте Борис перенес свою постель в мастерскую и переселился вниз.
Но светская жизнь продолжалась. Анрепы приглашали на обеды Джеймса Стрэчи, Артура Уэйли и Берил де Зуте.
В тот год Хелен много времени проводила вне дома. Весной она уехала в Монкс-хаус, суссекский дом Леонарда и Вирджинии Вулф. В поезде, отходившем от вокзала Виктория, она писала Фраю:
Когда я приеду в Льюис, попробую позвонить.
Не знаю даже, как рассказать тебе о том, что произошло. Думаю, все к лучшему. Он решил не давать волю своим чувствам, поэтому стало, конечно, легче. В каком-то смысле он стал таким, как в начале нашего знакомства, и практически сделал мне предложение, сопровождавшееся соответствующими пылкими ласками, но я все-таки сумела сказать ему, что мне никогда не хотелось с ним спать, просто мое хорошее к нему отношение заставляло меня пытаться предоставить ему то удовольствие, на которое я была способна. Но даже после этого он не переставал целовать меня и пытаться “пробудить” какой-то ответ с моей стороны, что было очень неприятно. [Все это мало соответствует тому, что Хелен писала Борису в начале их совместной жизни. Но обычно в подобных кризисных ситуациях люди забывают то, что не желают помнить.]
Вчера я видела, как ты выходил из автобуса напряженный и обессилевший. Роджер, помни, что я люблю тебя. От тебя зависит все мое счастье.
Х.Прежде чем Хелен с детьми уехала на Пасху в Олдерни-Мэнор к Джонам, в Лондоне между Джеральдом Бренаном и Вирджинией Вулф произошла размолвка, причиной которой послужили сплетни о Хелен.
Мне было очень жаль услышать о Вирджинии, – писала Хелен Фраю. – Кто мог передать ей такую глупость! Она, судя по всему, пребывает в страшном раздражении. Джеральд встретил ее и Леонарда в парке, и она, как ему показалось, решила вонзить в него острый нож – тут же спросила насмешливым тоном, как поживает эта “обворожительная миссис Анреп”.
Ходили слухи, что у Джеральда с Хелен роман. Тем летом он жил в домике в Нью-Ромни и занимался обучением Игоря, давая диктанты по просьбе мальчика из ABC of Atoms Бертрана Рассела. Некоторое время у Хелен гостила Каррингтон, которая часто уединялась с Бренаном в его комнате для долгого полуденного отдыха. Когда Игорь поднимался наверх, то через щель в досках пола под дверью он мог наблюдать за парочкой, лежащей в постели в объятиях друг друга. Борис, однако, был ревнивым мужем и возненавидел Бренана. Он явился в Нью-Ромни и в гневе потребовал, чтобы учитель в доказательство своей мужественности помог ему красить домик негашеной известью. С этой целью оба мужчины надели купальные костюмы, Бренан – красный, позаимствованный у Маруси, Борис – черный. Смешали известь на улице в большом тазу. Когда они принялись за покраску дома, смесь кипела, пузырилась и ужасающе дымилась.
Впрочем, спустя совсем немного времени, на при-еме, устроенном в Лондоне Сибил Коулфакс, где танцевали танго, блэк-боттом и чарльстон, Борис и Бренан подружились и тайком сбежали в паб. К тому времени Борис понял, что его приятель – вовсе не соперник, хотя, возможно, союзник сторонников Фрая – блумсберийцы и прочие знакомые принимали ту или другую сторону в семейном скандале Анрепов. По словам Бренана, слывшего большим сплетником, Фрай собирался отплатить Анрепу той же монетой и, объявив безумным, запереть его в сумасшедший дом.
Письма Хелен из Олдерни-Мэнор были полны тревоги. Следующий отрывок вполне убедительно показывает, как несчастны были муж и жена:
О, Роджер, я просто должна написать тебе, но надеюсь, мне не придется отправлять это письмо. Сегодня вечером вернулся Борис, он выглядит ужасно, и я пишу одна в постели. Наверное, я так много времени провела вдали от него, что забыла, как все было раньше. Нет, теперь по-другому. Он меньше кричит, но больше страдает, и я просто не знаю, как это вынести, – и ничего не могу поделать. Сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь проявляла к нему большую любовь, если не считать тех случаев, когда я притворялась, что хочу его, – но ничто не помогает. Я не могу вступать с ним в какие бы то ни было отношения или заставить что-то понять. Мне кажется, нас разделяет целая вселенная. Он был почти счастлив, когда последний раз приезжал ко мне, но из‑за письма, в котором говорилось, что я обедала с тобой, на него нашло мрачное отчаяние. Он выглядит ужасно больным. Говорит, что скоро уедет в Париж и будет там выполнять заказ Курто. Он бы не был в таком кошмарном состоянии, если бы я не вела себя так низко и бездарно во всем и не была бы такой трусихой. Я ничего не могу ему сказать. Конечно, он не прав, но ведь он, как разозлившийся ребенок, и в самом деле ничего не может понять. Тебе даже трудно представить, чтобы человек настолько ничего не понимал. Я знаю, ты думаешь, что я не права, пытаясь показать ему, что он мне все еще небезразличен, и разрешая ему спать со мной. Я знаю, что из этого ничего не выйдет, но я долж-на поступать так. Я ничего не делаю против своей воли. Мне нужно показать ему, что он мне небезразличен, что так было всегда. Я хочу, чтобы он проявил благородство и отдал мне мою жизнь.
Далее она продолжает сетовать на свой слабый характер, нехватку мужества и рассуждает о том, что у нее его дети, а она совершенно не умеет их воспитывать.
Он не только русский (хоть и смеется над русской душой), но еще и сильный человек, а так как не может меня себе подчинить, то хочет страдать, причем вместе со мной. Вот мы и страдаем оба. Он в этом деле большой мастер, и страдание вполне реально для нас обоих – но результат нулевой. Я люблю тебя не меньше, а его ни чуточки не больше.
Хелен очень волновалась из‑за детей. Ее всегда удивляло их своеволие, и она справедливо считала их больше похожими на Бориса, чем на себя, по духу скорее русскими, чем англичанами. Анастасия была быстрая и яркая как метеор, но ограниченная собственным эгоизмом, который приводил ее к самым трагическим переживаниям, к самым бурным проявлениям любви и ненависти. Она обожала Бориса и не могла относиться к нему критически, тогда как с матерью, напротив, часто вела себя пренебрежительно, хотя всегда обращалась к ней за поддержкой и участием. Игорь, определенно принявший сторону матери, обладал грубоватым здравым смыслом и такими же сильными и порывистыми чувствами по отношению к людям, как и Борис. В характерах всех троих было что-то варварское, они совсем не походили на Хелен.
В мае Фрай слал Хелен письма из Франции, адресованные на имя миссис Белл (Гордон-сквер, 46). В одном из них речь идет о неукротимости Бориса:
Видишь ли, я думаю, с Борисом нужно обращаться твердо, тогда он станет благоразумен, но его особое влияние на тебя, которое похоже на почти физическое присутствие в твоей личности, делает его настолько безответственным, что невозможно предсказать, что он выкинет. Дело в том, дорогая, что ты столько времени позволяла Борису (и детям) всячески помыкать собой, что для тебя потребовать лишь самых элементарных прав уже означает взбунтоваться. Но я знаю, что буду неустанно ждать тебя и делать то немногое, что в моих силах, чтобы поддержать тебя после развязки. ‹…› Не могу даже вообразить, что потеряю тебя. Скажи мне, что ты полностью не подчинишься ему, прошу тебя. ‹…› Но где еще найти такую бесконечную пассивность. У тебя она сочетается с поистине героической терпеливостью. Ах, даже когда в душе у меня отчаяние, я люблю тебя за те качества, которые приводят меня в это самое отчаяние.
Во время очередного выяснения отношений на Понд-стрит неожиданно приехала Дороти Брет – только что из Мексики, где она была свидетельницей бурных сцен ревности между Фридой и Д. Г. Лоуренсом. Она уселась с рядом с Борисом и Хелен, держа наготове свою слуховую трубку. Как писала Мейбел Луган: “Это была не слуховая трубка общительного человека, стремившегося принять участие в разговоре. Нет. Вскоре я поняла, что это было подслушивающее устройство”. Борис не мог произнести ни слова, Хелен же безуспешно пыталась поддерживать беседу.
Одиннадцатого мая Фрай был взволнован и удручен, потому что не получил письма от Хелен в день, который, как ему казалось, был решающим (позже Хелен и Фрай, когда оказывались в разлуке, переписывались ежедневно – на протяжении всей их совместной жизни). Время тянулось медленно. На следующий день он писал: “Я чувствую, что ты уже не обманываешь его, как раньше, и что, в конце концов, это называется доброта”. Но совесть продолжала мучить Хелен:
О нас ходит много сплетен, и их передают [архитектору Джорд-жу Кеннеди], который в свою очередь пересказывает их Борису. Борис ведет себя благороднее и честнее, чем я. Сегодня утром у нас состоялся долгий разговор, и теперь я чувствую себя несчастной. Сейчас не могу рассказывать. Он уезжает, так как, по его словам, видит, что он ничего для меня не значит и что мне нужны только мои новые друзья. Что поделать ничего нельзя и говорить об этом бессмысленно, что он сам виноват. Он знает, что недостаточно цивилизован, чтобы согласиться на иные отношения, отличные от прежних, но я единственная, кого он глубоко любит, и он всегда будет любить меня, если я захочу вернуться. Он очень нежен и пребывает в отчаянии, что причиняет мне боль… Мне очень жаль Бориса, но я не сдаюсь.
Игорь и Анастасия теперь посещали школу Марджори Стрэчи на Гордон-сквер. В числе учеников были дети Хьюберта и Фейт Хендерсонов Тоби и Николас, дочь Ванессы и Дункана Грантов Анжелика, Кристофер Стрэчи, Джудит Ферз, а также Энн и Джудит Стивен. Игорь был крупный мальчик и любил верховодить над маленькими во время переменок, которые дети проводили в саду. Он связывал веревкой маленьких ребят и гонял их как лошадей, утверждая, что это его рабы. Однажды, размахивая плетью, он нечаянно ударил по лицу Тоби Хендерсон. Он говорил, что она мужественно перенесла боль, но взрослые приписали дикое поведение Игоря отвратительным русским обычаям стегать крепостных кнутом.
Годом ранее Ванесса решила, что ее дочери требуется побольше деревенского воздуха, поэтому вся школа вместе с прислугой переехала на летний семестр в Чарлстон, в суссекский дом Ванессы, стены, двери и камины которого были разукрашены картинами буйных фантазий четы Грантов. В 1925 году снова была организована летняя школа, и Хелен, несомненно, была рада предлогу уехать из дома на Понд-стрит от Бориса и Маруси, где ей приходилось прислушиваться к каждому скрипу на лестнице, когда она писала письма своему возлюбленному.
Роджер, сердце мое, – писала она Роджеру из Монкс-хауса в июле, – как бы я хотела, чтобы ты был здесь. Тут так чудесно. Какие божественные женщины Вирджиния и Ванесса, как все наполнено их присутствием. Быть в их доме – все равно что быть с ними, не то чтобы успокаиваешься, но это придает жизненные силы – чувствуешь, какие это неприступные столпы. Ты совсем другой, ты – это реальная жизнь, и мне почти страшно. ‹…› Я так счастлива благодаря тебе, хоть и без тебя. Не могу вообразить, что бы было, если бы ты оказался здесь, в этой тишине, и нас с тобой ждали бы дни и ночи, полные покоя. Я очень рада, что нахожусь вне досягаемости болтовни Марджори. Не понимаю, как ей удается создавать впечатление такого ужасного шума. Мне, несомненно, нравится быть одной. Даже с Ванессой или Вирджинией мне не хотелось бы разделять сегодняшний вечер. Я все еще чувствую себя довольно усталой, но вполне живой, действительно существующей и спокойной. ‹…› Когда-нибудь у нас впереди будут чудесные, тихие дни, и ничто не сможет помешать течению времени – так что нам не нужно будет постоянно касаться друг друга и даже разговаривать.
Неожиданно в Монкс-хаус приехала из Франции Луиза Мейтленд. Вот как описывает ее приезд Хелен:
Роджер, дорогой, только что пришло твое письмо, и я успокоилась, но до него появилась мама – конечно, без предупреждения – около 6.30 утра. Она пришла пешком из Льюиса. Зачем? Никто не знает. У нее удивительная способность делать то, что непременно расстроит. Я ожидала чего угодно, но только не ее трагического голоса под окном, который меня разбудил.
Далее Хелен пишет, как она была “разбита” из‑за столь раннего пробуждения.
В октябре вновь груз мыслей о том, что нужно Борису, переполняет ее жалостью:
Я думала о нем и поняла, как он мог быть счастлив, если бы нашел такую женщину, которую бы по-настоящему искренне полюбил. ‹…› Маруся – не такая, она слишком глупа, хотя ему с ней проще, чем со мной.
Однако в другом письме читаем:
Он привлек меня к себе, чтобы посадить на колени. Я приблизилась, и он сказал: “Укрощенная, ты придешь”. Но я ответила: “Дело не в том, что укрощенная или неукрощенная, просто ты мне небезразличен”. – “Да, это ужасно, мне бы больше хотелось, чтобы я тебя укротил”.
Марджори Стрэчи полагала, что им нужно разойтись. Без сомнения, с ней были согласны все блумсберийцы. В качестве советчика, который бы мог убедить Бориса, предлагались разные кандидатуры: одним хорошим знакомым был Ральф Партридж, другим Джордж Кеннеди, еще был психоаналитик Адриан Стивен, брат Вирджинии и Ванессы, с которым Борис, пожалуй, мог разговаривать более открыто, чем с другими. В Рождество, которое многие семьи почему-то предпочитают не справлять, обстановка на Понд-стрит стала еще более мрачной и напряженной. Анастасия слегла с гриппом, и у нее разболелось ухо. Хелен писала своему возлюбленному дрожащей рукой:
Все это такой кошмар. Я словно парализована. Я смотрю на него и не верю своим глазам. Он такой несчастный, думаю, это значит, что он снова в здравом уме. Мы видимся только в комнате Бабы и когда едим. ‹…› Она очень больна, и ночные боли, кажется, ужасно расстроили ее нервы. Теперь она боится оглохнуть и, по-моему, испытывает ко мне отвращение, ее почти до безумия раздражает все, что я говорю или делаю.
В другом письме, рассказывая о болезни Анастасии, Хелен говорит, что дочь так злобно вела себя с ней, что она вышла из комнаты. Анастасия тут же стала просить ее вернуться – “умоляла меня не уходить почти с ненавистью. Помню, как я сама испытывала едва ли не безумную ненависть к своей матери”.
Третьего января 1926 года Борис отправил теще отчаянное письмо, в котором говорил о том, как он несчастен в связи с безрассудной влюбленностью Хелен в этого омерзительного Фрая, как пострадают дети, если они разведутся, как целый год он не мог работать и его здоровье подорвано. Он считал, что нарушение Хелен супружеского долга никак не связано с Марусей и что это, наверное, вызвано переломом в ее личной жизни.
Остался черновик ответного письма миссис Мейтленд:
Какими бы ни были Ваши отношения с М[арусей], совершенно невозможно, чтобы Вы просили Хелен смириться с ее дальнейшим присутствием в ее доме, и, должна сказать, я была потрясена, узнав, что вы привезли ее назад. [Следующие два предложения вычеркнуты.] Не много найдется женщин, которые заставили бы себя оправдать ту жизнь, которую Вы навязали Хелен, и уж конечно я к ним не принадлежу. Если М. нужна Вам для работы, то ей следует помогать Вам, зарабатывая себе на жизнь, но, во всяком случае, не в доме Хелен. Борис, как Вы можете быть таким слепым и глупым!
Борису нравилась Луиза Мейтленд, и, возможно, ее вмешательство сыграло положительную роль. Хелен обрадовалась поддержке матери, у которой была “удивительная способность делать то, что непременно расстроит”. Впервые в письме к Фраю она говорит о ней тепло:
Мама была просто великолепна. Вы с ней, любовь моя, совершенно одинаково смотрите на вещи! Борис приехал в Париж и беседовал с ней, об этом стало известно здесь – она сама передала. Мама выдала Борису довольно много наставлений о семейной жизни и поддержала меня во всем. Она хочет, чтобы я обратилась к адвокату, и думает, что развод – единственный выход. ‹…› Она просто поразила меня своей мудростью, умом и верностью суждений (возможно, потому что они вполне гармонировали с моими). Маруся – вот единственное, из‑за чего она приходит в ярость.
Миссис Мейтленд уже однажды вмешивалась в жизнь дочери в кризисный момент. Когда Хелен переехала жить к Борису в парижскую студию, она прочла нотацию Юнии, требуя, чтобы та немедленно уезжала. Теперь, когда Маруся поселилась в их лондонском доме, она прочла нотацию Борису, требуя его отъезда.
Четырнадцатилетняя Анастасия была на мать чрезвычайно зла, считая, что та нечестно обошлась с отцом. Игорь же, видя страдания матери, принял ее сторону. Анастасию отправили в интернат Хейз-Корт, куда она вновь вернулась после рождественских каникул на весенний семестр 1926 года.
В середине января Марджори Стрэчи пришла вместе с Игорем в гостиницу “Империал” на Рассел-сквер, где их встретили Хелен и Луиза Мейтленд. После чая Хелен, ее мать и Игорь сели на поезд, идущий с Паддингтонского вокзала до станции Паркстон графства Дорсет. В гостинице “Хейвен” в Сэндбэнксе были заранее забронированы номера.
Хелен ушла от мужа.
В согласии с матерью она жила недолго, в ее письмах к Фраю содержатся жалобы на то, что ей стоит больших усилий обеспечивать матери хорошее настроение. Но миссис Мейтленд, к счастью, пожелала вернуться в Париж, к своим занятиям живописью. 12 февраля 1926 года дочь получила от матери следующее сочувственное- письмо:
Анастасия Анреп, середина 1920‑х.
Париж, 14-й округ, Рю Персеваль, 16.
Моя драгоценная, спасибо тебе большое, спасибо большое за письмо из Хай-Кокетт, которое я обнаружила, придя домой к обеду сегодня вечером. Я ответила на твое письмо в тот же день, как отвечаю и на это, то было помечено 7 февраля и адресовано в Олдерни-Мэнор. Это я собираюсь отправить Род-жеру, так как не уверена, станут ли его пересылать тебе из Олдерни или с Мэллорд-стрит. Я здорова, только устаю, потому что непрерывно работаю. Не расстраивайся из‑за того, что может сделать или сказать Борис. Я думаю, пытаться щадить его самолюбие – дело безнадежное. Он просто хочет делать все наперекор, потому что не может подчинить тебя. Честное слово, не знаю никого с таким талантом прекословить. Я сразу в нем это заметила – на редкость бессмысленный эгоизм. Слушайся Роджера Фрая – он английский джентльмен (уже одно это многое значит) и твой адвокат. У тебя будет масса возможностей проявить доброту к Борису, после того как все уладится, – он всегда будет готов принять “щедрость твоей души”. Мужчины в большинстве своем странные создания, но англичане – самые лучшие на свете джентльмены! Чем больше живу, тем больше я в этом убеждаюсь. Бедная моя овечка, я рада, что ты провела одну ночь вне дома – бедняжка [Анастасия] имеет свои резоны, и ее слабость наследственная. Как бы я хотела помочь тебе, дорогая, но в настоящее время, вплоть до нового денежного перевода, у меня нет ни су, и я живу очень стесненно. Бабе, возможно, понадобится несколько лет, чтобы преодолеть дурной пример, который подавал ей отец в течение всей ее недолгой еще жизни, и тебе не следует слишком печалиться, дорогая, потому что на самом деле она тебя любит, но не осмеливается проявлять свои бурные чувства в школе и срывается на тебе.
Думаю, он вернее других знает, где ты находишься.
В последнем письме я просила тебя сказать мистеру Бренану, что хотела бы снять его виллу на год с 1 июня за 20 фунтов. Мне не удалось самой ввернуть об этом словечко – он надавал мне столько советов по поводу Бориса, тебя и Маруси, когда узнал от “Фрая”, как он его назвал, что ты живешь у мистера Лэма! Не очень хорошая манера, подумала я, к тому же похоже на сплетни; впрочем, на виллу это никак не повлияет. Пойду и отправлю письмо сегодня же, уже становится поздно, а так как вокзал Монпарнас – единственное безопасное место, то больше писать не буду. Дорогая моя, предоставь Бориса адвокатам. Конечно, я напишу Бабе и мальчику [Игорю] тоже, если ты пришлешь мне его адрес, – вечером я не могу рисовать!
Твоя любящая мама.Когда Борис понял, что примирение невозможно, он отправил Хелен письмо, в котором спрашивал, может ли он арендовать у нее дом на Понд-стрит, поскольку у него хранится там несколько тонн мозаики, построена печь и вообще нет другого дома. Хелен согласилась при условии, что он будет уезжать, когда она с детьми будет бывать там на каникулах.
– Нет! – сказал он. – Прятаться от детей для меня абсолютно невозможно!
О романе Хелен и Фрая, естественно, ходило множество сплетен. Этель Сэндз писала своей подруге Нэн Хадсон:
Борис чувствует, что не может согласиться с мнением блумс-берийцев в этом деле, и у них произошел разрыв. Как ужасно для бедного Бориса потерять свою родину, состояние, положение, а теперь еще и жену. Карьера его, безусловно, связана с передовой группой художников, которой управляет Р. [Роджер]. ‹…› Конечно, я подозреваю, что Борис сам не был le mari le plus fidèle[54], что ослабляет его позиции.
Джордж Кеннеди попытался заставить Бориса подписать документ, подтверждающий, что он принимает на себя долг в размере 2000 фунтов (предположительно принадлежавших Хелен), на которые они оба жили, пока Борис не мог найти работу в конце войны. Поверенный, к которому обратился Борис, заявил, что никаких оснований брать на себя этот долг у Бориса нет. Наконец поверенный Фрая написал Борису с просьбой о встрече, чтобы обсудить его будущие отношения с женой. Письмо это осталось без ответа. Борис увиделся с Хелен только после смерти Фрая восемь лет спустя.
Глава девятнадцатая Работа
Важные для карьеры Бориса мозаики были созданы до того, как семейный разлад достиг своей кульминации. Одна мозаика была сделана для Галереи Тейт. В начале 1923 года правление и Чарльз Эйткен, директор галереи, который в свое время рекомендовал Борису Максима Литвинова для работы в Русском правительственном комитете, начали обсуждать вопрос выделения средств для мозаичного пола в Галерее II. Директор сообщил правлению, что мистер Анреп оценил работу вместе с материалом в 675 фунтов и что сумма в 420 фунтов уже ему обещана. Эйткен надеялся увеличить эту сумму. В любом случае мистер Анреп готов выполнить работу, какой бы ни была последующая выплата. Правление решило выплатить сначала 100 фунтов, при условии что Управление общественных работ Его Величества проголосует за выплату такой же суммы. 100 фунтов также пообещал сэр Джозеф Давин.
В 1919 году Фонд национального художественного собрания не без труда приобрел акварельные иллюстрации Блейка к “Божественной комедии” Данте. Фонд хотел, чтобы эти работы хранились вместе и не распродавались по отдельности. Правление Галереи Тейт, рассчитывая выставить их в наилучшем интерьере, поручило Борису украсить пол соответствующей мозаикой. Для Бориса это была удача.
Галерея зала Блейка, как известно, по форме восьмиугольная и составляет тридцать футов в ширину. Посредине находится решетка, через которую подается теплый или холодный воздух, чтобы поддерживать постоянную температуру. Эта решетка оказалась в центре рисунка Бориса, изображавшего восемь остроконечных пирамид мерцающего пламени, которое словно бы полыхало из-под решетки в виде острых клыков. За пирамидами находилось восемь многоугольных панно, содержащих таинственные цитаты из блейковского “Бракосочетания рая и ада”:
Знай, что в стоячей воде отрава; Бездеятельное желание рождает чуму; Лиса кормит себя, льва кормит Бог; В излишестве – Красота; Пруд копит воду, ручей расточает; Упорствуя в глупости, глупец становится мудрым; Очи огня, ноздри воздуха, губы воды, борода земли; Львиный рык, волчий вой, ярость бури и жало клинка Суть частицы вечности, слишком великой для глаза людского[55].Выбор цитат типичен для весьма необычного сознания Бориса, где совмещались поэзия, юмор, мудрость и намеренная эксцентричность. В его собственных стихах появлялись пророческие пословицы, многозначительные или бессмысленные высказывания о земных и неземных вещах. Он ощущал себя поэтом-художником, чей дух пребывает в особой гармонии с духом его великого предшественника Блейка.
Борис понимал, что его мозаика не должна соперничать с акварелями и рисунками, развешанными на стенах, поэтому выбрал неяркие цвета. Красное пламя было выполнено розовой мареной, но приглушено серым мрамором; фон плесневело-черный; картины, иллюстрирующие цитаты, вместе с надписями представляли собой многоугольные панно.
Семнадцатого октября 1923 года, когда мозаика была уложена, правление произвело осмотр пола, и директору было поручено отправить художнику письмо, выражающее всеобщее одобрение. После чего проголосовали за выделение еще 100 фунтов. За эту работу Борис, кажется, получил всего около 1500 фунтов, частично собранных фондом, которым управлял генерал Стерлинг.
На приеме, устроенном в связи с окончанием укладки пола в октябре 1923 года, великий князь Михаил, по-видимому из желания простить вестника его несбывшихся надежд, открывал церемонию. Когда Хелен спросила, следует ли ей сделать реверанс великому князю, Борис, бравируя или капризничая, ответил “нет”.
В своем дневнике за ноябрь Вирджиния Вулф записывает, как она вместе с Литтоном Стрэчи ходила в Галерею Тейт смотреть новую мозаику:
Там был и Анреп; его цветной пол весь переливался зеленым и коричневым, как морские волны; не слишком хорошая метафора, ибо на самом деле рисунок очень сжатый, сильный, содержательный. Стайки школьников натирали его. Так мне объяснил Анреп, от которого исходил довольно сильный запах виски.
В 1923 году была закончена и мозаика для другого пола, которую заказала Лесли Джоуитт, изысканная жена адвоката Вильяма Джоуитта, стремившаяся не отставать от художественной моды. Мозаика предназначалась для их переднего холла в Мейфере и изображала модную даму в различных позах: за туалетным столиком, в оперной ложе, смешивающую коктейли и разговаривающую по телефону на диване.
В июне Роджер Фрай написал статью для “Берлингтон мэгэзин” под заголовком “Современная мозаика и Борис Анреп”. Конечно, это было до того, как Борис впал в ярость, узнав о романе своей жены с критиком. Вот что среди прочего говорилось там об Анрепе:
…редким ощущением качественных характеристик используемого в работе материала он обладал всегда, но творчество его в своем развитии свидетельствует о постоянном и поразительном совершенствовании, к тому же в том направлении, которое обычно трудно дается художникам. В своих ранних мозаичных работах он обнаружил редкий вкус в отношении цвета и иных художественных средств; он также продемонстрировал тонкое чувство композиции и равновесия в мозаичном рисунке, хотя, кажется, слишком увлекался решением чисто технических проблем. Искусство мозаики, попав в руки к коммерческим штамповщикам, пришло в полный упадок, и совершенно естественно, что художнику пришлось начинать все заново, обучаясь у великих мастеров прошлого.
Далее Фрай пишет, что мозаичный пол у Джоуитта
свидетельствует о том, что мистер Анреп достиг настоящего мастерства в выбранном им материале. Здесь он наконец-то может раскрыть абсолютно современную тему, повседневную жизнь модной дамы 1922 года, в манере, относящейся к художественному видению сегодняшнего дня и непохожей на манеру никакого другого периода в истории искусства, и все же – в этом-то как раз заключается триумф художника – раскрыть ее с таким же точно ощущением монументальности и прочности материала, какое демонстрируют нам византийские мозаичисты.
Фрай объясняет, что этот материал годится не только для религиозных сюжетов:
Мистер Анреп показал, как прекрасно подходит мозаика для украшения интерьера частных домов и светских общественных зданий и что, несмотря на кажущуюся негибкость материала, используя его, можно творить в величественном стиле монументального дизайна так же остроумно и озорно, как и используя любой другой материал.
Фрай отмечает лукавые намеки художника на бытовые детали повседневной жизни – роль, которую играет телефон, выражение лица дамы, обернувшейся к зеркалу, чтобы увидеть, как сидит на ней платье. В мозаике “За туалетом” он обращает внимание на потрясающий эффект веселого блес-ка, подобного электрическому свету, падающему на тело, шифон и мебель. “Только художник, овладевший мастерством в данной технике, мог с легкостью использовать такие сложные и неожиданные находки”.
Несколько слов о композиции и расположении этих картин. Пол покрыт темно-зеленым мрамором с многочисленными прожилками черного и белого цвета. В нем полностью утоплены панно, которые расположены в геометрически строгом порядке вокруг центра-восьмиугольника. Сами панно выполнены из кубиков мрамора различных цветов, главным образом черного, серого, тускло-зеленого, оранжевого, золотистой охры и белого. Эти камни мягких тонов производят удивительное ощущение легкости и нарядности, играя на основном цвете поверхности – насыщенном зеленом. При всем том возникает ощущение исключительной безупречности и сдержанности.
И наконец Фрай оценил то, что пол не контрастирует с дизайном здания XVIII века и мозаика идеально сочетается с интерьером.
Такая похвала знатока и ведущего выразителя духа современного британского искусства должна была произвести впечатление на людей высшего круга. Мозаичистом заинтересовались Национальная галерея, Банк Англии и Лондонский греческий собор.
Однако следующий заказ пришел от Литтона Стрэчи, вместе с Каррингтон и Ральфом Партриджем переехавшего в Хэм-Спрей-хаус неподалеку от Инкпена в графстве Уилтшир. Литтону понадобилось облицевать мозаикой камин в спальне, который в руках Бориса превратился в нечто необыкновенное и фантастическое. Поверху художник расположил обнаженную фигуру обладавшей мальчишеским телосложением Каррингтон в виде гермафродита. Сочетающий в себе оба пола, он медленно плывет, соблазнительно поглядывая из-под вытянутой руки. Скрытый намек на лесбийские склонности Каррингтон и на пристрастие Литтона к мальчикам здесь вполне очевиден. На обеих прямых боковых опорах изображены скалы, на которых стоят вазы с декоративными ветками – все бледно-голубое, желтовато-коричневое и черное с красными световыми бликами. Это самая сюрреалистическая мозаика из всех произведений Бориса, смелая и одновременно загадочная по своим скрытым смыслам.
Для работы Борису нужна была большая мастерская, но после развода оказалось, что договориться с Хелен о доме на Понд-стрит невозможно. В любом случае, существовал договор с Северо-западной больницей, что дома в стиле королевы Анны могут быть проданы только этому учреждению. Вскоре, купив дома, больничные власти приняли решение их снести. У Бориса с Марусей не осталось ни дома, ни мастерской – они практически оказались на улице. Тогда скульптор Стивен Томлин предложил полуразвалившуюся студию в Норт-Энд-Уэй, рядом с Хэмпстед-Хит. Сначала Борис отправил туда Марусю, а потом и сам последовал за ней, оставив на Понд-стрит несколько тонн мозаики, которую было слишком дорого перевозить на новое место. Его теперешнее жилье находилось в ужасающем состоянии – древесина прогнила, узкие окна располагались под самым потолком, со стен свисали клочья обоев. Выяснилось, что здесь когда-то размещалась прачечная. Но Борис и Маруся все же переехали – больше им жить было негде.
При больших заказах, на выполнение которых долж-ны были уйти годы, в конце 1920‑х годов возникла необходимость в более просторном помещении, где поместились бы рабочие, огромный стол, мешки с мрамором и смальтой, а также деревянные ящики с мозаикой, готовые к перевозке. Зная, что во Франции рабочая сила дешевле и желая избежать тяжелых воспоминаний, Борис отправился в Париж в поисках новой студии. Там его старый друг Пьер Руа предложил ему снять мастерскую, которой он больше не пользовался, в доме номер 65 на бульваре Апаро, и Борис с благодарностью принял его предложение.
Маруся Волкова за работой, 1929 год.
Здесь Борис мог рассчитывать на дешевый труд русских эмигрантов. Им нужны были деньги. Русские в Париже сильно нуждались, и многие начинали новую жизнь, работая шоферами такси. Даже те примы-балерины, которые некогда вышли замуж за великих князей в надежде на спокойную и счастливую жизнь после ухода со сцены, например Кшесинская и Егорова, теперь были вынуждены много работать, а поскольку их звездный час миновал, им оставалось только давать уроки балета профессиональным танцорам, приезжавшим со всего света. Их мужья рылись в мусорных корзинах.
Борис и Маруся с сотрудниками в мастерской.
Николас Хендерсон делится своими детскими воспоминаниями о Борисе и его мастерской:
Мужчины сваливали мешки на столы вроде козел и кололи мрамор на кусочки; женщины болезненного вида и безропотные, помогали делать мозаику, словно составляли гигантскую картину-головоломку. Сам Борис, одетый, как и его рабочие, в комбинезон, сидел на высоком табурете. С сигаретой “Голуаз” на нижней губе, вытянув большую руку над столом, он делал самые трудные части мозаики и наблюдал за всей работой с видом добродушного хозяина.
В мастерской слышался постоянный говор, то поднимаясь волнами, то резко обрываясь, и однажды он достиг такого накала, что я испугался, что разразится скандал. Борис, заметив мое волнение, успокоил меня: “Ничего страшного. Это мы так по-русски разговариваем”. Слово “Russian” (русский) он произносил любовно, с раскатистым “р”. Сказав это, он достал из разных мешков большие пригоршни разноцветной мозаики и дал мне. Неудивительно, что по сравнению с этим восхитительным миром пещера Аладдина в рождественской пантомиме казалась мне совсем неинтересной.
Обедал Борис обычно в бистро за углом, но однажды в начале тридцатых, майским днем, когда мы с матерью попали в Париж на обратном пути из Швейцарии, где я долгое время находился в клинике, он настоял на том, что наш приезд следует отпраздновать, и повел нас в роскошный русский ресторан. Он считал, что в ресторанчиках на Сен-Жермен, где в те годы любили бывать писатели и художники, нет ничего особенного. Не разделяя в этом вопросе взглядов богемы, он предпочитал более изысканные, более блистательные районы Парижа, например Елисейские поля, которые показывал нам с гордостью и любовью, когда мы ехали в такси в ресторан рядом с площадью Звезды[56].
Его отношение к еде было не таким, как у других взрослых. Это было не равнодушие, но и не жадность. Он относился к еде с тем же спокойным вниманием, с каким относился ко всему, чем занимался. Он был прекрасным поваром и часто предлагал приготовить что-нибудь, когда обедал или ужинал у друзей. Он был специалистом по приготовлению майонеза, требовавшего какого-то особенного самозабвенного помешивания. ‹…›
Щедрость, с которой он пригласил нас в ресторан, была для него типична. Он никогда не был богат, но, по-моему, от бедности тоже не страдал. Ему удавалось делать то, что он хотел, и это касалось в основном работы и друзей. ‹…› В путешествие, как и во все остальное, он умудрялся вносить свою индивидуальность, именно это, как мне кажется, имели в виду люди, говорившие – притом довольно часто – о его обаянии.
Оказавшись в Париже, Борис стал играть в теннис в Русском теннисном клубе. Теннис всегда был его любимым видом спорта. В 1920 году он даже участвовал в Уимблдонском турнире в соревнованиях мужских пар. Он так нервничал, что утром в день матча покрылся ужасной сыпью, и матч они с партнером проиграли. Вот что пишет Николас Хендерсон:
В детстве я еще раз был в Париже весной, и тогда, помнится, все вокруг постоянно сверкало на солнце, везде стоял запах сигарет “Голуаз”, кофе и muguet[57], и Борис привел меня в свой теннисный клуб. Занятия спортом были так же присущи ему, как и предрассудки. Мы сыграли одиночную игру. Разница в возрасте составляла у нас, наверное, лет тридцать, но это не только не помогло мне, но даже наоборот. Борису было трудно противостоять, отчасти потому, что его рука подавала мяч с медвежьей силой, отчасти потому, что ему очень хотелось выиграть, что подкреплялось всевозможными маневрами, делавшими позднейшие теории Стивена Поттера наивными и типично британскими. После его победы на корте мы перешли к столу для пинг-понга, где наше противостояние закончилось с тем же результатом. Разница состояла лишь в том, что в этой игре сверх намеченной программы превосходство Бориса проявилось еще красноречивее. Он заявил, что раз уж я такой молодой и физически крепкий – льстецом он был искусным, – то совершенно очевидно, что мне, а не ему следует бегать за ускакавшим шариком. В результате я не всегда успевал занять место, чтобы принять подачу, которую он делал с виртуозностью настоящего жонглера.
Глава двадцатая Париж и Нью-Йорк
Жизнь в парижской студии отнюдь не отличалась роскошью, но при курсе 152 франка за один фунт стерлингов можно было существовать, тратя совсем немного. В квартире была маленькая спальня наверху, в которой помещалась только двуспальная кровать; внизу находилась мастерская с высоким потолком, где почти все пространство занимал рабочий стол, а позади нее еще одна маленькая комната. В подвале располагалась кухня, в которой была установлена ванна. Всюду лежал толстый слой пыли от камней, использовавшихся для мозаики. Крошки и осколки покрывали пол и скрипели под ногами. Везде пахло едким сигаретным дымом, потому что Борис и Маруся курили целыми днями.
Они ужинали, а иногда и обедали в соседнем ресторане Les Trois Marronniers[58], владельцем которого был мсье Бонду, служивший ранее у одного из Ротшильдов. Вскоре они подружились. Борис всегда вызывал симпатию тем, что умел с легкостью преодолевать возрастные, классовые, профессиональные и интеллектуальные различия. Он не был снобом, хотя некоторые люди действительно не вызывали у него интереса, например, жадные до денег бизнесмены, люди, закованные в броню условностей, или педанты, не умеющие находить прелести в человеческих крайностях. Таких он просто не хотел знать. Не слишком-то нравился ему и интеллектуальный снобизм блумсберийцев, хотя он отдавал должное их способности тонко судить об искусстве.
Теперь Анастасия и Игорь приезжали навещать его каждые рождественские каникулы. Спали они в гостинице и, пока в доме делали мозаику, бродили по Парижу.
Андрей сортировал мозаику по цветам за десять франков в день. Он считал плату слишком маленькой, потому что если учесть траты на проезд в метро, на то, чтобы поесть в перерыв, и на пачку сигарет, то оставалось совсем немного. Но именно такую сумму Борис платил всем своим работникам.
Как только Володя Шуберский и его сын оказывались вместе, их охватывало чувство взаимной ненависти. Володя считал Андрея “посредственностью”, потому что тот хоть и сдал экзамены на степень бакалавра, но не имел никаких отличий – не получил ни серебряных, ни золотых медалей, как Анрепы или Шуберские по окончании гимназии. Володя жаловался, что Прасковья Михайловна в свое время была чересчур строга к детям, но сам он вел себя точно так же по отношению к собственному сыну. Он постоянно читал Андрею нотации о его недостатках и самолично решил, что тому следует изучать химию в Страсбурге. Вопрос был поставлен ребром: либо химия, либо вообще ничего – и никаких компромиссов. Позже Андрей писал с глубокой обидой: “Что касается моего отца, то у него был ограниченный, самоуверенный и самонадеянный подход ко всем аспектам человеческих отношений, не терпящий ни возражений, ни обсуждений”.
Василий фон Анреп.
Но когда в Париж приехал В. К., крайне удрученный разводом Бориса и угрозами Глеба сдать отца в приют, в доме Володи отнеслись к старику хорошо. Кровать В. К. стояла в гостиной, где он проводил большую часть дня, читая русские и французские газеты. В 1927 году старик почувствовал, что умирает. Эраста вызвали из Югославии, Борис приехал из Англии, и, когда наконец приехал младший сын, В. К. сказал: “Глеб здесь, теперь я могу уйти”. Он умер в ту же ночь, оставив написанные по-русски подробные указания относительно своих похорон:[59]
Моим детям после моей смерти.
Прошу моих детей исполнить мою последнюю волю:
1. Тело мое следует сжечь, а пепел развеять по ветру.
2. Отслужить одну панихиду – домашнюю заупокойную службу.
3. Никаких венков, никаких цветов, никаких отпеваний, глубокого траура и проч.
4. До кремации не должно быть никакой информации или объявлений в газетах.
5. Никаких панихид в последующие дни, когда полагается осуществлять этот обряд.
6. Объявление о смерти должно содержать сообщение о дне смерти без всяких добавлений вроде “с глубоким прискорбием”.
Что стоит за этой просьбой, вы знаете. Она означает не отсутствие должного уважения к убеждениям многих людей, но скорее нетерпимость к лицемерию, которое так вопиюще очевидно у огромного большинства тех, кто приходит на похороны из чувства приличия.
Прощайте еще раз, мои дорогие и любимые. Если у вас была причина сердиться на меня, забудьте об этом. Нет на свете людей безгрешных, правда?
В. Анреп 27 апреля 1927 г.На следующий день, как пишет Андрей, Володя “со своим обычным тактом стал читать Глебу свои обычные нотации”. Глеб хлопнул дверью, и больше его не видели. Из‑за постоянного вмешательства в дела сводных братьев Володя добрых чувств у них не вызывал.
У Глеба, работавшего преподавателем в Кембриджском университете, составился довольно большой список бурных разводов и женитьб, со всей серьезностью осуждавшихся Борисом. То, что оба брата возмущались и критиковали друг друга по поводу связей с женщинами, выглядело странно и даже смешно: они никак не могли понять, что в своем бессердечном эгоизме один ничуть не лучше другого. Поскольку Марусина сестра (первая из четырех жен Глеба) покончила с собой, приняв морфий, взятый у мужа в лаборатории, был намеренно пущен слух, будто она решила, что у нее рак. Но истинной причиной самоубийства все считали неверность мужа. Вскоре после смерти жены Глеб женился на своей любовнице и кузине Дине Анреп, жившей в Кембридже. Но она довольно быстро сбежала от него со студентом последнего курса, забрав с собой машину и граммофон марки “НMV”. В Кембридже все были шокированы столь громкими скандалами, и русский физиолог понял, что будет лучше, если он уйдет из университета. А так как в Англии профессору физиологии найти работу было непросто, то он согласился занять профессорское кресло в Каирском университете. Глеб попросил Бориса принять участие в семейном конфликте и написать Дине письмо, которое сам же он и продиктует. Письмо начиналось словами: “Дина, я знаю, что ты за птица”. Борис отказал ему в этой просьбе и со смехом рассказывал эту историю друзьям.
Как и прежде, Борис вел себя с женщинами скверно. В 1927 году молодая художница Джоан Сутар-Робинсон гостила в Париже у своего знакомого Ромили Джона, сына Огастеса и Дорелии. Однажды Ромили пригласил ее в ресторан на обед, где они и повстречали Бориса. Джоан, брызжущая молодостью белая южноафриканка двадцати четырех лет, сразу же произвела на него впечатление. Борис окружил девушку таким вниманием, что она, польщенная, стала работать в его мастерской. Но пыльная и грязная работа в компании русских – это было совсем не то, что ожидала найти в Париже получившая аристократическое воспитание молодая девица из южноафриканских колоний. Ее рассказ об их отношениях с Анрепом весьма выразителен:
Борис был грубияном. “Покажи мне свои ногти! – обычно кричал он. – Недостаточно грязные! Ты плохо работала – не в полную силу. О чем ты думаешь?” Но я не хотела делать мозаику. Я не хотела ползать на четвереньках вокруг кусков оберточной бумаги и колотого камня, да еще чтобы Борис понукал мной. Он называл меня своей южноафриканской сливкой. У меня, знаете ли, была красивая кожа, но мне не нравилось, когда меня называли “южноафриканской сливкой”.
Борис лишил ее невинности, а потом бросил, как дохлую рыбу. Джоан пишет, что с его стороны было жестоко переспать с ней только один раз. И далее:
Маруся делала вид, что ничего не замечает, просто сидела и курила. Она была красива. Она никогда ничего не делала – совсем ничего. Однако Борис полностью изменил мою жизнь. Я стала более легкой в общении, менее чопорной. Но не думаю, что это хорошо. Мы часто играли в шахматы. Он был плохим шахматистом, и, хотя играю я слабо, победа почти всегда оставалась за мной. Когда я уезжала из Парижа, Борис сказал мне: “Я напишу тебе рекомендательное письмо к одному ужасному человеку, Роджеру Фраю. Он увел у меня жену”.
То, что Маруся ничего не делала в мастерской, повторяет и Джастин Вальями, хотя другие вспоминают ее как очень нужного и искусного работника. Возможно, ей поручались только самые трудные части мозаичной картины, а может быть, когда появлялась какая-нибудь девушка, к которой Борис благоволил, она сникала и не могла работать. В ее лице была настороженная неподвижность, упорство вырванного с корнем растения, которое не может приспособиться к этой жизни, но все-таки живет. Ей был присущ особый русский шик – она носила узкие короткие юбки и блузу с пышным бантом. Особенно Маруся ревновала Бориса, когда после измены Хелен на него обрушилась ужасная депрессия; ревность вообще была ей свойственна.
Борис любил жену, несмотря на собственную сексуальную невоздержанность, большого значения которой не придавал. Однако он был абсолютно уверен, что для его женщин такие вольности недопустимы, и никак не желал понять, что Хелен ушла именно из‑за его поведения. В приступе мрачного отчаяния он часами лежал в постели, обнимая свою молоденькую дочь. Анастасия так быстро все понимала, была такой страстной, диковатой и умной, что ее сочувствие приносило некоторое облегчение.
Чтобы продолжать жить, ему нужна была работа. Хотя, по мнению Джастин Вальями, “в двадцатые годы можно было уже сказать, что как художнику-мозаичисту Борису Анрепу нет равных”, заказов все равно приходилось добиваться. В 1928 году Огастес Джон написал статью для журнала “Вог” под заголовком “Пять современных художников”, в которой особенно высоко оценил творчество Бориса. Однажды он позвонил и сказал очень взволнованным голосом: “Борис, ты великий художник. Я хочу, чтобы ты знал мое мнение”. После чего повесил трубку.
Впрочем, признание не всегда означает обилие заказов, поэтому Борис решил попытать счастья в Соединенных Штатах – люди там богатые и предприимчивые, и им должны понравиться шутки и броская красота его мозаик. Было организовано турне с чтением лекций, и в 1929 году Борис на всех парусах отправился в Новый Свет, не догадываясь, с какой серьезностью относятся к себе североамериканцы, и не подозревая, что тонкая европейская самоирония совершенно недоступна людям, с которыми ему предстояло встретиться. С точки зрения добывания заказов поездка с треском провалилась. В Америке магия Анрепа была бессильна.
Однако в любовные сети Бориса там попалась дочь богатого аристократа-южанина, жизнь которой проходила в занятиях охотой, стрельбой и рыбной ловлей. У Джинн Рейнал был тот быстрый, веселый ум, та искренняя женская уверенность в себе, которые так привлекательны в американках. До двадцати пяти лет Джинн ни разу не выходила из родительского дома одна – в такой строгости ее воспитывали. Даже когда она отправлялась в музеи или галереи, ее всегда сопровождала горничная, усталая, но заботливая.
Джинн и Борис уже встречались как-то на обеде в Лондоне.
В тот вечер нам почти нечего было сказать друг другу, – пишет она, – но мы договорились встретиться на следующий день. Я вошла через вращающуюся дверь, опоздав на час, и увидела, что Анреп выходит через ту же дверь, судя по виду, весьма раздраженный столь длительным ожиданием. Но полный оборот двери может сделать удивительные вещи. В данном случае он помог нам стать друзьями. Когда я сказала ему, что еду в Италию, он оказал мне большую услугу, подробно рассказав, какие мозаики следует там посмотреть[60].
Теперь, когда Борис приехал в Нью-Йорк, их дружба возобновилась, и они решили вместе уехать в Европу. Но Бориса предупредили: Рейналы будут в ярости, так как в результате этого приключения они могут лишиться определенной доли своего немалого состояния. Предупредили его и о том, что если он перевезет Джинн через границу штата и она будет зарегистрирована в гостинице под вымышленным именем, то – хотя ей уже исполнился двадцать один год – это может быть расценено как похищение и Борис рискует предстать перед судом. Но они все-таки стали любовниками, и Джинн поехала во Францию вместе с Борисом.
В парижской студии ее встретили без восторга, и она вспоминает, что ей поручалась самая грязная работа. Однако, в отличие от “южноафриканской сливки”, Джинн мозаикой заинтересовалась и считала сортировку камней по цвету и переделывание целых частей картины бесценным опытом для своих рук, глаз и воли.
Но ее пребывание в мастерской было невозможно из‑за Марусиной ревности, поэтому Джинн занималась мозаикой в своей роскошной квартире с видом на Сену. Она гордилась тем, что благодаря своему энтузиазму научилась наклеивать мозаику на листы быстрее, чем опытные работники.
Однажды Хелен сказала мне: “Когда я ушла от Бориса, я думала, что хотя бы теперь Маруся сможет с ним жить спокойно и счастливо. Но он очень быстро нашел себе американку, которая переехала в Париж, и ситуация оказалась ничуть не лучше”.
Какое-то время работы было так много, что пришлось арендовать еще одну студию в Отей. Здесь в 1930 году, как обычно, когда завершалась работа над заказом, Борис устроил вечеринку. Девушки привели своих кавалеров, которых Борис, снабдив деньгами, послал за сладким белым шипучим вином, напоминавшим шампанское – самое дорогое из тех, что он мог себе позволить.
Кроме шипучего вина на столе были приготовленные Марусей и Борисом закуски. Танцевали под граммофон, который приходилось заводить после каждой пластинки, игравшей три минуты. Игорю, молчаливому шестнадцатилетнему юноше, понравилась девушка по имени Ольга, но на вечере присутствовал ее жених, и сын босса, когда попытался ее поцеловать, получил категорический отказ. Тогда другие девушки посоветовали ему обратить внимание на Варю, жену Джастина Вальями, которая, по их мнению, должна была быть сговорчивей. Борис на этом же вечере взял за руку Вальями и принялся с ним танцевать. Вдруг с веселым изумлением он почувствовал, что архитектор весь размяк в его объятиях. Но когда Борис обнаружил, что семнадцатилетняя Анастасия целуется в чулане с каким-то молодым человеком, он сразу превратился в негодующего отца и указал наглецу на дверь.
Глава двадцать первая Мозаика для общественных и частных зданий
Еще в 1925 году началась перестройка Банка Англии. Архитектор Герберт Бейкер, на которого произвел впечатление зал Блейка в Галерее Тейт, решил, что оформление пола в холлах и коридорах следует поручить Борису. В качестве темы художник предложил мифы о золоте и сделал наброски для центральной части пола у входа с Бартоломью-Лейн – восьмиугольные панно семи футов шириной. Там изображалась лежащая на спине Даная, к которой проникал Зевс в виде золотого дождя. С одной стороны, у двери, ведущей в банковский зал, стоял Ясон с золотым руном, а с другой – Мидас, глотающий золото. Герберту Бейкеру тоже нравились античные сюжеты и символические трактовки, поэтому он с удовольствием одобрил проект. Пока в течение 1927 года архитектор пребывал в Дели, где строил дворец вице-короля Индии, в Лондоне его замещал Джордж Бут, председатель строительного комитета. Мозаичная композиция Бориса получила всеобщую поддержку, и контракт был подписан. Однако когда наброски увидел заместитель управляющего Сесил Лаббок, то он счел их тематику оскорбительно фривольной и, по словам Бориса, вышел из себя: “Мистер Анреп сделает нас посмешищем для всего мира. Что скажут наши клиенты, которые, потеряв состояние на бирже, побегут к нам через этот холл за помощью, а их встретят самая низкая шлюха древности, самый большой глупец и самый знатный педераст, подавившийся золотом?!”
Контракт был разорван, и комитет попросил Бориса приготовить новые эскизы. Борис так и сделал, но, как он сам говорил, без всякого интереса и уж наверняка в состоянии бурного негодования, потому что он никогда не умел переносить резких отказов и в таких случаях мог проваляться не сомкнув глаз всю ночь, задыхаясь от ярости. Для него это был вовсе не пустяк, хотя в компании он мог шутить по этому поводу и высмеивать заместителя управляющего.
Борис предложил новую, менее сомнительную тему – английские монеты, которая удовлетворила всех. Но когда он сделал рисунок обрамления центрального медальона, где изобразил несколько шаров, похожих на мячи для гольфа, еще один до странности придирчивый сотрудник банка счел их непристойными. В холле, расположенном у входа со стороны Треднидл-стрит, реконструкция которого началась в 1931 году, Борис поместил святого Георгия со змием, отчеканенного на золотом соверене в 1817 году по рисунку Бенедетто Пиструччи. Мозаичная монета около девяти футов в диаметре резко выделяется на фоне черных мраморных квадратиков пола, так же как и более мелкие монеты английских королей и королев, тянущиеся вдоль коридоров. Они связаны между собой и тематически подкреплены обрамлением из лавровых листьев и рогами изобилия, из которых сыплется золото. На одном из медальонов изображены два вздыбленных микенских льва, опирающихся на золотой столп. Вся работа наполнена мощной символикой: созвездия Большой Медведицы и Южного Креста обозначают влияние банка в обоих полушариях; морские и эфирные волны означают торговлю и связь; наименее понятный символ – это маленький красный камешек на карте Южной Англии, которым отмечена деревня Кобхэм в графстве Кент, где расположен Аулетс, дом XVII века, в котором родился и прожил всю свою жизнь архитектор здания банка сэр Герберт Бейкер.
Вся мозаика замечательна своим очарованием и живостью и, как всегда, содержит шутки, от которых не мог удержаться Борис. На пересечении двух коридоров мы видим портрет председателя банка Монтегю Нормана – две его головы, стоящие на колонне, напоминают изображения двуликого Януса.
Рулоны покрытых узорами бордюров для пола, теперь хранящиеся в Музее Виктории и Альберта, демонстрируют, с какой выдумкой Борис подходил к созданию оригинальных и в то же время строго выверенных обрамлений для главных картин. Он экспериментировал, пересматривал и изменял форму, цвет и сложный бег этих орнаментов, украшавших множество длинных коридоров банка.
Джинн Рейнал вспоминает, как они работали под землей в хранилищах банка под пристальным оком любопытных солдат, которые в те годы постоянно находились в утробе “маленькой старой дамы с Треднидл-стрит”[61]. Джинн работа нравилась, и благодаря ей она все же заняла свое место в парижской студии, где обнаружила, что одинаково свободно владеет обеими руками: она приклеивала красные камешки одной рукой, а зеленые – другой.
С 1927 по 1932 год банк выплатил Борису девять тысяч фунтов.
Полы в банке доставляли Борису множество хлопот и часто требовали ремонта. В 1933 году он заметил, что в одном месте в бетоне простукивается полость, а это могло привести к разрушению мозаики. Потребовалось заново переложить часть мозаики, потому что из‑за проходивших под полом труб парового отопления стал рушиться цемент. Один из медальонов был переделан за счет Бориса, но в виде компенсации он получил новый заказ. Тогда художник с улыбкой преподнес банку письменную гарантию, что его полы простоят пятьсот лет.
Андрей Шуберский предложил обратиться в научный отдел завода “Портленд цемент” с просьбой дать техническое заключение, но Борис, который часто бывал упрямым и самоуверенным, отказался. Однако вплоть до 1989 года, когда в жидкий строительный раствор стали добавлять специальную смолу, этот великолепный пол много раз реставрировали.
Еще один заказ поступил от Греческой православной церкви Святой Софии на Москоу-роуд в лондонском районе Бейсуотер через посредничество ее архитектора Гектора Корфиату. Собор следовало украсить изображениями пророков и патриархов. Интерьер этого многокупольного собора, построенного в византийском стиле в конце 1870‑х годов, уже был богато украшен мозаикой, выполненной А. Г. Уокером в стиле прерафаэлитов: на центральном куполе мы видим сладко-сентиментального светловолосого Христа, похожего на английского джентльмена, который, благословляя прихожан, собравшихся внизу, смотрит на них томным взглядом. Мозаика Анрепа, выполненная в 1928 году, покрывающая арки трансептов и цилиндрические своды над алтарем, сделана совершенно в иной манере: пророки, глядящие вниз, – это внушающие ужас люди Востока с горящим взглядом и впалыми щеками; патриархи взирают с суровым предостережением, а три ангела на усыпанном звездами небосклоне воздымают руки, скорее грозя, чем благословляя.
Борис Анреп, конец 1920‑х.
Джинн Рейнал оставила описание своей работы над длинными полосами акантовых завитков, расположенными по краям мозаичного пола. Когда потребовалось продлить некоторые из них, оказалось, что первоначальный рисунок потерян.
Никто, включая художника и его рисовальщиков, не мог вспомнить точные цвета этого рисунка. Я была очень горда тем, что вспомнила узор, повторяющийся мотив, и смогла повторить орнамент. Как можно забыть работу, которую пришлось делать полгода?
Как это было принято в иконописных мастерских в России, где один человек был специалистом по рисованию рук, другой – по изображению драпировок или архитектурных деталей, Борис разделял ответственность между работниками за исполнение отдельных частей целого, беря на себя самую тонкую работу – руки и лица. Пол собора Святой Софии был сделан им в римской манере с двуглавым орлом в центре, являющимся символом могущества и власти восточных императоров.
В качестве благодарности греческим бизнесменам, пожертвовавшим деньги на эту мозаику, Борис хотел придать изображенным лицам портретное сходство с лицами дарителей. Однако осуществлению этого замысла помешали их жены, заявившие, что каждый день видят своих мужей дома, а если придется еще и молиться им по воскресеньям, то это будет слишком.
Около 1924 года Сэмюэль Курто попросил Бориса сделать набросок для украшения коридора в его доме на Беркли-сквер. Курто был миллионер, основной производитель шелка в Великобритании и щедрый меценат. Но дом на Беркли-сквер продали до того, как началась работа над мозаикой, в связи с чем Курто заплатил Борису за наброски и дружески предложил ему выбрать какое-нибудь общественное здание, работу в котором он с удовольствием профинансирует. Борис задумался над его предложением и наконец обратился к Чарльзу Холмсу, директору лондонской Национальной галереи, которого эта идея заинтересовала. Борис сообщил миллионеру, что попечительский совет Национальной галереи, несомненно, приветствовал бы украшение здания мозаикой, если возможности спонсора не будут вызывать сомнений. Все прошло прекрасно: Курто согласился, чтобы его имя было названо в качестве спонсора, а Борису предложили сделать рисунки трех полов – в восточном и западном вестибюлях по обе стороны парадной лестницы и на центральной лестничной площадке между этажами.
Казалось, атмосфера заседания попечительского совета, на которое был приглашен Борис, была вполне дружелюбной, но неожиданно на художника набросился лорд Ли: “Не мог бы мистер Анреп объяснить, зачем вообще нам нужна его мозаика?” Борис молчал, совершенно не готовый к такому вопросу. Но за него вступился возмущенный лорд Крофорд: “Мы должны быть благодарны как дарителю, так и художнику, который готов приложить все свои силы к украшению этого здания”.
Дело как будто уладилось, и теперь Борис мог назвать стоимость работы своему покровителю. Приблизительные расчеты, основанные на аналогичной работе, выполненной для Галереи Тейт, составили семь тысяч фунтов. Курто поинтересовался, как именно Борис желает получить эту сумму, и между прочим задал ему вопрос: “Скажите, когда вы затеяли этот проект, вы знали, в какую сумму он выльется?” – “Честно говоря, – ответил Борис, – я ни минуты не думал о цене”.
Б. Анреп с сотрудниками за работой над мозаикой в Национальной галерее, конец 1920‑х.
Мозаики под названием “Труды жизни” и “Удовольствия жизни” должны были украшать полы восточного и западного вестибюлей. Как всегда, по поводу рисунков возникли споры. В обрамлении панно вновь были использованы шары, но и теперь они оказались под запретом: Холмс написал, что, по мнению попечителей, такой орнамент может вызвать нежелательную реакцию британской публики. Нельзя ли сделать так, чтобы шары чередовались с рыбами? От этого предложения Борис отказался и заменил шары на виноградные плети. Ему также было поставлено условие не использовать черного и белого цветов, чтобы своей резкостью они не мешали восприятию висящих на стенах картин. Никому ничего не говоря, Борис все же использовал мрамор этих цветов для второго пола, но попечители никак не отреагировали. Западный вестибюль был завершен в мае 1928‑го, а восточный – в ноябре 1929 года. По окончании работ Сэмюэль Курто дал роскошный обед в клубе “Карлтон”[62].
Мозаика “Труды жизни” включает следующие картины:
“Искусство: скульптор за работой”;
“Астрономия: астроном смотрит в телескоп”;
“Торговля: носильщик на рынке Ковент-Гарден[63] с полными корзинами”;
“Инженерное искусство: человек, работающий с дорожной дрелью”;
“Исследование: фотограф, снимающий зебру”;
“Фермерство: человек, моющий свинью”;
“Обучение чтению: детская грифельная доска с названиями любимых историй”; “Шахтерский труд: шахтер”;
“Музыка: натюрморт с флейтой, раковиной и книгой”;
“Святая любовь: мать, отец, ребенок и собака”;
“Наука: студент в Музее национальной истории”;
“Театр: человек-змея”.
Мозаика “Удовольствия жизни” включает следующие картины:
“Рождественский пудинг: пудинг в пламени бренди”;
“Размышление: три человека, пребывающие в раздумье”;
“Беседа: три болтающие девушки”;
“Крокет: игрок с битой, застигнутый рядом с воротцами”;
“Танец: Лидия Лопухова, танцующая чарльстон”;
“Футбол: два футболиста, отнимающие друг у друга мяч”;
“Охота: охотник, лошадь и собака”;
“Куличики из песка: куличики, ведерко и лопатка”;
“Земная любовь: мужчина с двумя девушками”;
“Отдых: девушка в гамаке, девушка на траве”;
“Морской конь: девушка, купающаяся верхом на резиновом коне”;
“Скорость: девушка на мотоцикле”.
“Труды” все, кроме одного, посвящены мужчинам; в “Удовольствиях” участвует много женщин. Каждый сюжет красноречиво говорит о том, что Борис считал работой, а что – забавой. Святая любовь, другими словами – семейная жизнь, воспринималась им как труд, а вот земная любовь, там, где изображен мужчина с двумя девицами, воплощает собой идею удовольствия.
Лестничная площадка между двумя маршами, законченная к 1933 году, была посвящена античной тематике: Аполлон вдохновлял на труд, а Вакх призывал к удовольствиям, и оба они пробуждали к жизни девять муз. Здесь в виде богов и богинь изображены известные люди того времени. Клайв Белл представлен в виде Вакха, а Озберт Ситуэлл – в виде Аполлона. Грета Гарбо являет собою Мельпомену, Лидия Лопухова – Терпсихору, Лесли Джоуитт – Талию, Маруся – Уранию, Мэри Хатчинсон предстает в образе Эрато, Кристабель Аберконуэй – Эвтерпы, Вирджиния Вулф – Клио, Диана Гинесс – Полигимнии. Кто таится за образом Каллиопы, музы эпической поэзии, точно неизвестно, хотя, возможно, это Анна Ахматова. Не все исполнительницы годились на данные им роли, но весьма многие годились в любовницы художнику.
Мраморные полы сделаны в приглушенных тонах, словно покрыты пылью, а позы персонажей не столь удачны, как у символических героев, украшающих холл в доме Этель Сэндз.
Другим меценатом был Брайан Гинесс, пожелавший украсить бельведер и бассейн в Биддесдон-хаусе, своем доме в Уилтшире. Бельведер должен был проектировать Джордж Кеннеди, ирландский архитектор, строивший новое крыло Королевского колледжа в Кембридже. Борис его знал. Это был большой неуклюжий человек, тот самый, кто снял неверные размеры с лестничной площадки между маршами в Национальной галерее, из‑за чего, когда начали укладывать мозаику, пришлось второпях вносить в огромную картинку-головоломку необходимые изменения. Борис тогда наверняка запаниковал и впал в истерику. По словам его сына, Борис впадал в истерику, “когда поступал как-нибудь уж очень нечестно, но только в том случае, если понимал, что его могут разоблачить, например, когда обманывал таможенников или же когда у него не получалось придумать хороший рисунок или не шла работа”.
Бельведер в Биддесдоне за аллеей из фигурно подстриженных тисовых кустов изящен и красив, он расположен рядом с отделанным камнем бассейном. Один открытый эркер с тонкими колоннами нависает над водой. Из этой прямоугольной комнаты ведут три ступеньки вверх в круглую комнату поменьше, где пол, куполообразный потолок и стены украшены мозаикой. В трех равноотстоящих нишах изображены музы. Эрато, муза любовной поэзии, держит лиру; Клио – свиток истории; Талия как муза комедии – смеющуюся маску, висящую у нее на руке. Над этими очаровательными персонажами, исполненными на отштукатуренной стене, помещены гирлянды цветов, листьев и ягод. С купола смотрит голова Вакха в венке, окруженная переплетением виноградных лоз, на полукруги из цветов, а в центре – геометрический узор, отличающийся чрезвычайно изящным композиционным и цветовым решением. Чтобы общее впечатление не было слишком слащавым, тут же изображены два петуха, не поделивших червя, и два дерущихся фазана.
Работу пронизывает радостное ощущение, подобное теплому дыханию лета, словно в мозаике запечатлелась сила природы. Ее буйство не вульгарно и не претенциозно, оно выражает радость от каждого предмета, а тонкое восприятие формы и цвета, неизменно присутствующее во всех композициях Бориса, здесь представлено наиболее сжато и выразительно. В мозаике этой комнаты умение художника создавать строгие узоры, отличающиеся вместе с тем оригинальностью и выразительностью, и передавать радость, внушаемую всяким живым существом, доведено до совершенства.
Брайан Гинесс покровительствовал и другим друзьям Бориса. Генри Лэм написал портреты Гинесса, его первой жены Дианы и их детей. Стивен Томлин изваял для сада Гинесса огромную женскую фигуру, отлитую из свинца, с лицом его жены Джулии Стрэчи. У Томлина Борис купил небольшую гипсовую статуэтку Пантагрюэля, подтирающегося гусенком. Эта скульптура, выполненная в натуральную величину, должна была стоять в саду у Литтона Стрэчи, но уборщица заявила, что не потерпит такого безобразия и уволится, поэтому план не осуществился. У Пантагрюэля фигура и лицо Нижинского.
Не иначе как вследствие веселого обеда в ресторане Эйфелевой башни от его владельца Рудольфа Стулика Борис получил еще один заказ. Заверенный документ, написанный рукой Стулика, гарантирует “бесплатную еду (с девчонкой, шлюхой или дамой), выпивку и спальню” в качестве платы за мозаику, размером 53 на 47 дюймов, уложенную на центральной площадке перед обеденным залом. К сожалению, эта работа выполнена не была.
Глава двадцать вторая Подросшие дети и две смерти
Борис любил своих повзрослевших детей, но в общении с ними чувствовал, что они люди сложные. Анастасия с 1925 года была в интернате Хейз-Корт. Там ее воспринимали как эксцентричную, умную девушку, которая умела приводить в восхищение и друзей, и врагов. Она постоянно требовала к себе внимания и всегда была непрактичной. Однажды она убежала с подружкой в Лондон и спала на набережной в чьем-то саду, а потом привела с собой в Хейз-Корт подобранную по дороге бродячую собаку. Поскольку директриса выращивала породистых волкодавов, она, естественно, была недовольна. Анастасия была высоким подростком и сутулилась, чтобы скрыть свою полную грудь; она постоянно влюблялась в мужчин или женщин и без умолку о них говорила. В 1933 году она изучала английский язык в Самервил-колледже[64] и все еще кружилась в вихре эмоций. Одна из ее оксфордских однокурсниц рассказала мне, что, когда на каком-то экзамене ей не понравился заданный вопрос, она написала на экзаменационном листе целую поэму. Ее вкусы и склонности относились к области литературы, и у нее никогда не было недостатка в живых и оригинальных идеях. Когда однажды Анастасия приехала на каникулы, Вирджиния Вулф сказала Хелен, что Анастасия могла бы написать роман для “Хогарт Пресс”. И это поразительное предложение исходило от женщины, которая на редкость ревниво относилась ко всем писательницам! Но Анастасия страдала неспособностью закончить ни одно из своих литературных творений – свойство, присущее многим талантливым людям.
Хелен находилась под воздействием романтического заблуждения, что великое искусство “должно доставлять такую боль, которую почти невозможно вынести”. Высказала эту идею Ванесса. Но блумсберийцы, как и Борис, были людьми слишком образованными, чтобы понимать смысл творчества столь элементарно. То, что Хелен отнеслась к высказыванию своей приятельницы так некритически, показывает, каким простодушным человеком она оставалась, несмотря на долгое и близкое знакомство со многими писателями и художниками.
С присущей ей экзальтацией Ванесса, несомненно, считала свою сестру Вирджинию гением, так же как и Дункана Гранта, хотя уж он-то никогда не впадал в творческую агонию, создавая свои картины. Наряду с наиболее значимыми для себя вещами, такими как беседа, секс и выпивка, он полагал, что живопись – это прекрасное развлечение. “Он точно маленькая собачка”, – говорила Ванесса о его бесконечных приключениях. Она терпела его непостоянство, потому что любила его, но и сама была страстной поклонницей всех своих избранников.
Хелен, позволяя дочери бесконечно себя обманывать, потворствовала ее эгоистическому безделью. Позже она это осознала. “Одно мне совершенно не удалось воспитать в вас, – писала она сыну, – это приучить настойчиво продолжать что-то делать, даже если вам этого не хочется”. Как многие матери, она цеплялась за свою мечту, веря, что ее ребенок достигнет того, что самой ей не удалось. Джеральд Бреннан правильно понял отношения матери и дочери, сказав, что Хелен никогда от себя Анастасию не отпустит. Борис оценивал Анастасию более реально, хотя он, конечно, восхищался сообразительностью и тонким умом своей дочери. Тяжелый труд мозаичиста, которым он зарабатывал на жизнь, и природный ум подсказывали ему, что гений – это не врожденный блеск таланта, возникающий из романтических мук, но всегда результат владения ремеслом и усилий, к которым Анастасия оказалась неспособной. Он понимал, что на дочь повлиял пример Хелен, у которой не было привычки к труду.
Сколько раз приходилось мне слышать стенания Хелен по поводу преподавательской деятельности дочери: “Бедняжка Баба! Бедняжка Баба! Ей надо работать сегодня утром! Бедняжка Баба!”
Вернувшись из Соединенных Штатов в 1928 году, Борис узнал, что Игорь, который учился в то время у Джека Пауэлла в Уилтшире, пребывает в очень подавленном состоянии. Он изо всех сил пытался сдать общий вступительный экзамен[65] и безнадежно проваливался, хотя сумел написать эссе о Мередите[66], понравившееся такому строгому критику, как Джулия Стрэчи. У Игоря была дислексия. Тогда никто не знал о существовании этого недуга, и учителя обычно приписывали его результаты лени или тупости. К чести Бориса и Хелен, почти не поддающийся прочтению почерк сына и его ужасную орфографию они неисправимыми не считали и не думали, что он обречен в будущем на ручной труд, который был, с точки зрения английского высшего общества, чем-то унизительным. Учителя, бывшие у Игоря до мистера Пауэлла, намекали, что для Игоря это единственный выход. Мальчик был в отчаянии и сказал отцу, что, наверное, он просто глуп.
“Хорошенький комплимент твоей маме и мне! – воскликнул Борис. – Анреп не может быть умственно отсталым!”
Через несколько лет Игорь решил стать психоаналитиком. Исполненный энтузиазма, он спросил Адриана Стивена, почему его сестра Вирджиния Вулф, находившаяся в тот момент в одном из своих маниакальных состояний, не подвергается психоанализу. В ответ он услышал ироничное: “Храни Господь психоаналитика!”
Психоаналитику в те годы, как и теперь, требовалось получить медицинскую степень. Поэтому для начала Игорю было абсолютно необходимо сдать вступительные экзамены в университет по английскому языку, математике, истории, латыни и французскому. Каждый раз Игорь проваливался на каком-нибудь новом предмете. Каждый провал был ударом, но это не остановило молодого человека, которому уже исполнилось восемнадцать лет.
Двадцать седьмого апреля 1933 года он получил от отца из Парижа (бульвар Апаро, 65) письмо следующего содержания:
Дорогой Игорь!
Я очень расстроился, узнав, что ты не сдал вступительные экзамены, но рад, что ты вновь к ним готовишься. Мне очень хотелось бы узнать о тех “серьезных шагах, которые ты предпринял”, но не желаешь обсуждать в письме. Такая таинственность только встревожила меня, и ты меня очень обяжешь, если расскажешь, в чем дело, не дожидаясь моего возвращения в Лондон, которое может быть отложено на месяц и более. Надеюсь только, что ты не сделал ничего такого, что могло бы помешать тебе в будущем. Мое единственное желание – увидеть тебя твердо стоящим на ногах и получившим достаточно знаний, которые могли бы открыть перед тобой интересное тебе и нужное другим существование. Также я хочу, чтобы ты помнил, что у меня нет средств, на которые можно было бы рассчитывать. Единственные деньги, которыми я располагаю, это те, что я зарабатываю. У меня есть работа на год или два, а будет ли она потом, это уж как судьба распорядится. Говорю тебе это, чтобы объяснить, что хотя я готов потратить все, что могу, на твое образование и овладение профессией, но я не буду в состоянии помогать тебе в течение слишком долгого времени, поскольку с возрастом, скорее всего, не смогу выполнять работу в том же объеме, что и раньше. Пишу тебе это не в качестве отцовского наставления, но в совершенно дружеском духе. И надеюсь, ты не будешь держать меня в неведении и сразу же сообщишь свои намерения и можно ли их с тобой обсудить. То, что я не имею права голоса в делах, которые, по-видимому, достаточно важны для тебя, является, наверное, наказанием за мою оторванность от твоей жизни.
Маруся шлет тебе свою любовь, и я тоже.
Борис. Между прочим, обрати внимание на то, правильно ли ты написал слова: “apoligise”, “haveing” и “write”[67].Игорь понимал, что отец не одобрит его выбор, потому что тот относился к психоанализу резко отрицательно. Но, по крайней мере, родители надеялись, что сын сдаст вступительный экзамен (который ему пришлось-таки сдавать шесть раз, прежде чем он добился успеха). К счастью, он был упорен. Борис же по старой, доброй анреповской традиции выговаривал ему и читал наставления.
Как отец, он был совершенно невозможен, – говорил Игорь. – Вся жизнь превращалась в длинную нотацию – он постоянно спрашивал, каковы мои намерения. Когда же я рассказывал о них, он всегда оставался недоволен.
Борис каждый год выделял детям по 50 фунтов на учебу, а когда Игорю исполнилось восемнадцать лет, стал ему выдавать еще 50 фунтов на содержание любовницы. Но ни на питание детей, ни на покупку одежды он не давал ничего, поэтому в средствах Хелен была стеснена. В доме на Бернард-стрит, где теперь жили она, Роджер Фрай и дети, было заведено, что Фрай оплачивает газ и еду, а также кухарку и уборщицу, приходивших каждый день. Во время школьных каникул, когда Хелен и Фрай уезжали за границу – во Францию или Италию, – она сама оплачивала гостиничные счета. Фраю постоянно нужно было думать об обеспечении двух собственных детей, а также нести расходы по содержанию сумасшедшей жены в частной лечебнице для душевнобольных.
На протяжении 1930‑х годов продолжалась связь Бориса с Джинн Рейнал. Приезжая в Лондон, они, чтобы скрыться от Маруси, останавливались в пансионе в Блумсбери. Борис водил детей обедать в Лайонз-Корнер-хаус на Тоттнем-Корт-роуд, но не к Берторелли на Шарлотт-стрит, где им могли повстречаться блумсберийцы.
Однако провести Марусю было трудно. Она устраивала Борису бурные сцены ревности, и оба они страшно кричали друг на друга по-русски, к ужасу случайных свидетелей. Во всех прочих случаях Маруся была вполне покорной любовницей: красивой и простой, курившей сигареты через длинные мундштуки и любившей Анастасию и Игоря. Кроме того, она присматривала за своим племянником Джоном во время школьных каникул, которые тот проводил в “Хи-студии”, как теперь называлась бывшая прачечная.
Роман с Джинн Рейнал продолжался восемь лет, до 1938 го-да, и все было бы прекрасно, если бы не Маруся. Игорь однажды спросил отца, почему он не женится на Джинн. Молодому человеку была бы по душе такая живая и энергичная мачеха, хотя из‑за ее американского происхождения он относился к ней немного свысока. Дело в том, что Борис воспитал в детях сознание собственного аристократизма, Хелен же внушила им убежденность в превосходстве вследствие принадлежности к клану Блумсбери. Как первое, так и второе едва ли способствовало формированию у них нормальных отношений с остальным миром. На вопрос сына о женитьбе Борис ответил лишь: “А что будет с Марусей?”
Было очевидно, что он уже обдумывал эту проблему и решил, что не может пожертвовать своей русской любовницей. Она, конечно, с трудом смогла бы приспособиться к жизни без мужской поддержки.
Теплые отношения с Литтоном Стрэчи оставались неизменными, и вплоть до Второй мировой войны Борис принимал участие в уик-эндах, которые устраивались Литтоном и его друзьями – распространенный обычай у художников и интеллектуалов того времени. К тому же загородные дома и слуги были дешевы и доступны. Франсес Маршалл (позднее Партридж) вспоминает эпизод, случившийся однажды, когда Борис был единственным гостем в Хэм-Спрей-хаусе:
Как всегда, он [Борис] говорил без умолку и поразил меня богатством своих идей. Все воскресенье он что-то увлеченно обсуждал с Литтоном. “Предположим, у меня действительно связь с женой мэра, и что?” – услышала я его слова. Когда я вошла, он мерил комнату шагами как безумный, атмосфера же в течение по крайней мере десяти минут оставалась очень напряженной, и никто из них не произнес ни слова. Интересно, что все это значило?
Борис обычно привозил с собой какие-нибудь экзотические кушанья, а однажды поставил на стол великолепную русскую пасху, которую сам приготовил. Правда, она оказалась такой сытной, что почти никто не смог ее доесть. Борис был глубоко оскорблен. Эта пасха – взбитые сливки, творог, цукаты, сахар, яйца и вишня, оставленные в миске под грузом на ночь, а потом утыканные, как ежик, очищенным миндалем, – никогда бы не показалась ни одному из Анрепов слишком сытной.
В январе 1932 года Литтон, который всегда был болезненным, почувствовал себя очень плохо. Фактически он умирал, и хотя к нему приглашали множество специалистов, рак желудка диагностировали только посмертно. Джеймс и Пиппа Стрэчи помогали Ральфу и Каррингтон ухаживать за больным. Борис написал Каррингтон, выражая сочувствие и предлагая помощь. Она ответила:
Дорогой Борис!
Как было мило с твоей стороны написать мне. Мне бы хотелось как-нибудь использовать твою незаменимую помощь, однако, боюсь, в данный момент это невозможно.
Но ты сделал долгие безрадостные часы не столь ужасными своим изысканно прекрасным камином – здесь, у Литтона, я постоянно сижу у огня, смотрю на твою мозаику и благодаря ее живой прелести набираюсь сил.
Сегодня ему немного лучше, но ты понимаешь, как печально сидеть рядом с тенью человека, которого любишь с каждым днем все больше. Даже в самые тяжелые часы он не терял остроты ума. Его твердость духа удивляет всех специалистов. Он был очень тронут, когда я передала ему от тебя привет.
Литтон умер 21 января. Через два месяца Каррингтон, обе-зумев от горя, настояла на том, чтобы ее оставили в Хэм-Спрей одну, и выстрелила себе в живот.
Ральф Партридж унаследовал дом, библиотеку Литтона и фарфор Каррингтон. Он женился на Франсес Маршалл, с которой у него был давний роман. В качестве свадебного подарка Борис сделал каминную доску, украшенную изысканными морскими раковинами, которая тогда же была установлена в Хэм-Спрей. Борис с Марусей часто бывали в этом доме.
Франсес Партридж считала Марусю забавной: она скрашивала собою общество, делая проницательные замечания грудным, низким от курения голосом. Кроме того, она была женщиной со множеством наивных русских суеверий и предрассудков, любила национальную кухню – соленые огурцы и селедку, молочного поросенка и кашу; ей нравилось элегантно одеваться, но не боялась она и жизненных трудностей. Ее мнения всегда были определенными и категоричными. Борису нужна была ее преданность, поскольку его благополучие во многом зависело от восхищения его мужественностью, умом и талантом. Хелен всегда смотрела на него более критически, чем Маруся, и это испортило их отношения задолго до появления Роджера Фрая.
Блумсберийское общество разделилось на тех, кто поддерживал Хелен, и тех, кто был на стороне Бориса. Но благодаря Фраю у Хелен теперь появилась возможность более широкого общения, включавшего еще и кембриджский кружок. Среди ее знакомых были Морган Форстер, Мейнард Кейнс, Бертран Рассел, Дэди Райлендз, Сидни Сэкстон Тернер и Дезмонд Маккарти; кроме того, чувство восхищения и любви вызывали у нее и французские интеллектуалы – семья Бюсси, Шарль и Мари Морон. Среди более молодого поколения – Кеннет Кларк, которого она, впрочем, считала чересчур оборотистым. Фрай же был потрясен, когда Кларк, вернувшись из Италии, привез с собой маленького бронзового Донателло за 25 фунтов. Через Игоря, к тому времени студента Юниверсити-колледж, состоялось знакомство с такими молодыми художниками, как Уильям Колдстрим, Клод Роджерс и Виктор Пасмор, к которым Хелен и Фрай относились с симпатией и желанием помочь.
Они много путешествовали по Франции, обычно медленно и без всякого плана разъезжая в открытой машине Фрая и останавливаясь в местных гостиницах или у друзей. Фрай писал пейзажи, а Хелен критиковала его и читала Пруста. Ее художественный вкус был вполне оценен обоими предыдущими любовниками, но и Борис и Лэм разрушали в ней чувство уверенности в собственном мнении: им нужно было преклонение перед их творениями, и оба они были плохими учителями. Для Фрая же учить было делом обычным, а высокая оценка ее способностей придавала Хелен уверенность, которой она раньше никогда не испытывала. Вместе они осматривали каждую церковь, встречавшуюся им на пути, иногда посещая восемь церквей в день, и каждую картинную галерею в каждом городе. По приезде в Лондон устраивались большие приемы, и сами они часто бывали желанными гостями. Во время таких обедов Стрэчи громкими голосами обменивались остроумными замечаниями, а Бертран Рассел, прихорашиваясь перед зеркалом, с удовольствием демонстрировал собравшимся свои энциклопедические познания. Хелен была очаровательной хозяйкой, любившей компанию и прекрасно умевшей вести светские беседы. У нее был природный дар создать обстановку для непринужденного разговора, и она всегда искренне сочувствовала тем, кто поверял ей свои горести. Чета нередко ездила на автомобиле в Родуэлл, дом в Суффолке, который Хелен купила на деньги, вырученные от продажи дома на Понд-стрит, и оттуда отправлялась осматривать церкви восточных графств. Дети гостили у нее на летних каникулах, когда Фрай уезжал во Францию, поскольку Анастасия ненавидела человека, занявшего место ее отца. На одном из приемов в Блумсбери она стояла у стены и наблюдала, как сияющая от счастья Хелен танцует с Фраем, и, когда они оказались рядом с ней, прошипела матери: “Я чувствую себя как Гамлет!”
На Троицу 1934 года Фрай, которому было тогда шестьдесят восемь, упал у себя дома на Бернард-стрит, споткнувшись о коврик, и сломал бедро. Оказалось, что на уик-энд уехал не только его личный врач, но, судя по всему, и все лучшие хирурги окрестных больниц. Наконец нашли какого-то терапевта, больного поместили в Королевскую бесплатную больницу на Грейз-Инн-роуд, и там хирург старой школы наложил на Фрая гипс, сковавший его, как броня, от груди до пальцев ног.
Хотя он лежал в отдельной палате, сестра не пустила к нему Хелен, поскольку официально они не были женаты. Через два дня, так как кишечник у Фрая оказался парализован, возникла необходимость снять гипсовый корсет и высвободить вздувшийся живот. Одна из сестер проявила сочувствие и, встретив Хелен на лестнице, сказала: “Если вы хотите застать мистера Фрая живым, лучше идите к нему сейчас же”. Хелен вошла в палату и увидела, как врач и медсестра ссорятся над распростертым телом. Они не могли найти специальных гипсовых ножниц, а сестра не желала давать свои, чтобы не затупить их. Но ситуация становилась критической, и сестра согласилась попробовать прорезать толстый неподдающийся каркас. Началась бессмысленная и бесполезная борьба. В ужасной агонии Фрай скончался.
Из Монкс-хауса в Суссексе к Хелен пришло письмо от Вирджинии Вулф:
Дорогая Хелен!
Пишу только несколько слов, чтобы передать тебе нашу с Леонардом любовь. Мы сидим здесь и думаем о тебе и Роджере – самом великолепном, самом дорогом из всех наших друзей. Он никогда не умрет, потому что он – лучшая часть нашей жизни. Мы чувствовали это все годы нашего знакомства. И мы благодарим тебя и благословляем за все, что ты для него сделала.
Дорогая Хелен, ты знаешь, как мы всегда будем сочувствовать тебе, хотя я не могу этого выразить.
Твоя Вирджиния.Глава двадцать третья Бегство из Франции
Жившие в Париже русские эмигранты рассказывали о Советском Союзе ужасные вещи, у Бориса тоже была своя история такого рода, хотя делился он ею редко. Один его родственник, владелец кирпичного завода, услышав, что большевики уже совсем близко, спрятался в печи. Пришедшие солдаты догадались, где скрывается хозяин, и затопили печь. Другая трагедия породила тяжелое чувство вины. Произошла она в конце тридцатых годов во время сталинской кампании по уничтожению крестьянства: плотник Мивви прислал тогда письмо из своей деревни, умоляя бывшего хозяина вызволить его из страны. Но этот вопль о помощи пришел, когда заказы на мозаику стали редки. У Бориса было мало денег, и он ответил, что так как он не в состоянии гарантировать Мивви работу в Великобритании, то не может и просить для него визы. Больше о Мивви ничего не слышали.
Еще одно обстоятельство тревожило Бориса в тридцатые годы. Анастасия под влиянием оксфордских интеллектуалов увлеклась идеями коммунизма, но коммунизма не сталинского толка, а того, что исповедовал Троцкий. Борис считал ее увлечение нелепым, положений же, когда его ближайшие родственники выглядели нелепо, он не выносил, хотя с удовольствием высмеивал абсурдные взгляды других.
Анастасия и Вивиан Джон, младшая дочь Огастеса и Дорелии, приехали в Париж. Было объявлено, что Вивиан собирается брать уроки рисования, а Анастасия – посещать лекции в Сорбонне, но гораздо больше времени девушки проводили в “черных” ночных клубах. У обеих были любовники-арабы. Девушки, понятно, старались держаться подальше от Бориса, который, узнав о происходящем, пришел бы в ярость и не потерпел бы, чтобы дочь заводила романы с арабами, а уж тем более имела от этих связей ребенка. Когда в июле 1939 года Франция объявила войну Германии, Борис настоял, чтобы Анастасия вернулась в Англию.
Для Джинн Рейнал отъезд из Франции тоже, возможно, был связан с угрозой порабощения Европы нацизмом, однако гораздо большую роль тут сыграло нежелание Бориса жениться. Семейство Рейналов прислало из Америки эмиссара, задачей которого было убедить Джинн, что Европа – опасное место, а ее любовник – обыкновенный авантюрист. Что касается Бориса, то, размышляя о возможности женитьбы на богатой, доброй и умной женщине, он не мог не сознавать, что Соединенные Штаты с их прагматизмом и слишком короткой культурной историей – место для него не самое подходящее. И потом, что стало бы с Марусей? Поэтому в 1938 году Джинн уехала из Парижа в Нью-Йорк, где начала заниматься мозаикой самостоятельно.
Сообщения о жестокостях нацистов в континентальной Европе теперь поступали постоянно, и в Англии им уже начинали верить не только евреи. Но англичанам, как бедным, так и богатым, еще не хотелось связывать все эти ужасы с немцами – ведь это такой умный, сентиментальный и аккуратный народ! Хотя, конечно, политическая ситуация в Европе тревожила – в Италии и во Франции фашистские правительства уже утвердились, в Англии Освальд Мосли со своими головорезами прошелся по лондонскому Ист-Энду, избивая евреев, а полицейские стояли рядом, с интересом наблюдая и ничего не предпринимая. В сталинской России царил коммунистический режим, столь же нетерпимый и жестокий.
Что касается Бориса, то, причисляя себя к белым и имея перед своей фамилией приставку “фон”, он полагал, что не будет так уж ненавистен немцам в случае их победы, хотя эта возможность казалась тогда маловероятной, ибо французскую границу защищала неприступная линия Мажино – ряд наземных и подземных укреплений, протянувшихся от Бельгии к югу до самой Швейцарии. Проблема была в том, что Маруся недавно получила британское гражданство и не хотела оставлять Бориса в Париже одного. Он же, надеясь, что после падения большевистского режима ему будут возвращены имения Анрепов в России и их собственность в Петербурге, откладывал получение британского паспорта. В результате месяц за месяцем они с Марусей все жили в студии на бульваре Апаро, ожидая перемен к лучшему.
Как раз в это время Банк Англии заказал Борису еще один мозаичный пол, и казалось, будет разумно закончить его и отправить ящики с мозаикой в Лондон на корабле, пока не начались боевые действия. Тревога немного успокоилась с началом так называемой “странной войны”, когда в течение девяти месяцев ни в Англии, ни во Франции практически ничего не происходило, не прозвучало ни единого выстрела, хотя обе страны официально находились в состоянии войны с Германией.
Десятого мая 1940 года немецкая армия внезапно вторглась в Голландию, прошла через Бельгию и, аккуратно обойдя линию Мажино, перешла границу Франции. 17 мая Уинстон Черчилль прилетел в Париж и обнаружил, что французы не в состоянии оказать даже самого незначительного сопротивления, а командиры безнадежно запутались в том, кому следует подчиняться. Тогда на борьбу с захватчиками были отправлены британские войска, но 1 июня немцы перехитрили их искусным маневром, и англичане были вынуждены позорно бежать из Дюнкерка через Ла-Манш, реквизировав все частные яхты и пригодные для спасения рыбачьи лодки.
Только после катастрофы при Дюнкерке Борис серьезно задумался об отъезде из Парижа. В какой-то момент он даже впал в панику и написал большими буквами на каждом ящике с упакованной мозаикой: “NICHT ANRUHREN!”[68] Он знал, что немцы подчиняются приказам. Но теперь уже было не так-то легко выбраться из города, полупарализованного ощущением наступающей катастрофы.
Однажды проходя мимо банка, где хранились их деньги, Борис и Маруся с удивлением увидели, как наличность сгружают в машины. Маруся предложила тут же снять все со счета. Борис колебался – может быть, завтра? Но Маруся настояла на своем. На следующий день банк закрылся, и Борис был ей благодарен. Теперь следовало укладывать чемоданы и искать какой-нибудь транспорт, чтобы бежать от немецкой армии, которая стремительно продвигалась к столице.
Два месяца спустя Борис описал их бегство в рассказе, начав его ярким описанием студии, где появляется парижский друг Пьер Руа. Чтение это напоминает роман:
Стук в дверь. Это, конечно, Пьер, мой старый друг. Снова пришел. Вчера он несколько часов рыдал у меня на плече. Что ему нужно теперь? Я только что съел завтрак, принесенный любящими Марусиными руками в мою маленькую спальню с большими окнами, выходящими в джунгли сада. С кровати я вижу цветущие кусты, слышу, как дети гоняются за кошками, la concierge[69] подметает дорожку. На требовательный стук друга, пребывающего в отчаянии, нельзя не ответить. Какая тоска.
Флорина обошлась с Пьером отвратительно: она его бросила. Это трагично уже само по себе, но то, как она это сделала, было невыносимо оскорбительно.
Уязвленный предложением руки и сердца, полученным Флориной от Поля, Пьер сам предложил ей выйти за него замуж. Ему за шестьдесят, ей еще нет двадцати семи. Она была его любовницей с нежного шестнадцатилетнего возраста. Она ответила Пьеру согласием, но Полю пообещала, что выйдет за него. При этом, будучи не в силах противиться его пылкому зову, вернулась к Пьеру. Да, она выйдет за него, за Пьера: “Маленький Поль импотент, je n’ai qu’en fair”[70]. Недолгий страстный уик-энд в студии Пьера на шестом этаже. Пьер на седьмом небе. Потом она уходит от него навсегда. “О Флорина! О Фло! Что ты со мной сделала!”
Мне все равно, что она с ним сделала, но он льет свое глупо-сентиментальное отчаяние в мои уши; он изрыгает ругательства мне на колени. Будь проклята любовная агония Пьера! Всего две недели назад они ходили вместе выбирать обои для своей новой квартиры. Отчаянные попытки раскрыть местопребывание Флорины бесполезны. Детективное агентство уже прислало счет на 500 франков.
Она дала мне свой новый адрес, чтобы я ей сообщил, если Пьер покончит с собой. Я поклялся, что не выдам ее. “Приглядывайте за ним, Борис, он грозился убить себя. Думаете, убьет?”
“Не будьте дурочкой, Флорина. Он выплачется”.
Теперь она боится за Поля. Пьер может раскрыть их любовное гнездышко, может напасть на ее будущего мужа. Если Поль переживет месть Пьера и войну, он станет богатым банкиром, он введет ее в общество. Все падут к ее ногам, никто не устоит против ее белокурого очарования. Она покончила с Пьером и его омерзительной эротоманией, которую терпела десять лет. “Я была девушкой, Борис, я не знала ничего лучшего. А его искусство! Vraiment![71] Приколотые иголками бабочки в украшенном лентами мавзолее! Je vous jure![72] Он бы любил меня еще больше, если бы я была набальзамированным чучелом. Таксидермист! Дедушка сюрреализма!”
Любопытно читать о том, как Борис все не мог решиться на отъезд. Они с Марусей бежали в самый последний момент, когда немцы уже вошли в Париж.
Грохот и шум с бульвара разбудили нас еще до рассвета. Мы слушали это зловещее громыхание и в который уже раз думали, что пора уезжать из Парижа. Позже утром атмосфера в студии накалилась. Сквозь щели в стенах проникал вонючий дым.
– Немцы!
– Нет, наверное, это французы, отступая, жгут нефть.
– Неприятель пускает через Сену дымовую завесу!
– Может, это газы!
Ольга и Ленюша хныкали в саду, прося прохожих объяснить этот апокалиптический знак. Желтая пелена висела над городом. Я подумал, что Париж обречен.
У Ленюши была склонность сеять панику:
– Мясные лавки и булочные закрылись.
– Трусливые крысы, – бормочет Леонид.
– Войска охраняют вокзалы. Билетов не продают, никто не может уехать из Парижа по железной дороге, – настаивает Ленюша. – Таксистам предлагают двадцать тысяч франков, чтобы вывезли на тридцать километров за город, но они отказываются. Могу их понять. Мой муж два раза отказался.
– Мой зять везет семью на юг в собственном такси, – хвастается Леонид.
Я заволновался:
– Пойдемте к нему, может, он и нас отсюда вывезет?
– Да, конечно, пойдемте, – снизошел Леонид.
Пришли к Леониду. У него маленькая квартирка, заставленная всяким скарбом, в ней душно и дурно пахнет, поскольку в доме нет ватерклозетов, а Леонид не желает открывать окон. Вместо обоев комната обклеена его пейзажами, некоторые красуются на потолке. Его стойкая немолодая жена безропотно приняла судьбу. Ей пришлось пережить и худшие времена военного коммунизма в России с его массовыми убийствами, пытками, голодом. Им удалось бежать, захватив с собой ее швейную машинку, его коробку с красками, цилиндр, который он в юности надевал по торжественным случаям, и старый барометр. Ей слишком много лет, чтобы бежать куда-то снова. Да и куда? Пусть молодежь борется за жизнь, а она умрет в своей маленькой квартирке, где шила платья для дочек консьержа и бакалейщика. У Леонида идеи более крупные: он полагает, что немцы посланы Провидением, чтобы избавить Россию от большевизма. Союз немцев с Советами – блеф (как прав он оказался!). Он хочет вернуться в Крым, восстановить хозяйство, сидеть в своем саду под фруктовым деревом и рисовать. Хочет закончить тот пейзаж, эскиз которого уже давно сделан. Когда жена отказывается признать в немцах спасителей, он говорит: “Посмотрим, посмотрим”. Она ненавидит их так же, как большевиков.
– Борис Васильевич, – серьезно говорит она мне, – уезжайте в Англию, пока есть такая возможность.
В конце концов Борис с Марусей решили отправляться в Англию. Но когда он в последний раз, один, зашел в мастерскую, то рухнул на свой огромный рабочий стол и закричал от злости и отчаяния. Потом выбежал в сад, пал в объятия пышной блондинки Ленюши и, потрясая кулаками, проклял небеса. В глазах щипало от слез.
– Пожалуйста, Ленюша, присмотри за мастерской и пользуйся всем, что понадобится. Мое зимнее пальто отдай мужу. Прощай, дорогая Ленюша.
Путешествие было тяжелым: пытаясь покинуть страну, Борис и Маруся колесили на поездах и грузовиках, переезжая из Невера в Нант, из Сен-Мало в Бордо, потом снова в Нант. Днем в летнюю жару они ждали на вокзалах в толпах беженцев, ночью согревались под Марусиной шубой. Из них двоих Маруся была спокойнее, по дороге покупала бренди и необходимые вещи. Ее участие оказалось решающим в тот момент, когда уже на пароходе двое неизвестных, мужчина и женщина, пытались вербовать Бориса в шпионы. Они уговаривали его вернуться во Францию и стать там тайным агентом. Но горящий ненавистью Марусин взгляд убедил их, что такой поворот событий маловероятен.
Через четырнадцать дней, 24 июня в пять часов утра, они приехали в Лондон, взяли такси и сразу же отправились в Лайонс-Корнер-хаус на Тоттнем-Корт-роуд позавтракать яичницей с грудинкой. Борис знал, что яичница с грудинкой – самый вкусный английский завтрак.
Глава двадцать четвертая Хэмпстед-Хит в годы войны
Студия Бориса находилась в мощеном переулке Хит-Пэссэдж, ведущем от Норт-Энд-роуд к Хэмпстед-Хит. Это было низкое и узкое здание, в котором все комнаты были проходными, поскольку для коридора места не хватало. В том конце, что находился ближе к Хэмпстед-Хит, здание было двухэтажным, и здесь на потолке имелось подъемное колесо, позволявшее подавать материал из подвала, – там, внизу, хранили мозаику, перламутровые раковины и другие необходимые в работе вещи. В обоих концах дома располагались ванные комнаты и маленькие кухни. Некогда существовавшая здесь прачечная была перестроена Джастином Вальями в конце 1920‑х годов при активном участии Бориса. Как и во многих художественных мастерских, на самый верх вела лестница; там, на антресолях, была спальня. Через выходящее на север огромное, от пола до потолка, окно был виден Голден-Хилл-парк.
Хотя приятно было сознавать, что в Англии есть дом, где можно жить, Борис постоянно беспокоился о мозаике, оставленной в Париже на милость немецкой армии. Размышляя о ее возможной судьбе, он понимал, что если обнаружится большой медальон с портретом английского короля Георга VI, всю мозаику увезут в Берлин как трофей.
“Блицкриг” начался с воздушных налетов на Лондон в сентябре 1940 года и продолжался всю зиму. Среди ночи выли сирены, слышался гул груженных бомбами немецких самолетов и ответный грохот зенитных орудий. Страшные взрывы поблизости или глухие удары вдалеке заставляли постоянно гадать о том, куда именно упали бомбы, летят ли самолеты на город или возвращаются назад. То и дело отключали воду, газ и электричество; мелкая пыль от разрушенных домов въедалась в кожу горожан, и руки было трудно отмыть, повсюду скрипел песок. После ночного налета лондонцы шли на работу измученные и грязные, перешагивая в метро через нашедших там убежище людей, спящих вповалку целыми семьями. Вид разбомбленных домов с обрушившимся фасадом и открытыми, как в кукольном домике, на всеобщее обозрение мебелью и обоями придавал опустевшему городу ощущение чего-то нереального.
Второго октября 1940 года 2000-фунтовый фугас упал рядом с мастерской в Голден-Хилл-парке. К таким фугасам прикреплялся синий шелковый парашют, чтобы они летели не слишком быстро и при падении не возникало бы слишком глубоких воронок. Таким образом они вызывали значительно больше разрушений. Всю силу взрыва принял на себя ряд соседних с мастерской домов – они рухнули, отчасти прикрыв ее собою, но огромное окно размером шестнадцать на девять футов разбилось, и длинные осколки стекла вонзились бы в кровать, где обычно спали Борис и Маруся, если бы не тяжелые занавеси, между которыми был проложен светомаскировочный материал. Крышу подбросило на воздух, но, к счастью, она опустилась на прежнее место. По фасаду пошла трещина. Борис и Маруся, спрятавшиеся под стол, когда услышали, что падает бомба, потеряли сознание от взрыва. Потом они выбежали из дома, потому что могли рухнуть стены.
Утром явились муниципальные рабочие заколотить зияющее окно – такие работы проводились оперативно. Помочь убрать жуткий беспорядок пришла горничная Кора. Кругом валялись битые вещи и мебель, все было засыпано пылью. При разборе вещей обнаружилось, что исчез ящичек, в котором Борис хранил подаренное Ахматовой кольцо. Когда в конце концов его отыскали, кольца внутри не оказалось. Борис не мог прекратить поиски и пришел в страшное отчаяние. Пропало черное кольцо Ахматовой!
Хотя студию теперь едва ли можно было считать пригодной для жилья и к тому же она все еще грозила рухнуть, Тоби Хендерсон, придя туда, обнаружил сидящую среди обломков Марусю. Она находилась в состоянии сильнейшего нервного потрясения, от которого так никогда до конца и не оправилась. Муниципальные власти переселили ее и Бориса во временную квартиру на Уиллоу-роуд в Хэмпстеде. Четыре месяца спустя, 21 февраля 1941 года, Борис писал оттуда Франсес Партридж:
Моя дорогая Франсес!
Спасибо за письмо. Мне очень жаль, что ты не дала нам знать о своем приезде в Лондон, так как ничто не обрадовало бы нас больше, чем несколько часов, проведенных в вашем с Ральфом обществе. Я не могу думать об отдыхе, пока не закончу работу в банке. Это произойдет весной. До тех пор тружусь как чернорабочий, пытаясь восстановить старые мозаики, которые пролежали спрятанными десять лет и теперь находятся в плачевном состоянии. Каждый день я работаю там с 8 утра до 5 вечера, затем еду по указанному выше адресу и ложусь спать в 9.30. Мы надеемся вернуться в нашу разгромленную студию через несколько месяцев, так как к тому времени починят канализацию и приведут в порядок водопровод.
Я никого не вижу, но от бомбежек не просыпаюсь, а вот бедная Маруся прячется под кухонным столом. Как чудесно, должно быть, сидеть у камина после сытного ужина в тихом и мирном Хэм-Спрее. Увижу ли я вас когда-нибудь? Одно из самых разрушительных следствий войны – потеря возможности видеть друзей, да и потеря самих друзей. Что будет, то будет, время летит, даже вместе с кирпичами. И весна уже близко. Весною все веселее, даже “блиц”.
Мне очень приятно твое упоминание о мозаике в Шотландии. Большое спасибо за рекламу моего искусства. Когда подниму голову от теперешнего скучного занятия, буду рад пойти по следу. Главное, его не потерять.
До свидания, дорогой друг.
Борис. Маруся передает привет. Она в очень нервном состоянии, бедняжка.Борис ломал голову над тем, как зарабатывать на жизнь себе и Марусе, потому что было ясно, что никаких новых заказов, пока идет война, не предвидится. Он решил, что можно попытаться использовать знание языков, и обратился в информационное агентство Рейтер в надежде получить работу переводчика. Его пригласили на собеседование. Рейтер считался даже более авторитетным источником, чем “Таймс”. Собеседование прошло неудачно: кандидатуру Бориса отвергли, и он вернулся в студию к Марусе раздраженный и подавленный. На следующий день, 22 июня 1941 года, нарушив взаимный пакт о ненападении, заключенный между Сталиным и Гитлером, немецкая армия вторглась в Россию.
В своей книге “История агентства Рейтер” Дональд Рид рассказывает, как было сообщено об этом событии:
Министерство иностранных дел Германии обнародовало заявление, в котором говорилось: “Мы ожидаем, что выходные дни пройдут спокойно”. Это показалось ответственному редактору Джеффри Аймерсону подозрительным, и он насторожился. Обычно служба радиоперехвата как Рейтера, так и Департамента национального вещания прекращала работу около полуночи и возобновляла в 6 утра. Перерыв делался, чтобы переводчики могли отдохнуть. Но на этот раз Аймерсон попросил Нину Джи слушать всю ночь – на всякий случай. В середине ночи она взволнованно сообщила по телефону: “Германия напала на Россию”. Аймерсон тут же обнародовал эту новость. И только после этого Нина Джи объяснила, что она всего лишь услышала сообщение о том, что Гитлер объявил о своем осуждении советской политики.
Репутация агентства значительно возросла, когда выяснилось, что Джи оказалась права. Утром зазвонил телефон – Бориса срочно вызывали в Рейтер, чтобы он немедленно приступил к работе. Службой прослушивания радио России, Польши и Германии, в которой начал работать Борис, руководил Глеб Струве, ранее профессор-славист в Юниверсити-колледже Лондонского университета. В Готик-хаусе в районе Барнет было установлено мощное радиооборудование, которое могло ловить радиопередачи со всей Европы. Борису полагалось слушать передачи на русском, польском и немецком языках, собирая информацию, и, как до него делала Нина Джи, решать, насколько эта информация важна. Ему часто приходилось работать ночью, и Маруся волей-неволей оставалась в студии одна, дрожа от страха.
Чтобы делать синхронный перевод радиопередач, Борису пришлось вырабатывать у себя новые навыки, но он был настроен решительно. Когда Борис отдыхал на выходных у Ральфа и Франсес Партридж в Инкпене в графстве Беркшир, частенько было слышно, как поздно вечером он тренируется перефразировать вслух то, что слушал по русскому радио, – новости и пропагандистские вопли.
Через два года, в 1943 году, Борис ушел из Рейтера по причинам, как он объяснил, “личного характера”, что, вероятно, было связано с нервным возбуждением Маруси и ее ночными страхами. Принимая его отставку, Дж. Грэм Грин писал:
Позвольте мне со всей искренностью сказать, что нам будет очень не хватать столь обаятельного человека и доброго друга, который так много сделал, чтобы скрасить тяжелое время. ‹…› Моя задача – найти преемника на Вашу должность, обладающего Вашей находчивостью, редкой мудростью, компетентностью и доскональным знанием предмета, – поистине тяжела.
В то время так хорошо было вырваться на несколько дней из Лондона в Хэм-Спрей-хаус, где Бориса с Марусей ждали покой и дружеское внимание. Партриджи встречали своих русских гостей на вокзале Хангерфорд. На платформе Борис и Ральф обнимались, приплясывая, как два огромных медведя, а флегматичные британцы глядели на этих больших мужчин с изумлением: такого они никогда не видели. Маруся тоже была счастлива. Ее грудной голос, большие черные глаза, зачесанные назад, как у балерины, волосы и прямые непринужденные ответы нравились хозяевам. Ей было приятно видеть Бориса счастливым, не флиртующим с какой-нибудь новой пассией, а лукаво следящим своим острым взглядом за Ральфом, который пытается ускользнуть от мата за шахматной доской.
Как и прежде, Борис был популярной личностью в Мейфере. Здесь он познакомился с Мод Рассел, женой Гильберта Рассела, гвардейского офицера, ставшего биржевым маклером, а теперь уже старого и больного человека. Мод родилась в 1890 году и была дочерью немецкого банкира-еврея, чей отец по ротшильдовской традиции послал своих сыновей в европейские столицы, чтобы создать сеть, способствовавшую развитию семейного банковского дела. Будучи ребенком в очень богатой семье, Мод почти не виделась с родителями, а общалась в основном со служанками и гувернантками, хотя, кажется, не испытывала к ним никаких теплых чувств. Она росла вместе с сестрой в огромном доме на Портман-сквер и никогда в жизни не заглядывала за зеленую, обитую сукном дверь, отделявшую хозяев от слуг. Когда я спросила, не испытывала ли она хотя бы малейшего интереса к тому, как жила прислуга, она резко ответила: “Мне до этого не было никакого дела”. Около 1914 года она вышла замуж за Гильберта Рассела, который потом стал работать в Сити и в результате спекуляций ее приданым в первый же год сделал ее миллионершей.
Мод была энергичная и красивая светская дама, с большим вниманием относившаяся к своей внешности. После полудня она подолгу отдыхала, покрыв лицо и шею густой питательной маской, и только после этого вставала, накладывала косметику и одевалась к обеду. Она носила вещи, сшитые на заказ знаменитыми кутюрье, и привыкла жить ни в чем себе не отказывая. У нее был роман с писателем Иэном Флемингом[73], когда она познакомилась с Борисом и влюбилась в него.
В 1941 году пятидесятивосьмилетний Борис был человеком внушительного вида и крепкого сложения, хоть и похудел на скудной военной диете. Он не сомневался, что способен очаровать всех вокруг, твердо знал, что является знатоком своего дела, был смел и остроумен в разговоре. Его светлые волосы поредели, но и глаза, и все его существо выражали физическую радость жизни, а любопытный нос, слегка раздвоенный на вздернутом кончике, как у шустрого барсука, свидетельствовал о животной чувственности.
Конечно, новый роман осложнил отношения с Марусей. Она услышала, как однажды Борис назвал Мод “восхитительной”, и с тех пор всегда с горечью называла так свою соперницу. Она вновь с омерзением говорила о “дамочках Мейфера” – испорченных женщинах, которые представляют интерес только благодаря своим деньгам и влиятельности. Но Мод была еще и еврейкой, и тут Маруся, как многие русские, испытывала самую вульгарную неприязнь. В рассказе Бориса о внешности и женитьбе Бакста, возможно, тоже чувствовалось предубеждение, связанное с национальностью последнего, особенно когда Борис бурно высмеивал его маленький рост и уродливую внешность. Но такой налет презрительности подавался как шутка. А если кому-то не хватало ума это понять, Борис лишь пожимал плечами.
Иногда Мод бывала в студии. Ее поражала простота обстановки и отсутствие удобств: ванные слишком маленькие, нет мягких кресел и диванов, зимой жуткий холод из‑за того, что толщина стен старой прачечной всего лишь в один кирпич, а обогреваться можно только двумя жалкими, маленькими каминами. Во время войны Мод приносила с собой в сумочке нечто очень ценное: небольшую бутылку бренди. Вместе с Борисом они шли по переулку к Хэмпстед-Хит, потом вверх по маленькому крутому холму, устраивались там на скамеечке и по очереди прихлебывали бренди.
В студии обычно с жалким видом сидела Маруся. Даже в теплые дни съежившись у огня, она ставила на пол бутылку алжирского красного вина и бокал и беспрерывно курила. Маруся боялась воров, бомбежек, боялась выходить из студии, боялась в ней оставаться. Ее бледное лицо казалось от пудры еще белее, губы были накрашены ярко-красной помадой, брови неровно выщипаны. Она больше не следила за домом, и больно было видеть состояние ужаса, в котором она постоянно пребывала.
Но рядом все же были знакомые: ирландская няня, присматривающая за старым художником Д. С. Макколлом на Нью-Энд-роуд, и русский садовник Павел, работавший у Анны Павловой в доме, который она построила по ту сторону парка. С Павлом Маруся могла поговорить на родном языке. От прежних времен жизни в Хэмпстеде сохранилась дружба с Хендерсонами и Энфилдами.
Борис и Маруся теперь без конца ссорились и громко кричали друг на друга по-русски. Из‑за этих перебранок Борис предпочитал находиться подальше от дома и наслаждаться спокойствием и комфортом у Мод Рассел. Марусе же оставалось только напиваться в студии.
В письме Бориса, написанном из студии и адресованном Франсес, нарисована картина его жизни в конце войны:
Моя дорогая Франсес!
Давно хотел написать тебе. Мы были невыразимо тронуты твоим телефонным звонком и письмом с приглашением погостить у тебя. Мы много раз думали поехать к тебе, но как-то все не могли собраться. Нас так засосала жизненная рутина, что просто нет сил ее разорвать. Так ужасен наш моральный распад на шестом году войны. Утром у меня почти нет сил подняться с кровати, и только жестокое упорство Маруси, с которым она не желает приносить мне завтрак в постель, заставляет меня спускаться вниз под воздействием приступов голода, неизменно сопровождающих меня утром, днем и вечером, несмотря на обильную еду, которой я наслаждаюсь в должные часы по православному обычаю.
Нет, больше я ничего не сочинил. Засунул “Бегство из Парижа” в нижний ящик письменного стола, чтобы о нем забыть. Немного рисовал, и это приносит мне удовольствие. Я предаюсь праздным мечтам о мире и жду, жду, жду. Написал десяток открыток в Париж в первый же день открытия почтового сообщения, но еще не получил ни одного ответа. Это меня беспокоит, так как подозреваю, что все мои друзья оказались коллаборационистами и могут сейчас сидеть в тюрьме. Там у меня также сводный брат, о котором я не имею известий с того времени, как вернулся из Парижа.
Я получил заказ от одного католика сделать мозаичную икону. Тема – Святое сердце. Ни художники, ни скульпторы не раскрыли ее должным образом, и мой клиент выражает надежду, что в мозаике я смогу это сделать лучше. Я уверен, что смогу. Традиционные изображения ужасны. У меня также есть предложение от большой торговой фирмы создать для их продукции торговую марку, имитирующую мозаику. Я посетил их фабрику “Гестетнерз лимитед”, где несколько сот милых молоденьких девушек как заведенные весь день делают одно или два одинаковых движения руками, поскольку им доверена только одна операция. Движения такие точные, что на них приятно смотреть, а руки, их производящие, очень красивы. Но как подумаешь, что эти молодые, хорошенькие и жизнелюбивые создания вынуждены восемь часов в день делать один и тот же жест, сердце наполняется ужасом. Не думаю, что я в конце концов получу этот заказ, так как я проконсультировался у одного коммерческого художника, и он назвал мне минимальную сумму, которую следует запросить у фирмы. Поскольку работа меня особенно не интересует, я последовал его совету, который показался мне довольно разумным. Совет поощрения музыки и искусств после двухлетнего раздумья написал мне, что было решено организовать выставку интересных мозаичных работ, если не слишком дорого будет их перефотографировать и увеличить те репродукции, которые у меня имеются. В настоящий момент многие репродукции неудовлетворительны, и едва ли стоит их выставлять.
Москва не прощает французских интеллектуалов, сотрудничавших с немцами или же относившихся к ним безразлично. По московскому радио их называют “немецкими прихвостнями”. Андре Жид вызывает особую ярость Москвы. Они говорят: “Мы спасли европейскую цивилизацию от тигров и не допустим, чтобы такие заразные блохи, как Андре Жид, распространяли болезнь среди французского народа”. Андре Жид был коммунистом до того, как посетил Москву задолго до начала войны. Вернувшись, он написал книгу, полную ужаса, вызванного впечатлениями от рабского существования русских людей и полного отсутствия свободы мысли. Этого Москва не забывает и не прощает.
Мне предложили давать один урок в неделю в Сити-колледже восьми ученикам, которые стремятся изучить русский язык. Я дал один урок, но так разволновался, что забыл, как пишутся русские буквы. Это было страшное испытание, однако я подписал контракт на зиму, так как уверен, что не смогу уехать в Париж раньше чем через год. Тупой мужчина сорока трех лет, три девушки, знающие французский, испанский и немецкий, две матроны, задающие замысловатые вопросы о фонетическом развитии славянских языков, и два коммивояжера, питающие жалкие надежды заниматься бизнесом в России. Я попытался отпустить несколько шуток, которые, не сомневаюсь, были бы оценены моими друзьями, но не вызвали никакой реакции у аудитории, которая смотрела на меня по-совиному, я же от стыда залился краской. Как тяжела жизнь!
Я все еще подумываю после войны открыть магазин, если ничего не выйдет с мозаикой. Хочу привозить из‑за границы гончарные изделия, сделанные в деревнях и в маленьких гончарных мастерских. Есть ли у тебя какие-нибудь предложения? Я уверен, что ты, как и твои друзья, знаешь удивительные места, где попадаются интересные вещицы. Трудности будут с перевозкой по морю и получением лицензии, так как я чувствую, что со всеми ограничениями импорт будет нелегким.
Я рад, что тебе понравились спагетти. Надеюсь, ты разложила их на полу в сухой комнате, потому что их следует высушить перед приготовлением, иначе они останутся сырыми.
Я влюблен. Предмету моей страсти я всего лишь “нравлюсь”, отсюда возникает множество недоразумений.
До скорого свидания. Маруся шлет привет. Мне приятно сообщить, что она начинает забывать о самолетах-снарядах и купила три блузки: пастельно-голубую, оранжево-розовую и белую, и находит большое утешение, когда вертится перед зеркалом, покрытым пылью и паутиной. Мы часто думаем обо всех вас и хотим увидеться, но мечтаем о прекрасных вещах, не получая их. Так что придется еще немного подождать приезда в ваш гостеприимный дом. Нам нужно собраться с силами, чтобы совершить путешествие, которого оба желаем.
Если приедете в город, дайте нам знать, и мы вместе выпьем чаю.
Шлем наилучшие пожелания тебе, Ральфу и Берго.
С любовью,
Твой Борис.Две мозаики были установлены в 1945 и 1946 годах. “Святое сердце” для мистера Стерлинга – это панно, изображающее Христа, чья правая рука держит горящее сердце, а левая, расположенная ниже, потир, наполненный кровью. Сверху вниз рядом с золотисто-голубым нимбом сделана надпись COR SACRUM[74].
Это очень профессиональная, традиционная, прекрасно исполненная работа, но в ней не хватает индивидуальности. Борис послал ее цветную репродукцию Анне Ахматовой, как всегда не получив ответа. Любая переписка с заграницей все еще могла представлять для нее серьезную опасность, что прекрасно понимал ее давний друг. Как он написал в письме к Франсес, “Москва не прощает”.
Другая мозаика – это выполненный в натуральную величину портрет Мод Рассел. Она была установлена в ее загородном доме Моттисфонт-Эбби (Аббатство Моттисфонт) в Гэмпшире. Мод изображена на панно у стены аббатства в виде ангела Моттисфонта, одетого в желтое, с голубыми крыльями и оранжево-красным ободком нимба, окружающего ее черные вьющиеся волосы. У нее тонкие семитские черты, нос с небольшой горбинкой, огромные глаза и подчеркнутое полукружье брови. Поза и выражение лица необыкновенно безмятежны и напоминают ангельскую леди Баунтифул[75], благословляющую свое поместье.
Глава двадцать пятая Безрассудство и добродетель
Германия была разгромлена. Вторая мировая война закончилась, и на Рождество 1946 года Борис и Маруся вернулись в Париж посмотреть, что стало с городом. В доме 65 по бульвару Апаро они обнаружили, что нацисты повиновались приказу Бориса “Не трогать!” и мозаика для Банка Англии, приготовленная к отправке в Лондон, была цела и невредима. Какое счастье! К тому же их встретили Леонид Инглесис и другие русские друзья, пережившие немецкую оккупацию. Всем хотелось отпраздновать послевоенную встречу, и месье Бонду сделал дружеский жест – пригласил Бориса и Марусю в Les Trois Marronniers на рождественский ужин.
В Англии в годы войны еду выдавали строго по карточкам, так продолжалось и в 1946 году, когда в стране оставалось совсем мало хлеба и картофеля. Недельный рацион был скудным (60 граммов масла или 120 маргарина, 60 граммов сыра и полпинты[76] молока), но недорогим: на один шиллинг и четыре пенса можно было купить 30 граммов жира и, если повезет, одно яйцо. Овощи, рыбу и потроха разрешалось покупать без карточек, но это не значило, что их всегда можно было достать. Продовольственный черный рынок, где люди богатые и не слишком щепетильные покупали себе еду, был сравнительно небольшим. Организм англичанина настолько привык к этой скудной диете, что уже не мог переваривать более обильную пищу. Когда мсье Бонду выставил угощения перед Борисом и Марусей, они с восторгом набросились на яства, но их желудки не выдержали. Ночью в студии их вырвало всеми изысканными блюдами, которые они только что съели.
Мозаика для Банка Англии была отправлена морем в Лондонский порт, причем Борис лично присутствовал при прохождении таможни. Мозаику, изготавливаемую “обратным” способом, он всегда заявлял в таможенной декларации как “строительный материал” – в этом случае она освобождалась от пошлины. Он не испытывал колебаний, если случалось обмануть власти или какие-нибудь иные инстанции, и во время строжайшего послевоенного валютного контроля ухитрялся прятать в ботинках английские банкноты, которыми потом во Франции расплачивался с русскими рабочими.
В 1947 году уже был готов рисунок мозаики для католического собора Господа Иисуса Христа в городе Маллингаре ирландского графства Уэстмит, и возникла необходимость возобновить работу в парижской мастерской. Были собраны русские рабочие, Леонид, как всегда, начал переводить на оберточную бумагу огромные картоны. Капеллу собора должно было украшать изображение святого Патрика, покровителя Ирландии. Святой предстает перед зрителями молодым и сильным, с факелом в руке, зажигающим пасхальный огонь, а молния уничтожает языческого идола в Кромм Крауч, древнем каменном сооружении, где друиды приносили жертвы солнцу. Борис изобразил вверху двурогую голову, а на пьедестале внизу скопировал рисунок с ручки светильника, ставшего военной добычей датчан. Под расколотым камнем извиваются змеи, которых святой изгнал из Ирландии. Над этой эффектной сценой спокойно восседает окруженный ангелами Христос, под ногами которого сияет солнце.
За капеллу Святого Патрика Католическая Церковь заплатила Борису 2500 фунтов.
Еще один заказ обсуждался с лондонской Национальной галереей. Мозаику предполагалось разместить недалеко от галереи главного вестибюля. Если теперь подняться вверх по лестнице на два пролета, то на площадке между ними можно увидеть благодушные изображения Озберта Ситуэлла и Клайва Белла в виде Вакха и Аполлона. О том, чтобы расположить мозаику на этом верхнем этаже, впервые зашла речь в 1946 году, когда директором Национальной галереи был Кеннет Кларк. После же получения согласия попечительского совета было решено поручить Борису создание серии мозаичных панно под названием “Современные добродетели”, которые бы прославляли последние достижения Великобритании. Выбор этих тринадцати добродетелей многое раскрывает в характере самого Бориса: Любопытство, Сострадание, Наслаждение, Юмор, Сопротивление, Компромисс, Целеустремленность, Непредвзятость, Ясность сознания, Праздность, Шестое чувство, Изумление и Безрассудство. Эти абстрактные добродетели были представлены знаменитыми современниками: Эрнестом Резерфордом, Анной Ахматовой, Марго Фонтейн и Эдвардом Саквиллом Уэстом, Дианой Купер, Уинстоном Черчиллем, Лореттой Янг, Фредом Хойлем, Уильямом Джоуиттом, Бертраном Расселом, Т. С. Элиотом, Эдит Ситуэлл, Огастесом Джоном и несколько менее известной Мод Рассел. Два панно остались без добродетелей: вывеска кентского паба с призывом “Отдыхай и будь благодарен” и плита над могилой самого художника с изображением его профиля, долота, герба Анрепов и с надписью на камне: “Здесь я покоюсь”.
Всего мозаика состоит из пятнадцати картин – восьмиугольных, четырехугольных, круглых, между которыми разбросаны по полу желтовато-коричневые дубовые и каштановые листья, словно развеянные осенним ветром. Дубовые листья символизируют мощь Британии. Знаменитые личности и их особые добродетели изображены в аллегорической форме. Символизируя Ясность сознания, Бертран Рассел вытаскивает из колодца обнаженную женскую фигуру Голой истины, срывая ее последнее прикрытие – маску. Некоторые метафоры крайне туманны, например: Огастес Джон, наряженный Нептуном и изображающий Изумление, предлагает дары моря Алисе в Стране чудес, а голова русалки с носа корабля приглашает ее отправиться на поиски новых приключений. На центральном восьмиугольнике, изображающем Сопротивление, мы видим Уинстона Черчилля в комбинезоне из плотной темной ткани, который он носил во время воздушных налетов. Подняв два пальца вверх в форме буквы V, что символизирует победу, victory, Черчилль на фоне меловых скал Дувра противостоит ужасному апокалиптическому зверю, припавшему к земле, напоминающей нацистскую свастику. Скорчившийся в неловкой позе зверь как будто исполняет странный акробатический номер. Портрет Мод Рассел воплощает Безрассудство – она пожертвовала на эту мозаику десять тысяч фунтов.
Борис и Маруся за работой в лондонской Национальной галерее.
Идея Добродетели, какой она была представлена в этих мозаиках, дала Борису повод для рассуждений на нравственные темы, всегда его занимавшие. Как некогда признался он Пьеру Руа, “гирлянды идей и понятий”, пусть не вполне продуманных, приходили к нему легко, и он доверял этим своим мгновенным озарениям. Вещи серьезные он часто обрекал в форму замысловатой шутки, понятной немногим. В разговоре с Игорем Роджер Фрай однажды точно заметил: “Борис готов принести в жертву шутке все что угодно”.
Касаясь использования в мозаиках образов реальных людей, художник писал:
Поскольку к напольным картинам можно подходить с любых сторон, между ними и зрителем складываются самые короткие отношения. Человеческий интерес к изображенному важнее интересов композиционных. Если вам неловко расхаживать по внушающим почтение личностям, их всегда можно обойти.
Оценив достигнутое портретное сходство, лорд Джоуитт, ставший воплощением Непредвзятости, предложил новому директору галереи Филипу Хенди (который сменил прежнего, когда мозаика уже была в работе) потопать ногами по его физиономии, если тот вдруг когда-нибудь на него разозлится. Хенди остался недоволен полом и заявил, что никогда бы не согласился на такие картины, если бы был директором, когда принималось решение об их создании. Эдит Ситуэлл, напротив, была польщена тем, что ее портрет будет олицетворять Шестое чувство, и когда Борис попросил разрешения ее изобразить, ответила: “Без всякого сомнения, мне доставит огромное удовольствие фигурировать на вашей мозаике в качестве поэта”.
Интерпретация Шестого чувства была взята из стихотворения Николая Гумилева с тем же названием:
Прекрасно в нас влюбленное вино, И добрый хлеб, что в печь для нас садится, И женщина, которою дано, Сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей Над холодеющими небесами, Где тишина и неземной покой, Что делать нам с бессмертными стихами?Рядом с Анной Ахматовой, изображенной в виде Сострадания, зияла яма, наполненная трупами истощенных людей, почти что скелетами (Борис использовал фотографию массового захоронения в концентрационном лагере в Бельзене). Даже в 1946 году, когда многие в Англии поклонялись победившему Советскому Союзу, Борис не позволял забыть об ужасах большевизма, он указывал, что массовые захоронения есть как в Германии, так и в России. Он знал, что при советском режиме измывались не только над осуж-денными, но и над миллионами их близких, в том числе над женщинами, стоявшими в тюремных очередях, надеясь послать узникам передачу. Так и Ахматова в жару и в холод часами стояла с передачами для сына.
Чувства, которые Борис испытывал к России, всегда были противоречивы. Он помнил пример отца, пытавшегося когда-то либерализовать самодержавный режим. К энтузиазму интеллектуалов, считавших, что русский коммунизм есть ответ на социальные проблемы человечества, Борис относился с презрением. Коммунизм и фашизм он ненавидел в равной степени – ужас обеих тоталитарных систем был для него слишком очевиден.
Однако его воспоминания о старом режиме становились со временем все более радужными. Он часто повторял, что в дни его юности Россия экспортировала миллионы тонн пшеницы, которой в стране были излишки, теперь же, находясь в отчаянном положении, русские ввозили зерно, чтобы накормить голодных людей. С горечью говорил о коллективизации крестьян, полагая, что в числе их был уничтожен и его бедный денщик Мивви. Нередко указывал на то, что большевики в годы массового террора уничтожили людей еще больше, чем нацисты в концлагерях.
Что касается Маруси, то она оставалась убежденной монархисткой, перенесшей со временем свое обожание на британскую королевскую семью. У нее было много популярной литературы на эту тему: журналы, книжки, газетные вырезки и фотографии, сложенные стопкой в углу студии. Религиозна она не была, но была суеверной и часто обращалась к русскому святому, помогавшему найти потерянные вещи: “Мефилица, Мефилица, встречай мои вещи милы![77]» Никогда не носила зеленого – театральное табу, усвоенное, возможно, в родительском доме. Хотя на сцене она никогда не выступала, но в свое время училась пению и обладала красивым контральто, звучавшим, правда, редко.
В Англии ей жилось одиноко. Она полюбила раскладывать пасьянс на низком деревянном ящике – так, куря и выпивая, она ждала у натопленного коксом камина, когда Борис придет домой. Игорь, вернувшись с войны, обнаружил, что пол на кухне покрыт толстым слоем жира, и стал его счищать. Маруся была благодарна, но сама больше уборкой не занималась – после пережитой ею страшной бомбежки что-нибудь делать по дому она оказалась просто не в состоянии.
Ей было приятно появление в доме племянника, Джона Анрепа, судьбой которого его отец Глеб, продолжавший работать профессором в Каирском университете, не особенно интересовался. Джон вновь появился в Лондоне в конце войны и стал жить в студии. Он служил офицером гуркхских стрелков и любил рассуждать о том, как можно “подстрелить цветного”, или в мельчайших деталях описывал различные виды строевого шага. Однажды вечером, когда он шел в студию вверх от станции метро “Голдерс Грин”, к нему вдруг подошла девушка из вспомогательной территориальной службы и, ловко отдав честь, спросила: “Могу я помочь вам нести вещмешок, сэр?” Нести вещмешок было позволено. Так они стали друзьями, а потом и поженились.
После открытия мозаичного пола в Национальной галерее в декабре 1952 года Мод устроила сногсшибательный прием для друзей, родственников и влиятельных людей. Поскольку ее собственная квартира оказалась недостаточно просторной, она с позволения сэра Родерика Джоунса воспользовалась его домом на Гайд-парк-Гейт. Все происходило с соблюдением этикетных формальностей. Мы надели лучшие вечерние платья. На Ванессе Белл был развевающийся наряд со смелым рисунком, а на леди Аберконуэй сияли восхитительные бриллианты. У входа громко объявлялись имена прибывших гостей. Присутствовали многие из тех, кого Борис изобразил в своей мозаике, в том числе семья Джонов, художники-блумсберийцы, давние любовницы и богатые покровители. Мы собрались в огромных залах с высокими потолками, повсюду слышался шум голосов, гул приветствий, официанты скользили между группами гостей, ловко разнося подносы с закусками и напитками, и общаться среди всей этой суеты было довольно трудно. Речей не произносили, но предлагалось много турецких и американских сигарет и море самого лучшего шампанского.
Однако художественный критик “Таймс” оценил новое украшение Национальной галереи не столь высоко:
Мозаичный пол мистера Бориса Анрепа во многом похож на то, что раньше называлось светским романом, главный интерес которого – в наличии едва прикрытых намеков на разные знаменитые персоны. Вот, например, Т. С. Элиот, склонившись, раздумывает над чем-то похожим на физическую формулу, а вдалеке виднеется морской змей; мистер Эдвард Саквилл Уэст играет на фортепьяно для мисс Марго Фонтейн; лорд Рассел вытаскивает из колодца Истину; доктор Эдит Ситуэлл, представляющая Шестое чувство, окружена химерами; мистер Черчилль готов сразиться с существом, напоминающим дракона. Эти и другие личности представляют в серии отдельных картин разнообразные абстрактные и, по-видимому, ценные качества, такие как “Стремление”, “Компромисс”, “Любопытство” и “Сопротивление”. Картины расположены на фоне дубовых и каштановых листьев в осенних тонах, приятные по цвету и исполненные из мозаичных кубиков разного размера с изяществом и мастерством. Сами же изображения представляют собой довольно амбициозные композиции, местами слишком массивные и требующие большего пространства, чем позволяет материал, хотя они весьма гармонируют по цвету друг с другом и с окружающим фоном.
Плохие и даже средние рецензии выбивали Бориса из колеи. Он никогда не мог привыкнуть к враждебной критике и, прочтя эту, впал в депрессию, стеная и рыча.
Глава двадцать шестая Дела семейные
Ксвоим взрослым детям Борис испытывал нежность, смешанную с раздражением. Они, конечно, не оправдали его надежд, были эксцентричны и не слушались добрых советов. Стало ясно, что Анастасия вряд ли заживет спокойной семейной жизнью, выйдя замуж за образованного аристократа, как мечталось Борису. Объектом ее страсти оказывались в основном гомосексуалисты – причем дикой, необузданной страсти. Кроме того, она никак не могла противостоять нежной и мягкой, но крепкой хватке Хелен. У Анастасии не было своего дохода, она работала от случая к случаю и всегда жила с матерью. Что касается Игоря, то после четырех лет работы тыловым военным врачом в Индии он заявил, что абсолютно не разбирается в медицине и не способен самостоятельно заниматься врачебной практикой. Он стал ассистентом у девяностолетнего парса[78], работавшего терапевтом в лондонском районе Пимлико, а потом перешел ординатором в больницу Мэйдэй в районе Кройдон. Некоторое время мы просто жили вместе, а в 1949 году решили пожениться. В парижскую студию послали телеграмму, на которую отец жениха ответил коротко и ясно: “Зачем жениться? Целую. Борис”.
Свадьба состоялась 7 июля 1949 года в нашей квартире на улице Глостер-Плейс. Борис и моя тетушка Элеонора Фарджен с большим воодушевлением продумывали меню. Оба были гурманы и обожали готовить. Огромный лосось и майонез, домашний паштет и галантин, салаты и пудинги должны были быть самыми лучшими. В больнице позаимствовали длинный стерилизатор с перфорированным подносом для укладки инструментов, чтобы приготовить лосося. Я боялась, как бы на кухне между двумя кулинарами не возникло соперничество, а Игоря беспокоило, что отец начнет презирать мою тетку, носившую очки с толстыми линзами, полную, добродушную и слишком восторженную. Но согласие установилось мгновенно: оба были умны и остры на язык, оба ценили сильные характеры (включая, конечно, собственные), и эта взаимная симпатия сохранилась надолго. “Какая восхитительная старушка!” – восклицал Борис, как будто сам принадлежал к другому поколению.
Вскоре после нашей свадьбы из Каира приехал Глеб, посещавший Англию нечасто. Борис когда-то одолжил племяннику Джону девятьсот пятьдесят фунтов, большая часть которых к этому времени была уже возвращена Глебом. Нас с Игорем пригласили на обед в студию, так как Глеб захотел посмотреть на нового члена семьи Анреп.
Игорь меня предупредил: “Дядя похож на рыжего карлика, грудь у него из‑за астмы бочонком, и держится он очень надменно”. Речь шла о человеке, некогда носившем вериги и власяницу, ставшем любимым учеником Павлова; потерявшем жену, которая скончалась в Каире от укуса бешеной собаки. От этой встречи я ожидала многого.
Маруся накрыла стол в центральной комнате, длинной и узкой. Освещение было слабым: в углу желтым светом горела одна лампочка, наверное в сорок ватт, а на столе стояли свечи в двух изысканных сине-бело-золотых подсвечниках. Окно в потолке было темным от дождя, громко барабанившего по стеклу. Стол и пять стульев были единственным убранством, если не считать массивной деревянной иконы Богоматери с младенцем, висевшей на стене. Голова и плечи Богоматери были окутаны черной тканью (черной от копоти свечей, которые когда-то горели перед ней в карпатской церкви); младенец глядел перед собой деревянным взглядом; сложив три маленьких пальчика и слегка подняв руку, он нетвердым жестом благословлял присутствующих.
Мы сидели в пустой холодной комнате, Борис с братом разговаривали по-русски о чем-то серьезном. Маруся молчала. Я вспомнила, что ее сестра была женой Глеба и покончила с собой. К моему разочарованию, сам профессор оказался не карликом, а лишь человеком невысокого роста, да и волосы, обрамлявшие белый высокий лоб яйцеобразной формы, были у него не такие уж рыжие, а скорее цвета блеклого имбиря. Полные щеки на вытянутом лице придавали ему изнеженный и печальный, почти гротескный вид. Бочкообразная грудь внушала представление о физической силе. Он держался важно и по отношению ко мне отчужденно-невежливо, как будто меня почти и не существовало – с нового члена семьи было вполне довольно осмотра при знакомстве. По сравнению со своим крупным, жизнерадостным братом он казался существом совсем иной породы.
Нам подали водку с копченой селедкой, свинину с кашей, сыр и фрукты. Мой свекор был чем-то взволнован, и его обычная разговорчивость исчезла. Я удивилась, обнаружив, что он может быть замкнутым, не ликующим и не взбешенным, что не слышно его привычных возгласов, смеха, наставлений, рассказов. Если бы меня не занимали взаимоотношения двух братьев, вечер показался бы мне скучным, потому что приехавший дядюшка едва ли оправдал мои ожидания: его даже нельзя было назвать таким уж надменным.
Свекор любил бывать в нашем доме, на приобретение которого он щедро пожертвовал 2000 фунтов. Дом находился в лондонском районе Хайгейт. Борису нравилась семейная суета, он интересовался моей журналистикой, медицинской карьерой Игоря, детьми. Когда в 1952 году родился наш сын Бенджамин-Василий, первой реакцией Бориса были сетования по поводу того, что его заставили почувствовать свой возраст – превратили в печального старого деда. Но как только он увидел серьезное личико мальчика с русскими чертами, он сразу же просветлел, довольный тем, что наследственные качества Анрепов не пропали. Позже, когда Борис отказался от права быть возведенным в рыцари, сказав, что он не верит в титулы, полученные не путем наследования, стало понятно, что фамильный титул графов Эльмптских значил для него больше, чем могло показаться.
Когда Борис приходил к нам обедать, он любил заигрывать с моей хорошенькой шестилетней дочерью Оливией, которой с младых ногтей нравилось принимать знаки внимания от представителей противоположного пола. Борис обожал развлекать детей играми. Возил их на плечах, говоря: “Если хочешь повернуть влево, дергай за левое ухо, а если вправо – за правое”. Игорь приходил из больницы домой, усталый после 120-часовой рабочей недели, и засыпал прямо в кресле. Тогда Борис будил его, посмеиваясь, называл “мужиком” и доставал из внутреннего кармана “Зубровку”.
– А теперь приготовим закуски! У вас есть помидоры? – требовательно вопрошал он.
Из огромной плетеной хозяйственной сумки, каких теперь больше не увидишь, он извлекал своей могучей рукой лимон, фунт шотландского розового копченого лосося, итальянскую мортаделлу[79], немецкую ливерную колбасу, жирные зеленые оливки и марокканскую канталупу[80], серую и шершавую, как шар из вулканической лавы, но очень ароматную. Он ходил в магазин Шмидта и Бертольди на Шарлотт-стрит. Затем требовал, чтобы ему дали широкий передник, банку оливкового масла, миски и яйца и после этого устраивался за кухонным столом делать майонез, без умолку разговаривая: о происшествиях в магазинах, где он сегодня побывал, о сражениях на Карпатах много лет назад или о мозаике, которую ему пришлось самому укреплять на стене, после того как какой-то рабочий смешал цемент в неверной пропорции, отчего вся мозаика рухнула на пол.
Борис предпочитал приходить один, хотя однажды явился с Мод. Она была подчеркнуто любезна, но попросила Игоря принести ей пальто, так как на маленькой кухне, где мы обедали, почувствовала сквозняк. Приходила и Маруся и тоже сдержанно демонстрировала свое недовольство. Тот факт, что я на четверть еврейка (а разозлившись на ее предвзятость, я увеличила количество еврейской крови до половины), не способствовал появлению ко мне особой симпатии.
Будучи на собственном опыте убежден, что детям нужны заграничные путешествия, Борис пригласил двенадцатилетнюю дочку своей парижской консьержки пожить у нас летом. Она не говорила ни слова по-английски, но, кажется, вполне приспособилась к нашему образу жизни и плохому французскому. Меня удивляло, почему всякий раз, как она оказывалась рядом с Бенджамином, тот начинал кричать, но однажды я заметила, что она ухитрилась, проходя мимо, ущипнуть мальчика. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у него вся рука покрыта лиловыми синяками. Более приятным гостем был Лучио Орсони, сын владельца венецианской фабрики, где Борис покупал смальту. Двадцатилетний Лучио был красивый и дружелюбный. Вдали от бремени отеческой любви он расцвел и, обрадовавшись свободе, встречался под часами в районе Голдерс-Грин с девушками-иностранками аи pair[81].
В 1956 году Маруся, живя одна в Лондоне, попросила Игоря зайти осмотреть ее. Игорь прощупал на груди опухоль. Вернувшись из Хит-студии, он немедленно позвонил отцу в Париж. Вскоре онкологический диагноз подтвердился. Встал вопрос, где делать операцию: в Лондоне в больнице Святого Варфоломея, где можно было проконсультироваться у Джеффри Кейнса, брата Мейнарда, или в Париже. Маруся выбрала Париж, потому что ей было легче, когда вокруг находились русские друзья. Однако после операции появились метастазы, и зимой 1956 года ее, с сигаретой “Голуаз” и рюмкой коньяка, вынесли на носилках из студии и увезли в машине “скорой помощи”. Она скончалась по приезде в больницу в возрасте пятидесяти пяти лет. Игорь вылетел во Францию, чтобы быть рядом с отцом. Марусю не отпевали, гроб с ее телом был выставлен в убогом похоронном зале. Старые русские друзья по очереди проходили мимо гроба, и каждый, как это принято в России, целовал ее в лоб. Борис не смог заставить себя прийти на похороны и попросил Игоря сделать это за него. Когда подошла очередь Игоря прощаться с мачехой, он поцеловал ее в губы – поступок, расцененный эмигрантами как крайне неподобающий, хотя сама Маруся, пожалуй, его бы одобрила.
Нет сомнения, что Бориса мучило чувство вины из‑за того, как он обращался с верной любовницей. Они ссорились яростно и ожесточенно, хотя сам Борис быстро об этом забывал. Другое дело Маруся. Она слишком хорошо знала, как он влюбчив, и, несмотря на страшную ревность, почти сорок лет сносила его измены, приступы истерики и депрессии. Подспудная горечь иссушила ее душу, но не убила любовь.
Бориса утешала нежность Мод, отвлекало от грустных мыслей обилие заказов. Казалось бы, с возрастом количество заказов неминуемо уменьшается, но у Бориса их было больше чем достаточно, и на восьмом десятке он был все так же крепок и увлечен работой. В 1953 году он сделал надгробие для могилы греческого судовладельца господина Кулукандиса на лондонском кладбище Хендон-Вейл. А годом позже украсил мозаикой капеллу Святой Анны в маллингарском соборе. Эта капелла, расположенная напротив капеллы Святого Патрика, выглядит более красочной и эмоциональной, чем капелла покровителя Ирландии. Святая Анна отдает свою маленькую дочь Марию в дар церкви, а вверху картины в окружении двух ангелов восседает на небесах повзрослевшая Мадонна, под ногами которой светит луна. Когда отец Д’Алтон заметил, что у Мадонны слишком большие руки, Борис придумал такое хитроумное объяснение: “Ну конечно же! Все дело в том, что я хотел передать щедрость матери, отдающей церкви свое единственное дитя”. Тогда было указано на то, что все свечи, которые несут дети позади семейной группы, наклонены под разными углами, но и тут последовал находчивый ответ: “Я сделал так нарочно. Вы когда-нибудь видели, как дети носят свечи? Они никогда не держат их прямо”.
В начале пятидесятых годов Борис выполнил также алтарь для лондонской церкви Нотр-Дам-де-Франс и еще один мозаичный пол для Банка Англии. С французской церковью произошла неприятность. Мозаичное панно располагалось на передней части алтаря, изображая склонившуюся над младенцем Христом Мадонну. Вскоре после того, как мозаика была установлена, выяснилось, что с просьбой украсить ту же церковь обратились к Жану Кокто и теперь мозаику Бориса придется закрыть шитом, на котором Кокто собирался создать собственное произведение.
Борис неистовствовал. Из документов, хранящихся ныне в Музее Виктории и Альберта, мы видим, что он написал Кокто дипломатическое письмо, оставшееся без ответа. Тогда Клайв Белл составил длинный протест французскому послу, подчеркивая, что “эта прекрасная и простая мозаика идеально подходит для церкви”. Получив копию протеста, Борис написал: “Мой дорогой Клайв, твое письмо французскому послу великолепно: тонкое, выразительное и на изысканном французском”. В борьбу включился и Джон Рассел, художественный критик “Санди тайм”. Он выразил искреннее сожаление по поводу того, что с Борисом поступили несправедливо, полагая, что Кокто “навязали украшение церкви некие высшие власти”. Но вся дипломатия и протесты действия не возымели.
Борис, получивший за работу 491 470 франков, предложил церкви 250 фунтов, чтобы снять и вывезти его мозаику. Предложение принято не было, мозаика так и осталась на своем месте скрытой от глаз прихожан.
(Работа Кокто, представляющая собою серию рисунков, выполненных сплошными разноцветными линиями, на удивление сентиментальна и заурядна по стилю. Позади алтаря на белой штукатурке схематично изображена плачущая Мадонна и свирепые римские солдаты, скроившие страшные рожи. Перед алтарем, закрывая мозаику, расположено панно, где изображена большая буква М.)
Пол для здания “Нью Чейндж”, принадлежащего Банку Англии, был выполнен в 1958 году и имел больший успех. У входа, расположенного напротив Школы церковно-хорового пения Святого Павла, было выложено несколько круглых медальонов, похожих на те, что украшают главное здание Банка. Центральный, и самый крупный, изображал Ариэля (руки и ноги которого обвивает красноватая ткань), летящего в свой новый дом и по дороге спустившегося, чтобы оставить отпечаток на полу “Нью Чейндж” – напоминание о другом мозаичном Ариэле на куполе главного здания. Изображение это оплетено по кругу широким венком из дубовых листьев с одной стороны и лавровых – с другой. Такие же листья оплетают два медальона по обе стороны зала: головы царствующей королевы Елизаветы II, а также Вильгельма III и его жены Марии, в правление которых в XVII веке был основан Банк. Далее, на той площадке, где друг напротив друга расположены двери лифтов, мы видим ярко расцвеченные восьмиугольники, представляющие Великобританию, Новую Зеландию, Южную Африку, Австралию и Канаду. В каждом находятся прекрасно компонованные изображения национальных растений: листья папоротника; цветок протеи; австралийская акация; кленовые листья и ирис; роза, чертополох, трилистник и лук-порей. Легко представить, каким приятным, даже радостным, делается пребывание на площадке, когда ходишь взад и вперед, ожидая лифта. Никогда еще с римских времен к мозаичному украшению пола не относились столь ответственно и не выполняли его столь успешно.
Глава двадцать седьмая Жизнь в роскоши
Борису было уже за семьдесят, когда, к большой его радости, ему предложили работу в капелле Святого причастия в Вестминстерском соборе. Идея заказа исходила от Джона Ротенстайна, члена попечительского совета. Требовалось покрыть мозаикой стены и сводчатый потолок огромной капеллы. На всю работу отводилось семь лет.
Тема Святого причастия более абстрактна, чем тема святых, как, например, в соборе Маллингара, поэтому рисунок потребовался не столь сюжетно-тематический. Композиция в центре потолка включает вписанного в круг ягненка с нимбом, двух ангелов, обнимающих медальон и в свободных руках держащих раскачивающиеся кадильницы. Все это изображено на фоне огромного розового неба с золотыми звездами и пышного серого облака. На возражения кардиналов по поводу слишком пестрого неба – ибо тверди небесной по всем правилам положено быть голубой – художник ответил, что у него небо символизирует зарю надежды, связанную с пришествием Христа и соединением Ветхого и Нового Заветов. У Бориса всегда хватало находчивости ответить на церковные придирки. Из Ветхого Завета он выбрал сцены, изображающие Седраха, Мисаха и Авденаго в печи огненной; Ноя с ягненком на руках, выходящего из ковчега со своей семьей; Авраама с женой, оказывающих радушный прием Господу. Но способный ощутить единую гармонию природы, он сделал животных и растения даже более живыми и привлекательными, чем людей. Колосья пшеницы, величественно поднимающиеся среди камней, вырастают в пространстве между большими и малыми арками, символизируя хлеб, а вьющиеся виноградные лозы тянутся по пустым оконным проемам, символизируя вино. Красивый павлин с раскрытым хвостом и расположенный напротив него чудесный феникс, восставший из огня, изображают Всевидящего Бога и Воскресение. Вход в капеллу охраняют огромные фигуры архангелов Михаила и Гавриила, над алтарем на основании скалы стоит чаша Грааля, над которой сияет большой, украшенный драгоценными камнями крест. Все вокруг излучает мерцающий свет и радость – восторг перед совершенством мироустройства, восхищение его зримой красотой равно служат тут прославлению Господа. Картина наполнена символикой, в которой сплелись богословие, метафора и миф.
В воспоминаниях о Недоброво Борис писал, что помнит едва ли не каждое слово старого друга; слова эти, говорит он, “наполняли мою душу радостью, когда я делал свои мозаики на религиозные сюжеты для церквей, так я, безбожник, творил святые лики с любовью и нежностью, и мои руки и душа тянулись к иконам как к самым высоким выражениям человеческого духа”. Эту ситуацию проницательно разглядела Катриона Келли, писавшая о том, что у Бориса, как и у многих русских, “квазирелигиозный мистицизм в сущности был культом искусства. Несомненно, сакральный смысл художественной образности был для него неотделим от чувственности и даже сексуальности”.
Рисунок мозаики для капеллы Святого причастия был придуман и создан в парижской студии, но сама мозаика делалась в мастерской Занелли в Барнете и братьями Орсони в Венеции, которые, как всегда, обеспечивали Бориса смальтой. Теперь у Бориса полный день работал помощником Джастин Вальями, создавая изящные шаблоны, измеряя, рисуя и приклеивая камешки мозаики.
Одной из привилегий близкого общения со священнослужителями были роскошные обеды в компании кардиналов, в свою очередь получавших удовольствие от кипучей энергии художника и его страсти поспорить. Они обсуждали обычаи и догматы Католической Церкви, и иногда Борис с веселым изумлением обнаруживал отсутствие у собеседников почтительности к вещам, которые, по его мнению, должны были вызывать у них священный трепет, коего, впрочем, сам он не испытывал.
Работа была почти закончена, когда Борису исполнилось восемьдесят, – он был все еще высокий и сильный, а под грубым синим передником вырисовывался гладкий толстый живот, – и я помню, как однажды он поднимался под сводчатый потолок капеллы: он лез по лестнице, и свет отражался от его розовой, почти совсем лысой головы. В одной руке он держал маленький изогнутый молоточек, долото и небольшое ведерко с мокрым цементом. Он взобрался по первой длинной деревянной лестнице, перешел по лесам ко второй, потом по доскам, скрипевшим и прогибавшимся под его тяжестью, дальше вверх по третьей лестнице к центру сияющего розового неба. Там, стоя на лесах, высоко, под самым потолком, он, отклонясь назад, постучал молотком по единственному золотому камешку звезды. Отколол кусочек, мазнул цементом и с силой прижал тот же малюсенький кусочек на старое место, но под другим углом, потом протер его и начал медленно спускаться. Вниз он сошел пыхтя и задыхаясь. Но, посмотрев на потолок, где мерцал золотой квадратик, улыбнулся со словами: “Надо было поменять угол, чтобы камешек отражал свет”.
Работа в капелле была завершена так быстро, что собор еще не успел собрать последние 45 000 фунтов, чтобы заплатить художнику за его семилетний труд.
В течение двух лет после Марусиной смерти Борис жил то в парижской студии, то в лондонской, то у Мод, которая к тому времени купила два верхних этажа красивого дома в лондонском районе Бейсуотер по адресу Гайд-парк-Гарденз, 6. Когда наконец он почувствовал, что слишком стар, чтобы жить одному, он переехал на верхний этаж квартиры Мод, где ему отвели собственную спальню и гостиную. У кухарки и горничной были свои комнаты там же наверху. Между этажами построили внутреннюю лестницу для более удобного сообщения, поскольку Борис всегда ел внизу. Мод была удивлена и очарована его праздничным отношением к трапезе, хотя сама подобных гастрономических восторгов не разделяла, пожалуй, если не считать ее пристрастия к джину и дубровнику. С появлением Бориса качество еды заметно возросло, потому что он никогда не ленился зайти на кухню, чтобы поздравить кухарку с особенно удачным блюдом, и всегда сам выбирал вино.
Жизнь на Гайд-парк-Гарденз была для него непривычной: в роскоши он жил лишь в детстве. Но хотя достаток в его возрасте во многом означал спокойное и беспечное существование, он говорил, что ощущает себя в западне.
После скоропостижной смерти Ральфа Партриджа 1 декабря 1960 года Франсес написала Борису письмо, в котором сообщила, что решила уехать из Хэм-Спрей-хауса. В своем ответе Борис выразил сомнение в правильности этого решения. Конечно, ему не хотелось лишиться возможности посещать дом, с которым были связаны столь дорогие для него воспоминания почти полувековой давности: как он впервые пришел туда к Литтону и Каррингтон, как Ральф и Франсес принимали его и Марусю с теплотой и радушием.
Дорогая Франсес!
Я задержался с ответом на твое письмо, так как всю неделю жестоко страдал от ревматических болей в ногах и ночами выл как волк. Я был просто не в состоянии ни размышлять, ни действовать. Теперь мне лучше, боль утихла, лишь тупо ноют колени и другие суставы.
Прочел твое письмо с большой печалью в душе. Оставить дом, где ты прожила так долго и где счастливые воспоминания преобладают над печальными, означает вырвать свою жизнь с корнем. Разумно ли это? Горе, которое ты сейчас испытываешь, со временем смягчится, и вновь вернутся радостные дни прошлых лет, когда ты будешь смотреть на Берго и его друзей, да и своих старых друзей, собирающихся под крышей дома, который для всех нас был центром любви и гостеприимства, просвещения и величайшего цивилизованного английского вкуса во всем. Уничтожить все это будет трагедией для всех нас и в первую очередь для тебя и Берго.
Но ему не удалось убедить Франсес, и она переехала в Лондон, хотя предварительно ей пришлось серьезно озаботиться судьбой двух украшенных мозаикой каминов, которые оставались в доме. В дневниковой записи за май 1961 года она писала:
Что станет с мозаичными каминами Бориса, когда я уеду? Я думала увезти с собой ту мозаику, которую Борис сделал нам с Ральфом в качестве свадебного подарка, но мозаичные кубики обоих каминов были вбиты в цемент до того, как он затвердел, и поэтому снять мозаику – дело нелегкое. Я писала об этом Борису, но у него все еще много работы в римско-католическом соборе, он очень болеет и теперь ему, долж-но быть, за семьдесят [Борису было 77]. Он умолял, чтобы я не разрешала трогать камины людям несведущим. Я разговаривала с тактичной миссис Элуэз во время одного из ее визитов в ее будущий дом. Она милая, культурная женщина, все знает об искусстве Бориса, но “оно ей как-то не по душе” и не будет “сочетаться” с ее китайским и другим антиквариатом. Она согласилась аккуратно прикрыть камины и проследить, чтобы мозаика никак не пострадала.
Рассуждая о возможности снять мозаику, Борис писал:
Что касается каминной мозаики, то это можно сделать, но работа грязная и может быть осуществлена только в том случае, если ты согласишься терпеть в доме грязь. Обычно сверху наклеивают плотную бумагу и откалывают мозаику от цементной основы, чтобы перенести ее в нужное место, но в данном случае откалывать следует глубже, вместе с цементной основой, поскольку цемент слишком крепок. Это означает, что придется вынуть из стены несколько кирпичей, оставив открытым отверстие, ведущее в трубу, которое потом придется закрывать новой каминной облицовкой.
С новыми хозяевами договорились, что камины не тронут, но позже мозаика, вмурованная в цемент, была выломана большими кусками и сложена грудой в подвале. Узнав об этом после смерти Бориса, Игорь купил ее за пять фунтов и установил гермафродита-Каррингтон в Родуэл-хаусе в Суффолке; другую каминную мозаику с раковинами он отдал Анастасии для ее дома в Танбридж-Уэлсе[82].
Хотя бывшие муж и жена встречались нечасто, в их отношениях сохранились былая пристрастность и противоречивость. Когда Борис приглашал Хелен, Игоря и Анастасию на обед в какой-нибудь ресторан, мгновенно, как недобрые тени прошлого, возникали раздраженные перебранки и привычные скандалы. Борис начинал читать дочери недопустимые нотации о том, что ей не хватает силы воли “сделать хоть что-нибудь”, чем доводил ее до слез. Игорь заступался за сестру, и мужчины принимались кричать друг на друга. Наконец Игорь уходил из ресторана, оставив Анастасию, которая теперь уже яростно защищала отца. Хелен, тихая и страдающая, как героиня Диккенса, тщетно пыталась унять эти бьющие через край эмоции. Так в старости привычки прошлого возвращались как фарс.
Борис возобновил переписку со своим старым другом – приемной дочерью В. К. Таней Девель, которая так и жила в Петербурге в старой квартире В. К. Мы с Игорем навестили ее, когда ездили в Россию в 1964 году. До Лиговского проспекта мы доехали на автобусе, так как знали, что адрес, по которому нас довезут на такси, будет сообщен властям. Оказалось, прежняя богатая жизнь Тани давно кончилась, и она благодарна даже за то, что ей оставили в этом доме одну комнату. Также она была благодарна и за те шерстяные рубашки, штаны и джемпера, которые прислал ей Борис. В соседней комнате побольше, сказала она на прекрасном английском языке, живет семья из семи человек – взрослых и детей.
– Зачем Борис уехал из России? – спросила Таня. – Я вот, например, была секретаршей у генерала-белогвардейца, потом у генерала-красноармейца, затем работала на Черном море, на археологических раскопках греческих поселений, и наконец вернулась назад в Эрмитаж.
Она была очень умная и образованная пожилая дама, но нас удивил ее вопрос. Ее первое письмо Борису было написано 19 марта 1964 года, вскоре после нашего отъезда:
Дорогой Боря, вот я сижу за своим письменным столом у окна. На дворе внезапно подскочило – минус 20, мне дела нет до мороза – на мне чудесная, самая мягкая, самая теплая кофточка, и я спокойно в сотый раз разглядываю картинки – твои мозаики. Они очень хороши, изумительны! Действуют живые люди со своими насущными заботами. Группа с Ноем и сбор манны – потрясающе выразительны. В последней Господь Бог очень деловито сыплет манну, он даже по-хозяйски следит, чтоб там внизу хорошенько ее собирали. Он меня просто умиляет! Ну а ансамбль с Ноем, эта легкая совместная поступь кажется мне музыкальной. Вот только гадаю, какие птички в корзинке, что несет Ноев сын? Не павлины ли с хохолками? Чудесен деятельный ангел в сцене с Ильей, вся эта композиция такая стройная, изящная. Мне все нравится – и сцена у Авраама, и колосья, и лозы, и змей, и рыба. Воображаю, какое все это производит впечатление в красках. Этой работой ты, вроде Пушкина, создал себе непреходящий памятник. Сколько времени ты над ним работал?
Кстати, раз я вспомнила Пушкина – продолжаешь ли ты свои ранние литературные опусы? У меня сохранилось одно твое пиитическое обращение – “Подругам детства”, написанное 11. iv-1902. Ты в нем здорово предвидел свою жизнь. Напомню: “Пусть окрыленная ладья меня в чужую сторону несет, где мир для вас неведомый живет, где жизнь бьет для меня…” Ну а дальше тебе предвиденье изменило: “К улыбкам вашего привета я возвращусь…” Это не вышло, но вместо себя ты прислал сына. Ему я и расточала свои “улыбки”, тем легче, что он оказался симпатичным, похожим на тебя и на твою мать.
Передай ему привет, а тебя по старинке целую, очень нежно.
Таня.Переписка возобновилась, к большому удовольствию обеих сторон.
Расстаться со своей независимостью и жить с Мод было для Бориса серьезным шагом. Но так как он вставал в шесть утра, шел в Вестминстерский собор и работал там целый день, ему было приятно возвращаться к уютной жизни, рюмочке виски и обеду, который не надо было готовить самому. Он был горячо благодарен священникам за то, что для прихожан они открывают собор в шесть, ибо сам тоже любил начинать работу рано. Борис был доволен, что может уходить из дома посреди дня, понимая, что Мод – благородная женщина, стремящаяся все делать правильно, но при этом ей необходимо еще и быть правой, а это приводит к появлению диктаторских замашек.
Однажды на званом обеде, когда Борис с увлечением рассказывал свои истории, она его перебила: “Борис, ты слишком много говоришь”.
Пораженные гости на мгновение замолчали. Борис же больше не произнес ни слова.
Что касается денег, то Мод никогда не скупилась. Однажды Борис, у которого был небольшой капитал, попросил ее маклера вложить эти деньги, используя имеющуюся у того конфиденциальную информацию о состоянии курсов акций на бирже. Но маклер не выполнил этого поручения, чем так расстроил Мод, что она дала Борису десять тысяч фунтов, которые он мог бы выиграть в результате такого вложения. Кроме того, она выплачивала своим состарившимся слугам хорошие пенсии. Но нередко, особенно это касалось горничных, она выходила из себя и даже могла их ударить.
На случай ядерной или какой-нибудь другой мировой катастрофы она приобрела два дома в Шотландии и один в Южной Африке. Но настоящую гордость и удовольствие вселяло в ее сердце загородное поместье в Гэмпшире, Моттисфонт-Эбби. Оно было куплено после ее свадьбы и занимало семь тысяч акров[83] территории, на которой располагались живописные деревни и сельскохозяйственные угодья – владения, в которых она распоряжалась вполне по-феодальному: сама назначила школьного учителя и приходского священника, как это делалось в прошлые века. В парке были построены бельведеры, колодец со святой водой, конюшни и отдельное жилье для слуг-мужчин, чтобы они держались подальше от горничных. Через поместье протекала река Тест, где водились лосось, форель и хариус, а в лесах выращивались фазаны, на которых устраивалась охота. Пристройки конца восемнадцатого века к старому полуразрушенному аббатству делали здание похожим на Нортэнгерское аббатство Джейн Остин[84].
Борис Анреп и Мод Рассел в Моттисфонт-Эбби.
Специалист по грибам, Мод водила своих гостей в лес собирать лисички, которые приготавливались в тот же вечер и поедались с большой торжественностью. Борис в грибах разбирался хуже, но, горя желанием продемонстрировать свою осведомленность, однажды почистил и съел сырой гриб, который оказался разновидностью поганки. Позже он говорил, что у него были все симптомы смерти, кроме трупного окоченения. Будучи таким же крупным человеком, как Распутин, он после этого хвастался, и не без основания, что яд его не берет.
В доме была огромная гостиная с выходившими в парк длинными окнами. В 1930‑е годы ее отремонтировал, подновив, Рекс Уистлер. Предложенный им дизайн включал чрезвычайно тонкий troтре-l’œil[85] – рисунок имитировал штукатурные работы, выполненные в неоготическом стиле: ажурные серо-белые переплетения декоративных вставок, арок и трещин, которые были весьма изящны и с виду вполне осязаемы, вплоть до малюсенькой мышки, бегущей по нарисованной рейке высоко на стене. Уистлер также сделал эскизы портьер и мебели: диванов, стульев и шезлонгов, обтянутых белым атласом с зеленовато-серым оттенком, пухлых, с пуговицами и очень удобных. В сочетании с белым роялем обстановка напоминала великолепную театральную декорацию. Хотя Уистлер и его художник-декоратор работали в доме несколько месяцев, модный дизайнер говорил, что к нему относились как к самому последнему слуге.
Уик-энды в Моттисфонт-Эбби превращались в проверку умения вести себя светски, что для Бориса было делом естественным. Но для тех, кто не был воспитан в столь серьезном отношении к этикету и не знал всех его тонкостей, подобные правила могли показаться чересчур сложными. Во-первых, одежда. К обеду мужчинам было положено выходить в хорошем костюме или смокинге, а женщинам – в длинном платье, предпочтительно скромном и милом. На белье не должно было быть дыр, чтобы не опозориться перед старшей горничной или дворецким, которые распаковывали ваши вещи и аккуратно раскладывали их в шкафу. Для прогулок требовались крепкие ботинки, для дома – элегантные туфли, еще одни надевались вечером, и конечно, нельзя было обойтись без комнатных тапочек, чтобы ходить из спальни в ванную и обратно.
В восточном крыле у нас с Игорем были свои апартаменты: ванная и две спальни, причем дамская была просторнее. Там стояла большая двуспальная кровать с портьерами из французского вощеного ситца в нежно-голубые и желтые цветочки, овально-изогнутый туалетный столик, украшенный оборками из того же материала, и большой письменный стол с двумя золотисто-зелеными подсвечниками в виде сплетенных дельфинов. В мужской спальне стояла лишь односпальная кровать, стулья и письменный стол, обтянутый добротной коричневой кожей. Постельное покрывало и портьеры были сшиты из шотландки, которая больше, чем ситец, подходила для спальни мужчины. Франсис, дворецкий, распаковывал и развешивал костюмы на прочных вешалках в прочных шкафах.
Снаружи в дополнение к роскоши внутри дома имелся еще теннисный корт и лужайка для игры в крокет. Кроме того, в соответствующее время года можно было заниматься рыбалкой и охотой. Ни тем, ни другим Борис не увлекался, но в крокет играл с таким же коварством, с каким некогда в теннис, и всякий раз не мог отказать себе в удовольствии унизить противника какими-нибудь изощренными приемами, потому что всегда хотел выиграть.
Борис жил теперь в сгущенной атмосфере комфорта. Его венецианские тупоносые ботинки были всегда хорошо начищены, а на широких брюках выутюжены аккуратные складки. Его любили слуги, с которыми он с удовольствием разговаривал, чего не могла себе позволить Мод: в ней одновременно уживались стеснительность и снобизм, а также боязнь шокировать низшие классы, которые, обладая гораздо большей проницательностью, чем ей казалось, вовсе не ценили ее заботу об их благополучии. Горничные были уроженками города Сент-Хельера на острове Джерси и говорили по-испански. Эти смуглые девушки, сталкиваясь с кем-нибудь в коридоре, сразу же проскальзывали в ближайшую дверь и исчезали, как будто им следовало быть невидимыми. Однажды после завтрака я пошла в свою спальню за носовым платком и встретила там двух горничных, под присмотром старшей горничной стеливших постель. Они тут же извинились за свое присутствие в комнате и быстро ушли, так что я даже не успела их остановить. Такое небывалое разделение людей, живших в доме, на два сорта сначала удивило, а потом стало злить меня. Этот мир показался мне на редкость лишенным человечности.
Отсутствие любви к людям делало Мод, несмотря на все ее богатство и культуру, женщиной жесткой. Однако она была очень привязана к человеку, которого избрала своим спутником жизни, кокетничала с ним, сносила его насмешки, сбивавшие с нее спесь, и говорила “Когда Борис был могучим, большим и сильным мужчиной…” с особенной веселой и нежной интонацией.
Однажды, когда мы с Игорем обедали с ними за городом, Борис вдруг замолк, что было ему совсем несвойственно. Подали пудинг, потом сыр, потом фрукты, и тут только он произнес слабым и хриплым голосом:
– Игорь, не посмотришь ли ты мое горло? Кажется, там застряла утиная кость.
Дворецкий принес фонарь, и они втроем удалились из комнаты. Потом появился Игорь и сообщил, что в горле действительно застряла кость и он немедленно везет отца в саутгемптонскую больницу.
Мы с Мод перешли в просторную белую гостиную пить кофе, играть в “скраббл” и ждать. Мод всегда хотелось выиграть, а это с таким соперником, как я, было делом несложным: игрок из меня никудышный, мне просто всегда нравилось жонглировать словами. Мы играли долго, обе усталые и взволнованные, понимая, что до Саутгемптона пятнадцать миль, в больнице возможны непредвиденные задержки, и Бориса могут даже оставить там на ночь. Однако в час ночи отец с сыном вернулись. Борис выглядел напряженным, его большие щеки повисли, а по взгляду серых глаз было видно, как он измучен. Операция была не слишком серьезная, но очень изнурительная для пожилого человека. Мод распорядилась, чтобы постели устроили в парадных комнатах дома на первом этаже – в случае надобности Игорь был бы рядом с отцом. Когда дворецкий отвел Бориса в его комнату, Мод обратилась к Игорю:
– Надеюсь, вас это устроит. – И, повернувшись ко мне: – Не вздумайте бегать ночью по дому, Аннабел!
До этого момента мне и в голову не приходило бегать ночью по дому, но тут я вспомнила, какие необъятные кровати с роскошными, фантастическими занавесями из плотного шелка стоят в этих парадных комнатах и как было бы здорово залезть в одну из них.
Когда пришло подходящее время, я в ночной рубашке и своем лучшем белом атласном пеньюаре подошла к верхней площадке широкой лестницы, ведущей из восточного крыла на первый этаж. Внизу я заметила свет и услышала шаги Франсиса, который убирал и закрывал дом. Вернувшись в спальню, я принялась за чтение какой-то новой биографии не то генерала, не то интеллектуала – такие книги всегда выкладывались для гостей.
Когда в следующий раз я решилась выйти из комнаты, в доме было тихо, широкая лестница слабо освещалась падавшим из окна лунным светом. Я не хотела зажигать электричества, потому что, хотя Мод была далеко в западном крыле, можно было разбудить кого-нибудь из слуг. Поэтому я зажгла свечу в одном из подсвечников-дельфинов и, держа ее перед собой, стала медленно спускаться вниз, словно изображала Лучию де Ламмермур из оперы, которую мы недавно слушали в Киеве. В главном коридоре с антикварными обоями под желтый мрамор на меня смотрели бюсты на квадратных пьедесталах. Между ними располагались высокие двери, ведущие в парадные комнаты. Но вот загадка – в какую дверь идти? Я запомнила, что Борис спит в комнате с белыми шелковыми занавесями, а Игорь – с зелеными. Все двери были двойные с промежутком посередине, так что, входя, вы вступали в небольшое темное пространство, напоминавшее чулан. Трижды пройдя взад-вперед по коридору, я наугад выбрала дверь и остановилась в темноте с трепещущей свечой. Тихонько повернула ручку второй двери, и, так как замки в этом доме были хорошо смазаны, ни единый скрип не разбудил спящего. Медленно, подняв свечу, я вошла в спальню. Занавеси на кровати оказались зеленые.
Глава двадцать восьмая Здесь я покоюсь
Борис тяжело переносил одиночество, пришедшее вместе со старостью. У него в Париже был старый полосатый кот, и Борис говорил: “Ни у меня, ни у моего кота теперь нет никакой сексуальной жизни”.
Ему было за восемьдесят, его мучили ангины, больное сердце и увеличение простаты. По поводу последнего доктора рекомендовали операцию. Однако в сложившихся обстоятельствах было решено ввести временный кардиостимулятор, чтобы в случае надобности во время операции сердце можно было вернуть к жизни с помощью небольших электрических разрядов. Имплантация была проведена в клинике при Королевском колледже[86], где Игорь, работавший теперь кардиологом, был знаком с врачом-консультантом.
Имплантация кардиостимулятора была лишь первым шагом, проводилась она под местной анестезией, так что пациент все время находился в сознании. Бывает, что электрод после введения в шею, руку или ногу трудно проходит по вене. Так случилось и у Бориса. Игорь пришел, рассчитывая застать отца в палате, но оказалось, что тот все еще находится на операционном столе. После нескольких часов бесплодных попыток доктора уже готовы были отказаться от введения кардиостимулятора, да и Борис чувствовал себя совершенно измученным. К счастью, в это время появился знакомый консультант и предложил Игорю сделать еще одну попытку. Через десять минут кардиостимулятор был введен. Позже Борис рассказывал, как интересно было следить на рентгеновском экране за проводком, движущимся по его руке прямо к сердцу. Его совершенно не волновало, что все это происходит в его собственном теле.
После окончания работ в капелле Святого причастия жизнь Бориса опустела. Надеясь вывести его из состояния тоски и депрессии, которое наступало всегда, когда рядом не оказывалось мозаики, занимавшей его руки и ум, Мод увезла Бориса на сафари в Африку. Сначала они отправились в Египет и посетили возводившуюся тогда Асуанскую плотину. Это было грандиозное строительство, в значительной степени финансировавшееся Советским Союзом. Когда чете показывали стройку, где проводились масштабные земляные работы и уже была возведена бетонная стена высотой в полкилометра, что, по словам Бориса, было необходимо для сдерживания вод Нила, к ним бросился какой-то человек, крича: “Здравствуйте, Борис Васильевич!” Это был русский инженер, узнавший своего соотечественника.
Потом они поехали в Кению и Уганду, останавливались в хижинах и видели разных местных животных, даже бородавочника, изображение которого Борис отправил сыну, утверждая, что у Игоря есть с ним что-то общее. Поездка увенчалась успехом: Борис заинтересовался крупными дикими животными Африки, которых потом с большим удовольствием наблюдал по телевизору.
В каком-то смысле Борис вернулся к основательной и богатой жизни своего детства, причем Мод выступала в роли строгой и консервативной Прасковьи Михайловны. И поскольку светская жизнь перестала его теперь особенно занимать, на первое место вышла семья. Он любил приглашать в гости детей или Андрея, ставшего преуспевающим консультантом в горнодобывающей промышленности, с женой и дочерьми или Джастина Вальями и Тоби Хендерсона, которые были для него почти родными. Ему нравилось посвящать своего двенадцатилетнего внука в премудрости светской жизни, приглашая его в Моттисфонт одного, или преподавать мне русский язык, который я начала изучать под руководством профессионального педагога из России. Моя преподавательница была так похожа на балетных учителей, у которых я когда-то брала уроки танцев, что я без особого труда приспособилась к ее требованиям, хотя другие учащиеся находили их чудовищными, причем некоторые, к их изумлению, были даже изгнаны из группы со словами: “У меня не должно быть учеников, которые могут провалиться на экзамене, это дурно повлияет на мою репутацию!” Такой подход понятен людям, обучавшимся по русской системе, но только не тем, кто привык к более человечному обращению. В постоянном стремлении добиться высшего балла Борис пытался, и иногда успешно, делать за меня все мои домашние задания. Если при проверке обнаруживались исправления, он яростно спорил, утверждая, что учительница – большевичка, не знающая тонкостей русской грамматики. Учительнице я о своем свекре ничего не говорила.
Привычка работать с мозаикой вошла в его плоть и кровь, и Борис в своей гостиной наверху изготавливал мозаичные подарки друзьям, жалуясь при этом: “Мозаика – мой порок, и я сожалею, что приходится предаваться ему в моем-то возрасте”. Он сделал камин с черным котом для Франсес, столешницы для Реймонда Мортимера и других. Для нас он сделал прямоугольный стол, разделенный на четыре мозаичные картины, изображавшие инструменты наших профессий: в случае Игоря это был стетоскоп на одной картине и рука, держащая сердце, – на другой; в моем – балетные туфельки, нарисованные с натуры, и лист бумаги. “Вспомни какую-нибудь свою детскую фразу”, – потребовал Борис. Мне пришло на память лишь шутливое изречение моей сестры из домашней газеты, которую мы издавали раз в две недели: “Hot is it Not!”[87] Борис, воздев руки, воскликнул: “Идеально!” – и выложил его в мозаике.
В своих комнатах на втором этаже апартаментов Мод он мог целый день трудиться над мозаикой и принимать гостей. Вечерами спускался обедать в обществе Клайва Белла, Дункана Гранта и Франсес Партридж или других оставшихся в живых блумсберийцев. Несмотря на воспитание, несмотря на всю роскошь, которой его обеспечивала Мод, он больше любил простую и беспечную жизнь богемы.
В 1965 году пришло известие, что Анне Ахматовой присуждена почетная степень доктора Оксфордского университета. Ей разрешили выехать за границу. Волнение Бориса было смешано с опасениями: “Теперь она, наверное, старая, толстая и некрасивая”. Я чуть было не возразила: “Но вы же сами старый, толстый и не такой уж красавец, как раньше” – однако сдержалась.
Ахматова приехала в Англию и посетила Оксфорд, где официальный оратор, обращаясь к ней по-латыни, сравнивал ее с Сафо.
Несколько дней она провела в Лондоне, и Борису сообщили, что она хотела бы с ним повидаться. Он отклонил ее приглашение, разрываясь между старым чувством и новыми страхами. После чего последовал за нею в Париж, сходя с ума от раскаяния. Там он узнал, что она не утратила желания увидеться со своим бывшим возлюбленным.
Борис описал эту полную драматизма встречу в своих воспоминаниях, озаглавленных “О черном кольце” (см. Приложение). В Лондон он вернулся в отчаянии, оплакивая в душе свою неспособность объясниться. “Неужели она не видит, в каком я состоянии?” Но Ахматова, ничего не зная о чувстве вины, которое преследовало Бориса из‑за пропажи черного кольца, не понимала поведения своего старинного приятеля. В одном из стихотворений она пишет, что разрыв их был, наверное, легче, чем встреча:
Нет, ни в шахматы, ни в теннис… То, во что с тобой играю, Называют по-другому, Если нужно называть… Ни разлукой, ни свиданьем, Ни беседой, ни молчаньем… И от этого немного Холодеет кровь твоя.Давний опыт общения с “органами”, который приобрела Ахматова, конечно, не способствовал возникновению доверительной атмосферы, но подозрительность Бориса была почти параноидальной. Ему казалось, что Аня Каминская, неродная внучка Ахматовой, сопровождавшая ее в поездке, была агентом КГБ. Он пришел к этому выводу еще и потому, что дверь в комнате, где они сидели, была приоткрыта и за ней, как ему представлялось, кто-то прятался, подслушивая каждое их слово. На самом же деле дверь вела в очень узкий чулан, куда было бы чрезвычайно трудно запихать даже самого крошечного шпиона.
Когда в марте следующего, 1966 года Ахматова умерла, у Никольского собора, где ее тело было выставлено для прощания, собрались сотни и сотни людей, заполнив близлежащую улицу. Люди эти не были ни друзьями покойной, ни интеллектуалами, но хотели отдать дань уважения великому поэту. Поразительно, как по-разному относятся к печатному слову русские и англичане!
Те три года, что легли между смертью Ахматовой и его собственной, Борис был одержим идеей определить, какие из ее стихов посвящены ему, а какие – другим возлюбленным или мужьям. Он испытывал танталовы муки, пытаясь найти ответы на эти загадки. Когда однажды он обнаружил стихотворение, написанное как акростих с его именем, это был настоящий триумф. К нему на второй этаж квартиры дома номер 6 на Гайд-парк-Гарденз приходили такие известные исследователи, как Аманда Хейт, Элизабет Робсон и Уэнди Росслин. Он вел обширную переписку с профессором Стэнфордского университета Глебом Струве, издавшим в 1965 году стихи Ахматовой и собиравшимся затем напечатать исследование ее поэтического стиля с публикацией писем и других документов.
Мод начала ревновать к Ахматовой. Она претендовала на роль последней большой любви пожилого художника. Но старик стал вдруг как одержимый писать русские стихи и предаваться воспоминаниям о призрачной любви полувековой давности. Мод была оскорблена.
От студии на бульваре Апаро пришлось отказаться. Картины Пьера Руа, включая великолепный портрет Бориса, изображенного в виде романтического юноши в лавровом венке, и другие полотна старого друга были упакованы и отправлены в Лондон. Это было трагическим прощанием со свободой, сопровождавшей его на протяжении всего творческого пути. Кроме того, в 1965 году умерла Хелен, с которой Борис в конце жизни подружился вновь. Мод имела все основания подозревать – а возможно, Борис и сам ей признался, – что он подумывал о самоубийстве. Напуганная этим, она попросила Игоря быть рядом с отцом в тех случаях, когда ей волей-неволей приходилось оставлять его одного, поскольку слуги, как ей казалось, не смогут ему помешать, если он задумает покончить с собой. Она понимала, что для Бориса жизнь кончилась и он не желает влачить ее дальше.
И все-таки, что бы он ни говорил, он не мог ничего поделать со своей природной жизнерадостностью.
Франсес Партридж, его старинная добрая приятельница, пишет о жалости и любви, которые она почувствовала к нему во время одного из обедов. “Борис был сама учтивость, широко, по-русски всем улыбался и вдруг помрачнел, разгневался, стал проклинать искусство и все музеи. «Надо немедленно взорвать Прадо, Лувр, Национальную галерею!» – гремел он. Потом сел рядом со мной на диван, и я посмотрела в его большое лицо с чувством глубокой нежности”.
Во время другого обеда Борис спросил ее:
Помнишь прием на Гордон-сквер? Ты подсела ко мне и сказала, что Партридж начал за тобой ухаживать, а ты не знаешь, поддаться на его ухаживания или нет. Ты спросила: “Что мне делать, Борис?” А я ответил: “Ну конечно, поддаться. Вперед!”
Он послал своему внуку открытку с изображением Везувия, поощряя его творческие усилия:
Дорогой Бенджамин! Спасибо за календарь, мне очень понравился рисунок. Он и в самом деле замечателен, и я уверен, что многие известные художники не смогли бы нарисовать так хорошо.
Или вот что он писал по-французски своей внучатой племяннице-школьнице, проводившей каникулы во Франции:
Я очень завидую твоей [сиесте] на траве, тому, что ты видишь небо над головой и скачущих коз. Я обожаю коз! Когда я путешествовал по Греции, я замечал только их. Они были всех мастей: черные, коричневые, белые… Я предпочитал их античным древностям! Сейчас я живу здесь, в поместье миссис Рассел, две-три недели, а потом вернусь в Лондон. Сплю, потому что делать больше нечего. Наконец нашел себе дело: починить ножку антикварного кресла – работа очень тонкая. Я люблю заниматься такими вещами, хотя если бы у меня был выбор, то я предпочел бы быть рядом с тобой, среди лесов и полей прекрасной Франции. Желаю хорошо провести каникулы.
Целую.
Любящий тебя Борис.Он продолжал переписываться с Таней Девель. И она снова напомнила ему об их юности:
Николая Владимировича [Недоброво] я всегда вспоминаю, когда с увлечением слежу за состязаниями по фигурному катанию на льду. Он чертовски хорошо – легко и элегантно – катался в ту далекую пору на коньках. Не знаю, насколько тебе был известен этот его талант, но я очень охотно вальсировала с ним в вечернюю пору под музыку на наших Прудках!
Относительно того, что тебя интересует, у меня, к сожалению, сохранилось лишь одно мне презентованное “Сентиментальное стихотворение” в двух вариантах, которое прилагаю. Насколько помню, более короткий вариант (15–25. 1.05) был в свое время (до 1917 г.) напечатан в одном из наших толстых журналов. Ну а затем сам Николай Владимирович фигурирует на Нинином снимке 1906 г. нашей веселой пирушки на Крестовском о-ве (т. наз. “русский Déjeuner sur l’herbe”[88]). И наконец, голову Недоброво работы Стеллецкого ты увидишь тоже на Нинином снимке того же года в мастерской Дм[итрия] Семеновича. Это все, чем я располагаю, хотя во времена оно у меня были тетради его стихов.
В годы блокады, когда я сама была в эвакуации в Ташкенте, мой личный архив сильно пострадал. Это было суровое время – такая поклонница музыки, как Маня Жукова, собственными руками разбила свой прекрасный рояль на дрова! ‹…›
(Письмо от 20 июня 1967 года.)В более позднем письме (от 5 января 1968 года) она с теплотой вспоминает о путешествии, которое она, Борис и Нина предприняли из Основы в Ярославль на пароходе, “а оттуда ночью мы трюхали в освещенном сальной свечой вагоне в С.-Троицкую лавру (ныне Загорск). Сначала Нина нас кормила запасенными в дорогу пирогами, после чего ты читал свои стихи, я тебя с упоением слушала, а Нина заснула”.
Бориса вновь захватило желание сделать мозаику, он даже выполнил рисунок для стены за нашей плитой в Лондоне. Там был изображен его внук Бенджамин с Оливией и рыжим котом Квинсом. Ниша для мозаики была готова – первый слой штукатурки наложен с необходимой шероховатостью, чтобы лучше схватился цемент. Но работа так и осталась незавершенной – начата она была незадолго до последней болезни Бориса.
Все меньше и меньше склонный терпеть богатых друзей Мод, восьмидесятилетний старик в основном смотрел телевизор, положив распухшие ноги на кресло. В начале лета 1969 года в один из уик-эндов в Моттисфонте был устроен большой прием. Поскольку Мод не вставала раньше полудня, гости двумя группами отправились на утреннюю прогулку в разных направлениях, и в каждой группе полагали, что Борис присоединился к другой. На самом же деле его не было ни с теми, ни с другими, так как, выходя из дому, он поскользнулся на каменных ступеньках и упал, сильно ударившись. Полежав немного, попробовал подняться. Это оказалось невозможно. Он был грузным мужчиной и понял, что ноги его не слушаются. После нескольких безуспешных попыток он стал звать на помощь, правда без особой надежды, что его услышат, потому что с этой стороны дома гости, горничные и садовники бывали редко. Так как на его зов никто не откликнулся, Борис вынул из заднего кармана брюк детектив и принялся читать. Только через час у того входа случайно оказался дворецкий и увидел, что Борис лежит на ступеньках. С большим трудом ему удалось помочь старому джентльмену встать и войти в дом.
Хотя Борис рассказывал эту историю живо и весело, от последствий падения он так до конца и не оправился. По возвращении в Лондон у него случился сердечный приступ. Он сказал Игорю, что не хочет ложиться в больницу, где доктора могут вновь вернуть его к жизни, и предпочитает спокойно умереть в своей постели. Через несколько дней так и произошло. Борис умер тихо у себя дома.
За несколько лет до его смерти он и Мод посадили два дерева на аллее в Моттисфонт-Эбби и условились, что их прах будет погребен под ними, по одну и другую сторону аллеи. Поэтому Мод попросила Игоря привезти прах Бориса, который я забрала из крематория в лондонском районе Голдерз-Грин в большой, уродливо разлинованной ромбами белой пластмассовой урне. Мы пересыпали пепел в португальский глиняный горшок, который бы понравился Борису. Затем моттисфонтский садовник выкопал яму под одним из тех самых деревьев, и Бориса похоронили.
Мод повезло меньше. Ее погребли в малахитовой урне законного мужа в грандиозной усыпальнице Расселов в Бедфорде.
Борис, пожалуй, оценил бы такую иронию судьбы.
Приложение
Борис Анреп О черном кольце[89]
Бабушка завещала Анне Андреевне “перстень черный”. “Так сказала: «Он по ней, / С ним ей будет веселей»”. В Англии такие кольца в свое время назывались “траурными”. Кольцо было золотое, ровной ширины, снаружи было покрыто черной эмалью, но ободки оставались золотыми. В центре черной эмали был маленький брильянт. А. А. всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу.
Н. В. Недоброво познакомил меня с А. А. в 1914 году по моем приезде из Парижа, перед моим отъездом на фронт. Н. В. восхищенно писал мне про нее еще раньше, и при встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное – прекрасные, мучительно-трогательные стихи. Недоброво ставил ее выше всех остальных поэтов того времени.
В 1915 году я виделся с А. А. во время моих отпусков или командировок с фронта. Я дал ей рукопись своей поэмы “Физа” на сохранение; она ее зашила в шелковый мешочек и сказала, что будет беречь как святыню.
Не хулил меня, не славил, Как друзья и как враги, Только душу мне оставил И сказал: побереги. И одно меня тревожит: Если он теперь умрет, Ведь ко мне Архангел Божий За душой его придет. Как тогда ее я спрячу, Как от Бога утаю? Та, что так поет и плачет, Быть должна в Его раю. 1915Мы катались на санях; обедали в ресторанах; и все время я просил ее читать мне ее стихи; она улыбалась и напевала их тихим голосом. Часто мы молчали и слушали всякие звуки вокруг нас. Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. А. А. строго меня отчитывала, указывала на путь веры как на залог счастья. “Без веры нельзя”.
Позднее она написала стихотворение (кстати, А. А. терпеть не могла слово “стихотворение”), имеющее отношение к нашему разговору:
Из памяти твоей я выну этот день, Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный: Где видел я персидскую сирень, И ласточек, и домик деревянный? О, как ты часто будешь вспоминать Внезапную тоску неназванных желаний И в городах задумчивых искать Ту улицу, которой нет на плане! При виде каждого случайного письма, При звуке голоса за приоткрытой дверью Ты будешь думать: “Вот она сама Пришла на помощь моему неверью”. 4 апреля 1915 г.Так это и было. Но от нее я не получил ни одного письма, и я не написал ни одного, и она не “пришла на помощь моему неверью”, и я не звал.
В начале 1916 года я был командирован в Англию и приехал с фронта на более продолжительное время в Петроград для приготовления моего отъезда в Лондон. Недоброво с женой жили тогда в Царском Селе, там же жила А. А. Николай Владимирович просил меня приехать к ним 13 февраля слушать только что законченную им трагедию “Юдифь”. “Анна Андреевна тоже будет”, – добавил он. Вернуться с фронта и попасть в изысканную атмосферу царскосельского дома Недоброво, слушать “Юдифь”, над которой он долго работал, увидеться опять с А. А. было очень привлекательно. Н. В. приветствовал меня, как всегда, радушно. Я обнял его и облобызал и тут же почувствовал, что это ему неприятно: он не любил излияний чувств, его точеная, изящная фигура съежилась – я смутился, Любовь Александровна (его жена) спасла положение, поцеловала меня в щеку и сказала, что пойдет приготовлять чай, пока мы будем слушать “Юдифь”. А. А. сидела на диванчике, облокотившись, и наблюдала с улыбкой нашу встречу. Я подошел к ней, и тайное волнение объяло меня, непонятное болезненное ощущение. Я их испытывал всегда при встрече с ней, даже при мысли о ней, и даже теперь, после ее смерти, я переживаю мучительно эти воспоминания. Я сел рядом с ней.
Н. В. открывал рукопись “Юдифи”, сидя за красивым письменным столом чистого итальянского ренессанса, с кручеными фигурными ножками: злые языки говорили, что Н. В. женился на Л. А. из‑за ее мебели. Правда, Н. В. страстно любил все изящное, красивое, стильное, технически совершенное. Он стал читать: Н. В. никогда не пел своих стихов, как большинство современных поэтов; он читал их, выявляя ритм, эффектно модулируя, ускоряя и замедляя меру стихов, подчеркивая тем самым смысл и его драматическое значение. Трагедия развивалась медленно. Несмотря на безукоризненное стихосложение и его прекрасное чтение, я слушал, но не слышал. Иногда я взглядывал на профиль А. А., она смотрела куда-то вдаль. Я старался сосредоточиться. Стихотворные мерные звуки наполняли мои уши как стуки колес поезда. Я закрыл глаза. Откинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. “Возьмите, – прошептала А. А. – Вам”. Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль. Я зажал руку в кулак. Недоброво продолжал читать. Наконец кончил. Что сказать? “Великолепно”. А. А. молчала, наконец промолвила с расстановкой: “Да, очень хорошо”. Н. В. хотел знать больше. “Первое впечатление замечательной силы”. Надо вчитаться, блестящее стихосложение, я хвалил в страхе обнаружить, что половины я не слыхал. Подали чай. А. А. говорила с Л. А. Я торопился уйти. А. А. осталась.
Через несколько дней я должен был уезжать в Англию. За день до моего отъезда получил от А. А. ее книгу стихов “Вечер” с надписью:
Борису Анрепу – Одной надеждой меньше стало, Одною песней больше будет. Анна Ахматова 1916. Царское Село 13 февраляТринадцатого февраля!!
Несколько времени перед этим я подарил А. А. деревянный престольный крест, который я подобрал в полуразрушенной заброшенной церкви в Карпатских горах Галиции. Вместе с крестом я написал ей четверостишие:
Я позабыл слова и не сказал заклятья, По деве немощной я, глупый, руки стлал, Чтоб уберечь ее от чар и мук распятья, Которое ей сам, в знак дружбы, дал.Это четверостишие появилось в третьем томе “Воздушных путей” (Нью-Йорк, 1963) среди разных стихов, посвященных А. А. Мое четверостишие появилось в измененном виде:
Я позабыл слова, я не сказал заклятья, По немощной я только руки стлал, Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья, Которые я ей в знак нашей встречи дал. 1916Для меня нет сомнения, что эти изменения сделаны были самой А. А. Причины этих изменений мне не совсем ясны. Хотела ли А. А. улучшить литературное качество четверостишия? Так ли? Только ли? Самые значительные изменения: “которое” на “которые” и “дружбы” на “встречи” – вносят личную, интимную, мучительную ноту. Наша “встреча” нашла отзвук в нескольких стихах А. А.:
Словно ангел, возмутивший воду, Ты взглянул тогда в мое лицо, Возвратил и силу, и свободу И на память чуда взял кольцо. Мой румянец жаркий и недужный Стерла богомольная печаль. Памятным мне будет месяц вьюжный, Северный встревоженный февраль. Февраль 1916 Царское СелоЯ уехал в Лондон, откуда должен был вернуться недель через шесть. Но судьба сложилась иначе.
Небо мелкий дождик сеет На зацветшую сирень. За окном крылами веет Белый, белый Духов День. Нынче другу возвратиться Из‑за моря – крайний срок. Все мне дальний берег снится, Камни, башни и песок. На одну из этих башен Я взойду, встречая свет… Да в стране болот и пашен И в помине башен нет. Только сяду на пороге, Там еще густая тень. Помоги моей тревоге, Белый, белый Духов День! 1916, весна СлепневоЯ никогда не писал. Она тоже отвечала полным молчанием.
И без песен печаль улеглась. Наступило прохладное лето, Эта встреча никем не воспета, Словно новая жизнь началась. Сводом каменным кажется небо, Уязвленное желтым огнем, И нужнее насущного хлеба Мне единое слово о нем. Ты, росой окропляющий травы, Вестью душу мою оживи, – Не для страсти, не для забавы, Для великой земной любви. 1916 СлепневоПрестольный крест, подаренный мною А. А., оставил след в ее стихах:
Когда в мрачнейшей из столиц Рукою твердой, но усталой, На чистой белизне страниц Я отречение писала, И ветер в круглое окно Вливался влажною струею, – Казалось, небо сожжено Червонно-дымною зарею. Я не взглянула на Неву, На озаренные граниты, И мне казалось – наяву Тебя увижу, незабытый. Но неожиданная ночь Покрыла город предосенний. Чтоб бегству моему помочь, Расплылись пепельные тени. Я только крест с собой взяла, Тобою данный в день измены, – Чтоб степь полынная цвела, А ветры пели, как сирены. И вот он на пустой стене Хранит меня от горьких бредней, И ничего не страшно мне Припомнить, – даже день последний. 1916, август Песочная БухтаМеня оставили в Англии, и я вернулся в Россию только в конце 1916 года и то на короткое время. Январь 1917 года я провел в Петрограде и уехал в Лондон с первым поездом после революции Керенского. В ответ на то, что я говорил, что не знаю, когда вернусь в Россию, что я люблю покойную английскую цивилизацию разума (так я думал тогда), а не религиозный и политический бред, А. А. написала:
Высокомерьем дух твой помрачен, И оттого ты не познаешь света. Ты говоришь, что вера наша – сон И марево – столица эта. Ты говоришь – моя страна грешна, А я скажу – твоя страна безбожна. Пускай на нас еще лежит вина, – Все искупить и все исправить можно. Вокруг тебя – и воды, и цветы. Зачем же к нищей грешнице стучишься? Я знаю, чем так тяжко болен ты: Ты смерти ищешь и конца боишься. 1 января 1917И позже в том же году:
Ты – отступник: за остров зеленый Отдал, отдал родную страну, Наши песни и наши иконы И над озером тихим сосну. Для чего ты, лихой ярославец, Коль еще не лишился ума, Загляделся на рыжих красавиц И на пышные эти дома? Так теперь и кощунствуй и чванься, Православную душу губи, В королевской столице останься И свободу свою полюби. Для чего ж ты приходишь и стонешь Под высоким окошком моим? Знаешь сам, ты и в море не тонешь, И в смертельном бою невредим. Да, не страшны ни море, ни битвы Тем, кто сам потерял благодать. Оттого-то во время молитвы Попросил ты тебя поминать. 1917 СлепневоРеволюция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила в квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой, на Выборгской или на Петербургской стороне, не помню. Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов. Помню, посреди реки мальчишка лет восемнадцати, бежавший из тюрьмы, в панике просил меня указать дорогу к Варшавскому вокзалу. Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. “Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах”. – “Я снял погоны”.
Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революции. Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. “Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже”. – “Ну, перестанем говорить об этом”. Мы замолчали. Она опустила голову. “Мы больше не увидимся. Вы уедете”. – “Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо”. Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке вокруг моей шеи. А. А. тронула кольцо. “Это хорошо, оно вас спасет”. Я прижал ее руку к груди. “Носите всегда”. – “Да, всегда. Это святыня”, – прошептал я. Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза, она протянула ко мне руки. Я горел в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. А. А. ласково улыбнулась. “Так лучше”, – сказала она.
Сразу стало тихо в доме, Облетел последний мак, Замерла я в долгой дреме И встречаю ранний мрак. Плотно заперты ворота, Вечер черен, ветер тих, Где веселье, где забота, Где ты, ласковый жених? Не нашелся тайный перстень, Прождала я много дней, Нежной пленницею песня Умерла в груди моей. 1917, июльС первым поездом я уехал в Англию. Я долго носил кольцо на цепочке вокруг шеи.
Война кончилась. Большевики. Голод в России. Я послал две съестные посылки А. А., и единственное известие, которое я получил о ней, была ее официальная карточка с извещением о получении посылки:
Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите.
Анна Ахматова.Хотел писать, но меня предупредили, что это может ей повредить, и я оставил эту мысль. Я остался в Лондоне и мало-помалу вернулся к своей работе по мозаике. Как-то раз, раздеваясь, я задел цепочку на шее, она оборвалась, и кольцо покатилось по полу. Я его уложил в ящичек из красного дерева, обитый бархатом внутри, в котором сохранялись дорогие для меня сокровища: военные ордена; золотой портсигар, подаренный мне командиром английского броневого отряда в России Локер-Ламсоном; запонки самоубийцы, которого я похоронил; и другие вещицы. Я собирался отдать исправить цепочку, но не сделал этого. Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было: я уехал из России в 1908 году и устроил свою жизнь за границей. Перед его отъездом я просил его передать А. А. большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый матерьял на платье. Он нехотя взял, говоря: “Ну, что вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена”. Я разинул рот от удивления. “Не глупите, Николай Степанович”, – сказал я сухо. Но я не знаю, получила ли она мой подарок. Погиб бедный Гумилев! Погиб большой поэт!
Другой поэт и близкий друг, Н. В. Недоброво; заболел туберкулезом почек, и его увезли на юг, где он вскоре и умер. Он был большой друг А. А. Помню, я тяжело перенес известие о его смерти. Перед этим я ему написал дикое письмо, из которого помню глупую, но искреннюю фразу: “Дорогой Николай Владимирович, не умирай, ты и Анна Андреевна для меня вся Россия!”
Шли годы. В глубине души заживающая рана: как часто я отпирал свой ящичек с драгоценностями и нежно прикладывался к черному кольцу. Носить его я больше не хотел, это казалось мне или святотатством, или комедией. Жизнь сосредоточилась на художественной работе, на мозаике. Но в сердце прошлое смутно жило, и кольцо мысленно было со мной “всегда”.
Опять война. Она застала меня в Париже, но я бежал от немцев в тот день, когда они входили в Париж, добрался до Лондона через две недели кружным путем. Немецкие бомбы упали совсем близко от моей студии и разрушили ее. Я потерял сознание, но отошел и выбрался. Это случилось ночью. Наутро вернулся, чтобы спасти что осталось. Не могу найти драгоценного ящичка. Боже! как я рад – вот он! Но что же это? Он взломан и пуст. Злоба к ворам. Стыд. Не уберег святыни, слезы отчаянья наполнили глаза. Почему я не дал кольцо на сбережение в банк? Потому что я хотел иметь его при себе, как пленника, которого я мог видеть, когда хотел. Но я уехал в Париж и не беспокоился о нем. Нет, вина моя, нечего и говорить! Что я скажу, если А. А. спросит?..
В 1945 году и эта война кончилась. Я послал А. А. фотографию в красках моей мозаики Христа: “Cor sacrum”. Его грудь вскрыта, и видно Его пламенное Сердце. Я не знал ее адреса и послал в Союз писателей в Ленинграде, с просьбой переслать конверт по ее адресу. На фотографии я написал: “На добрую память”. Ответа не было, и я не знал, получила ли она пакет.
Жизнь текла. Я работал в Лондоне, я работал в Париже, я работал в Ирландии. Мозаика требовала много напряжения и тяжелого труда. Благодаря дружескому содействию Г. П. Струве, я читал почти все, что А. А. печатала и что печаталось за границей. И эти стихи волновали меня так же сильно, как раньше, – может быть, сильнее. Острые страдания, которые я когда-то переживал от потери черного кольца, смягчились мало-помалу в тихую скорбь. Но чувство вины продолжало мучить.
В 1965 году состоялось чествование А. А. в Оксфорде, приехали даже из Америки. Я был в Лондоне, и мне не хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный привет и лучшие пожелания, а сам уехал в Париж, где меня ждали, привести в порядок дела, так как я должен был прекратить, по состоянию здоровья, мозаичные работы и проститься со своей парижской студией.
Образ А. А., какою я помнил ее в 1917 году, оставался таким же очаровательным, свежим, стройным, юным. Я спрашивал себя, было ли прилично с моей стороны уехать из Лондона. Я оказался трусом и бежал, чтобы А. А. не спросила о кольце. Увидеть ее? “Мою Россию”! Не лучше ли сохранить мои воспоминания о ней, как она была? Теперь она международная звезда! Муза поэзии! Но все это стало для меня четвертым измерением.
Так мои мысли путались, стыдили, пока я утром в субботу пил кофе в своей мастерской в Париже. На душе было тяжело…
Громкий звонок. Я привскочил, подхожу к телефону. Густой мужской голос звучно и несколько повелительно спрашивает меня по-русски: “Вы Борис Васильевич Анреп?” – “Да, это я”. – “Анна Андреевна Ахматова приехала только что из Англии и желает говорить с вами, не отходите”. – “Буду очень рад”. Через минуту тот же важный голос: “Анна Андреевна подходит к телефону”. – “Слушаю”. – “Борис Васильевич, вы?” – “Я, Анна Андреевна, рад услышать ваш голос”. – “Я только что приехала, хочу вас видеть, можете приехать ко мне сейчас?” – “Сейчас, увы, не могу: жду ломовых, они должны увезти мою мозаику”. – “Да, я слышала (?), в пять часов я занята”. – “А вы не хотели бы позавтракать со мной или пообедать где-нибудь в ресторане?” – “Что вы, это совсем невозможно (?). Приходите в восемь часов вечера”. – “Приду, конечно, приду”.
Ломовые не приехали. Весь день я был сам не свой – увидеть А. А., после 48 лет разлуки! и молчания! О чем говорить? Столько было пережито. Сколько страдания! И общего, и личного. Воспоминания болезненно возникали, теснились бессвязно, искаженные провалами памяти. Что я скажу о черном кольце? Что мне сказать? Не уберег сокровища. Нет сил признаться. Принести цветы – банально. Но все-таки пошел в цветочный магазин и заказал послать немедленно букет роз в Hotel Napoléon, близко от Arc de Triomphe.
Гостиница была полна советскими. Молодая, очень милая девушка подошла ко мне. “Вы господин Анреп?” – “Да”. – “Анна Андреевна вас ждет, я проведу вас к ней”. Мы подошли к лифту. “Я видела ваши мозаики в Лондоне, мне особенно понравились сделанные вами мозаики в Вестминстерском соборе”. – Это была Аня Каминская, внучка Н. Н. Пунина, мужа А. А. Она сопровождала А. А. в ее путешествии.
Мы поднялись на второй этаж, и Аня открыла дверь в комнату А. А. и тотчас же исчезла. В кресле сидела величественная, полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась.
“Екатерина Великая”, – подумал я.
– Входите, Борис Васильевич.
Я поцеловал ее руку и сел в кресло рядом. Я не мог улыбнуться, ее лицо тоже было без выражения.
– Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии.
– Англичане очень милы, а “торжество” – вы знаете, Борис Васильевич, когда я вошла в комнату, полную цветов, я сказала себе: “Это мои похороны”. Разве такие торжества для поэтов?
– Это вашим поклонникам нужно, им хочется высказаться, выразить свое уважение.
Мы заговорили о современных поэтах. Только бы не перейти на личные темы!
– Кого вы цените?
А. А. поморщилась и молчала.
– Мандельштама, Бродского?
– О да, Бродский! Ведь он мой ученик. – Она заговорила о Недоброво: – Вы дали его письма к вам Струве. Скажите мне, к каким годам относятся эти письма?
– Все письма до тысяча девятьсот четырнадцатого года, и в них ничего нет, решительно ничего. А у вас, Анна Андреевна, не сохранились его письма?
– Я их все сожгла.
– Как жаль.
Я боялся продолжать разговор о Недоброво, но А. А., очевидно, желала этого.
– Николай Владимирович был замечательный критик, он прекрасно написал критическую статью про мои стихи, он не только понимал меня лучше, чем кто-либо, но он предсказал дальнейшее развитие моей поэзии. Лозинский тоже писал про меня, но это было не то!
Я слушал, изредка поддерживал разговор, но в голове было полное безмыслие, сердце стучало, в горле пересохло – вот-вот сейчас заговорит о кольце. Надо продолжать литературный разговор!
– А где похоронена Любовь Александровна?
– Похоронена на кладбище в Сан-Ремо.
– Вы знаете, – сказала А. А. после минуты молчания, – я никогда не читала “Юдифи” Недоброво.
Я замер. Она желает напомнить о 13 февраля 1916 года, когда мы вместе слушали “Юдифь”, когда она отдала мне свое черное кольцо! Это вызов! Хорошо, – что-то злое шевельнулось во мне, – я его принимаю. Неужели она не видит, в каком я состоянии?
– “Юдифь”, – сказал я равнодушно, – очень академично выработанное произведение, весьма искусное стихосложение, но в общем довольно скучное. Все же это вещь достойная внимания, она, наверное, войдет в собрание его стихотворений, которое, надеюсь, Струве издаст.
– Струве, – отвлеклась А. А., – он много работает, он литературовед, но он поддерживает “холодную войну”, а я решительно против “холодной войны”.
– По-моему, Анна Андреевна, Струве главным образом интересуется современной русской литературой.
– А вы читали “Реквием”?
– Да, это великое трагическое произведение, написано вашей кровью, больно читать.
– Хотите, я вам прочту свои последние стихи, вы, может быть, сравните их с “Юдифью” Недоброво, они на библейский сюжет: Саул, неверная жена, Давид.
А. А. открыла маленькую записную книжку и певучим голосом стала читать. Певучее чтение мне казалось вытьем, я так давно не слыхал ничего подобного. После “Реквиема” мне казалась вся затея упражнением в стихописании. Я не вникал в слова.
– Ну вот, что вы думаете?
– Как всё – очень хорошо.
– Совсем не хорошо, – сказала А. А. с раздражением.
Я чувствовал, что надо сказать что-то умное, и не мог выжать ни слова.
– Очень объективно.
– Да, объективно. – Я не знал, что можно добавить к этому глупому замечанию, и молчал. – Как вы живете, Анна Андреевна? – нашелся я.
– Переводами, – сказала она, поняв мой вопрос в простом материальном смысле. – Я перевожу поэтов древних времен.
– Вы сами переводите? – удивился я.
– Нет, конечно; несколько специалистов дают мне дословные переводы, я их перекладываю в русские стихи.
– Вы всегда в Ленинграде, где вы отдыхаете?
– У меня дача в Финляндии, я там отдыхаю. Вы помните, вы прислали мне цветную фотографию вашей мозаики Христа? Она долго была на моем столе, а потом исчезла.
Тут я мог просто сказать, что такая же судьба постигла ее кольцо. Но фотография – одно, кольцо – другое! Я ничего не сказал. Я чувствовал себя не по себе, надо идти.
– Я боюсь вас утомить, Анна Андреевна, я пойду.
– Нет, нет, мне видеть вас большой отдых, вы совсем не изменились.
Я сгорал от стыда.
– В личное одолжение посидите еще двадцать минут.
– Конечно, Анна Андреевна, сами скажите, когда мне надо уходить.
Разговор не клеился. А. А. чего-то ждала.
– Как вы пережили осаду Ленинграда?
– Меня спас Сталин (это было известно всем), он благоволил ко мне и прислал за мной самолет, на котором я улетела из Ленинграда. Позднее он свою милость переложил на равнодушие или, может быть, на ненависть. – Опять молчание. – Ну, теперь идите, благодарю, что пришли. Напишите хоть на Новый год.
А. А. величественно поднялась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене.
– Прощайте.
Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы и вышел в коридор в полудурмане, повернул не туда, куда надо, добрался кое-как до выхода, долго шел по Champs Elysees и до ночи сидел в кафе.
Тысячу раз я спрашивал себя: зачем? зачем? Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес еще больший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен. Пока я думал, что я еще могу сказать или спросить о поэтах-современниках, она воскликнула: “Борис Васильевич, не задавайте мне, как все другие, этих глупых вопросов!” Ее горячая душа искала быть просто человеком, другом, женщиной. Прорваться сквозь лес, выросший между нами. Но на мне лежал тяжелый гробовой камень. На мне и на всем прошлом, и не было сил воскреснуть.
Во время нашего разговора дверь в соседнюю комнату оставалась приоткрытой, кое-когда был слышен легкий шорох. Кто там? Может быть, политический контроль; может быть, свой человек – не знаю. Это невидимое присутствие было мне неприятно. Было ясно, что кто-то подслушивал наш разговор. Не это ли помешало нашей последней встрече превратиться в теплую, душевную беседу? Я ищу себе оправдания, не так ли? Я его не нахожу.
5 марта 1966 года А. А. скончалась в Москве. Мне бесконечно грустно и стыдно.
Б. АнрепПод подписью рукой Б. В., но другими чернилами, приписано:
Это просто, это ясно, Это всякому понятно – Ты меня совсем не любишь, Не полюбишь никогда… ……………………………Борис Анреп Физа[90]
“Где ты, Физа, твой край на ложе пустует, Смяты простыни, шерстит мех. Нет тебя, и бок мой остыл. Ты же не у Маи, ибо я просила, и ты сказал: – Пересплю с тобой. – Слово твое точно, а ты не тут”. Тогда вошла в спальню Мая и промолвила: “Юния, я слышу, ты – одна. Не со мною Физа, Но у печей своих и у молота”. Юния обняла Маю и сказала: “Не уснуть мне несогретой. Побудь со мною ночь, Физа и до дня не вернется”. Физа же, отойдя от дома и приблизясь к печам, Упер свой лоб о горн плавильный, Локти прижав к груди и ладонями защитив уши. Так стоял Физа и озадачил мысли: “Зорки глаза мои, но око внутри меня зорче всего. Глаза мои только явное видят, Око внутреннее сон мой снабжает. Не края, но суть им определена. Глаза мои обозревают страны и моря, Окраску и пышность уборов. Внутреннее око пытает тайны, Сокрытые под пестрой одеждой. Мое любопытство – не в путешествиях, Но в рассечении основ и строенья. Разделяя, я разделил даже воздухи, Воды, металлы и камни. Трудом потным обольются мышцы, Но жажда пытанья томится не меньше. Не согнулось долбило, не проржавлено, не затуплено. Легко выколоть мои глаза, Но око заочное как вырвать? Схоронясь за костью, оно рыщет оттуда Неустанно, верно и свирепо. Горек ли корень, сладок ли плод; О, протечет ли медом по губам Сладость корня сладчайшего? Долго мое терпенье, но пустовато надеждами. Как листья, разметанные по ветру, Мои знания полны трепетанья. Много азов мне ведомо, Но альфы первейшей не знаю. Вот мои печи и плавильни, тончайшие орудья, Весы и предельные меры, и сила тока; Кислота и щелочь. Но что разъять? Что совокупить? Правду Мая поет о птице сокрывшейся! Я в иске суетлив пребываю. Не мудрец я, знаньем пронзенный, Но как искатель плодов от древа познанья, Но как некий знахарь времен дьявольских”. Жалуясь и горюя, Физа сел на землю; Голова его между коленями, Поверх головы – локти крышею, Пальцы впились в затылок, И длинные волосы расплелись И спутались, ниспадая ниже колен. Волоса же Физы холены с младенчества, Гордость и чванство и дев дивованье. Горестный Физа лег на землю. И сон, преддверье неизбытых дум, Открыл чертог воспоминаний! Наставник Физы – на порог; Лик золотой и в блестящих ризах. Дух Физин возмутился и поднялись руки, И сказал учитель: “Не открой рта, Мне нечему внимать, ты – внимай. Я жив твоей памятью и не отвергну тебя. Ты – вопрос от вопросов моих, И я поставлю тебя перед собой, Как ответ – во мне, лицом к вопросу. На скрижали, что вот – в моей ладони, Я начертаю знаки и ряды и в них помещу И расположу основы первейшие. Вот ступени их, их вес, и знак, и число. Сходя по ним, ты дойдешь до дна, И ублажится твое яростное око, Ибо на дне их круг и слово всему; Его же имя – пламенем предо мной, ибо он – светород. Обретя его, не скажи: «вот зачало». Ибо начало и конец – лишь для малых сих. Пламя уст твоих – мой огонь, и в твоей руке мой молот. Ты не скуешь венца с чеканным крестом И не поместишь в него светорода. Ибо блажен был Распятый, Но нет в скрещении креста исхода тщеты и пределов. Ты не возложишь его на себя, Ибо никому не снести светорода. Огласив, оглашу к нему путь. Разрушь свой дом и рощу сруби, Разрой под домом гору, Отдели руду и соль ее прояви, Но от многого будет мало: Щепотка в морщине твоей ладони, И в ней заключен светород: Он тяжеле тяжелейших, средоточье и истеченье. Я водвину скрижаль под твой лоб, За яблоки глаз, за внутреннее око; Она будет тебе правилом, И ты объявишь познанное мной, И явленное мной ты укажешь, Ибо ты мой перст указательный”. Был утренний обыкновенный час, И Физа, очнувшись, поспешил домой, Веселя сердце уверенностью и предвкушением. Войдя, Физа позвал громко: “Юния, Мая, Скажите, стар ли я?” И Юния, оставив дело, недоумевала: “Ты заматерел в годах, Физа, Но не дряхл и не остыл. В чем сомневаешься?” “Учитель посетил меня И труд завещал дольше жизни, Больше всех моих дел. Высока гора – мелки мои руки! Возьмите все добро, да не оставят слуги сего дома, Сойдите по уклону горы до долины И поселитесь там, раскинув палатку. Я разрушу наш дом и сад И обрету светород, который – под ними”. Тогда Юния, усомнившись, воскликнула: “Дом отчий, место – насижено. Нет ли иной горы для тебя?” Мая же, одевшись празднично, созывала слуг. Физа же обратился к Юнии: “Мая – покорнее, уже исполняет, а ты противишься, Или я – безумец? Говорю тебе, светород – под горой, Он – конец моего искания”. Поняв необходимое, Юния смирилась: “Не кори, Мая все отдать готова, Да мало что есть у нее. Я же приданым богата и о детях пекусь, Буду ли тебе противницей. Иди направь дело, А я и Мая распорядимся”. Плещут полотнища просторной палатки; Юния и Мая – под нею, а малые дети Приплясывают вокруг, старшие – при отце на работе. “Видишь, Мая, верхушки загородной дубравы, Физа работу ускоряет, снял половину горы, Скоро селенье потустороннее отселешним овеется ветром И одна долина продолжит другую. Куда ручей потечет тогда, где новый дом построим!” Мая же устремила мысли к Физе: “Потечет ручей от своего месторожденья, И дом будет над водным истоком. Солнце рдеет, луга вечереют, Но твоя ярость, Физа, не утолена, Бремя ярости твоей – не на мне, И бремя мучения твоего – не на мне. Но не мне ли – въявь – причина дня, Ибо ты, Физа, – и заря и день”. Слуги вернулись с горы с пустой посудой, Юния шла за ними, ведя сына Маи: “Труден Физа; отрок задумчивый брезглив к работе, Поднял руку Физа на сына твоего, И не пощадил бы, да я уберегла. Страх – на нем и колени ослабли”. Мая жалела сына и Физу одною жалостью, А Юния, отойдя, села под дубом, И судьба ее была в сердце ее: “Холодит мое лоно ветер, но дуб, под которым сижу, Посажен прадедом моих отцов, Ветки его широколиственны и ствол коренаст. Холодит мое лоно ветер, но мне будет тепло, Ибо сыновья облягут меня, и буду согрета”. И была осень, и была весна, и изукрасилось время. Физа гору копает, и скоро конец и подошва. Иссякла гора: били молоты, мололи жернова, Печи жгли, и соль последняя собрана. Физа поднял прозрачную чашу И, глядя, иступил взоры и не мог одолеть сомненья: “Вот соль солей тяжелейших, вот что от горы осталось, Но не вижу знамени светорода. Скуден я разумом, размышлением изобилуя, Сокровенная скрижаль за лбом моим – Как соты опустошенные, и числа и знаки на ней Как пчелы взлетевшие: жужжат и мучительно жалят Оторопь и преткновенье духа”. Тогда рука учителя возлегла на чело Физы: “Не угнетай себя, Физа, но отрезви дух. Не исступленным глазам обнаружится светород. Сомкни веки, око внутри напряги, Ты прославишься тайным светом, Им же и слепые восхитятся. Вот светород под моею рукой, И я выжму его из своего кулака. Источит светород свою благость сюда и сюда. Воздух прояснится и утвердится земля”. И был лазоревый свет и ароматы благоухающие И тайное шевеление воздуха. Встрепанный вскочил Физа, Внешним глазам все обыденно, И две крупицы в чаше; Срединному оку – восхищение и чудо. На дощице чисел за лбом Физиным Знак светорода покрыл прочие: И знак его и его оправданье. Физа сковал золотой ковчежец С оконцем из слюды, точно прилаженным. И в него вложил светоточивые крупицы. Физа слил свинцовый ларец С изображением важного числа. Вверху же ларца – камень сапфир. И вставил ковчежец в свинцовый ларец, Дабы сокровище не утерялось. Сомкни глаза, Физа, и ликуй! Свет лазоревый – не меньше, И благовоние и шевеление воздуха. Тогда Физа, восклицая, выбежал вон: “Оставьте все и всех созовите! Светород землю несет и утомляет солнце. Он – слово и нет послесловья”. Юния и Мая стояли, недоумевая. Тогда Физа закрыл им глаза руками, А дети и слуги пали на свои лица. Радостные вопли вокруг Физы. И воскликнула Мая: “Физа, ты в осиянии дел своих”. Юния же подвела отрока и сказала: “Ты был суров с ним”. И сказал Физа: “Подойди и ты”. И пала Юния на шею его, И сказал Физа: “Отпразднуем день”. И был пир неомраченный во весь день. Слава о Физе распространилась далеко, И соглядатаи донесли о ней князю. И князь, послушный своей заботе, Встал у престола и повелел: “Пусть Физа вручит нам светород, И мы причтем его к нашей казне. Ищущему мы покровительствуем, Но не позволим утаить нашедшему”. Где ты, Физа? сыновья сидят, Перебирают перстами персты, А ты отлучился до зари от дому. Тогда Юния подняла сыновей и созвала вкруг себя: “Что за неделя такая? Вы отцу послужили И мне послужите; возведу гору на старом месте. И восстановлю дом и сад там же, И будет новая гора лучше прежней, Будучи мягкой и ровно насыпанной И обложенной дерном зеленым. Ступайте за мной, взяв по лопате. Вы и без десятника успеваете, Ибо вы проворны и на руки ловки. Я же вам укажу расположение, Ибо мне прежний вид наяву: высота, края и склоны”. Тем временем люди князя подошли К местожительству ярого Физы, И Мая, поняв необходимое, вышла к ним И воскликнула: “Извещу Физу, дабы он не медлил, А вы покамест повремените”. Мая же поспешила в потайной погреб, И, вынув золотой ковчежец, Подвязала его пониже груди. О Физа, был бы ты дома! Мая вернулась к княжеским людям, Держа в руках свинцовый ларец: “Обеспамятела я, давно в отсутствии Физа И сокровище с ним. Вот – пусто вместилище”. Тщетно обыскав все помещения, Люди князя утомились и, убедив друг друга, Вернулись вспять с пустыми руками. И в гневе князь приказал управителю: “Неожиданно услыхать о Физе подобное. Попущения никому же не будет, Ибо перед вами – я, как вы – предо мной”. Назавтра стража явилась туда же, Даже во время обеда. И сказал сотник: “Все ли еще не обрелся Физа, Но по лесу светород носит, гуляя? И на постель не приляжет, и за стол не присядет, Какой путник неутомимый! Кончайте обед, сыновья поработают, Заложниками побудут за отца”. Затосковала Юния, заломив руки, Сыновей же стража схватила и повела, А Юния, ослабев, пала ниц и рыдала, Лицо же ее зарылось в песок. Мая утешала Юнию, склонившись и тихо скорбя. О лазоревое пламя, о голубая зарница, Ни под полой, ни под персью ты неутаима! Юния оттолкнула Маю и догнала стражу, Уводившую сыновей по долине. И, ухватясь за рукав сотника, воскликнула: “Стойте, вы плохо искали”. И возликовали сыновья, будучи освобождены тут же. Юния же привела стражу к Мае, открыв перси ее, Отвязала ковчежец и вручила его сотнику. Тем временем Физа возвратился домой, Уловляя мысль словом и насупя брови, Не замечая тревоги в доме, ни горя Маи. Юния же преградила ему дорогу, сетуя: “Физа, что совершила? предала мужа своего. Разъяри сердце! Гнев твой мне – милость, мое – очищение. Обнаружила сокровище княжеским людям, Ибо князь пожелал его и имеет его. А Мая-то уберегала сокровище, Подвязала под сердцем, а я отняла. Не таи гнев, утуши яростью стыд удушливый!” И сказал Физа, поведя плечами, Увидя и Маю плачущей: “Что убиваетесь? Мне не забота светород. Усладилась моя охота в нем, Он – слово, а я ищу послесловие. И не прав учитель, сказав: «не те». Напрягается мое око и мысль заостряется, И пойму новое, как поймал старое. Князю же подобает венец мученический”. Отряхнувшись, хищный Физа пошел прочь, А Юния скорбела, восклицая: “Вывесилась вина на мне, ухлеснет меня стыд”. Мая же уговаривала: “Сыновья, смотри, играют в бабки, А ты горюешь; иди восстанавливай свои поместья. Сыновья снимут с тебя стыд и оденут славой”. Тогда Юния, обернувшись на пути, сказала: “Мая, а ты-то чем утешишься?” При княжеском дворе стоял слепой ясновидец, Мудрый осязанием вещей. Он вышел навстречу страже и воскликнул, Взяв из рук в руки ковчежец: “Прозреваю”. И сказал сотник, принесший сокровище: “Жена Физина дала нам, сказав: «Вот он». А мы разве знаем, сами судите”. И воскликнул слепец, воздевая руки: “Бедны зрячие, которые не видят. Слепой зрит, а ваши очи пусты. Покройте лица, убедитесь сами”. И было озарение светом вокруг престола, Струя и тайное шевеление воздуха. И сказал слепец ясновидящий: “Дивная весть о светороде. Он умножает силы и благодать копит. Страна наша обширна, его же – крупица. И как распространим благость его? Неделимое сокровище, оно достояние князя. Скуйте венец золотой и богатый резьбою, Поместив светород в середине креста. Пространен свет с высоты, князь же выше престола. Да умножатся силы князя, И силы людей его, ибо он – князь”. Князь же понял необходимое И, обратившись к себе, мыслил: “Известно нам, Не снести светорода и сильнейшему, Но разве они утешатся венцом без венценосца. Об одном кричат: «Вот – крепость!» Они подо мной ходят, И вопль их возложен на мою душу”. Тогда же мастера сковали венец художественно; И крест над венцом и светород в середине креста. И воссел князь на высокий престол, И его увенчал слепой ясновидец. О князь, ты – в осиянии рока и славы! И солнце, опускаясь за окраины страны, Играет в золоте венца, И отходит народ в уповании. О великолепный вид! но не мерцание лазоревое. О восхищение тьмам! О жертва вечерняя! Попрана мысль, но время бывает И слово учителя к себе обращено. Чело князя опалено и сердце ослабло, Могучая спина горбится, вошел в грудь подбородок, И нога оплетает другую. Возляг на свой одр, о князь, дабы не полечь инде! И был плач и поклонение телу. Ярость о Физе и вопль отомщенья, Посрамление слепца ясновидца, И приговор взять Физу под стражу. Где ты, Физа? Печи, остыв, треснули, Усохли жидкости, порыжело железо. А ты странствуешь, и где ты? Твой покой – в утомлении, И услада – в искании добычи, Но глаза твои, Физа, кровью налиты, И пена нетерпения. Чутка дичь, Но ты иной пренебрегаешь И побрезгуешь всякой, ибо ты охотник. Идя по лесу, Физа вышел на просеку И увидел старца, корчевавшего пни. Старец – видом дородный и со львиной гривой. Он окликнул Физу: “Ей, странник, Знаменье общее на нас – обилье волос, Следуй за мной, а я не отложу дела. Выкорчевать поле и вспахать надо, Авось кто-нибудь да засеет, Ведь на мне – ни зерна, ни рассады, Ибо я – пахарь, но не сеятель”. Физа же сел в отдалении И, дивясь могучей старости, не знал, что сказать: “Беспутно блуждаю; вела меня тропа, Но здесь у просеки ты тропы все запахал”. И сказал старец: “Много было дорог, Одна осталась, она же ведет к пещере, В ней – водопад, о котором много сказано, Ущелье под ним полно воды искрометной, Колодезь нерукотворный, благодать источающий”. – И не слыхал Физа о чуде пещерном. – “Идут к пещере за исцелением, Мощные во плоти духом укрепляются, Духом не нищие – в тело входят. Я же в сочинении различий несведущ И многое для меня – едино. Невежам я лево и право указываю, Но утро – направо, налево – вечер, А багрянеет лес на заре и заре. Тебе же вода может быть полезна, Ибо тревога на твоем лице и запеклись губы. Вода же в пещере благотворна. Испей ее, И тягость бремени твоего претворится В колебание радуги и в узор”. Усомнился Физа в свойствах воды, Но не пренебрег советом, размышляя: “Много путей от пещеры проложено И полезно стоять на перепутии, Ибо оно обильно направленьями, Я же ныне искатель безпутный”. И сказал пахарь: “Вот – тропа, Ее паломники протоптали, ее же не запахать. Путешествуй, а я продолжу дело”. И воскликнул Физа: “Ты – пахарь! Ни волов, ни даже кобылы – у плуга. Могуч ты рукой плуг двигать. Говорю тебе, позолотится твоя грива”. И сказал пахарь: “Эх ты, позолотчик”. И был путь каменист, но удобен для ног, Будучи стерт сапогами и подковами. И вот скалы и круги обрывистые, И страны низкие и воздух обширный, Деревья шумные листвою обильные, И роскошь цвета, и тень пещеры, и прохлада. Велико доверие к слову во мне, Но страх предчувствия неодолим. Пристрастен язык мой к тайне вещей, Но тайна – неприкосновенна. Прельщенный пением я обеспамятел, Но бесконечно ли мое пение? Одержим я стоном, и плечи мои разрываются, Ибо тьма людей прохладу найдут у колодца, И Физа подозрительный приложил губы. Увы, а мне от колодца не испить, Ибо между ним и мной океан и серп летящий”. Дивная тишина внутри пещеры И склоненный Физа над колодезным кругом, И не испив, Физа окунул голову И освежил затылок, коса же Физы расплелась, И вода позолотила ее до корней волос. И Физа восхитился свойством воды. Он хлебнул, и заиграла вода в гортани его, И, глотнув еще, не мог перестать пить. Внутренние Физы дрогнули, как город высоченный: Сокрушились башни и столбы, городские стены низверглись, И вот расколота скрижаль учителя, И вот развалины города. Свирепое око за пылью и осколками Тщится пронзить разрушенье. Тогда Физа сошел в прохладу целебных вод. Прояснело облако в душе и воздвиглось зодчество ее, Тенью перевитое, разумом непостижимое, Несказуемое и неопровержимое. И было Физе непонятно и необыкновенно; Движенье в сердце и улыбка на устах. Но что Физе – чудо? что – очарованье? От них, отрешенный, он отрекся, И, смущенный, вышел вон из пещеры. И видевшие его вошедшим простоволосым Дивились и славили золото его волос. И предала Физу слава его, ибо, услыхав, Власти князя взяли его под стражу. Рожь еще не созрела, Мая васильки собирала И подозвала сына своего задумчивого: “Трудно мне, ослабеваю, взойди на постройку горы, Кликни Юнию и, взойдя, осмотри даль, Не возвращается ли Физа, твой отец”. Отрок задумчивый поднялся на возводимую гору, Откуда был широк кругозор. Братья работали, нагибаясь, И, поспешая, сбегались и разбегались. Юния же направляла работу, чертя на земле Прежнее расположение сада и дома. Услыша о болезни Маи, Юния приказала: “Утаи от братьев, дабы не стала работа, Сойди и не отходи от матери, А я задам урок сыновьям и поспешу”. Отрок задумчивый вернулся к Мае, Сел у ее изголовья и развел руки: “И в даль и в ширь глядел, нету Физы”. Мая подняла руку к щеке сына задумчивого, И были ее руки легче перьев: “Кому препоручу тебя, ибо я на исходе. Ты – не помощник, и отец пренебрег тобою, Ты – задумчив и твои пальцы как хрупкие стебли, Ты – не юноша, но не младенец во взоре. И чем ты руки займешь, ибо ты не ремесленник, И чем обогащу тебя, ибо я – нищая”. И сказал отрок задумчивый: “Не утруждайся, Спой о птицах сокрывшихся, Ибо ты поешь, и я слышу гремучие крылья. И я бы спел, да начала не помню. Я помяну тебя этою песнею, И не покинет мой голос твоей памяти, Ибо, кончив, опять начну”. И сказала Мая: “Не осилю забвения, Не подниму ребер и себя не слышу. Я пела в уши Физе, но его нет, И он вторил, но его нет. Но что сыну моему в наследство? Только заглавие песни и размер: – Я пою, и лес зеленеет”. И встал сын Маи из зеленой ржи, воскликнув: “Укрепи уши, ибо летят крылья, Они надо мной, и я в тени их”. И птица была над головой отрока, Остановившись и осеняя его крыльями. И услыхала Мая и сказала птица: “Возьму твоего сына под крыло И прославлю его твоим пением, Ибо песня твоя – обо мне песнь. Я сокрылась, и многие меня искали, Но я обнаружу себя поющему обо мне. Вот я – пред тобой, не ведавшей славы, Ты же ослабла, и руки не подымешь. Я же о сыне твоем попечительствую. Его пальцы, как цветы полевые, Но твои пальцы, Мая, прозрачнее моих перьев”. Синева же небесная голубела в крыльях птицы. “Отрок задумчивый, покрой лик матери, Ты принял ее дыхание и понесешь его. Не скорби: в бездыхании – упокоение. Следуй тени моей и ты не выйдешь из нее. Я же – между солнцем и тобой, Крылья мои – путеводители”. Дуновение крыльев бежит по колосьям, Отрок спешит, птица полет замедляет. Юния же, сойдя с горы, нашла на тело Маи, Упокоенное во ржи незрелой. Сыновья же, услыхав ее стон и горе, Сбежали к ней, побросав лопаты, И, столпившись над Юнией и Маей недвижимых, Не знали, которая – жива и которая – не жива. Юния же, придя в себя, воскликнула: “О Мая, Физу соблюдавшая, ты не убережена!” Юния одела тело Маи в праздничные одежды И воскликнула: “Восстановлена гора, Отнесите Маю на вершину, и там будет ее место. Опустите тело посередине сада, И будет Мая почить под первым деревом сада, От него же разобьем дорожки”. Зеленые колосья на носилках. Воздвижение похорон. Совершив обряд, сыновья спросили друг друга: “А где наш брат, отрок задумчивый?” И вернулись к делу и постройке дома. Был суд скорый и казнь определена: За косу золотую привязан Физа И прикован к приводу жерновов, Ходи вкруг, Физа, и тяни косою, Ты ведь камни молол и горы разрушал, И оком недра постигал. Не видеть тебе и низа своего, Ибо голова задрана и кадык выступил. Пойдешь ты по тропинке ослиной, Ты будешь вертеть жернова до исступления и сна, И, прежде чем проснешься, тебя разбудят. Вот как, Физа, тебе золотая коса послужила! Мая расчесывала, Юния умащала, Вода ей оказала честь. Что Физе участь раба? что – пытка? Страшна ярость хищного ока, Ибо оно от земли отвернуто, И, голодное, вертится в своей ложнице. И чем утолить его, ибо небо – пусто. И вот мука Физы, и воззвал Физа к учителю: “Разрушена скрижаль, и обломки остры, Вынь ее вон, ибо она предел твоего слова, Но что – слово, если нет послесловия. И не мудр ты, учитель, и не умудришь меня, Ибо слово сочинено, и сочиню послесловие. Воспарит мысль, округлив бесконечность. Определится круговорот небесный, Отыщутся пути и прием мира. И слово твое будет пересказано, И я скажу послесловие”. Тогда разгневанный учитель воскликнул: “Физа, неугомонный, знаешь ли, чего просишь? Ибо, и треснувши, приросла скрижаль, И, вынув ее, выну и око, И безокий ты будешь хуже слепого”. Тогда учитель немилосердный простер руку, Голова же Физы закинута, и кадык выступил, И руки гирями увешаны. И вынул учитель дощицу основ И пытливое око, приросшее к ней. О вода благодати! И Физа пил, И ты не высохла на его веках. Собери дух его волной радости, И, вознеся, не низвергни в пучину. Так я, твоей струей омытый, Пребываю в усладе довольства, Но не в поисках удовлетворенья. Физа изощренный, и утратив око, неизменен, И тщетой пренебрегая, исследует небеса, И, безокий, возможности постигает, Но за пределы тверди не проникает. Отрок задумчивый не отставал от птицы; Остановив крылья, она летела против ветра, И привела отрока к месту казни, И, оставив его на соседнем холме, сказала: “Оттуда распространится твоя слава”. И затрепетал отрок, ожидая своей участи. Птица же отлетела к жерновам и Физе. И песня в его ушах, и воскликнул Физа: “О Мая, не ты ли подошла с утешением? Где ты? ибо слышу тебя, но где ты?” И сказала птица: “Я – не Мая, но о ней песнь. Не вращай зрачки, ибо я – невидима. Сыну задумчивому Мая предала свой дух, Ты не допускал его до себя, но он не отойдет. Я же возвещу тебе покой и прекращенье, Но ты слыхал пение о мне и меня, И песня будет над тобою вовек. Тебе же изошел срок. Ибо все о тебе известно. Ты многое постиг, ненасытный Физа, И в горе горишь жаром неистощимым, И, безокий, не отвык устремлять взоры. Но ты довольно зрил и сын твой ждет, Он трепещет, ты же, Физа, изжил, И нечего более повествовать о тебе. Наставь взоры куда хочешь, и я обнаружу Последнюю тайну, тебе предреченную, Ибо на тебе знак моего обиталища. И тень пещеры осталась на твоем челе, И свежесть струи, от нее же ты пил; Я же покинула свое жилище издавна, Но я снабжу тебя, ибо ты был в нем”. И сказал Физа: “Дом вселенной против меня, Но стропил его не вижу и не сосчитаю”. И сказала птица: “Вот стропила небесные; Ты пожелал их и будешь осязать их до века, Ибо слава твоя от недр земных и до горных высот И коса твоя прикрученная позолочена”. И воскликнул Физа: “Утешительница, Не поклонюсь тебе, ибо волосы мои крепки И не вырвать их из темени”. И сказала птица: “Дыхание Маи растекалось по ним, И они сыну твоему послужат. Не помянешь ли Юнию, ибо к ней – последняя речь”. И воскликнул Физа: “Юния, восстанови гору, Ее же я разрушил, и построй дом там же”. И сказала птица: “Уже стоят гора, и дом, и сад, И Юния придет за тобой, отыскав, Но увидит лишь славу твоих волос, Ибо по темя ты будешь утвержден в земле”. И воскликнул Физа: “Ты – непререкаема”. И воскликнул Физа еще: “О небесные стропила, В вас – послесловие, но не мне сказать его”. Тогда села птица на голову Физы, И ушел Физа по темя в землю, И привод жерновов согнулся, как напряженный лук, И дух Физин втек в волоса его. Птица же отняла золотые волоса от рукояти И, взяв их в когти, вознеслась, сокрывшись, Волоса же удлинились до надобности И натянулись, как золотые струны, Будучи закреплены за стропила небесные, Разойдясь вверху, изойдя из одного основания. Совершив дело, птица слетела к отроку, На лету задевая струны и настраивая ладно, И, слетев, сказала: “Сядь в отдалении, Я буду петь, и будут вторить струны, А ты открой уши и внимательно слушай”. О отрок задумчивый, запомни эти песни, Ибо мы не ополчены и не услышим птицы, Но ты – певец, и тебе струны снаряжены ею. О отрок цветущий, стебли пальцев твоих гибки, И дыхание матери в концах их, И дуновение звуков приглашает тебя, И ты удостоился зреть птицу. О, будь памятлив и не пророни ничего, Но повисни на ее голосоведении. Углуби вздох, обопри голос и не разинь рта, Дабы не вширь, но вдаль пронеслось твое пение, Ибо мы за далью долин, но приготовили уши. Изумление несказуемое – на отроке: Изменилась страна и городские стены утаены, И лес произрос на месте казни. И птица как дивный образ Стоит, по небу распластавши крылья. И сказала птица: “Возложи персты на струны, Пой, а я воссяду на горнее место; Пой и в бурю, и не отлетит от яблонь цвет”. О отрок задумчивый, и я скажу о твоем пении: Тебя услышит слепец ясновидящий, И могучий пахарь, но не оставит дела, И братья твои побросают лопаты, И Юния подойдет и останется жить. Ты же почти юноша, но не возмужаешь, Но лес возрос и ты окружен им; И тучи, протекая над тобой, мелко разделятся, Распустившись перистыми облаками, И не ветер, но волнение звуков колебнет воды, Я же здесь – за пределом, Но и мне, о упоение мечты, о свет невечерний.Вклейка
Лондон, Галерея Тейт. Мозаичный пол с решеткой в зале Блейка, 1923 г.
Лондон, Банк Англии. Мозаичные медальоны, 1931 г.
Лондон, Национальная галерея, западный вестибюль. Мозаичная серия «Труды жизни», 1928 г.
Лондон, Национальная галерея, восточный вестибюль. Мозаичная серия «Удовольствия жизни», 1929 г.
Лондон, Национальная галерея, лестничная площадка главного входа. «Пробуждение муз», 1933 г.
Лондон, Национальная галерея, северный вестибюль. Мозаичная серия «Современные добродетели», 1946–1952 гг.
Лондон, Вестминстерский собор, капелла Святого Павла, 1965 г.
Маллингар, графство Уэстмит, собор Господа Иисуса Христа. Вверху: св. Патрик, внизу: св. Анна, 1954 г.
Портрет Мод Рассел в виде ангела Моттисфонта. Фрагмент мозаичного панно, установленного рядом с ее загородным домом Моттисфонт-Эбби (аббатство Моттисфонт) в Гэмпшире, 1946 г.
Сноски
1
Оригинал этого отрывка по-русски не сохранился. Здесь и в следующей цитате приводим “обратный” перевод с английского.
(обратно)2
“Там никого” (нем.).
(обратно)3
Мастер на все руки (фр.).
(обратно)4
Следующий далее текст приводится в сохранившемся русском оригинале.
(обратно)5
Драма П.-Б. Шелли “Освобожденный Прометей” (1820).
(обратно)6
Литтон Стрэчи (1880–1932) – английский писатель и литературовед, мастер биографического жанра, автор жизнеописания королевы Виктории и известных людей ее эпохи (“Выдающиеся викторианцы”, 1918).
(обратно)7
“Дети, кухня и церковь” (нем.).
(обратно)8
Руритания – в романах Энтони Хоупа (1863–1933) якобы существовавшая до Первой мировой войны вымышленная европейская страна, где процветали интриги мелодраматического и романтического свойства.
(обратно)9
Бесхвостая гадюка (фр.).
(обратно)10
Бал четырех искусств (фр.).
(обратно)11
Здесь: в виде набедренной повязки (фр.).
(обратно)12
В курсе (фр.).
(обратно)13
В английском тексте Б. Анрепа стоит “Celline” – то ли искаженное Cellini (Челлини), то ли искаженное Céline (Селин).
(обратно)14
В обратном переводе с английского.
(обратно)15
Вирджиния Стивен, впоследствии вышедшая замуж за Леонарда Вулфа, прославилась как модернистская писательница Вирджиния Вулф. Вокруг нее, а также писателя Э. М. Форстера, Л. Стрэчи, философа и математика Б. Рассела, экономиста М. Кейнса сформировалась Блумсберийская группа (по названию лондонского района Блумсбери, где жила Вирджиния Стивен).
(обратно)16
Жизнерадостность (фр.).
(обратно)17
По-видимому, намек на орфографические ошибки, которые были свойственны Анрепу в первые годы жизни в Англии.
(обратно)18
Боже мой! (фр.)
(обратно)19
“Дерьмо” (фр.).
(обратно)20
“Священное дерево” (фр.).
(обратно)21
“Человек, строящий колодец, чтобы напоить скот” (фр.).
(обратно)22
Льюис Перси Уиндем (1884–1957) – английский художник и писатель, основатель вортицизма (ответвления кубизма).
(обратно)23
Боже мой! (фр.)
(обратно)24
Не доверяй легкой страсти! (фр.)
(обратно)25
Сиккерт Уолтер Ричард (1860–1942) – английский живописец-импрессионист.
(обратно)26
Ныне фешенебельный район на севере Лондона, частично сохраняет характер живописной деревни.
(обратно)27
Анреп в этот период все еще плохо владеет английским, его письма полны орфографических и стилистических ошибок. В переводе мы эти огрехи сгладили.
(обратно)28
Большие мягкие диваны.
(обратно)29
Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 12.
(обратно)30
Найман. С. 115.
(обратно)31
Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000. С. 125–126.
(обратно)32
См. Приложение.
(обратно)33
В “Свиной книге”, то есть книге из свиной кожи в синем переплете, посетители “Собаки” писали автографы: поэты сочиняли экспромты, художники делали зарисовки. Книга пропала в годы революции.
(обратно)34
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 513.
(обратно)35
Найман. С. 118.
(обратно)36
Найман. С. 116.
(обратно)37
К моменту перевода книги письма Василия Константиновича оказались утраченными, поэтому приводим обратный перевод с английского на русский.
(обратно)38
Для стиля эпохи королевы Анны характерны здания из красного кирпича с простыми линиями в классической манере.
(обратно)39
Супружеская постель (фр.).
(обратно)40
См.: Приложение (Борис Анреп. О черном кольце).
(обратно)41
Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1. 1924–1925. Paris: YMCA-PRESS, 1991. С. 41.
(обратно)42
Лесопарк на северной, возвышенной, окраине Лондона.
(обратно)43
София Николаевна Меренберг (в браке графиня Торби; 1868–1927).
(обратно)44
Маленький мальчик (фр.).
(обратно)45
Все это не важно (фр.).
(обратно)46
Лондонское просторечие.
(обратно)47
Дейвид Герберт Лоренс (Лоуренс) (1885–1930) – английский писатель, автор знаменитого романа “Любовник леди Чаттерлей” (1929), считавшегося непристойным.
(обратно)48
Мейфер – фешенебельный район Лондона.
(обратно)49
5 ноября в память о раскрытии порохового заговора, когда должен был быть взорван английский парламент, сжигается чучело заговорщика Гая Фокса.
(обратно)50
Место публичной казни в Лондоне существовало в течение 600 лет до 1783 года.
(обратно)51
Перевод Бориса Пастернака.
(обратно)52
Название стиля архитектуры и мебели, относящегося к периоду правления четырех королей от Георга I до Георга IV, то есть с середины XVIII века до 30‑х годов XIX века.
(обратно)53
Англ. kiss in the ring – старинная сельская игра, в которой поймавший целует пойманную.
(обратно)54
Самый верный муж (фр.).
(обратно)55
Пословицы ада из поэмы У. Блейка даны в переводе А. Сергеева.
(обратно)56
Ныне площадь Шарля де Голля.
(обратно)57
Ландыш (фр.).
(обратно)58
“Три каштана” (фр.).
(обратно)59
К моменту, когда делался перевод, русский текст завещания оказался утрачен, поэтому дается обратный перевод с английского.
(обратно)60
Vittenborn G. The Mosaics of Jeanne Reynal. 1964.
(обратно)61
Так англичане называют Банк Англии.
(обратно)62
Ведущий лондонский клуб консерваторов. Основан в 1832 году герцогом Веллингтоном в противовес клубу вигов “Реформ”.
(обратно)63
Главный лондонский рынок фруктов, овощей и цветов, существовал с 1661 по 1974 год.
(обратно)64
Женский колледж Оксфордского университета, основан в 1879 году.
(обратно)65
Экзамен сдается в приготовительной школе в возрасте 13 лет для поступления в привилегированную частную среднюю школу.
(обратно)66
Мередит Джордж (1828–1909) – английский писатель и журналист.
(обратно)67
Все слова написаны с орфографическими ошибками.
(обратно)68
“Не трогать!” (нем.)
(обратно)69
Консьержка (фр.).
(обратно)70
Я не знаю, что делать (фр.).
(обратно)71
Вот уж поистине! (фр.)
(обратно)72
Клянусь вам! (фр.)
(обратно)73
Флеминг Иэн Ланкастер (1908–1964) – автор романов о Джеймсе Бонде.
(обратно)74
Святое сердце (лат.).
(обратно)75
Персонаж пьесы Дж. Фаркера “Хитроумный план щеголей” (1707), перен. щедрая богатая дама.
(обратно)76
1 пинта составляет приблизительно пол-литра.
(обратно)77
Так у автора. – Ред.
(обратно)78
Парсы – члены религиозной общины Индии, потомки зороастрийцев, пришедших из Ирана.
(обратно)79
Свиная пикантная колбаса.
(обратно)80
Другое название: мускусная дыня.
(обратно)81
Помощница по хозяйству (фр.); иностранки, обыкновенно работающие за квартиру и стол, обучаясь одновременно языку.
(обратно)82
Фешенебельный курорт с минеральными источниками в графстве Кент.
(обратно)83
1 акр равняется 0,405 гектара.
(обратно)84
Джейн Остин (1775–1817) – английская писательница, автор нравописательных романов “Нортэнгерское аббатство” (1803), “Чувство и чувствительность” (1811), “Гордость и предубеждение” (1813).
(обратно)85
Оптическая иллюзия, обман зрения; как прием в архитектуре – ложные двери, балконы и т. п.
(обратно)86
Королевский колледж (Кингз-колледж) – самостоятельное высшее учебное заведение в составе Лондонского университета.
(обратно)87
Букв.: “Жарко, не так ли?” (англ.)
(обратно)88
“Завтрак на траве” (фр.).
(обратно)89
Анреп Б. // Ахматова А. Сочинения / Общ. ред. Г. Струве. Т. 3. Paris: Ymka-Press, 1983.
(обратно)90
Сохранена орфография рукописного подлинника. (Прим. ред.)
(обратно)

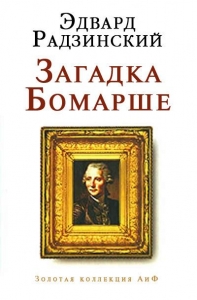

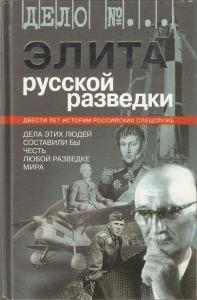



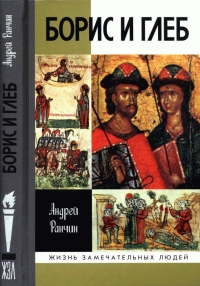

Комментарии к книге «Приключения русского художника. Биография Бориса Анрепа», Аннабел Фарджен
Всего 0 комментариев