Шумят леса Хинельские
О ДРУГЕ И ТОВАРИЩЕ
Уже само название повести — «Шумят леса Хинельские» — переносит нас в брянский край, куда пришел дорогами войны после первых боев на Западе топограф-разведчик артиллерии Анатолий Инчин. Он познал ранение и госпиталь, пытки в гестапо и расстрел на Стародубском кладбище.
В начале 1942 года лейтенант Инчин вступает в Эсманский партизанский отряд и связывает свою судьбу с брянскими, украинскими и белорусскими партизанами. Он становится командиром орудия, затем начальником разведки, начальником штаба, а с конца 1942 года — командиром Первого Хинельского кавалерийского партизанского отряда. В составе конного партизанского соединения участвует в знаменитом Степном рейде по южным районам Украины.
В боях и походах, беспримерном партизанском рейде Анатолий Инчин и приобрел то необходимое, что позволяет ему быть особенно правдивым, искренним и точным во всем. Сказать о партизанской борьбе нечто свое, по-особенному проникновенное и неподдельное.
В книге «Шумят леса Хинельские» автор с большой любовью выписал образы разведчиков, своих боевых товарищей и земляков из Мордовии Николая Калганова и Васи Дмитриева, украинцев — комиссара Анисименко, Николая Коршка и девушки Любы, русских юношей — братьев Астаховых, которые, побеждая трудности, неудачи, учась на собственных ошибках, постигали искусство борьбы с врагом, учились боевому товариществу, любви и ненависти, умели быть дружными и стойкими в любых условиях. Их боевая жизнь, хотя и овеяна увлекательной романтикой, — не надуманное сочинение автора. Последний только повествует о том, что было на самом деле в Хинельских лесах, на меже России с северо-восточной Украиной.
В книге рассказывается о действиях Эсманского партизанского отряда на протяжении весны, лета и осени сорок второго года, то есть до той поры, для которой будут характерны глубинные партизанские рейды.
Меня радует выход в свет правдивой повести о трудной, но славной борьбе советских людей во вражеском тылу в годы гитлеровского нашествия, книги о партизанской борьбе, которую, вне сомнения, с большим интересом прочтут все, особенно юные читатели, черпающие из партизанских книжек познания о непобедимых героях, народных мстителях.
М. Наумов,
бывший командир партизанского соединения,
Герой Советского Союза
ОКРУЖЕНЦЫ
Где-то далеко на северо-востоке глухо гремит канонада. Это бьют вражеские орудия вслед прорвавшимся полкам и эскадронам, которые уходят все дальше, на соединение с фронтом.
Кладбищенским холодом веет от поляны со скрюченными станинами, изуродованными лафетами и рваными стволами — ненужным теперь ломом.
У меня пусто на душе: только что мы взорвали свои орудия. И хотя мы выполняли приказ, я испытываю такое чувство, будто совершил преступление. Десять моих товарищей сидят сумрачные, угнетенные, стараясь не глядеть друг другу в глаза.
Итак, мы одни… Догнать своих уже нет возможности. Самостоятельно пробраться к фронту — свыше двухсот километров по прямой — еще труднее.
Я знаю, что все дороги, все населенные пункты до самой Москвы забиты немецкими войсками. Немцы стремятся до зимы закончить войну. Сделать, как они говорят, «блицкриг»… А до больших снегов осталось совсем недолго: поля давно опустели, лес стоит темный, неприветливый.
По ночам в лесу бродит зима. Содрогаются от холода последние листья и опадают на затвердевшую, как камень, землю. Ветер подхватывает их, кружит в бешеной пляске, разбрасывая по просекам и полянам, снова поднимает в воздух…
Пятые сутки блуждаем мы по урочищам и болотам. Широкая грязная полоса проломившейся ледяной корки отмечает наш след. Бойцы молча идут за мной, шатаясь от усталости и голода. Сдает даже здоровяк-уралец Саша Быков. Надолго ли хватит сил?
Леса окружены заставами гитлеровцев. Нашего брата ловят и бросают в концлагеря. Нам уже встречались несколько разрозненных групп. Среди них были и такие, что успели побывать в концлагере на станции Навля…
— Лучше погибнуть в бою или подохнуть от голода, чем в плен к фашистам! В деревнях не появляйтесь: сплошь они, вражины, хозяинуют.
Я слушаю рассказ человека, убежавшего из концлагеря, и в памяти всплывают слова: «Командир Красной Армии живым не сдается в плен…» Что кроется за этим предостережением — понятно. Откуда они, эти слева? Из Устава или приказа Верховного главнокомандующего?.. Да это и неважно. Для меня, действительно, самым страшным был бы плен. Не дай и не приведи! Лучше пистолет к виску, чем это.
Смотрю на товарищей, и острая боль пронизывает сердце. Вот ленинградец Лева Хлапов, лейтенант, совсем еще юноша, мой помощник. Хрупкий, с нежным девичьим лицом и печальными глазами. Незадолго до окружения прислан в артиллерийский полк нашей дивизии. У него замечательный голос. Однажды после боя я слышал, как он исполнял арию Игоря. Он пел для себя, вполголоса. Я был потрясен! Да и не только я: Лева покорил всех, кто слушал его… Попади он в плен, что с ним, евреем, сделали бы враги?!
На исходе шестых суток, совсем обессиленные, мы наткнулись на группу бойцов. Они оказались «богачами»: у них в запасе была еще половина лошади.
Лева Хлапов брезгливо отворачивается.
— Попробуй, лейтенант, копыто, — ребята нарочно разыгрывают его. — Ничего, что без маникюра: знай, глодай!..
Мы жарим шашлык — кто на штыке, кто на шомполе или просто на прутике. Соли нет. Половина куска получается сырой, половина — обгорелой. Ждать некогда: страшно мучает голод.
Я кинжалом отбил на пеньке кусок мякоти и сварил в каске. Потихоньку сунул Леве. Тот нехотя начал жевать. Потом сам стал жарить себе кусочки. Голод — не тетка: заставит…
Нас собралось человек шестьдесят. Один — врач из соседней кавалерийской дивизии, мой тезка — Анатолий. Были тут и воентехник, и начфин, и командиры взводов — все из разных частей. Стали решать, как быть: сидеть на болотах или выбираться из окружения? Без долгих споров надумали уходить из лесов. А куда? Впереди Навля — река глубоководная. На мостах — охрана. Половина из нас — больные, истощенные до последней степени… Выход один — надо искать брод. Отправились мы с Анатолием, два тезки, два офицера.
На противоположной стороне поляны промелькнуло несколько силуэтов. Почему прячутся, кто они?
— Хальт! — крикнул доктор, посчитав неизвестных за немцев. Выхватив из кобуры пистолет, побежал наперерез. Я за ним.
— Пан, я не воевал с вами. Меня насильно… Я ни разу не выстрелил по германцам. Своего ротного тюкнул в спину. А этих вот в плен повел к вам. Мне с Советами не по пути.
Перед нами стоял обросший волосами детина, винтовка наизготовку. Два его безоружных товарища, покорно подняв руки, ожидали своей участи. Они были измождены до предела, потеряли человеческий облик. Посчитали нас за гитлеровцев: мы в трофейных офицерских плащах. И вот результат. Это же не советские бойцы, а шкурники. Трусы. Верзила с винтовкой, конвоировавший однополчан к немцам, — откровенный враг. Труп его остался тут же на поляне.
Ночь… Легко скрипит снег под разбитыми сапогами. Глухая стена леса позади. А впереди, на противоположном берегу Навли, чуткая, настороженная тишина.
Доктор шепчет:
— Пора, лейтенант.
Немудрящие солдатские пожитки свернуты в шинели и плащ-палатки. Узлы увязаны ремнями и подняты над головами. У каждого в руке длинный шест.
Лезу в воду, за мной гуськом — остальные. Чувствую, как спирает дыхание, деревенеет тело. Осторожно обламываю корку льда, чтобы не услышали на том берегу, не помешали переправе. Из-под ногтей, наверное, сочится кровь: пальцы обжигает и саднит. Правая рука дрожит от напряжения: надо держать еще и узел над головой.
Застыла ночь, остановилось время. И кажется, не будет ни конца ни края этой проклятой реке. Вот-вот выпущу узел. Но стискиваю зубы, иду. Позади товарищи, многие слабее меня.
Наконец берег. Но это еще не все. Нам, двенадцати человекам, надо попарно стоять в воде, держа на плечах длинные сосновые жерди. По этим жердям, как по мосточкам, будут переправляться раненые и больные.
Переправой командует доктор. Куда девалась его вера в легкую победу? После расстрела предателя он сразу повзрослел…
Мысли прерываются. Коченею и уже не способен пошевелиться. Меня вытаскивают за руки. Кто это? Доктор или Лева Хлапов? Они изо всех сил растирают меня полой шинели. Рядом также растирают друг друга товарищи. Кто-то подпрыгивает, приседает, чтобы согреться. И все это тихо, без лишнего звука. Кое-как оделись. Бежим за доктором вдоль железнодорожного полотна.
Кажется, мы вырвались из окружения. Что ждет нас впереди?
В курской степи мы нарвались на минное поле. Двоих убило наповал, мне посекло осколками ноги. Идти самостоятельно я не мог. Помогали Лева и моложавый капитан-пограничник Михаил Наумов, примкнувший к нам накануне. Он пробирался к фронту с Карпат.
— Отлежись, лейтенант, — уговаривал он. — Успеешь еще навоеваться. На наш век хватит лиха!..
В одной деревеньке, вдали от шоссейной дороги, он устроил нас с Левой у местных жителей. На прощание сказал:
— Держитесь, братцы, не падайте духом… Авось еще увидимся. На войне всякое бывает.
Мы остались с Левой одни. Это было в декабре.
Среди местных ходили самые невероятные слухи. Чего только не наслушались: пока мы два месяца дрались, а потом блуждали в окружении, немцы якобы захватили Москву и германские войска победоносно шествовали на Урал. В немецких «документальных» фильмах даже показывали парад победы на улицах Свердловска. Советское правительство вместе со Сталиным бежало не то в Америку, не то в Африку…
— Неправда! — твердили мы. — Не может быть! Не погибла Советская власть! И не погибнет!
— Да ведь и мы не очень-то верим. Всяко болтают… Не знаешь, кого и слухать…
Слухи, конечно, оставались слухами. Но дела на фронте и в самом деле не радовали. Гитлеровцы рвались на восток.
— Лева, нам пора в путь, — приставал я ежедневно к нему.
Тот, делая неуклюжие перевязки, внимательно осматривал раны на моих ногах и отрицательно качал головой:
— Еще не пора.
— Может быть, перейдем фронт, выйдем к своим.
— Все может быть, только немного позже. Лучше послушай «Варяжского гостя»…
Слушать Левино пение собиралась по вечерам полная изба людей. Делились новостями, но толком никто ничего не знал. Было ясно одно: враг силен, Красная Армия отступила далеко на восток, в села пришло лихо…
И настал день, когда нас проводили в путь. Надавали советов, снабдили табаком и котомками с продуктами.
Шли мы на восток — из села в село. И везде видели «новый порядок», с виселицами на площадях, с приказами фельдкомендатур и портретами фюрера на заборах… Спешили: скорее бы выйти к своим.
«Наши знания и опыт еще пригодятся и а фронте, — думал я, считая себя обстрелянным бойцом. — За моими плечами участие в освобождении Буковины, польский поход и Литва. Да и первые дни войны тоже кое-чему научили. Авось и выполним, что задумали! Вперед же, друг Хлапов, шагай веселей!..»
Невдалеке от Брянска мы вышли к лесокомбинату.
— Влипли! — прошептал, бледнея, Лева.
Куда ни ткнись — гитлеровцы.. Отступать поздно: нас сразу заметили молодчики с черепами на шевронах. Эсэсовцы!
— Хальт! — закричал чернявый в шинели с меховым воротником. — Хенде хох! — Он вытащил пистолет и направился к нам. С ним шло десятка полтора автоматчиков.
— Партизанен? Юда?! Комиссар? — кричали они, отбирая у нас пистолеты.
— Рус капут! — эсэсовец направил на нас пистолет.
«Конец! — пронеслось в голове. — Как нелепо…»!
Офицер потыкал в нас пистолетом, сказав «Паф-паф!», и ушел, что-то приказав одному из солдат. После нескольких оплеух мы очутились в сарае.
Как только захлопнулась дверь и прогремел ржавый засов, мы принялись ощупывать стены. Они были толстые, прочные. Время еще не источило, не иструхлявило бревна. А вот пол… Пол земляной..
Раньше в сарае, должно быть, хранили живицу: воздух был пропитан устойчивым запахом сосны, березовой коры и скипидара. Но теперь, кроме нескольких старых рассохшихся бочек, здесь ничего не было.
Лева сразу понял меня. Где-то в углу он нашел обломок обруча. Рыли землю по очереди. Один обломком обруча, другой руками. Потом менялись. Хорошо еще, земля в сарае промерзла неглубоко.
Снаружи ходил, грохоча сапожищами, часовой. Он охранял танки во дворе и попутно прохаживался возле сарая.
Приплясывает на морозе, чертыхается. Вперемежку с ругательствами мурлычет модную песенку о красавице Жанне. Лева, знавший немецкий, уловил смысл песни. Значит, солдат побывал во Франции. Бывалый вояка. Самоуверенный и, кажется, не очень бдительный. И нам это на руку.
К рассвету подкоп был сделан. Но лаз оказался узким. Пришлось снять одежду. Лева вылез наполовину, долго прислушивался. Тихо. Наверно, солдат пошел греться. Хорошо, если так. А если он просто дремлет? Но время не ждет. Легонько подталкиваю Леву: «Пошел!» За ним ужом ползу между танками, рискуя ежеминутно нарваться на часового.
Только далеко за лесокомбинатом, где начинался пустырь, мы осмелились перевести дух. Огляделись, прислушались и, еще не веря в свободу, пошли, постепенно ускоряя шаг. Потом побежали… Скорее, скорее, как можно дальше отсюда!.. Когда отмахали, наверное, километров пятнадцать, только тогда поверили: на этот раз действительно повезло.
На третий день дорога привела нас к хате лесника. Но этого я уже не помнил: из открывшихся ран на ногах стали выходить осколки. Я потерял сознание. Позже я узнал, как Лева, вытащив из ран куски окровавленного железа, перевязал мне ноги, разорвав на бинты свою сорочку. О том, что тащил меня на себе несколько километров, совершенно обессилевший, с обмороженными руками, умолчал. Об этом рассказала жена лесника, немолодая женщина.
Вот тебе и Лева! А я-то считал его маменькиным сынком…
Почти полмесяца лесник скрывал нас, лечил.
— Утиное сало — самое верное дело против заражения, — говорил он. — Надо его перетопить да потолще слоем намазать на рану. Как рукой снимет. — И он забивал уток на лекарство и бульон.
Жену, больную чахоткой, лесник лечил барсучьим салом:
— Если б не это, — говаривал он, — моя Дашенька давно бы богу душу отдала. А она, вишь ты, каким молодцом у меня!
Даша слабо улыбалась. Она-то знала, что дни ее сочтены. Мы не находили слов, чтобы отблагодарить за приют. Лесник мог пострадать из-за нас, совершенно чужих ему людей.
— Полноте, — отмахивался тот. — Мы же свои, русские.
Настал день, когда мы с Левой сердечно простились с лесником и его Дашенькой. Наш путь лежал в Украинское Полесье, на запад. Там могли быть партизаны.
— Люди укажут. Когда человек чист мыслями, ноги сами отыщут дорогу к цели. Найдете, что ищете. — Лесник протянул Леве свои карманные часы — два года назад получил в награду за хорошую работу. Мы знали, как гордился он и дорожил этим подарком.
— Ни за что не возьму, — наотрез отказался Лева. — Это же памятный подарок.
— Бери, бери, парень. Мне они ни к чему. А вам могут пригодиться. Мало ли что в дальней дороге случится. Народ разный… — Он не договорил, но мы хорошо поняли его.
Лева принял часы и спрятал их.
— А это тебе. В лесу после боя подобрал. — На мою раскрытую ладонь бережно, опустил маленький офицерский «вальтер».
На нашем многотрудном пути встретилось немало вот таких бескорыстных, бесхитростных людей. Они готовы были поделиться крошкой хлеба, последней рубашкой. Встречались люди и злые, темные. Но таких было мало.
ПОДПОЛЬЩИКИ
С каждым днем мы приближались к стыку Брянщины с Украиной и Белоруссией. Говор людской здесь был своеобразен, не совсем нам понятный. Скамью, например, называли ослоном, теплую воду — окропом, а картофель — бульбой.
Чудом вырвавшись из лап эсэсовцев, мы с Левой стали осторожнее. В крупные села, если их нельзя было обойти, заходили только ночью, да и то задворками.
В Назаровку мы тоже прокрались поздней ночью. Сразу и не поняли, что это такое: большое село или рабочий поселок. Мы не знали, что здесь придется застрять надолго.
Примечателен поселок был тем, что в нем находился большой спиртзавод. Окна его корпусов полыхали электрическим светом — завод работал, как и прежде.
Кадровых рабочих на заводе почти не осталось — ушли на войну. Использовали пленных красноармейцев. Их набралось человек пятьдесят. Жили они в бараке при заводе под охраной немца и полицаев.
Об этом мы узнали от хозяйки избушки, где остановились на денек отдохнуть и залатать ветхую одежонку. Но под вечер у меня начался озноб, поднялась температура. Вдобавок ко всему сказалась и контузия, полученная в первые дни войны в Литве: словно кто-то беспрерывно колотил обухом по голове.
— Пришла беда — отворяй ворота! — огорчился Лева.
Он долго еще говорил что-то, но смысл его слов не доходил до меня. Вместе с хозяйкой он готовил мне компрессы, поил отваром какой-то травы.
— Придется идти на завод, проситься на работу, — решил Лева. — Хоть кусок хлеба для больного приносить буду… А вечером попробую разыскать фельдшера…
Лева без труда устроился к механику Пёскину подсобным рабочим.
— Туго приходится немцам в Подмосковье, — сказал он однажды. — Стоят небывалые морозы. Назаровский спирт их здорово выручает. Пьют фрицы и благодарят тех, кто гонит для них ректификат…
Отогревшись на широкой печке, Лева торопливо натягивал на худые, почти детские плечи ветхую одежонку и бежал на поиски медика.
После долгих неудач ему все-таки посчастливилось разыскать фельдшера. Фамилии его никто не знал, имени тоже. Те, кто имел с ним дело, величали его доктором. Обосновался он в поселке, километрах в четырех от Назаровки, принимал пациентов у себя на дому, но охотнее сам ходил по селам. Леве повезло, и однажды вечером он притащил его на нашу квартиру.
Доктор долго сидел возле меня, что-то ворчал себе под нос, вздыхал.
— Да-с, молодые люди, дела ваши не из блестящих. Тут надо подумать… По-ду-мать!..
За труды Лева предложил карманные часы — подарок лесника.
— Со своих мзды не беру! — с негодованием отверг доктор подношение и ушел, не позволив проводить себя. А на следующий вечер принес сумку с продуктами…
— Больному, — коротко бросил он. — Прогреваться, натираться и питаться.
Мы поняли, что никаких лекарств у добряка нет. Перевязал он меня тряпицами, нарезанными, по-видимому, из простыни. Вместо натирания оставил флакон спирта.
Доктор стал бывать у нас довольно часто, и скоро мы по-настоящему привязались к нему. Коротконогому, розовенькому, ему можно было дать и сорок лет, и шестьдесят. В минуты душевного подъема он как-то очень уж простодушно улыбался. Но такое случалось редко. Чаще доктор бывал мрачным. Ни к кому определенно не обращаясь, мог озадачить вопросом, вроде: «Короста у людей появилась, мыла нет. А с кого спрос?» Или скажет, как выстрелит: «Опять пленного красноармейца полицаи избили на заводе. Многотерпивы-ы…» И долго с укоризной качал коротко остриженной головой.
Несмотря на заботы лекаря, хвороба меня не отпускала. Лежать на печке надоело. Книжку бы хоть какую ни есть, да разве теперь сыщешь ее, книжку? Фашисты уничтожили библиотеку и ничего, кроме библии, читать людям не разрешали. Хорошо, хоть Лева и доктор делились новостями, рассказывали о том, что делается в Назаровке и ее окрестностях.
— Кто-то опять двух полицаев кокнул на дороге, — вскользь бросал доктор. — Пьяны были… Может, сами передрались.
— Обоз со спиртом, говорят, подожгли. Не дошел до немцев…
Потирал руки, перекатывался от меня к Леве, то есть от печки к лавке, изредка улыбался и, по обыкновению, ставил нас в тупик своими вопросами-загадками.
Чудным и непонятным казался нам этот человек. Когда он выходил за дверь избы, мы долго молчали, пытаясь докопаться до сути заданных нам вопросов: доктор хотел знать, откуда мы родом, где учились, работали и воевали, что видели в тылу гитлеровцев, как воюют немцы и еще разные разности. Потом Лева начинал рассказывать о заводе.
— Пленных красноармейцев обратили в рабов. А они не хотят работать на врага, вредят где только можно. Их насмерть забивают, но многих не останавливают ни побои, ни угрозы. Есть крепкие духом парни, чувствуется, накалены до предела, в любую минуту готовы вспыхнуть, как порох, только спичку поднеси. — Нерешительно прибавлял: — Надо бы что-то сделать…
— Что предлагаешь?
— Сам не знаю толком. Может, завод взорвать? — Лева воодушевлялся: — На-кась, фриц, дулю тебе под нос, а не спирт с назаровского завода! Пленных бы увести за Десну — там, по слухам, появляются партизаны…
Но это были только мечты. Мы понимали совершенно ясно: одним нам не справиться. А что если посоветоваться с доктором? Или повременить немного? Кто знает, как он отнесется к такому делу? Да и что он за птица? До конца его пока не раскусили.
Лева рассказывал мне о вольнонаемных: о кочегаре Борисе, бывшем комсорге завода; Николае Щеглове — таком же, как мы, окруженце и тоже командире Красной Армии; о красноармейце Джураеве и армянине Серго. Все они работали в паросиловом цехе. Особый интерес для нас представлял помощник Пёскина — сменный механик Виктор, сын фельдшера.
Виктор был полнейшей противоположностью отца. Высокий, худой, с маленькой головой на длинной шее, он редко обращал свой единственный глаз на окружающих. Если и глядел на кого, то с таким видом, будто перед ним была пустота. На работе у него все шло через пень-колоду, и, хотя он старался выслужиться перед начальством, все-таки большинство аварий случалось в его смену. Тогда он рвал и метал, кричал до хрипоты, бестолково размахивая кулаками.
— Гусак, свёлоч! — в свою очередь орал на Виктора управляющий-немец. — Ти есть саботаж! Тебя надо вешаль!..
Виктор опасливо притрагивался к длинной шее, постоянно обмотанной теплым шарфом, беспомощно разводил руками.
— Что я могу поделать, пан управляющий? Стараюсь… Не доглядел. Виноват…
— Тибе еще один глаз надо выбивайт, паршива швайна! Тогда будешь хорошо доглядел.
После очередного разноса Виктор задыхался, сжимая кулаки, и поминутно хватался за шею, будто уже чувствовал на ней холод удавки.
Лева старался не попадаться на глаза беснующемуся механику. «Заест меня эта одноглазая жирафа. Орет на всех, выслуживается…»
К удивлению Левы Виктор взял его из холодного тамбура на завод учеником кочегара. Лева быстро освоился с новыми обязанностями, привык к припадкам ярости начальства и довольно равнодушно переносил их.
Как-то Лева увидел гаечный ключ, оставленный Виктором в кожухе мотора, и закричал:
— Мотор искалечится!
Вместо благодарности механик так взглянул на нового кочегара, что тот сразу прикусил язык.
Другой случай окончательно раскрыл «нутро» сменного механика, а заодно дал повод к разгадке частной практики «доктора», его отца.
Было так.
Виктор стоял возле котла и следил, как Лева шурует в топке. Кусочек раскаленного торфа угодил ему в валенок. Запахло паленой шерстью. Перепугав Леву, механик нелепо задрыгал ногой, стараясь сбросить валенок. Горящий торф заваливался все дальше, рассыпаясь на мелкие, жалящие крошки.
Лева сдернул с механика валенок. Вместе с золой и тлеющими торфинками на рубчатый металлический пол котельной выпали бумажки. Лева мельком глянул на них и от удивления раскрыл рот: ведь это копии текста Совинформбюро, размноженные от руки!
— Так вот ты кто! — вырвалось у Левы.
Случай помог напасть на след подпольной группы. У них был приемник, и подпольщики регулярно слушали Москву. Листовки и сводки с фронтов переписывала молодая коммунистка Аленушка. Виктор возглавлял заводскую группу вольнонаемных. В ней были и пленные красноармейцы.
Подпольщики поджигали спирт, когда немцы его отвозили подальше от Назаровки. Они же ликвидировали полицаев и немецких солдат.
— А если сделать сразу побольше, не размениваясь по мелочам? — спросил я однажды доктора.
Тот понял намек.
— Завод?
— Да, доктор. Подумать, приглядеться — и…
— Такой план есть. Да исполнить трудновато.
— Надо попытаться. Пусть Виктор проведет меня на завод.
Прошло недели две. Мне несколько раз удалось побывать на заводе, осмотреть сложное хозяйство котельной.
Подготовка к диверсии завершалась. Наступил ответственный день.
Я невольно отступил от гудевшей топки. Огненные языки пламени вырывались через глазок дверцы. Котел дрожал под могучими толчками пара. Усилив тягу, Лева все быстрее взмахивал лопатой, подбрасывая в раскрытую пасть топки сухой торф. Потом он исчез, а я остался возле манометра. Стрелка стремительно поднималась вверх, миновав красную черту. Из темноты вынырнула неуклюжая фигура Виктора. Он сбросил шарф, повернул какие-то колесики, рычажки и скрылся.
— Давай! — услышал я его голос. — Лезь наверх, кувалда там… Не мешкай.
По металлической лесенке я взобрался на верхнюю площадку котла. Лихорадочно спешил, волновался. Кувалда дрожала в руках. Казалось, я слышал не ее удары, а толчки собственного сердца. Еще несколько минут — и дело будет сделано. Наверно, Лева уже вывел ночную смену из цехов, а комсорг Борис, Николай Щеглов и армянин Серго обезоружили охрану, сняли пост в проходной. Джураев и остальные должны уже быть в конюшне. Резвые заводские кони быстро домчат нас до Десны, а там — партизаны!
Резкий толчок бросил меня вперед.
«Опоздал! — оглушила мысль. — Вот он, взрыв!»
Падая на груды торфа, в последний миг я увидел на верхней площадке хохочущего немецкого автоматчика. Это он пинком сбил меня сверху.
Меня втолкнули в темную кладовую, и я услышал слабые стоны. Постепенно стал различать силуэты людей, распростертых на полу.
— Еще один, — донеслось из угла. По голосу определил: Виктор.
— Все кончено, лейтенант, капут нам: кто-то предал. — Подвинулся, освобождая место. — Садись, в ногах правды нет.
Я не мог ни говорить, ни шевелиться. Голова кружилась, тело ныло. Мысли проносились, опережая одна другую…
Кажется, план был разработан до мельчайших подробностей, каждая мелочь учтена. И вот… В чем наш промах, где и что именно недосмотрели? Или враг проник в среду подпольщиков и в последний момент нанес удар в спину? И опять вопросы: «Где Лева? Кому удалось скрыться? А не повинен ли Пёскин в нашем провале? Он, кажется, не за страх служил гитлеровцам…»
— Лейтенанта на допрос, — прервал мои мысли хриплый голос полицая.
Допрашивали долго и нудно. На первых порах военный следователь говорил вежливо, даже слишком.
— Нам давно известно о ваших делах, господин комиссар.
«Почему комиссар? — подумал я. — Им же хорошо известно, что я строевой командир».
— Рекомендуем быть более сговорчивым. На кой черт жалеть вам весь тот сброд в подвале? Вы же интеллигентный человек, вам надо быть выше их, назовите виновных, в этом ваше спасение. В конце концов, своя рубаха ближе к телу. Так, кажется, у вас говорят?
Слова его назойливы и липки, лезут в уши, занозами вонзаются в сердце.
— Не сомневайтесь, не стоит, — мое молчание гитлеровец расценил как колебание и заговорил увереннее. — Против фактов, как говорят, не попрешь. У нас есть улики о ваших связях с подпольщиками, партизанами и пленными на заводе. Вы ведь не станете этого отрицать, не правда ли? — Он щелкнул зажигалкой. Легкие колечки дыма поднялись к потолку.
Мне так хочется курить! Хотя бы одну затяжку… Может быть, перестала бы болеть голова.
— Вы прямой исполнитель акции на заводе, диверсант. Не один же пошли на такое дело? У вас были сообщники и руководители. Кто они? С кем вы были связаны? Кто руководил организацией? — вопросы стали более конкретными.
Я молчал.
— Кто поджигал обозы со спиртом? Кто нападал на полицейских и солдат фюрера? Рассказывайте! — следователь повышал голос с каждым вопросом. Вот он уже сорвался на крик, выругался.
«Надушен как барышня, делает маникюр, а под ногтями — грязь, — отметил я про себя, продолжая следить за руками фашиста. — Говорят, он бьет неожиданно снизу вверх, под солнечное сплетение. Потом топчет ногами. Пока, кажется, в его намерения это не входит».
Он подвинул мне «дело».
— Полюбуйтесь!
В папке аккуратно подшиты листки сводок Совинформбюро, списки членов нашей подпольной группы. Кроме «доктора», Левы Хлапова, меня и сменного механика Виктора в списке Елена Жаркая — Аленушка, неизвестная мне учительница с хутора, кочегары Борис, Николай Щеглов и Джураев, а также несколько парней из соседних деревень. Они не имели никакого отношения к диверсии, но, по-видимому, тоже были членами нашей подпольной организации. Я понял: предатель кто-то из перечисленных, иначе откуда гестаповцам знать о сельской группе? Ясно и другое: папка с обвинительными материалом заведена только что…
«Кто же? Кто нас предал?» — мучила мысль. Но ответить не мог: не всех знал в организации. «Доктор» строго соблюдал конспирацию, и все нити находились в его руках.
Избитый, долго лежал я на каменном полу. Сил для размышлений не было. Пустота…
Очнулся от настойчивого стука в дверь.
— Выпусти же! — кричал Виктор. — Хочу до ветра! — И снова стук руками и ногами.
Полицай что-то пробурчал за дверью. Я разобрал только слово «капут!».
— Убьют, Виктор! — хотел сказать ему и, кажется, что-то произнес, а что, и сам не расслышал. Сменный механик еще сильнее заколотил ногами в дверь.
Полицай заглянул в подвал и рявкнул:
— Выходи, бандюга! Морочишь тут голову!..
Мы замерли, прислушиваясь к удалявшимся шагам.
Прошло несколько минут. И вдруг — выстрел, немного погодя торопливо застучал автомат.
— Никак сбежал! Ай да молодец, Витюшка!
С трудом повернув голову, я прошептал «доктору»:
— Рад за вашего сына. Ушел-таки Виктор!
— Я тоже рад. Хотя Виктор и не мой сын.
— Вот как?!
Не прошло и часа, как нас вывели на улицу, связали руки и в который раз обыскали. Четверо полицаев открыли борта машин и забросили нас в кузов, словно кули с мукой.
— В Понуровку! — определил «доктор», когда машины вышли за ворота завода. — В район повезли.
Мне тоже знакома эта дорога. Только зачем в Понуровку? Прикончить нас могли и в Назаровке.
В ГЕСТАПО
Из Понуровки нас привезли в стародубскую тюрьму.
До войны в Стародубе был поселок Беловщина. Там жили евреи. Фашисты уничтожили и Беловщину, и ее жителей. Это страшное место стало называться еврейским кладбищем. Его мрачную тишину время от времени нарушали взрывы: гитлеровцы взрывали мерзлую землю — готовили могилы для очередных жертв. А по ночам, пугая одичалых псов, там раздавались сухие щелчки винтовочных выстрелов и автоматные очереди. И шептали тогда старые люди молитвы за упокой душ убиенных…
Злой, колючий ветер, врываясь в разбитое оконце камеры, доносит до тюрьмы приглушенные звуки взрывов. Сегодня это третий… Кто на очереди?.. Не мы ли?
Нашу камеру называют камерой смертников, или проще — «покойницкой». Это бывшая одиночка. В нее набито семнадцать человек, в том числе и девушка, Елена Жаркая, Аленушка, уроженка и жительница Курковичей, что подле Назаровки.
До войны Елена работала техническим секретарем райкома партии. Пышноволосая дивчина с искристым звонким смехом и веселыми глазами, неунывающая, вечно занятая и деятельная, Аленушка оказывала «доктору» немалую помощь: поддерживала связи между группами. Она же размножала и распространяла листовки.
Кроме Жаркой, нас, назаровцев, в камере трое: доктор, я и парень с хутора. Остальных не видели со дня ареста. Нам так и не удалось ничего узнать о них. Особенно меня беспокоила судьба Левы Хлапова.
Жаркая сказала, что когда ее везли из Понуровки в стародубскую тюрьму, мельком видела Хлапова во второй машине. Но не была уверена, что это был именно он: дело-то происходило ночью. Мы пытались узнать, кто сидит в соседних камерах, но безрезультатно.
— Безнадежное дело. Не достучаться…
Это Петр Афанасьевич Самусев — директор школы из Воронка. С подпольем не связан. Случайно оказался снами в «покойницкой», и его ожидает общая участь.
— Как вы-то здесь очутились? — спросил я. — Вы же коммунист, и надо было уйти из села, где вас все знали.
— Стародуб был занят немцами в середине августа, — припомнил Самусев. — Через Воронок на Новгород-Северский отступали наши части. Отходил и наш истребительный батальон. Он распался в окружении, и я вернулся в Воронок. Думал, обойдется как-нибудь. Меня сразу же поставили на учет в комендатуре. А еще через несколько дней предложили работать, как прежде, в школе. Куда было деваться? Пришлось согласиться.
Во мне заговорило профессиональное чувство учителя.
— Чему же обучали детей при фашистах?
— Стыдно сказать, — признался Самусев. — Закону божьему — пионеров… Попа к этому делу приставили. Пьяница беспросыпный и матерщинник. Бил ребят указкой по пальцам, ставил на колени в угол, где были рассыпаны камни… Типичный гестаповец в рясе.
Мы слушали молча. Самусев словно клещами вытягивал из себя слова.
— Вместо Пушкина подсунули «Майн кампф» — как классический образец литературы… Арифметика на одном антисемитизме: «Фриц ухлопал двадцать жидов, а Ганс втрое больше. Сколько жидов ухлопали вместе доблестные солдаты фюрера?»
Самусев заскрипел зубами.
— И это в нашей школе. У нас ведь чудесная была школа… А самодеятельность?! Лучшая в районе. Я сам на всех струнных инструментах играю. И хором старшеклассников руковожу. — Самусев забылся настолько, что рассказывал не в прошедшем, а в настоящем времени.
Я невольно, подумал о себе. До чего же наши судьбы схожи. До призыва в армию тоже работал в средней школе завучем. Тоже играл на гитаре и руководил струнным оркестром. Как мы играли, черт возьми! Все премии на районных олимпиадах, бывало, завоевывали! Но все это — было… И все — прошло…
Воспоминания! Даже их пытаются у нас отнять! Опять стучат в дверь. Снова меня на допрос. Третий сегодня.
Иду вслед за конвоиром. Длинная деревянная ручка гранаты несуразно выпирает из-за поясного ремня полицая. Он тяжело громыхает сапожищами по каменным плитам. Вот остановился. Не поворачивая головы, равнодушно бросает:
— Посторонись.
На повороте два надзирателя с носилками тащат окровавленного человека. Во мне что-то словно оборвалось.
— Лева! — закричал я, бросаясь к носилкам. — Левушка!..
Это была последняя встреча с другом, фашисты забили его насмерть.
Удар в спину подтолкнул меня в камеру пыток, откуда только что вынесли Леву. Это было царство лейтенанта фон Гитмарштайна. Выпуклые глаза, большой горбатый нос и холодная надменность изобличали в нем пруссака. На щегольском френче позванивают медали и Железный крест. На пальце левой руки красуется массивный золотой перстень. Эти детали фиксируются помимо воли. А перед глазами — окровавленный Лева.
Я молчу. Гляжу то на лейтенанта, то на переводчицу. Она протянула руку за сигаретой, облизнула тонким, как бритва, языком накрашенные губы, вопросительно подняла глаза на лейтенанта. Мне показалось, на губах у нее не краска, а Левина кровь.
— Мы много с ним возимся, Густав, — кокетливо тряхнула она головой. — Не забудь, сегодня мы приглашены в гости.
— Юде — комиссар? — резко проговорил фон Гитмарштайн. — Завод подрывал? Против непобедимой германской армии шел? Кто твои соучастники? Адреса, явки, пароли? Отвечай!
Я молчу.
— Поторопись, Густав! — это опять переводчица.
Офицер кивнул головой. Трое солдат бросились ко мне, свалили на скамью. Сели на ноги и на голову. Двое били. Один из них — офицер. Садист. Сволочь.
Губы искусаны в кровь. «Молчать! Терпеть!» — приказываю себе. Глаза заливает противный липкий пот. Во рту соленый привкус. Перед глазами — красные круги. Я захлебываюсь кровью, тону в ней…
Пришел в себя на полу. Кто-то облил меня водой.
Лейтенант фон Гитмарштайн с холодным бешенством орет:
— Ты видел когда-нибудь собаку с перебитым хребтом? Ковыляя на передних лапах, она волочит безжизненные, словно ватные, задние. Так вот, мы тебе сломаем позвоночник, у тебя отнимутся ноги… Ты будешь обречен и станешь призывать к себе смерть, но мы не позволим тебе этой роскоши — вот так, запросто подохнуть. Гестапо привыкло, чтобы его клиенты умирали не сразу… Мы будем мучить, истязать, но не дадим уйти из жизни, пока нам этого не захочется самим. А убить себя ты не сможешь, потому что будешь недвижим… И никто не узнает, как ты подыхал…
Лейтенант передохнул. Хлебнул коньяка прямо из горлышка.
— Но это не все. Когда тебя уже не будет, мы сделаем тебе щедрые поминки: пустим слух, что ты валялся в наших ногах, лизал нам сапоги, вымаливая жизнь… Люди узнают тебя как предателя — мы об этом позаботимся. И мать родная проклянет тебя, и земля, на которой родился.
Гитмарштайн расхохотался. Снова приложился к бутылке.
Лицо его все более бледнело, глаза лихорадочно блестели.
— Понял, голубчик? Лучше говори, как было дело. Назови сообщников… — чиркнул зажигалкой, с наслаждением глотнул сигаретного дыма. — Говори. Честность не порок, но большое неудобство. Мы тебя освобождаем от частности.
Я мучительно думал о том, насколько легче было бы мне, если бы действительно ничего не знал. Мысли словно птицы в силках. Уйти бы из жизни, чтобы не истязали враги, не глумились больше… Как дать знать на волю, что мы, смертники, не потеряли человеческого достоинства и не потеряем его, не предадим никого и не запятнаем себя позором сделки с врагом?
— Обработать по второй программе! — крикнул офицер.
— Давно бы так, Густав, — потянулась за сигаретой переводчица. — Не надо церемониться, к чему тратить время?
Начались новые, еще более изощренные пытки.
Из Беловщины опять доносятся взрывы.
— Хоть бы для нас была эта яма! — вырвалось у Самусева.
Он опустил голову. Исхудавшее желтое лицо его печально. Ему тридцать с небольшим. Жить бы да жить. Учить ребятишек. Выступать с докладами в клубе, готовить концерты художественной самодеятельности…
Петр Афанасьевич меньше нас страдает от побоев. Его допрашивали только раз, и «без пристрастия»: он просто подлежал физическому истреблению как коммунист. Мы, назаровцы, считались особо опасными преступниками. Нас пытали, стремясь раскрыть организацию, нащупать связи с партизанами. Сколько продолжалось это: день, месяц, вечность? Мы потеряли счет времени.
— Какое сегодня число, товарищи? — Это «доктор». — Кто знает?
Самусев знал. Ответил раздельно, как на уроке:
— Сегодня 2 марта 1942 года.
«Доктор» кивнул головой, стал подниматься на ноги, помогая распухшими от побоев руками. Попытался, держась за стенку, пройти вдоль нее. Шаги неуверенные — как младенец, который учится ходить… Вот он подошел к Жаркой… Аленушка в тяжелом забытьи. Она женщина, и на ее долю выпало больше мучений и издевательств. Но на допросах она держалась стойко.
Сейчас ей, кажется, никто уже не нужен. Даже доктор. А он сел возле нее, трудно дышит, рукой схватился за сердце. Как должно оно колотиться! С минуту он сидел, закрыв глаза. Потом снял с себя пиджак, положил под голову Аленушки. Нащупал пульс, покачал головой. После Левы настал ее черед.
Так же медленно и трудно вернулся «доктор» на свое место.
Прислушиваюсь к падающим с потолка тяжелым, как слезы, каплям и к голосу «доктора» — удивительно спокойному и ровному:
— За жизнь держитесь зубами — до конца! Ищите любые возможности спасти и сохранить ее… Тело ослабело, но воля не сломлена. Мы молчали и победили, друзья! А это — главное. — Он умолк. Видно, тяжело сказать даже эти несколько слов. Ему, пожилому человеку, труднее, чем нам, молодым. — Я идти уже не смогу, но вы попытайтесь разбежаться в разные стороны по дороге. Если не удастся в городе — побег с кладбища. Может быть, кто и спасется. Расскажет о нас людям. А нет, так мужественно примем смерть.
Долго длилось тяжелое молчание. Мы сидели хмурые, подавленные. «Что с нами будет?»
Молчание становилось невыносимым. Отгоняя мысли о предстоящей, последней ночи в жизни, мы заговорили наперебой. О себе, о друзьях и еще о чем-то, казавшемся очень важным. Вряд ли мы слушали друг друга. Просто скрывали за словами тревожное ожидание…
Как страшно ожидание смерти!
Как страшно…
Поздно ночью загремели ключи, открылась дверь:
— Выходите все! И этого, старого, волоките! Да шевелись ты!..
На свежем морозном воздухе кружилась голова, и мы шли, спотыкаясь. Нас подгоняли прикладами. Конвойные ругались, обрушивая весь свой гнев на «доктора»: он шел медленнее всех. Наконец позволили нам с Самусевым поддерживать его.
Как ни медленно мы двигались по улицам ночного Стародуба, а пришел конец и этому пути: показалась Беловщина — кладбище, огороженное колючей проволокой.
Возле ямы, чернеющей на снежном поле неровными рваными краями, нас остановили. Развязали руки, приказали раздеться.
— Простимся, друзья! — доктор обнимал каждого, шепча: «Беги!»
Я не мог, не хотел представить себя лежащим в этой черной, холодной яме. Каждая клетка восстала во мне. Стоять под дулом автомата и покорно ждать? Нет и нет! Жить!..
Самусев, снимая сапоги, кашлянул. Это — сигнал. Он нагнулся, чтобы по приказу полицая снять с себя и носки. Неожиданно сильным ударом головы сбил охранника и бросился в сторону.
Движимый какой-то внутренней силой, кинулся от ямы в темную ночь и я. За мной — остальные.
Верный до конца себе, «доктор» с трудом поднялся, пошел навстречу растерявшимся конвоирам. Отвлекая их внимание, он спешил оказать нам последнюю услугу.
Ночную тишину разорвали запоздалые выстрелы…
Не помню, как перебежал пустырь. Не слышал свиста пуль над головой. Во мне жило одно желание: «Только бы хватило сил перебраться через проволоку! Только бы не свалиться здесь!»
Вот она, эта тоненькая железная нить, от которой зависела теперь моя жизнь… Пополз… Потерял сознание и, кажется, застонал: в окровавленную спину вонзились железные колючки. Клочья рубахи остались на шипах.
Недалекий выстрел заставил меня очнуться.
— Нигде не видно, пан начальник. Может, мы обсчитались? Проверить надо еще раз в яме.
— Ну его к черту! — ответил осипшим голосом другой. — Полается унтер да и перестанет… А энтот, если и ушел, так ненадолго: все одно подохнет на морозе…
Я глубже зарываюсь в снег и медленно, слишком медленно ползу. Сердце стучит так, что его биение, должно быть, слышно на весь мир… Превозмогая боль, царапаю пальцами стылую землю…
«Неужели замерзну здесь, когда свобода так близка? Нет, должен уйти!»
Это «должен» рождает новые силы. Рванулся, стиснув зубы, полез. Впереди пустынное белое поле. Повел головой, глотнул широко раскрытым ртом воздух. Морозный, свежий воздух свободы! Дохнул еще раз, потом еще… Пополз. Позади раздался выстрел.
«Добивают кого-то…»
Меня затошнило. Стал жадно хватать снег, но внутри все горело, сознание мутилось.
«Добраться бы вон до того бугра». И недалекий бугор стал для меня самым желанным местом на земле. Дополз до него и оглянулся. Кладбище было недалеко. Там мигали желтыми пятнами карманные фонари.
…Ползу, напрягая остатки сил, от холма к холму, от бугра к бугру. На изрезанных настом коленях и ладонях кровь, но я слишком много испытал боли за эти дни, чтобы замечать это.
«След! — резнула мысль. — След на снегу. Утром меня найдут».
Не скрываясь больше, поднялся на ноги и побежал. Но сил было мало, пришлось идти. Куда я шел? Не все ли равно?.. Лишь бы подальше от холодной ямы с рваными краями…
Тошнота вновь подступила к горлу. Стараюсь не думать о ней. Иду… Иду, механически передвигая ноги. Мысли путаются, в висках стучит… Когда-то я уже испытывал такое… Забыл когда, а-а, под Брянском. После побега с Левой…
Безразличие, которого больше всего боялся, стало постепенно овладевать мной. Думал о чем-то мучительно тяжелом, неразрешенном. О чем же?.. Пытаюсь уловить мысль, но и это не удается. Постепенно мысли приняли более определенное направление, хотя поминутно менялись, как меняет форму облако, гонимое порывистым ветром. «Если и спасусь сейчас, то ненадолго. Пропаду от гангрены… В народе ее называют «антоновым огнем»… Почему антоновым? Странно. Меня зовут Анатолием, а не Антоном… Это его, нет, мой, а не Антонов огонь… Да-а… О чем я думал? Огонь… Тепло…» Сладкая дремота и коварное чувство покоя охватывают меня.
Спать.
Нестерпимо хочется спать.
В угасающем сознании мелькнула догадка: «Замерзаю…»
Солнечные лучи пробивались сквозь щели закрытых ставен. Хорошо лежать, не двигаясь, и наблюдать, как зеленые пятна, оставшиеся в глазах от солнечного света, постепенно принимают все цвета радуги… Когда-то, вот так же лежа в постели, я нарочно плотнее смыкал веки, чтобы подольше любоваться красиво дрожащей и ускользающей сеткой… Когда же это было? А было именно так. Я помню, у меня болела сломанная нога. Гоняя голубей, я свалился с крыши. Детство… А теперь почему я в постели? Пытаюсь повернуться на другой бок и не могу: все тело ноет от боли.
И опять — забытье.
Кружится голова, гудит, гудит, как басовитый гудок назаровского завода. С усилием открываю глаза. Худенькая девочка лет шести серьезно спрашивает:
— Ты теперь не будешь умирать, как ночью?
Едва заметно качаю головой, и девочка понимает этот молчаливый знак. Лицо ее озаряется улыбкой.
— А тебе больно? Мы с бабусей ночью спину тебе чистили. И гусиным салом мазали… Ой, какой ты страшный был! Синий весь, а на спине — кровь.. Почему босиком ходишь? И раздягнутый. Зимой надо одеваться…
Я молчу, стараясь понять, о чем толкует она эта маленькая голубоглазая девчушка.
— А бабуся в Стародубе. К фершелу пошла. За лекарством.
Хозяйка подобрала меня на рассвете у своего двора. Уходя, она закрывает дом на замок. Возвращается поздно вечером, топит печь, варит незамысловатый обед, чаще всего картошку в мундире, и рассказывает о том, что услышала днем в городе. От села Камень до города километров шесть-семь. Вот она и ходит туда ежедневно на разведку. То, что поведала сегодня, заставило больно сжаться сердце. Погиб Самусев.
В памятную ночь со второго на третье марта до колючей проволоки, ограждавшей Беловщину, добежало трое смертников. Одного подстрелили после того, как я пролез под проволоку. Это был парень с хутора. А Самусев удачно бежал с кладбища, Инстинкт самосохранения гнал его в знакомые места, в Воронок. Ночь была морозной: градусов под тридцать, с ветерком. Как и я, босой, в нижнем белье, Самусев бежал от кладбища. Десять, пятнадцать, двадцать километров… Вот хутор Хотеевка, что километрах в трех от Воронка. Силы Петра Афанасьевича иссякли…
Он постучался к своему дядьке — Василию Поваленко, за которым прочно держалось уличное прозвище Казак.
Поваленко вышел на стук, узнал в темноте Самусева.
— Иди в баню, вчера топлена. Обогрейся там…
Пока Самусев, обмороженный и совершенно беспомощный, лежал в бане, Казак донес полицаям в Воронке:
— В бане у меня ховается коммунист Самусев. В одном исподнем прибег.
Полицаи приехали в хутор, забрали Самусева.
В Воронок привезли его утром, допросили и в тот же день отправили в Понуровку, к районному коменданту, который вновь допрашивал и пытал Самусева. 8 марта 1942 года его расстреляли за селом.
Люди не забывают зла. За палачом-комендантом стали охотиться. Он боялся возмездия и срочно перенес свою резиденцию в Воронок. Это его не спасло: вскоре фашиста убили. Узнав об этом, я невольно припомнил одноглазого Виктора — фиктивного сына фиктивного доктора. Уж не он ли открыл счет за друзей? И еще подумал я в тот зимний вечер о предателе Поваленко с хутора Хотеевка. Он тоже получит по заслугам, дайте только срок!
Люди с черной совестью не должны жить под одним солнцем с нами!
— Ты чего там говоришь, касатик? — подошла ко мне бабушка. — Аль меня кликнул?
— Воюю, бабуся. Готовь солдата в поход: завтра ухожу за Десну, к партизанам. Может быть, найду их там…
К ПАРТИЗАНАМ
Я смотрю с кручи вдаль. На мне длинный армяк, перетянутый узеньким ремешком. В руках крепкая дубовая палка.
В ясное голубое небо поднимается ровными, высокими столбами дым из хатенок, издали похожих на игрушечные коробочки. Редкие, мохнатые от снега деревца, заросли прибрежного лозняка, бескрайние просторы задеснинской степи…
Чертовски хорошо быть свободным и видеть жизнь вокруг себя!..
Сбив на затылок шапчонку, кубарем скатываюсь с кручи, отряхиваюсь от снега. Резкий окрик «Стой!» останавливает меня недалеко от берега. Две винтовки показываются над сугробом, и вслед за ними шапка и кубанка с красной, наискось пришитой лентой.
— Партизаны! Наконец-то свои!
— Руки! Руки в гору, говорят! Порядка не знаешь?
— Да я к вам, я — свой!
— У нас все свои… Петька, обыщи его.
Парень в кубанке проворно ощупал мои карманы.
— Опусти руки-то, чего голосуешь? Окруженец? Откуда будешь?
— С Волги я. Иволгин. Не земляк ли случайно?
— Нет, браток, я по нации — рязанский… — Петька посуровел. — Ну, топай за мной. В штабе разберутся: кто ты и что ты.
По главной улице села скакали конные, деловито сновали пешие. Артиллеристы, по-воробьиному усевшись на стволе пушки, которую тащила пара усталых лошадей, важно взирали на остальных и зубоскалили:
— Эй, пехота, сто верст прошел и еще охота?
Разношерстная, разноликая толпа беззлобно отшучивалась:
— Бездельники! Самих бы вас впрячь в орудию, небось бы живо языки прикусили!
— Откуда здесь столько партизан?
Петька пояснил:
— Через село проходят отряды украинских партизан. Проводили совместную операцию по заготовке продуктов, а заодно громили полицейские гарнизоны.
Петька повел вокруг рукой, торжественно произнес:
— Сотни идут!.. Вот ведь сила какая! Чай, Рязани нашей не хватит, если, скажем, всех по квартирам развести?
Глянул искоса, стараясь определить, какое впечатление произвели его слова. Я молчал. Думал: «Примут ли меня в партизанский отряд?»
Петька это молчание расценил по-своему.
— То-то и есть, браток! Один человек — что прутик. Его и робенок сломат. А когда таких прутиков много и связаны они одной веревочкой? Ого!.. Добрая метла получится. Ее, браток, не переломить. Куды-ы… Всех гитлеров начисто сметет!
Дошли до большой пятистенной избы в середине села. Возле крылечка — несколько разномастных коней. Здесь, как я догадался, располагался штаб отряда Покровского. Очевидно, его отряд и держал заставу на селе.
…Покровский, что-то обдумывая, крупными шагами меряет комнату. Белая смушковая папаха, сдвинутая с высокого лба, подчеркивает смуглость лица. Полы небрежно накинутой на плечи бурки распластаны, как крылья степного беркута. Из-под нее виднеется ладно сидящая венгерка, перетянутая в талии наборным ремешком, пристегнутый кинжал. «Настоящий запорожец, — думаю я, продолжая следить за Покровским. — Видать, горяч, как порох».
В ответ на мою просьбу зачислить в отряд, Покровский дал такую отповедь, что помутнело в глазах.
— Вы окруженец, я тоже. Вы вышли из окружения, я тоже. На вас была форма, при вас оружие. То же самое было и у меня… Как будто между нами не было большой разницы. Теперь она есть. Я командую отрядом, вы не знаете даже, где ваши бойцы. Не в упрек говорю. Просто сопоставляю факты. — Незаметным движением плеча Покровский сбросил бурку на скамейку. Сел за стол. Лицо его посуровело. — Ко мне, лейтенант, каждый день приходят люди, просятся в отряд. Беру только тех, кто сохранил форму и оружие. То же скажу и вам. Добудете оружие — пожалуйста! Будем рады. Отряду нужны обстрелянные бойцы.
Покровский закурил. Предложил кисет мне. Побарабанил пальцами по столу.
— Мы в этих краях недавно: прибыли сюда из Сумщины. Есть там Хинельские леса, бывшая наша база. Несколько отрядов подчинялись единому, как мы называли, объединенному штабу… Не знаю почему, но кто-то из руководителей штаба настоял на решении: без оружия людей в отряды не принимать. Я неохотно разделяю такое решение, но подчиняюсь ему. Кроме того, у меня свои цели… Не обижайтесь, в отряд не возьму…
Я был ошарашен, уничтожен, сбит с толку. Что же это получается? Народ всеми способами борется с врагом, а тут какие-то нелепые «предписания»…
Покровский, видимо, понимал мое состояние: наверно, не раз видел реакцию после подобных «приговоров».
— Да вы близко к сердцу не принимайте. Научитесь ничему не удивляться…
Я ощутил смутную тревогу за своих артиллеристов: а что если и их вот так же, как меня, встретили партизаны? Они все имели оружие, но всякое в пути могло случиться… У меня тоже был пистолет, а теперь вот с палкой вышел на тропинки войны. Рассчитывать на счастливый случай трудно: оружия, конечно, не найти. И если такие же порядки в других отрядах, то придется хлебнуть горя…
Почти не слышу, о чем еще говорит Покровский. Думаю… Думаю…
Молчание прервал Петька, мой недавний знакомец. Он привел к Покровскому парня, похожего на цыгана, со смелым, дерзким взглядом темно-карих глаз.
— Тоже окруженец, в отряд просится.
Покровский встал из-за стола.
— Извините, товарищи, мне нужно побывать на заставах. — Обратился к новенькому. — Вам объяснят, кто и как принимается в Первый Ворошиловский партизанский отряд. Желаю удачи.
Цыганистого парня, которого, как и меня, выпроводил Покровский, зовут Николаем Калгановым. Он, к моему большому удовольствию, оказался не только земляком, но и мордвином.
Узнав, в чем дело, Калганов напросился ко мне в напарники. От природы он был человеком неунывающим и все время подтрунивал над моей неудачей. Но было заметно, что и сам страдает от приема, оказанного нам Покровским.
Калганов рассказывал о родном доме близ Пензы, о работе в МТС, о делах на фронте и скитаниях в тылу врага…
Меня поразила его способность говорить, нимало не заботясь о том, слушают его или нет. Говорил он, растягивая звук «о», и речь от этого казалась мягче, приобретала оттенок мечтательности.
— Хорошо у нас на полях, благо-одать!.. Пшеница — во-о! Рожь — тоже. Садись на комбайн и партизань, сколько душеньке угодно.
Заметив мой недовольный взгляд, Николай оборвал речь.
— Ну-ну, не кипятись, голова-елова! Обидно, конечно, что отказал Покровский… Так ведь на нем свет не сошелся клином. В другой отряд примут. Таких орлов, да чтоб мимо пропустили?! — доверительно похлопал меня по плечу: — Определимся! Это я тебе говорю — Калганов!
Мне действительно было обидно. За себя, за доктора, за Леву, Аленушку Жаркую, Самусева, многих других, кто искал дорогу к партизанам, чтобы сражаться с врагами… Хотелось скорее, не теряя ни дня, вступить в бой. И вот на тебе… Знал бы Калганов хоть немного о том, что мне пришлось пережить, может быть, так легко не относился бы к моей неудаче. И я рассказал ему о себе, начиная с боя на границе в Литве, в первый же день войны, и кончая побегом с кладбища.
— Да-а, — протянул Калганов, выслушав меня. — Дела-а!.. Но Покровский все-таки прав. Ты зря обижаешься. Ему с нашим братом нянчиться не с руки. Посуди сам, ведь мы с тобой — обуза. И будем обузой, пока оружием не обзаведемся. А то пришли в отряд: «Нате нас, добрые люди, укройте под своим крылышком. А мы пока посидим, авось что и высидим…» Так, что ли?!
— Иди-ка ты к черту! Вот мы с тобой походим, походим, я везде нас встретят, как чужаков. Что будешь делать? В плен подашься или в полицию?
— Ну, голова-елова, ты того… не туда загнул, — опешил Калганов.
— Ничего не загнул. Сейчас такое время, когда между двумя стульями не сидят. Или — или! Понял? Я считаю: ошибаются те, кто отказывается принимать нашего брата в отряды. Оружие одному не достать, а в бою, глядишь, и разживешься винтарем. Товарищи помогут…
Калганов молча покрутил над головой прутиком, словно отмахивался от комаров.
Николай оказался незаурядным разведчиком. Я всецело полагался на его житейский опыт и природную смекалку. Поведя ястребиным носом, он уверенно направлялся к облюбованной им хате:
— Здесь водится молочко. Пользительная для тебя штука. Отведаешь? — и решительно заходил первым.
Случались и осечки. Одна из них надолго запомнилась нам.
Солнце заканчивало дневной путь. На землю опускались ранние сумерки. Калганов свернул в ближнюю хату. Сняв у порога шапку, обратился к хозяйке.
— Здравствуйте, молодица! Дайте водицы напиться, а то так кушать хотится, что и переночевать негде.
Женщина неприязненно покосилась на улыбчивого статного парня, подала здоровенную кружку воды:
— Угощайтесь на здоровье да быстрей…
— Спасибо, красавица… Неласкова ты… Видать, и муженька не очень-то балуешь? Да где он сам-то?
— А грець его знает. Ты знаком с ним, что ли?
— Приходилось встречаться, да, видать, не в добрый час пришел.
— Який уж тут добрый час!.. Тильки в ночь и заявляется в хату. Ни корови прибрать, ни для дома что сделать. Все ховается, всех боится.
«Муж-то красавицы, видать, дезертир, — смекнул я. — Только как об этом пронюхал Калганов?»
А тот жестом фокусника извлек из кармана колоду карт и ловко раскинул их на столе.
— Погадать, что ли, на дорогу?
В глазах хозяйки вспыхнула искра любопытства. Из-за плеча Калганова она взглянула на своеобразный гран-пасьянс, который пестрел вязью незнакомых ей венгерских карт.
— Чого ж вы на оцих малюнках розумиете?
— Для себя все розумием, — в тон хозяйке ответил Калганов. Не переводя духа, по-мордовски продолжал: — А ты приглядись, не шинельки ли висят под тулупом? Может, и стрелялка там припрятана?
Хозяйка заинтересовалась странным наречием:
— Хто ж вы будете: чи цыгане, чи пленные?
— Ни цыгане, ни пленные! Парни отменные, парни военные! — тараторил Калганов. — Ну как? — спросил у меня. — Есть шинельки? То-то! — Отшвырнул котенка, игравшего на лавке какой-то косточкой, сунул карты в карман. — Пойдем, друг, тут нас не поняли. Поищем добрых людей. — С такой злостью хлопнул дверью, что просто удивительно, как она не сорвалась с петель.
Встречали нас и по-другому, переживали наши беды, сочувствовали. Ведь почти в каждом доме был человек, который мог оказаться в таком положении.
— Двое у меня в Армии-то Красной, — горевала пожилая женщина, к которой мы попросились на ночлег. — И все без них прахом пошло… Некому за нас, горемычных, теперь заступиться. Ни власти не стало, ни порядка… Коровенку, курочек, какие были, — все гитлера позабирали, порази их громом! — утирая концом старенького платка скупые слезы, жаловалась она.
— Вернутся ваши хлопцы, мамаша, — утешал Калганов женщину. — Поживете с ними в свое удовольствие. Внучат понянчите… Кто теперь знает, где и как людей по свету разбросала война… Может, вместе ваши сыны и воюют.
— Правда твоя, сынок, они вместях уходили, и при одной части служили. Сами отписывали мне. Может, почитаете? — Лицо ее посветлело. Она засеменила к божнице, где хранилось заветное письмо.
— Не долго вам, мамаша, ждать. Сыны скоро вызволят. Армия наша бьет врагов под Москвой и гонит фашистов в три шеи!
Я с укоризной смотрю на Калганова: чего болтает? Но тот смело выдержал мой взгляд.
— Бьют, говорю, наши. Бьют!.. Скоро и сюда двинутся. Глядишь, и сыны ваши вернутся.
— Ой, спасибо, родные, утешили! Я сейчас за соседкой сбегаю: у нее муженек в армии. И ей про радость эту скажете… Бьем, говорите, идолов? — переспросила бабка, набрасывая на голову старенькую шалёнку. — Я скоро…
— И не стыдно тебе? Зачем обманываешь старого человека? За прием ее да за ласку?
Я подошел к порогу, снял с гвоздя шапку.
— Стой, лейтенант! — крикнул Калганов. — Ничего не вру. Смотри сам. — Торопливо достал из-под заплатки на пиджаке вчетверо сложенный листок. — Читай!
«Вести с Советской Родины!». Листовка!
— Где взял?
— На поле подобрал. За Десной еще. С самолета сброшена. Люди слышали, наш самолет ночью пролетал. — Калганов спешил передать все известные подробности. — Эх ты, голова-елова! Не знаешь ты Калганова, вот что я тебе скажу. Еще и в помине не было этих листовок, а я уже говорил людям о победе Красной Армии… А как же? Знал: будет победа! — Калганов оживлялся все больше. — Я, брат, издалека иду, от самой границы. Сколько раз полицаи задерживали — счет потерял. А с этими штучками, — он перекинул в руках карты, — всегда выкручивался. Запросто!.. Говорил: цыган я. Хожу, мол, от села к селу, тем и живу, что людям добрым гадаю… Ну и наловчился. Как соберутся бабы, я и начну: «Не тужите, бабоньки, мужики ваши вернутся, прогонят вражину!..» И давай агитировать, как политрук на заставе. От Каменец-Подольска политзанятия провожу. Это тебе не шутка… Стратегия, лейтенант! Высшая.
Я недоверчиво хмыкнул.
— Что говорил правду — молодец. Только карты — не очень-то хороший прием для советского бойца. Правда и без хитростей дорогу к сердцу найдет…
Скоро в избе стало людно. Мы говорили о том, как народ противодействует врагам и их пособникам, рассказывали о партизанах. Калганов поднял над головой листовку, потом громко прочитал ее. Люди слушали, затаив дыхание.
— Дай, сынок, листок, хоть в руках подержу.
Калганов передал листовку хозяйке. Она осторожно взяла ее, бережно, как письмо сыновей своих, прижала к сердцу, стала читать по слогам:
— «Врагу нанесен сокрушительный удар. Он бежит, оставляя захваченную территорию, бросая технику… Десятки тысяч солдат фюрера устилают поля Подмосковья. Москва выстояла!..»
— Дождались! Слава богу, дождались светлого праздника! — повторяла бабка. Поцеловала, как святыню, листочек и передала его соседке.
«Вести с Советской Родины» переходили из рук в руки. Многие захотели сейчас же переписать их. Нашлась бумага, огрызок карандаша…
Много мы прошли с Калгановым, а все без толку. Партизаны исчезли… Они не ветер в поле, а поймать трудно. Говорили люди, будто подались с задеснинской степи в глубь Брянских лесов.
— Туда двинемся? — спросил Калганов, и сам ответил: — А куда же еще, голова-елова. Ясно, туда.
— Только память по себе оставим. Мне говорили, тут недалеко, километрах в трех от села, склад фашистских авиабомб. Охраняется полицаями и то кое-как.
— Хо, такой случай упускать нельзя, — сразу загорелся мой напарник. — Я кое-какой опыт в таких делах имею.
Под склад приспособлен крытый ток на полевом стане. Несколько месяцев назад здесь был развернут полевой аэродром. Часть бомб осталась, а вывезти на другой военный аэродром их не успели: помешало осеннее бездорожье.
Подобраться к колхозному току ночью — дело несложное. Укрыться можно в соломе: несколько стогов осталось еще с прошлой осени. Вот только полицаи…
— Я смотрю, у тебя руки так и чешутся, — усмехался Калганов, слушая мои размышления. — Мало, видно, в Стародубе тебе врезали… Ну-ну, не сердись, шучу я. Вот моя рука. Полицаев предоставь мне.
— Что придумал?
— Они больно самогон уважают. Вот их кто-нибудь и позовет в гости. Пока разберутся, что к чему, мы уже будем на полевом стане. А там…
— Пожалуй, это их отвлечет на некоторое время. Можно и нам выступить пораньше. Да, — спохватился я, — ты заправь свою зажигалку, и хорошо бы прихватить бутылочку бензина. Спроси у хозяйки, бабуся запасливая, может, одолжит…
— Исполню, товарищ начальник! — не удержался от зубоскальства Калганов.
Наутро мы были в Кренделевке, большом селе на самом севере Сумщины. Восточнее, в подожженном нами складе, продолжали рваться фашистские бомбы…
Калганов все оглядывался на зарево и черные тучи пыли, поднимавшиеся высоко в небо.
— А ведь хорошо придумали, а, лейтенант? Сколько людей своих сберегли? Сколько домов, зданий, заводов сохранили? Бомбочки-то на головы русских людей припасены… Пятисотки, не шутка!
В хату, куда мы вошли, почти следом за нами забежал шустрый хлопец. За клубами морозного воздуха его не сразу и разглядели. Вначале услышали прерывавшийся от возбуждения голос:
— Партизаны приехали! На конях, с пулеметами! У школы остановились.
Застегиваясь на ходу, мы выбежали вслед за хлопцем на улицу. И каковы же были мои изумление и радость, когда я нос к носу столкнулся с Сашей Быковым, одним из тех, кто после моего ранения на минном поле ушел с капитаном Наумовым на поиски партизан.
Неожиданная встреча лишила Быкова дара речи. Толстые губы его беззвучно шевелились. Он стоял, растерянно хлопая глазами.
— Совсем обалдел парень, — глядя на Сашу, смеялся Калганов. — Что это с ним, Анатолий, ты не можешь мне сказать?
— Да это же Быков, артиллерист! Вместе фронт хотели перейти, а теперь, как видишь, признавать не желает.
— Быков, — протянул Калганов. — А я было в бараны его произвел: смотрит на тебя, как на новые ворота, и ни бэ ни мэ!..
Не слушая Калганова, я тормошил Быкова:
— Где наши ребята? Все ли живы-здоровы! Или ты один здесь?
— Лейтенант! — наконец выговорил Саша и по-медвежьи растопырил руки для объятий. — Теперь верю, что вы — наш лейтенант!
— Да скажи же, наконец, где ребята? Что с ними?
— Ребята здесь, куда им деваться? Вон в той избе остановились.
Нахлестывая коня, по улице промчался паренек. — Микола Коршок шпарит, — заметил Быков. — Чего это он расскакался?
— На митинг!.. К школе!..
За плечами Коршка болталась самозарядная винтовка, отчаянно хлопая коня по боку и еще более подгоняя его. За поясом — обрез, заменявший, видно, лихому наезднику грозный маузер. Концы шарфа, разлетаясь в воздухе, словно крылья птицы, трепетали за спиной.
— На ми-т-и-и-инг! К школе-е! — доносил ветер уже из другого конца улицы.
Мальчишки, как им и полагается, бежали наперегонки, оглашая улицу радостными криками. У школы собралась большая толпа. Люди с любовью и надеждой смотрели на красное полотнище: уже и не чаяли!
На крыльце школы — партизанский комиссар Анисименко.
— Товарищи!
Как много значит для советского человека это простое слово «товарищ»! Стоило произнести его, и толпа плотнее обступила комиссара: каждый, как бывало, почувствовал локоть соседа, а все вместе — великую силу Родины. Слово «товарищ» было в те дни паролем патриотов.
— Тихо, хлопцы, комиссар говорить будет!
Председатель сельского Совета одного из районов Сумщины Анисименко решением райкома партии был оставлен для подпольной работы во вражеском тылу. Он сердцем чувствовал, о чем люди хотят знать.
— Враг будет разбит. Советский народ сломает хребет фашизму! Оказывайте врагу сопротивление, наносите ему урон везде, где только можно. Победа будет за нами!
Люди кричат «ура!», хлопают в ладоши, бросают вверх шапки. Комиссар улыбается. Митинг окончен, а жители все еще не расходятся.
Пожилые молчаливы и серьезны, молодежь шумлива и взбудоражена — отошла от стариков, сгрудилась вокруг партизанского баяниста. В середину чертом выскочил Калганов. Чья-то папаха, взятая напрокат, разудало сдвинута набекрень, чуб — на глаза. Николай дробно застучал каблуками. Сразу видно: прошел парень и медные трубы, и чертовы зубы.
— Вот выкаблучивает, сукин сын! — восторгались партизаны. — Кренделя выделывает!
Калганов в тот день был по-настоящему счастлив и хотел, чтобы все присутствующие разделяли его чувство.
— А ну, кума, порадуй меня, — вытащил он в круг зардевшуюся девушку.
Хочется ей пройти, подбоченясь, перед пригожим хлопцем, да народу много, смущается.
Николай тряхнул головой и, притопывая в такт припевке, остановился перед избранницей:
Хороша у нас гармошка, Золотые голоса. Немцы нос боятся сунуть В партизанские леса!Тут уж не выдержала девушка, взмахнула платочком:
В партизанки я вступила, Ленту красную ношу. Партизана полюбила, Партизаном дорожу!Саша Быков тоже доволен: наконец-то нашелся «его» лейтенант. И лейтенант этот уже принят капитаном Наумовым в Эсманский партизанский отряд. Вместе с Николаем Калгановым.
КОРШОК
О том, как попал в отряд Николай Коршок, я услышал от Васи Дмитриева, моего земляка, мордвина из-под Ульяновска, которому Коршок спас жизнь. Благодаря Дмитриеву Коршок и стал партизаном.
Вот как это было.
В который раз Коршок вглядывался в старенькое, с трещиной зеркало, и красивое лицо его становилось печальным. Нет, ему решительно не везет. Даже усы и те не растут. Как был пацаном, так им и остался. И ростом явно не удался: недаром аж до седьмого класса мучили его в школе несносной дразнилкой:
Коршок-горшок, От земли — вершок!..И в партизанском штабе не случайно, по-видимому, посоветовали: подрасти, мол, немного, а там — видно будет!..
Каких трудов стоило ему тогда сдержать жгучие слезы обиды, не разреветься. Закусив губы, Николай круто повернулся и убежал из штабной хаты в Хинеле…
Вот Ромке Астахову, тому сразу повезло, хотя и не намного старше Николая: Ромка третий месяц партизанит, участвовал в боевых операциях, ходил в разведку и ужасно задавался своим трофейным парабеллумом и новеньким скрипучим седлом… Может, Николай не совсем был справедлив к старшему товарищу, но… от зависти и досады не мог удержаться. Будь у него, Коршка, такое же седло, конь, да еще и пистолет, он бы тоже показал, на что способен…
И тут кое-что вспомнив, Коршок стремительно вышел из избы. Дурень! Ведь в сарае за стрехой спрятан револьвер. С оружием, конечно, в любой отряд примут. С радостью!..
Это был старый, видавший виды револьвер, какими в допотопные времена вооружали полицейских. Николай два дня чистил его, не жалея ни толченого кирпича, ни напильника, ни своих рук. Когда оружие было приведено в порядок, он решил опять попытать счастья. Но его задержали на заставе. И все из-за лейтенанта Сачко.
— Так ты говоришь, хлопчик, что вот эта самая пушка может стрелять получше парабеллума Романа Астахова? — лукаво улыбался Сачко. — Бывает… Всякое бывает… Даже винтовка один раз в году сама стреляет. Только, сдается мне, хлопчик, лучше выбросить эту железку: она и в сто лет ни одного разу не пальнет, даже если бы в ней были патроны…
— Зачем же выбрасывать? — подлетел к Сачко разведчик, перепоясанный пулеметной лентой. — Жалко небось… Тут одного металла на два танка будет. Да еще ржавчины вагон наберешь.
— Сам ты ржавчина! — сквозь слезы крикнул Коршок и, не оглядываясь, бросился от заставы.
Вспоминая, как его разыграли, Николай готов был провалиться сквозь землю.
— Плохо знаешь Коршка, ржавчина! — шептал он про себя. — Все равно буду партизаном!
Он верил: в жизни можно достичь любой, даже самой трудной цели. Надо только очень захотеть. А Коршок очень хотел быть партизаном.
И придумал. Мысль показалась весьма удачной: надо обменять у приятеля револьвер на самозарядную винтовку. Правда, у нее погнут ствол и нет приклада, но ее можно переделать на обрез. Выйдет маузер. Как настоящий, десятизарядный! Чего-чего, а старания Коршку не занимать. Только бы не передумал владелец самозарядки…
Мена состоялась, все опасения и сомнения позади. «Теперь не стыдно в отряд идти, — думал он, надраивая ствол до блеска. — С таким оружием определенно примут».
Но в лес Николаю идти не пришлось. Партизаны сами заехали в село. Первый, кому показал оружие Коршок, был Роман Астахов. Повертев в руках обрез, Ромка пренебрежительно оттопырил губы:
— Тоже мне маузер! Колотушка! По мне, так лучше рогатку иметь, чем такую железяку.
— Сам ты железяка! — разозлился Коршок. — Задавала!..
Не удостоив Коршка ответом, Роман лихо пустил коня в намет. Ошметки снега залепили лицо Николая.
— Ну, погоди же! — задыхаясь от обиды, кричал вслед ему Коршок. — Ты меня еще узнаешь! Сам позовешь в отряд: я, может, пулемет, а то и пушку приволоку!..
…Злой, колючий ветер гнал встречную поземку. Идти было трудно, ноги увязали в снегу: дорогу замело с вечера. Торба давила на плечи. Коршок опасался поправить груз: как бы не разбить бутылки с самогоном. Придется не солоно хлебавши возвращаться домой. Он шел в соседний городок, чтобы обменять на рынке самогон на соль. Только боязно: как бы полицаи не отняли ношу — они падки на это. «Ну, да как-нибудь обойдется», — утешал он себя, вступая на кривую улочку пригорода. Здесь неподалеку жила тетка. Она завтра утром и пойдет на базар добывать соль.
Чего боялся Коршок, на то и нарвался: нос к носу столкнулся на углу с двумя полицаями. Они вели страшно худого человека: в чем только душа держалась? В прожженной шинелешке и замызганной красноармейской пилотке. Наш, значит. Изможденное, почерневшее от побоев лицо обросло густой белесой щетиной. Из разбитой губы стекала на подбородок темная струйка. Белокурая прядь прилипла к рассеченному уху. Казалось, человек вот-вот упадет, настолько он был избит и обессилен.
«Поймали бедолагу! Наверное, в лагерь волокут, — сообразил Коршок. — Надо выручать, будь что будет!»
— Дядько Данило? — выкрикнул он первое попавшееся на язык имя. — Куды це вас потянули? Пан староста прийслав за вами…
Полицаи остановились.
— А ну, хлопче, геть видсиля!
— Пан начальник, я за ним, за дядькой… Данилой. Вот и горилка в торбе.
— Горилка? — заинтересовался один из полицаев. — Ты, часом, не брешешь?
— Ей-бо, не брешу.
— А ну покажь!
Коршок с готовностью снял торбу, развязал тесемку:
— Во!
— Первач! — безошибочно определил полицай, понюхав пробку.
Прихватив торбу, он приказал Коршку убираться подобру-поздорову, а заодно с ним — и его «дядьке».
— Забирай эту дохлятину, если он тебе нужен. Все одно не жилец. Да швидче тикайте, пока я не раздумал!..
Пленный идти не мог. Коршок привел его к тетке. У нее и заночевали.
— Мамо-о! — с порога закричал Коршок, появившись на следующий вечер в хате. — Вот дядько Васыль насолит… гитлерам пид хвист!.. Он — пулеметчик, ще й пограничник. Летом воевал здесь. Пораненный был. В плен попал. Семь раз утикал из лагеря. Аж из Польши… Ловили, потому что слабый. А родина у него — у дяди Васи Дмитриева — там же, где Ленин родился…
Мать только всплеснула руками. Николай как нельзя лучше понял этот красноречивый жест. Знал: картошки мало, муки совсем нет. Вот и соли не добыл.
— Ты пойми: пу-ле-мет-чик! — Коршок смотрел на мать умоляюще.
Мать молчала.
— Не только пулеметчик, но и по-немецки может. Пойдет в штаб к фрицам. То да се, гутен морген, битте-дритте! Чего надо, выспросил, чего надо, поглядел — ауфвидерзейн. Вот он какой, Василий Дмитриев, вот пограничник-пулеметчик-разведчик! Пусть останется у нас. А? Подлечится, отдохнет, а там вместе в отряд пойдем… Ладно, мамо?
Немного погодя Коршок деловито уточнил у гостя:
— Так, говоришь, вторая свая от берега? К лесу?
— Да, как сейчас помню, возле лесокомбината. Сам с моста сбросил… Пулемет и две коробки с лентами.
— Если так, считай, дядя Вася, мы с тобой уже партизаны.
Ближайшие два дня Коршок готовил веревки, припас пешню, наточил топор и раздобыл двухпудовую гирю. Уложил все в санки, увязал под соломенным снопом и ранним утром, в канун Нового года, незаметно от матери выскользнул за ворота.
В этот же день он и встретился с партизанами, которые решили достойно отметить новогодний праздник, совершив налет на Хутор Михайловский, что на рубеже двух братских республик: Украины и Российской Федерации. Через Хутор Михайловский дни и ночи проходили вражеские эшелоны от Киева на Москву. Разгромить станцию, вывести из строя одну из важнейших артерий, питавших фронт гитлеровцев, — такой была задача намеченной операции.
Выступили после обеда, чтобы засветло занять позиции для атаки. Разведчики цепочкой поскакали впереди колонны. Роман Астахов мурлыкал песню, чуть грустную, но удивительно задушевную:
Может быть, за дальним полустанком Разгорится небывалый бой. Потеряю я свою кубанку Со своей кудрявой головой…Возле моста, у лесокомбината, разведчики придержали коней. Глазам своим не поверили: кто-то, раздевшись, полез в прорубь. Кто же решился на такое безумство в двадцатиградусный мороз?
Роман Астахов пришпорил коня и помчался к берегу. От опорной сваи к проруби тянулась туго натянутая веревка. Конец ее уходил под лед.
— Коршок в воде, — определил он по одежде. — Мой сосед из Барановки. Это его шубейка. И пешня его.
— Що вин, сказывся? В такую окаянную морозяку в воду нырять? — ругался старик-ездовой. Быстро, как только позволяли озябшие руки, снял вожжи и, бросив сани на дороге, затрусил к реке.
У проруби на четвереньках стоял Роман Астахов. Скоро в воде появились пузырьки воздуха, мелькнуло светлое, расплывчатое пятно и, наконец, всплыла голова Коршка. Роман подхватил Николая под мышки, вытянул на лед.
Коршок торопливо полез под свою шубейку, натянул на мокрые волосы потрепанную шапчонку. Отдувался, жадно глотая воздух.
Старик-ездовой укрыл паренька тулупом и, оставив вожжи, стал растирать снегом его ноги.
— Ох и глыбко-о!.. Метра полтора до него: в самой ямине лежит. — Глаза Николая блестели. — Угодил же дядько Василь. — Коршок ежился от мороза, дрожал. — Ногой зацепил. Теперь знаю, где, достану.
— Кто в ямине лежит, какой дядько Василь? — Роман недвусмысленно постучал по лбу, кивнув приятелю. — Ей-бо, рехнулся! — и подошел к проруби.
Коршок выскочил из-под шубейки. Над прорубью мелькнули голые ноги.
Прошли секунды томительного ожидания… Вода забурлила, забулькала. Снова появился Коршок.
— Зацепил! — сказал он единственное слово, но столько ликования и торжества было в нем.
Астахов потянул за вожжу, старик-ездовой стал помогать.
— Потихоньку… легче! — шептал Коршок. — Сперва веревку с гирей вытяните.
Роман сбросил полушубок, пиджак.
— Есть!
Из воды показались два металлических колесика и курносый ствол пулемета. Все, кто были поближе, уцепились за него.
— Станкач!
— «Максим»!
— Вот счастье привалило!
— Теперь держись, фрицы!
— Герой парень! — восхищенно произнес Сачко. — Ко мне во взвод пойдешь, вместе с пулеметом. Первым номером будешь.
Астахов снял замок и хлопнул крышкой пулемета. Повернулся к Сачко и безапелляционно заявил:
— Да Коршок родился разведчиком! Вместе по огородам лазали, знаю: парень — башка!.. К нам в разведку и пойдет! Соседи мы с ним или нет?!. А насчет пулемета… — он показал рукой на прорубь, — пожалуйста!.. Может, и для вас там приберегли!
— Пускай ржавчиной стреляет! — Коршок все еще не мог простить розыгрыша на заставе.
— Вот это отбрили взводного!
— А не зарься на чужое!
Роман подошел к Коршку, заглянул в карие, сияющие счастьем глаза:
— Бери, Микола, моего коня! С седлом отдаю… Айда с нами на Хутор Михайловский гитлеров громить!
Так Коршок стал партизаном. Через неделю, немного подлечившись, пришел в отряд и Василий Дмитриев.
БОЕВЫЕ БУДНИ
Эсманский партизанский отряд был организован по заданию ЦК Коммунистической партии Украины. И вначале он состоял из трех рот. Одну из них возглавлял капитан Наумов, тот самый, с которым нас столкнула военная судьба в курских степях.
В марте 1942 года гитлеровцы бросили в Хинельские леса, где базировался отряд, части восьмого венгерского пехотного корпуса и войска СС.
Прорвав кольцо, партизаны отошли в Брянские леса, без тяжелого вооружения и боеприпасов, без продовольствия… Положение партизан усложнялось еще и тем, что к ним, в глубь лесов, бежали местные жители и им надо было помогать: они остались без крова и куска хлеба. Вспыхнула эпидемия тифа. Умирали дети…
Партизаны по-братски делились с местным населением всем, что имели, а сами отчаянно голодали.
Людям нужен был хлеб. Хотя бы немного хлеба. Его можно было добыть только за Десной. Подпольный райком партии решил направить группу Наумова за продовольствием в богатые хлебом задеснинские степные села. К Десне следовало выйти в районе села Белая Березка.
Задача была трудной. До Белой Березки не менее сорока-пятидесяти километров по уреме — гиблым лесным болотам. Там не то что обозу — человеку не пробраться… Правда, были обходные лесные дороги и тропы, но они удлиняли путь втрое-вчетверо… А время торопило. Была еще узкоколейка, но цела ли она?
Наумов без обиняков спросил меня:
— Обстановку знаешь, лейтенант?
— Лучше бы не знать ее, Михаил Иванович.
— Ищи самый короткий, самый удобный и надежный путь до Десны. Такой, чтобы можно было безопасно и быстро провести обоз с хлебом из-за реки… Не задерживайся, действуй!
Я развернул старенькую топографическую карту. А что если воспользоваться опытом времен гражданской войны?
Еще в детстве я слышал от дяди-железнодорожника из Златоуста рассказы о тех событиях. Отступая с Урала, колчаковцы угнали все паровозы и большинство вагонов. А миасский фронт красных войск очень нуждался в снарядах. «Как быть?» — ломали головы железнодорожники. И нашли выход. В товарные вагоны, груженные боеприпасами, впрягали по четыре лошади — и… «полный вперед!»
В каждом вагоне был запас рельсов, шпал, костылей и досок, чтобы восстановить путь или сделать настил на мостах, где лошадям не пройти.
Почему бы и теперь не поступить так же!
Я поделился мыслью с Калгановым, и тот сразу уцепился за идею.
— А ведь верно говоришь, голова-елова! Только найдутся ли вагоны на разъезде?
— Вот это нам надобно установить. И проверить состояние пути и мостов.
Еще раз внимательно изучили на карте темную ниточку дороги. Если нет больших разрушений, считай, что задача выполнена!
Узкоколейка, проложенная лесозаготовителями, проходила через болота по земляным насыпям от разъезда Старый Погощ до самой Десны, соединяя его с селом Белая Березка.
Отослав две группы во главе с Калгановым и Дмитриевым в разведку, мы стали ждать.
На следующий день около полудня и остальные наумовцы появились на разъезде.
— Ну как, орлы? — весело справился Анисименко.
Его веселость не вязалась с глубокими складками на лице, синими кругами под глазами. Уже много дней комиссар не брал в рот крошки хлеба, питался разварной березовой корой, истолченной в каске.
— Все в порядке, Иван Евграфович! — доложил я. — В тупике нашли несколько вагонов. Запасные доски, шпалы и рельсы погрузили в первый вагон; неисправность полотна будем устранять сами.
— Вот бы знать состояние пути, — заметил Анисименко.
— Не подведет. Калганов обследовал километров тридцать. Дорога исправна.
— Молодцы! — похвалил комиссар. — Ловко придумали! Ни обоза не потребуется, ни повозок… Имей десяток лошадей с постромками, впрягай их в вагоны и айда — пошел! Молодцы, одним словом!
— Партизан, брат, сметкой богат! — довольный нашей выдумкой, ответил Наумов. — Ну, друзья, за дело!
Он подозвал взводных командиров и политруков: теперь у Наумова было четыре взвода. Каждому поставил задачу.
Предстоящая операция подхлестнула даже самых нерасторопных. Как будто не было позади ни голодовки, ни боев, ни бомбежек…
Начали выводить из тупика вагоны — по одному на каждый взвод. Головной, пятый, шел резервным.
Саша Быков ревел изо всей мочи, имитируя паровозный гудок.
— Давай, голова-елова, нажимай сильнее. — подбадривал его Калганов. — Мой дед в молодости один такие вагончики катал.
— Да, да, Сашенька, потрудись маленько, — подначивал и Вася Дмитриев.
— Отстаньте, лешаки, — беззлобно отбивался Быков.
Скоро эшелон был готов. В каждый вагон при помощи постромок впрягли пару коней. На буфера положили доски — сиденья для ездовых. К тормозным колодкам привязали вожжи — на случай экстренной остановки: потяни за вожжу, и вагон остановится. На крышах сидели наблюдатели за воздухом и пулеметчики. Ехать решили с интервалом не менее полукилометра вагон от вагона.
Когда все было опробовано, проверено, испытано, головной вагон двинулся в путь.
Дымя прошлогодней листвой вместо махорки, партизаны перекидывались шутками, острили.
— В Погаре, братцы, табаку — уйма! Табачная фабрика имеется.
— А хлеба — навалом! Ешь — не хочу!
— Во-во, держи карман шире! Ждут тебя фрицы, чтобы блинами накормить!
Калганов выдернул из-под себя клочок старой соломы, протянул Быкову:
— Передай-ка, Саша, «машинисту»: пусть там пару кобыльего поддаст.
В этот момент вагон остановился.
— Что случилось?
— Почему остановка?
— Авария, — пояснил Калганов. — Кобыла протекать стала. — Под общий гогот он обнял Быкова: — Споем? — и не дожидаясь ответа, запел:
Что ты смотришь, родимый товарищ, Бородою небось я оброс? Нам в боях средь огней и пожарищ На себя посмотреть не пришлось…Песню дружно подхватили, и она понеслась по лесу, убранному молодой листвой.
Партизанское дело такое — И во сне не бросаешь ружья. И себе ни минуты покоя, И врагу ни минуты житья!..Наблюдатель головного вагона первым увидел Десну.
— Тормози, — раздалась команда. За ней следующая: — Готовиться к выгрузке!
Вдоль берегов шелестели прошлогодние тростники. Желтели одуванчики. В тихой заводи плавали широкие листья кувшинок.
Разыскивая партизан, я впервые переходил Десну. Она была спящей и по-зимнему однообразной. Как и тогда, я стою на круче и смотрю вдаль. Позади меня вплотную к берегу подступила густая и плотная стена леса, высокого, неподвижного. На другой стороне — задеснинские степи. Степь удивительно похожа на море: перекатывает изумрудно-зеленые волны с седыми гребнями прошлогоднего ковыля…
Мягко вынося на берег волны, катится река. Там, где осели в воду изуродованные фермы моста, она рассекается стальными кружевами конструкций, глухо ворчит, силясь начисто снести следы разрушений, следы войны… А еще ниже по течению река тяжело вздыхает, удерживая на своей широкой глади просмоленные рыбачьи лодки. По ним проложен новый деревянный настил… Этот плавучий мост соединяет задеснинских партизан Кошелева с брянским лесным краем. По нему выходил из лесов отряд капитана Наумова.
Наумов уже на той стороне. Вдвоем с Василием Кошелевым они обсуждают план совместной операции.
Трубачевск — узел водной, шоссейной и железнодорожной магистралей. В нем размещены крупные базы с обмундированием, продовольствием и боеприпасами. Большой гарнизон противника. Полиция. Комендатура. Жандармерия. Гестапо. Здесь, вдали от Брянских лесов, враг чувствует себя спокойно и безнаказанно.
Кошелевцы давно разведали слабые места гитлеровцев. Но одни нападать на город не решались: оставался открытым фланг со стороны Погара. В одиночку драться на два фронта даже прославленному партизанскому отряду немыслимо. Теперь вопрос решался сам собой. Наумовцы должны нанести вспомогательный удар в сторону Погара в то время, когда кошелевцы станут громить Трубачевск. В этой заманчивой операции было одно «но». Кошелевцы мало знали о Погаре. Придется разведку делать самим. Точнее, мне, Дмитриеву и Калганову.
Правда, кое-что удалось узнать о городе еще до подхода к нему. Вася Дмитриев с полдороги возвратился с донесением к Наумову. В качестве «приложения» привез с собой полицая и агента гестапо.
Агента мы раскрыли совершенно случайно: он принял Дмитриева за гестаповца — тот был в немецкой офицерской форме с двумя молниями на петлицах — и сообщил о подозрительных людях, связанных с кошелевцами. Кроме этого, передал целый список односельчан, которые, по его мнению, заслуживали самой суровой кары.
— В Погар сам не смог явиться, — сетовал агент, — хвораю, а дело не терпит. Вот я и того… побеспокоил вас.
— Обязательно списочек передам по назначению, — уверил его Вася и предложил съездить к одному заинтересованному лицу. — А хвороба не помешает… Мы деликатно… Не спеша…
Агент обрадовался: есть возможность лишний раз доказать свою преданность «новому режиму». Больше того, предложил свою лошадь. Это как нельзя лучше устраивало Дмитриева: его «машина», как он объяснил спутнику, забарахлила, и шофер возится с ней в поле…
При выезде из села Вася прихватил за компанию еще и пьяного полицая, приезжавшего на побывку из Погара. Он оказался довольно сведущим «языком». Знал, где расположены казармы, комендант, городская управа и полиция, на каких дорогах выставляются посты, какие улицы патрулируются.
В полной уверенности за Васю, мы с Калгановым отправились дальше, прихватив документы полицая и его нарукавную повязку. В случае необходимости Калганов мог показать документ, а я просто-напросто нацепил повязку на руку. В крайнем случае у нас было по пистолету и по паре гранат. На маскировку особенно не полагались, шли, выбирая наиболее глухие полевые дороги. Все равно спешить некуда — в город лучше прийти под вечер.
Наша задача заключалась в том, чтобы установить, как много гитлеровцев в городе и какую реальную угрозу они могут представить?
Так мы и шли с Калгановым среди белого дня. Недалеко от западной окраины города в большом, заброшенном на вид помещении — то ли сушилке, то ли колхозной ферме — приметили над трубой веселый дымок. Мы переглянулись и свернули туда.
Едва мы открыли дверь, тяжелый запах конюшни ударил в нос. Свесив лохматую голову с большой печи, надсадно кашлял глава семьи — старый цыган. Рубаха на нем рваная, худая, чахоточная грудь оголена. В углу возле топившейся печи стояла плешивая кляча. По соседству, в грязной соломе, резвились цыганята — мал мала меньше. Седая крючконосая старуха с трубкой в беззубом рту лежала возле печи и с чисто цыганской беспечностью взирала на малышей. В красном углу на передке телеги сидел паренек лет пятнадцати и наигрывал на гитаре. В такт игре он встряхивал головой, притопывал ногами в желтых стоптанных сапогах. На нас никто не обратил внимания.
— Ну и семейка, голова-елова! — Калганов сплюнул, подошел к старухе. — Дай, бабуся, табачку на затяжку: курить охота, уши опухли.
— Цыганки только просят, соколик, сами ничего не дают.
Калганов отошел от старухи, сердито повторил:
— Ну и семейка!
— Не горюй, Микола, сейчас установим полное взаимопонимание.
Я попросил у парня гитару.
— А ты знаешь, добрый человек, каким концом эту штуку держат? — спросил с печки больной цыган. Вместо ответа я взял аккорд, другой, третий… Заполняя сарай, понеслись нежные звуки цыганской мелодии.
Ребятишки прекратили возню. Весь выводок вышел из закутка, выстроился возле старой цыганки. Двухлетний карапуз в коротенькой рубашонке стоял посередине и, хлопая ручонками, смешно перебирал ногами. Остальные цыганята притоптывали на месте, поднимая тучи пыли с земляного пола.
Я рванул струны в последний раз. Слышно стало, как тяжело дышал уставший от пляски малец.
— На тебе на конфеты! — протянул я танцору завалявшийся в кармане рубль.
— Танцуй, чертенок, дядька еще рубль даст! — раздался голос с печи.
— Больше нет рубля.
— Так чего же ты голову морочишь, добрый человек?! У меня их вон сколько, и все конфет хотят…
— Вот коммерция! — захохотал Калганов.
Ближе подошел паренек в сапогах — Петька. Взволнованно выпалил:
— Слышь, дядько, научи меня песню играть, ей-богу, коня отдам!
Цыган на печи после кашля вытер пот на лбу.
— Ты сначала, сынок, научись коней-то уводить, а уж потом и раздаривай!..
— Покажи, Коля, как волжане плясать могут: пусть цыгане поучатся!
Калганова хлебом не корми, лишь бы поплясать. Сбросил пиджак, топнул каблуком.
— Поддай еще, голова-елова! — и пошел, и пошел… Никогда раньше не приходилось мне видеть такой бешеной пляски. Вот-вот, кажется, рухнут ветхие стены сарая. Даже безучастная ко всему на свете голодная цыганская кляча и та повернула голову. Вот уж действительно: пыль столбом и дым коромыслом!
— Слышь, соколик, а ты не из наших будешь? Только цыган так танцевать может! — с явным интересом глядела на Николая старуха.
Петька не сводил глаз с моих рук. Потом взгляд его остановился на нарукавной повязке с черным трафаретом «Полицай». Он сразу увял, отвернулся. «Так вот почему нам отказано в табаке и столько презрения высказано чахоточным цыганом…»
Не сумев уйти на восток вслед за нашими войсками, эта семья застряла возле Погара еще осенью. Дни старого цыгана были сочтены: он харкал кровью. Видимо, он понимал свою обреченность, но, как всякий цыган, был равнодушен к лишениям и невзгодам. Он просто ждал своего конца. Без жалоб. Без надежды.
Калганов поглядел на меня и махнул рукой:
— Была не была! — и обратился к цыганам: — Вы не бойтесь нас. Мы не полицаи и худого вам не сделаем.
— Как не полицаи? — удивился Петька. — А это? — ткнул грязным пальцем в повязку.
— И все-таки мы не полицаи. Из-за реки пришли…
— Партизаны? — Петька не верил, все время показывая на повязку.
— Это для маскировки.
— Мы этого не знаем, — хрипел на печи старик. — Цыган если и надует доброго человека, так по-честному, без «маскировки». — Он опять закашлялся.
— Верь им, Петька: так пляшут только хорошие люди. — Старуха подозвала Калганова. — На, соколик, покури… Не всегда цыганка просит…
Покурив и разделив с малышами скудный узелок с провизией, мы проверили показания взятого в плен полицая: расположение улиц, немецких постов и учреждений. Цыгане знали многое, особенно сведущим оказался Петька.
Когда мы вышли за дверь, с удовольствием вдыхая свежий воздух, за нами увязался Петька. То ли решил проверить, действительно ли мы не полицаи, то ли из каких-то других соображений.
…Под конвоем трех полицейских шла молодая женщина с маленьким ребенком на руках. Редкие прохожие провожали арестованную сочувственным взглядом, а она будто не замечала никого. Все ее внимание было устремлено на сына.
— Гут бубе, кароший зынок! — преградил ей дорогу эсэсовец и резко притянул ребенка к себе.
Женщина с мольбой протянула руки к ребенку, но фашист вдруг подкинул младенца, подхватил за ноги и, размахнувшись, ударил головой об угол дома. Мать не успела еще осознать, что случилось, как эсэсовец выхватил из ножен широкий плоский штык и всадил его в грудь женщины. Аккуратно вытер клинок о ее платье, вложил в ножны.
— Ком! — поманил пальцем полицаев, и они ушли.
Женщина лежала вниз лицом в двух шагах от изуродованного ребенка. Темные пятна крови расплывались, росли…
Люди, стоявшие вокруг, тихо перешептывались. Я заметил полные ненависти глаза, устремленные со всех сторон на меня. Нас с Калгановым вытолкнули вперед.
— Что, подлец, доволен? — крикнула какая-то девушка.
«Повязка! Нас приняли за полицаев!»
— Падаль полицейская! Холуй проклятый!.. — круто повернувшись, девушка прошла через расступившуюся толпу.
Так велико было ее презрение к врагам, что она даже не сопротивлялась, когда ее схватили вернувшиеся полицаи. Но расправиться с девушкой не посмели. Их пугало зловещее молчание толпы.
Мне хотелось сорвать иудову повязку, броситься на полицаев, отбить девушку, так неосторожно попавшуюся в руки врагов. Однако благоразумие взяло верх: мы на задании, от нас зависит операция. «Что же делать?»
— За ними! — по-мордовски сказал Калганову.
Выбравшись из толпы, я заметил цыганенка Петьку.
Мы шли за полицаями, уже еле видневшимися в конце улицы, стараясь в наступивших сумерках не потерять их из виду.
Я еще сам не знал, что мы предпримем, когда Калганов торопливо зашептал:
— Выходите с Петькой за город. Ждите в овраге. Попытаюсь один… Оба не имеем права.
— Один не справишься, пропадешь. Тут надо всем, Коля, будь что будет. Главное, быстро и дружно.
Прибавив шагу, мы их догнали. Рукоятью пистолета Калганов ударил в затылок одного, я — другого. Петька схватил за руку девушку и увлек ее к забору. За ним виднелся старый запущенный сад. Третий полицай услышал удары и возню сзади. Оглянулся и все понял. С криком: «Держите, убива-а-ют!..» — пустился наутек. Уже за углом несколько раз выстрелил.
По улицам и переулкам через сады и огороды Петька вывел из города девушку. Мы с Калгановым шли, как говорят летчики, «параллельным курсом».
— Можно передохнуть, — сказал Петька. — Так, говорят, в старину бегали только конокрады…
Беспомощно, по-детски всхлипывала девушка. Она была под впечатлением дикой расправы на улице. О том, что сама подверглась смертельной опасности, она вовсе не думала.
— Простите меня, — извинилась она. — Приняла вас за полицаев.
— Нам надо подальше уйти отсюда, — сказал я ей в ответ.
— Не могу… У меня что-то с ногой. Наверное, вывихнула, когда скакала через забор.
— Давайте к нам, — предложил Петька. — Тут недалеко. Посажу на коня и вместе с тобой — к партизанам. Мне теперь здесь тоже не жить…
Мы помогли Вале — так звали девушку — добраться до жилища цыган, но заходить туда — не торопились.
— Ты, соколик, не невесту ли приволок? — прошепелявила старуха, когда Петька зашел в конюшню вместе с Валей.
— Эй, ромэла, этой девушке грозит опасность. — Петька чувствовал себя повзрослевшим и держался независимо.
— Помочь ей можем только мы, цыгане. — Петька торопливо рассказал о своих злоключениях в Погаре и несчастье, которое приключилось с Валей.
— А знаете, те двое парней, что заходили к нам, партизанские разведчики. — Мысль Петьки перескочила на другое. Без видимой связи с предыдущим он, волнуясь все больше, убеждал своих: — Вот ее надо спасать… Ее надо в лес. Скорее!.. — Петька умоляюще посмотрел на старого цыгана: — Отец!
Старик понял, что творилось в душе сына. Он сам в молодости был лихим цыганом! Откашлявшись, поерзал на холодных кирпичах. Вытащил уздечку с длинным ременным поводом. Протянул Петьке.
— Возьми, сынок, цыганское счастье!..
Одновременный удар кошелевцев и наумовцев на Трубачевск и гарнизоны Погарского района всполошил гитлеровцев. Они спешно стали стягивать туда дополнительные силы. Но партизан уже и след простыл.
Нагруженные богатыми трофеями, мукой, зерном, мешками с табаком, свиными тушами и одеждой, партизаны благополучно переправились в брянский лесной край. Еле уложив всю добычу в пять вагонов, наш «экспресс» двинулся обратно — на разъезд Старый Погощ. Теперь в каждый вагон было впряжено по три пары коней, партизаны шли позади вагонов. Но не сетовали на это: операция завершилась успешно.
В ХИНЕЛЬ
Весной, отступая под давлением карателей, эсманцы спрятали тяжелое вооружение и пробились на Брянщину налегке. Теперь, с наступлением летних дней, можно было попытаться отыскать пушки, минометы, станковые пулеметы и боеприпасы, чтобы усилить огневую мощь отряда.
Группе капитана Наумова было поручено с этой целью совершить переход из Брянских лесов в Хинельские.
Заканчивая напутствие, командир отряда Ванин сказал Наумову:
— С вами пойдут несколько парней из местных отрядов. Доведете их до Хинели.
Пытаясь скрыть раздражение, Наумов спросил:
— А как узнали люди из других отрядов, что мы готовимся к переходу через фронт?
— Так мы…
Наумов только руками развел:
— Ну и ну-у!.. Конспирация…
— Не трусишь ли, капитан? — усмехнулся Балашов, штабной работник. — Тогда я сам поведу твоих людей. — Он презрительно скривил губы. — Стратеги…
Вскоре колонна из шестидесяти человек выступила из Герасимовки. Балашов действительно пошел с нами, хотя держался в хвосте и ни во что не вмешивался.
Разведка донесла, что противник проявляет нервозность: он явно чем-то озабочен.
— Не к добру, — заметил Анисименко. — Что-нибудь пронюхали.
Колонна засветло прибыла в небольшое село, что на южной кромке Брянского леса. Его занимал один из местных отрядов. Партизанам разрешили отдохнуть. В пять часов утра Наумов меня, Дмитриева и Калганова послал в разведку: надо было подобраться к селу Алешковичи и установить за ним наблюдение.
— Выясните интенсивность движения по дорогам, чем обеспокоен противник? — Наумов передал мне бинокль. — После полудня пойдете к лощине восточнее Шилинки, ждите нашу колонну: вечером будем там.
Анисименко пыхтел самосадом, согласно кивая головой.
— Учти, лейтенант, — предупредил он на прощание. — Местность совершенно открытая, нигде ни кустика. Так что будьте осторожнее.
Села в степной полосе между Брянщиной и Сумщиной расположены недалеко друг от друга, и только на местности я понял, насколько трудный предстоял нам переход. В оба конца более двухсот километров! Между селами было оживленно. Без конца громыхали телеги, проезжали верховые, накручивали педали велосипедисты, пролетали мотоциклы…
Мы рассуждали так: если мотоциклист — немец, велосипедист или конник — союзник-мадьяр. Ну, а на телеге или пешим ходом — полицай или староста.
Как правило, вслед за телегой с двумя-тремя полицаями тянулся небольшой обоз с возницей — старым дедом или малолетним парнишкой. Сидит, должно быть, такой подводчик и клянет в душе и долю свою распроклятую и «новый порядок» вместе с полицаями.
День тянулся нескончаемо долго… Мы чертовски утомились, запоминая все, что заметили.
— Пора двигаться к Шилинке, — напомнил Дмитриев. — Уже за полдень.
— Полдень миновал, а полдника не было, — заметил Калганов. Он успел сжевать сухари — двухсуточную норму, полученную на весь переход до Хинели, и теперь брюзжал, вымогая у нас «законную» для себя пайку.
— Было бы побольше сухарей, ты бы и ужина, наверное, не заметил, — съязвил Дмитриев. — На, обжора, от сердца отрываю.
Он протянул сухарь Калганову. Я — второй. Калганов принял наше подношение как должное, что-то ворча насчет «несознательных жмотов».
— Ну что, подзаправился? — спросил я Калганова. — А теперь отправляйся к Наумову, доложи о результатах наблюдения и выведи группу в район восточнее Шилинки. Мы с Васей встретим вас там.
Около десяти вечера мы услышали глухой шум и конский топот, будто морской прибой надвигался на каменистый берег. Это со стороны Шилинки шли наумовцы. Враг мог услышать и обнаружить место колонны и устроить хорошенькую «встречу» отряду.
Мы поделились своими опасениями с Наумовым.
— Разве партизаны разучились ходить тихо? — ответил он. — Меры примем.
Подошел Балашов:
— Чего остановились? Шумно идем, говоришь? Пусть Анисименко пойдет сзади, я в центре, а ты, Наумов, вслед за головным охранением, впереди. Вот и не дадим шуметь…
Нашей тройке поставлена новая задача — вести колонну по азимуту, возглавив головное охранение.
— Возьмите десять человек с двумя ручными пулеметами, — уточнил задачу Анисименко. — В случае внезапной встречи с противником вступайте в бой, чтобы основные силы смогли выйти из зоны обстрела.
Меры предосторожности были не лишними: еще под вечер мы заметили, как противник выставлял за селами засады. Хотя из Шилинки в течение минувших суток не вышел ни один житель, все-таки осведомители могли найти способ предупредить врага. Гитлеровцы определенно что-то знали. Неспроста же весь день сновали по дорогам связные…
Нас не покидало чувство тревоги: два-три человека, может быть, и прошли бы между селами, а такая группа?
— Ты, Калганов, иди на правый фланг, а ты, Вася, — на левый. Я остаюсь в центре. Головное охранение надо как можно шире растянуть по полю, чтобы не подвести группу под внезапный удар.
— Понятно.
— Надо дальше оторваться от главных сил… Тогда наши смогут сориентироваться, куда им отойти.
Прошло часа полтора, как мы выступили из Шилинки. Была теплая, темная ночь. Звезды, как горошины, рассыпались по небу… Где-то слева загорланил петух. Ему ответили еще несколько. И тут все поле осветилось ракетами: партизаны вышли на вражескую засаду. Мы открыли огонь.
Почему-то молчал пулемет слева. Там первым номером Плехотин, молодой парень из Эсмани.
— Что за черт? — нервничаю я. — Что он там мешкает?
Но вот подал голос и плехотинский пулемет. И после двух-трех очередей умолк. Ругаюсь сквозь зубы, поминая недобрым словом и пулемет, и незадачливого пулеметчика. Сам проверял перед выходом в охранение — пулеметы были исправны.
Противник не замедлил воспользоваться заминкой, усилил огонь. Гранаты стали рваться все чаще. «Неужели плехотинский пулемет подавили? Как это мне раньше в голову не пришло? Нам же могут зайти во фланг».
— Калганов, отведи расчет правого пулемета обратно к колонне. Мы прикроем.
— Возьми, лейтенант, мою гранату, пригодится.
Справа вспыхнуло сразу несколько ракет.
— Чего это они? — заволновался Калганов. — Никак всю группу обнаружили фрицы? Но как туда попали наши, в самое пекло?
— Быстро отведи все охранение и пулемет. Ударьте во фланг атакующим.
— Есть!
— Дмитриев, ко мне!
В шуме боя он не услышал моего голоса. Я крикнул еще несколько раз.
— Разве можно кричать? — сердито выговаривал Вася, подползая ко мне. — На звук голоса могут бросить гранату…
Я об этом не подумал.
Вася дышал тяжело, с трудом. Кроме своей винтовки, он приволок злополучный пулемет и сумку со снаряженными дисками.
— Какая сволочь этот Плехотин! — возмущается он. — Выбросил затвор, оставил пулемет, запасные диски и драпанул. Мало сам, так еще и напарника своего сманил, Новикова.
— Потом, разберемся. Отходи следом за Калгановым. Охранение он уже увел. А я пока останусь. Надо отвлекать противника, пока Наумов выведет из-под удара колонну. Видишь, что делается?
— Иду. Ты тоже не задерживайся: один остаешься.
Мы обстреливаем места вспышек справа и слева от себя. Вася быстро отползает, останавливаясь лишь для того, чтобы сделать два-три выстрела. Вот он бросил гранату. Я — тоже. Нам ответил крупнокалиберный, потом станковый «универсал». Спустя несколько минут в бой ввязались еще до десятка ручных пулеметов. Головы нельзя поднять. Вася, наверное, уже добрался до колонны. Но почему не вступил в бой Калганов с охранением? Догнал ли он колонну, не заблудился ли? Разные мысли лезут в голову. Лежу. Опасаюсь, как бы не выковырнули из ямки гранатой. Отсюда хорошо просматривается вся огневая система противника. Но он вряд ли раскрыл себя полностью. Ждет, когда наши выйдут. Но и у немцев маневр на поле ограничен: сами себя могут подстрелить. Поэтому до рассвета солдаты с места вряд ли сдвинутся. Очень тревожусь за своих. Где они теперь?
По моим расчетам, прошло минут пятнадцать. Огонь значительно ослаб. Надо отходить. Да и стрелять нечем: осталось десятка полтора патронов. И ни одной гранаты. Противник постреливает, но вяло, явно не по видимой цели. Скорее всего для самоуспокоения. А над полем держится, как туман, плотное облако пыли.
Неглубокие воронки, вспоротая осколками земля и забросанная серо-желтой глиной опаленная пшеница — вот что увидел я перед глазами. Где-то здесь, врывшись в землю, затаились враги. Они ждут, чтобы убить… Чтобы взять живьем… Неуютно стало от этих мыслей на душе. Один… Как выбраться с этого проклятого поля? Грязной ладонью смахиваю с лица холодный пот. Успокаиваю себя. «Почему один? Где-то неподалеку должна быть вся колонна или хотя бы охранение вместе с Калгановым. Там и Вася… Догадаются оставить маяк. Иначе как узнать, куда они ушли?
Пошел по посевам зигзагами — так вернее напасть на след. Наступил на брошенный кем-то мешок, солдатский «сидор». Потом на противогазную сумку с немудрящими пожитками, а немного дальше — на пальто. «Та-а-ак, значит, наши отходили неорганизованно». Об этом свидетельствовало и множество темных тропинок в посевах. Вот почему не ударил Калганов с боевым охранением… Просто некого было прикрывать с фланга! Час от часу не легче…
Я почувствовал себя маленьким и беспомощным на этом ночном поле, зажатом, как подковой, противником.
Куда идти?
Споткнувшись, я упал и выронил из рук карабин. Подо мной лежал человек. Кто он? Убитый, раненый?
Наскоро осмотрелся, стал ощупывать страшную находку. Это был пулеметчик Новиков, напарник Плехотина. Он единственный из наумовцев, кто вместо ремня подпоясывался пулеметной лентой. Убит ударом ножа в спину. Рукоятка торчит между лопаток. Кем убит? Кому и как он помешал? А где Плехотин? Ведь Дмитриев сказал, что ушли вдвоем, бросив пулемет. Может быть, это похуже, чем трусость?
Поспешил прочь от этого места. А если через несколько шагов меня тоже ждет удар в спину? Куда идти? Остановился. Прислушался… Ни звука… Снова двинулся наугад. Так шел, наверное, с четверть часа. А может быть, целую вечность? Шел, пока не заметил впереди себя большое темное пятно. Что это могло быть? Насторожился: сегодняшняя ночь полна неожиданностей. Человек — не человек. Машина — не машина. Кто или что затаилось впереди? На всякий случай запрашиваю пароль:
— Хинель?
В ответ слышу:
— Херсон!
Дублирую числовым:
— Три?
— Два!
Все правильно. Сумма двух названных чисел составляет пять — числовой пароль на эту ночь.
Подойдя вплотную, признал в темном пятне лошадь. Она спала, свесив голову. Возле нее стоял Наумов.
— Где наши?
— Хотел бы знать об этом и я. — Наумов прислушался к ночным звукам. Долго наблюдал за хвостатыми следами ракет. — Где, спрашиваешь, наши? Где же им быть? Обратно в Шилинке.
— Не понимаю. Почему в Шилинке? Была задача обойти засаду, если головное охранение выйдет на нее, продолжать движение на юг, в сторону Хинельских лесов.
Наумов перебил:
— Все так, лейтенант. И все иначе. Я шел впереди группы. Анисименко — в конце. Когда вспыхнула перестрелка, кто-то в центре, по-моему, Балашов, крикнул: «Назад! За мной!»
И все бросились бежать. Я, вероятно, слишком близко шел за твоим охранением, оторвался от колонны. И вот остался один.
Опять над полем взлетели ракеты. Они говорили о том, что и на Шилинку путь перекрыт.
— Дела-а, — протянул Наумов. — Как будем выбираться?
— Подождем немного. Засечем по компасу ракетчиков и попробуем уйти между ними.
— Охранение давно снял?
Я ответил.
— Потери были?
— Мне непонятно одно убийство.
— Убийство? — удивился Наумов.
Я рассказал о Новикове и Плехотине.
— А не Плехотин ли его полоснул? Он, говорят, в полиции служил? — Наумов задумался. — Да-а, дело темное. И спросить теперь не с кого. Если убийство совершил Плехотин, он перебежал к немцам.
По очереди покурили под капитанской плащ-палаткой, прикинули примерное направление и, стараясь миновать засеченные нами места ракетчиков, осторожно двинулись к Шилинке. Возле Тарлопова услышали мадьярскую речь: напоролись на новую засаду. Почему нас не обстреляли? Почему не схватили? Было непонятно. Более того, нас никто ни о чем не спросил. Приняли за своих? Или дали возможность нам самим заявиться в занятое врагами село. Однажды со мной такое уже случалось.
Мы обошли село.
— Невдалеке должна быть геодезическая вышка, — зашептал я. — Нам бы выйти на нее. А там — строго на север и — Шилинка.
Под утро мы разыскали свою группу в лощине возле Шилинки, да и то благодаря стараниям Анисименко. Он еще ночью во все концы разослал поисковые группы, они-то и собирали рассеявшуюся колонну. Нас встретил и привел к месту сбора Вася Дмитриев. Балашова среди партизан не было. Он передал через посыльного, что возвращается с Плехотиным в Герасимовку, в штаб отряда. Идти с нами в Хинель у него отпала охота.
— Надо очистить группу от чужаков, — сразу же заявил Наумов комиссару. — И подготовить другой маршрут. О Плехотине сообщим специальным донесением из Хинели, поскольку Балашов увел его.
Мы выступили вторично. В селе объявили, что возвращаемся в Герасимовку — в Хинель-де не пробиться. О том, что произошло на ночном поле, никто толком так и не узнал.
Первые несколько километров мы действительно шли на Герасимовку, потом резко свернули на юг. Шли безостановочно — оврагами и балками. Без пищи и курева. А до «зимних квартир» — хинельского лесокомбината — оставалось еще не менее десяти-пятнадцати километров. Мы явно не рассчитали сил. Выход был один — дать людям отдых и хорошенько накормить их. А чем? Нам выдали на дорогу более чем скромный паек: предполагалось, что идем в «сытые» места.
В балке, где остановились, было темно и сыро. Наумов подозвал меня:
— Надо добыть продовольствие и доставить в Хинельский лес. — Капитан осунулся, выглядел донельзя усталым, как, впрочем, и все мы. — Действуй, лейтенант. Возьми своих разведчиков и действуй! Выступите после обеда. А мы потихоньку двинемся в Хинель. На опушке леса будет оставлен «маяком» Коля Коршок. Он хлопец толковый, все стежки-дорожки в лесу знает…
Калганов, Дмитриев и я, три мушкетера, как в шутку прозвали нас партизаны, облачились в немецкие мундиры, нацепили для солидности медали. Выбрались из балки на дорогу и направились в село, что виднелось неподалеку.
План был прост, но не без риска. Если в селе вражеского гарнизона нет, у местных полицаев реквизируем скот, а заодно добудем и хлеба. На партизанском лексиконе такая операция называется «бомбежкой».
— А если в селе немцы? — размышляет вслух Калганов. — Ведь ни документов немецких у нас нет, ни автоматов, чтобы отбиться. — Он презрительно забрасывает за спину мадьярскую винтовку. — Этими пукалками много не навоюешь! Да и языком не ахти как владеем. Только вот Вася и знает как надо…
— Если в селе немцы, то хватай ноги в руки и… дай бог тягу!
— Немцев здесь не должно быть, — тихо отзывается на мою реплику Вася. — Мадьяр — тоже. Они ближе к брянскому краю держатся. «Осадная» армия осталась далеко позади…
Мы устало плетемся по дороге. Каждый шаг дается с усилием. Калганов отстал, продолжая рассуждать про себя.
— Ты что, Коля, заклинания шепчешь? — спрашивает его Дмитриев.
— Молитвы читает, чтобы «мимо пронесло!» — пытаюсь шутить я.
— Нет, лейтенант. Я вот думаю… — Калганов догоняет нас — Я думаю: война…
— Война — это риск, — вмешивается Дмитриев. — Особенно для нас, разведчиков. Но риск не бестолковый, а… разумный, что ли. Не голый, одним словом. Война — это риск, осторожность и хладнокровие…
Солнце клонилось к закату, когда мы подошли к околице. Возле крайней избы, впритык к ней, виднелся бункер. На горбатой насыпи у пулемета лежало трое. Судя по всему — полицаи.
— Хлопцы говорили, будто здешние полицаи не шибко заядлые, — заметил Калганов. — Но лучше глазу без бельма, а селу — без полицая.
Один из караульных, в серых залатанных штанах, с черными армейскими обмотками на ногах, нырнул в бункер. Оттуда, позевывая, показались еще несколько человек.
— Силы складываются не в нашу пользу, — шепчет Дмитриев. — Хорошо, если только эти. Без немцев и мадьяр…
Калганов беспечно махнул рукой. В минуты опасности он преображался, куда девались все его сомнения.
— Не робей, воробей, сейчас все как по нотам разыграем!
Подошли к бункеру. Калганов озорно выкрикнул:
— Гутен моргай!
В ответ нестройные голоса полицаев:
— Здорово!
— Здрассьте!
И только один, самый усердный, оказавшийся старостой, попытался ответить уставным «Здравия желаем!»
— Ну и сбро-о-од! — поморщился Дмитриев.
— Для нас к лучшему, — по-мордовски отвечаю ему. — Познакомься со старостой, отправляйся с ним в село, отбери скот и весь запас печеного хлеба у него, потом — у всех полицаев. Староста после «бомбежки» не пощадит своих подчиненных — сам все выскребет… — Вася утвердительно наклоняет голову в знак того, что понял. — Мы с Калгановым остаемся здесь, как твое боевое обеспечение… В случае опасности даем два выстрела. По этому сигналу самостоятельно выбирайся из села. Встречаемся, как условились, в Хинельском лесу. Действуй!..
— Чего они гыргочут? — спросил полицай в обмотках.
Он здесь старший и держится довольно независимо. У него здоровенный носище, свернутый набок. Будто однажды унюхал что-то такое, от чего раз и навсегда отвернулся в сторону. Я его про себя окрестил Носатым.
— Чего гыргочут? — переспросил Калганов. — Ругаются. Форма ваша не нравится. И стоите перед начальством, будто уголовники, а не полицаи — краса и гордость германской армии, надежда и оплот фюрера.
— Так и говорят? — недоверчиво справился Носатый и гордо выпятил чахлую грудь.
— А как же? Вот этот, — он показал на меня, — злой, как черт. Любит, чтобы его уважали. — Не дав опомниться полицаям, которые с видимым интересом слушали беседу, Калганов уточнил: — Гарнизон весь налицо?.. Или резервы с похмелья дрыхнут?
— В селе есть полдесятка. По домам сидят. Ночью-то в засаду да в патрули идти. Вот и отдыхают…
— Все местные, значит?
— Все свои. Начальник был присланный, так его партизаны прикончили. Зимой еще. Другого не дают. Вот сами и управляемся. Выкручивайся, как хочешь! — Носатый недовольно засопел.
— Да-а, дела ваши неважные, — посочувствовал Калганов.
— Хуже некуда. А вы… по какой надобности к нам? — осторожно поинтересовался староста. До сих пор он безмолвно стоял, внимательно присматриваясь к нам.
— Мы-то?.. Мы по ин-тен-дант-ской части. Слыхал, голова-елова, что это такое?
— А как же!
— Тогда тащи шнапсу. Для знакомства… Или все вылакали?
— Кажись, трошки осталось, — нехотя признался староста и повернулся к Носатому. — Вынесь-ка, Микита, что там есть из горючего и другого прочего.
Носатый метнулся в бункер, как суслик в нору. Вскоре оттуда показалась взлохмаченная голова.
— Держи.
Калганов принял бутылку с мутной самогонкой, несколько помятых заплесневелых соленых огруцов и ломоть черствого хлеба.
— Не богато, да черт с вами. С паршивой овцы — хоть шерсти клок. — Он в два глотка опорожнил стакан.
Дмитриев недовольно поглядел на закуску.
— Млеко, яйки, шпиг надо!..
— Нету, пан, ни шпиг, ни яйки… А млеко не идет к самогону.
Дмитриев, не слушая старосту, с отвращением отвел в сторону стакан. Носатый протянул его мне.
— Тринке шнапс, пан.
Я принял стакан. Понюхав, выплеснул самогон под ноги полицаю. Тот вскипел:
— Такое добро не пожалел, нос воротит. Тоже мне, барин вонючий. — Последнее слово Носатый произнес шепотом.
Калганов подмигнул шельмоватым глазом:
— Я же говорил, с этим хлыщом шутки плохи. Зараза.
Носатый обиженно сопел:
— Я как человеку, от души оторвал. А он… — После некоторого колебания спросил у Калганова: — Слышь, парень, а ведь ты, кажись, наш — русский… Или из цыган? Обличьем-то черный да кучерявый… Ловок по-нашему балачки разводить. Откуда сам?
Я вмешиваюсь в разговор, перебиваю Носатого:
— Отвлекай их, Николай, а ты, Вася, отправляйся со старостой в село. Действуй быстрее.
— Спрашиваешь, откуда я? — повернулся Калганов к Носатому. — Есть такая страна — Мордовия… Там я рожден. И автогеография моя — богатейшая. По всем европейским частям прошел. Во, голова-елова! Где только ни побывал, чего ни повидал… Приходилось и по крестьянскому делу работать — комбайны водить. И на границе службу нести — Родину охранять.
Полицаи переглянулись.
— До войны еще было. Около Каменец-Подольского. Стою это я на границе, рубежи священные-охраняю. Ночь… Густая, как тесто. Духота — не продохнешь… Откуда взялся — вот он, дождь! Не дождь, а вернее сказать — ливень. Потоп всемирный! Темным-темно. А дождь хлещет, гром гремит. Чисто корпусная артиллерия с открытых позиций лупит. Вдруг — молния. Ка-а-ак шарахнет! И прямо — в штык! Он сразу накалился докрасна. Винтовка жаром пышет, руки печет. И держать трудно, и бросать нельзя: граница мне доверена.
Полицаи хохочут.
— Вот загиба-а-ет!
— Чего ржете? — сердится Калганов. И непонятно: в шутку он это или всерьез. — Темнота вы, как я погляжу. — Он взял из рук Носатого кисет, свернул цигарку, а кисет положил в свой карман. На протестующий жест полицая показал пудовый кулачище. — Ты тоже берешь то, чего не клал, пожинаешь, чего не сеял. Так что слушай да помалкивай. — Сделал глубокую затяжку, выпустил из ноздрей султаны дыма. Вася Дмитриев зашел к старосте, а я, присев возле бункера, писал в своем блокноте.
— Вот ты, с носом который, — обратился Калганов к старшему полицаю, — рыбачил когда-нибудь?
Носатый посмотрел на Николая:
— Приходилось. А что?
— То-то, что приходилось. А как оно приходилось? На заячий хвост, к примеру, рыбачил? Нет?.. Какой же ты тогда рыбак? Вот у меня было… Постой, где же это было? Ну да, конечно же, на Суре. Река на рыбу богатейшая. Особливо сомов много: тыщи!.. И еще, кажись, больше! На всю Мордовию славятся.
Носатый недоверчиво хмыкнул:
— На заячий хвост?
— Не перебивай, голова-елова. Слушай и на ус мотай: пригодится. — Калганов перехватил мой взгляд и протянул кисет. — Кури и делай вид, будто не нравится: не привык к такой собачьей отраве, как полицейский самосад… Просто из любопытства взял.
Я свернул неуклюжую с виду, но зато приличную по размерам цигарку. Щелкнул великолепной, в виде пистолета, трофейной зажигалкой. Кашлянул…
Калганов продолжал:
— Как раз сенокос был. Собрались мы трое дружков под вечер порыбачить. С устатку ухи похлебать. Ну, и… — Калганов подмигнул, — и пузыречек раздавить. Крючок у меня нашелся в фуражке. Якорь-тройник. И шнур запасной: с лаптя оборку снял. А вот лодки нет. Давай, думаем, на бревно сядем, верхом. После сплава много их на берегу остается. Выбрали бревно потолще, спихнули в воду. Я сижу на конце бревна, удилищем кручу. А на крючке заячий хвост привязан. Нарочно из дому захватил. Да еще мазью специальной смазал — «рыболином» называется… Кручу удилищем, а заячий хвост то по воде ударит, то в воздух взовьется. Доплыли до омута. Там сомов — страсть много. И крупные. Бывало, девок за ноги хватали, когда те далеко заплывали…
Вдруг — хвать! Клюнуло. Я очутился в воде. Стащил сомина с бревна вместе с удилищем и этим самым… хвостом. Приятели мои орут: «Спасите!..» Я кричу: «Караул!..» А чертов сомина обороты прибавляет, что твой катер на гонках. — Калганов вытер взмокший лоб. — Да-а… Проскочили мимо бревна, только свист идет. Ухватиться не успел — далековато было. Сом на глубину пошел, меня за собой тянет. А руки разжать да удилище выпустить — не догадаюсь. Вроде контузило меня: ненормальным стал. Со страху, должно. Сомище тянет в воду, а я его выуживаю из воды.
Пусть, думаю, воздуху глотнет, сразу прыти поубавится. Он, шельмец, не поддается: дома у себя. Сам хозяин. И командует, как ему надо. Чую — воды я хлебнул. Не в том горлышке забулькало. Пузыри начал пускать… Тону… И тут вроде просветление на меня нашло: дай, думаю, напугаю его, черта: с ближней дистанции по морде шарахну. А то разыгрался очень… Перебираю потихоньку руками, подтягиваю к себе. Очутились мы — морда к морде. Сом как глянул на меня, глазищем подмигнул с ехидцей и пасть раскрыл: печенки видно! Не нутрё, а… цистерна!:. Трое таких, как я, влезут да еще на двоих местечко останется.
«Пропал! — думаю себе. — Начисто и окончательно!..» Отходную собрался читать — слова все вылетели. Да-а… Рванул за шнур из последних сил и уж не помню, как это я на окаянном сомище верхом оказался. За шнур, как за уздечку держусь. Тяну вверх, нырять не даю. Даже управлять пробую. Дерну влево — сом влево поворачивает. Поведу шнуром вправо — вправо идет. Сопротивляться станет, я ему по морде кулаком! Он только головой мотает да хвостом крутит!..
— Ну а дальше? — нетерпеливо спрашивает Носатый.
— Дальше?.. Дальше… — Калганов хлопнул Носатого так, что тот присел. — Разогнал я того сома да прямо на берег и вылетел. Фунта четыре весил!.. Во, голова-елова!
Между тем у старосты все происходило так, как мы и наметили. Дмитриев напрямик поставил вопрос: как полицаи и староста относятся к новому порядку?
Те угодливо ответили, что «и душой, и телом».
— Так вот, господа, — гнул свою линию Вася. — Надо доказать, что вы ничего не жалеете для укрепления нашего режима, добровольно отдаете весь свой скот нашей армии во имя близкой победы… А скот господам полицейским потом фюрер вернет сторицей..
Лица полицаев все более удлинялись: не очень их устраивали доводы Дмитриева. Но тот не дал им возможности долго размышлять. Вместе с хозяевами пошел по дворам и стал выгонять скот на улицу.
— Сами теперь и гоните через село, — распорядился он. — Агитация — сильная вещь. Она должна быть наглядной.
— Ну как, орлы? — весело скалил зубы Калганов, встречая полицаев вместе с их живностью. — Все у вас в порядке?
— А как же? — вопросом на вопрос отвечал по-мордовски Дмитриев. — Давай теперь этих обработаем.
— Чего это он? — любопытствовал Носатый. Он еще не догадывался о том, что происходило в селе.
— А того, голова-елова, не развешивай уши… Где ты живешь? В той хате? Пошли. Давай, давай, шевели рогами! Не на хвост рыбачить будем. Тут по-другому — копыта требуются! — Калганов взял под руку Носатого, повел за собой. — Сейчас улов будем по ногам определять. Не знаешь как? Научу… Значит, так. — Калганов зашел с Носатым в хлев. Считает вслух. — Две, три, четыре ноги… Всего двенадцать ног. Чтобы узнать, сколько будет голов, надо двенадцать разделить на четыре. Всего с твоего двора в пользу нашей армии берется три головы: одна голова — коровья, другая — телочкина, третья — кабанчика. Четвертая голова — твоя — погонит этих трех. Живо, живо, друг-полицай! Покажи, как любишь немцев. Делом доказывай, не словами!..
Тощая и длинная, как жердь, жена полицая с причитаниями выскочила из хаты, уцепилась за буренку: «Не дам!» — Носатый зло отшвырнул ее:
— Исчезни, холера! Тут не только корову, скоро самого веревкой обратают да и погонят со двора!..
Когда наступили зыбкие сумерки, по дороге на Севск выехала подвода. Следом уныло тащились полицейские, погоняя коров. Носатый зло нахлестывал отставшую буренку.
— Вот жизня собачья, пропади она пропадом! Свою корову сам же и гони черт знает куда, на ночь глядя! Да еще эту дубину тащи, как будто нельзя было на повозку положить. — Он перекинул пулемет на другое плечо. Вытирая пот, Носатый догнал повозку, молча сунул Калганову оружие.
— Ты чего? — удивился Калганов.
— Возись сам с этой дурой. А с меня хватит: всю шею намылила!..
— Умаялся, миляга? — ржал Калганов. — Служба, голова-елова. Сам выбирал.
— Останавливай, Николай, — сказал я.
Полицаи обступили телегу, на которой сидели мы втроем на остывающих свиных тушах. Там же лежали связанные бараны и две телушки.
Калганов передал распоряжение: полицаям вернуться в село. Дальше с ними пойдут староста и старший полицейский — Носатый. Погонят скот. Уже от себя Калганов поблагодарил полицаев за «добровольный» подарок, выразил уверенность, что фюрер не забудет их услуг, мы — тоже.
— Папир! — вспомнил я и полез в планшетку.
Полицаям, возвращающимся в село, мы вручили расписку. В ней перечислялось, от кого какой скот принят и в каком количестве. Расписку я написал еще возле бункера. Буквы были немецкие, а слова русские. Содержание расписки таково:
«Вы, полицаи-предатели, своими руками передали нам, партизанам, своих коров, телят и свиней, всего 20 голов. Сами провели скот через село, и люди видели это. Если и впредь будете служить фашистам, вас ждет участь старосты и Носатого.
Советские партизаны. 22 июня 1942 года».Всю ночь мы ехали напрямик через пашни, минуя села. Только когда на востоке прорезалась тонкая серая полоска зари, показались массивы Хинельского леса… Наше шествие привлекло бы внимание самого нелюбопытного человека: таким оно было необычным.
Впереди, чуть ли не за ухо, тянул утомленную клячу Вася Дмитриев. Позади плелись мы с Калгановым, хворостинами нахлестывая флегматичных коров. Каждая несла на шее, как ошейник, солдатский ремень или обрывок веревки. В свою очередь, ошейники между собой так же связаны мотузками. Весь коровий поезд веером тянулся за повозкой. Вожжи были изрублены нами на эту хитроумную упряжку.
— Просмеют нас хлопцы, как увидят, — ворчал Калганов. — Зря поторопились убрать старосту и Носатого. Умели погонять буренок, как добрые пастухи.
Нарождался новый день. Встретили мы его на старой партизанской базе.
В РОДНОМ ГНЕЗДОВЬЕ
Вечереет. Багровый диск солнца нехотя влезает в серую вату облаков. На околице Хинели мое внимание привлекает резкий короткий свист, каким обычно обмениваются наши разведчики. Придерживаю коня… Слышится дробный перестук копыт. Из переулка на галопе вылетает всадник. Это Роман Астахов. Рванув повода, останавливает разгоряченную, мокрую от пота лошадь. Окровавленная пена стекает с ее пораненной трензелями губы. Только необычное событие могло заставить Романа так гнать любимую лошадь.
— Лейтенант!..
— Отдышись, Роман, и спокойно расскажи, что у тебя приключилось.
— Не у меня… В Журавейне немцы. Из охранного батальона. Среди них есть чины полевой жандармерии.
— Они вчера в Эсмань прибыли, я знаю об этом…
— Теперь по селам разместились. Вот и в Журавейне… Фашисты похватали сельских хлопцев, девчат и, как скотину, заперли в колхозной конюшне. Завтра с утра погонят на Рыльск. Оттуда дорога известная — только в неметчину, на каторгу. — Роман перевел дыхание, зло сверкнул глазами. — И Любу взяли, гады!
Любу я знаю- — это наша связная. Как-то с разведчиками заезжал в Журавейну, меня познакомили с ней. Высокая, статная. Лицом смуглая, глаза черные, жгучие: взглянешь и утонешь в них! Волосы волнистые, заплетенные в две длинные тугие косы. Не девушка, а королева! И вот ей и ее сверстницам угрожает каторга, рабство в Германии. Или еще страшнее: увеселительный дом…
— Надо выручать. И сделать это лучше до утра, а то будет поздно.
Мне понятно волнение Астахова. Но как помочь? Немцев в Журавейне много. Да и согласится ли еще Наумов? А потом — пока мы доедем до лагеря, доложим начальству, обдумаем план операции, пока поднимем отряд, пройдет много времени. А летняя ночь коротка. Да и не сделаем ли мы хуже: гитлеровцы уже в начале боя могут поджечь сарай или расстрелять задержанных. Нет, такой вариант не подходит. А что, если без шума? Вдвоем с Романом?
Была не была! Рискнем!..
— Бери, Ромка, здесь на заставе коня для Любы и замени своего. Твой не дойдет: до Журавейни и обратно далековато. А ты уже разок сгонял туда…
Астахов недоуменно смотрит на меня.
— На выручку? Вдвоем?!.
— А что?
Я уже не думаю о том, как отнесутся к нашей «самодеятельности» Наумов и Анисименко и другие товарищи. Махнул рукой на все. Если удастся — победителей не судят. А нет — пеняй на себя!.. И потом я все-таки как-никак начальник штаба. В исключительных случаях могу принимать самостоятельные решения и действовать «именем командира»…
Погода портилась. Небо покрылось темными полосами, будто кто-то водил по нему грязным помелом. Тучи сгущались, опускались ниже. Как из решета, посыпался мелкий, холодный дождь. Над степью всплескивались зарницы, слышались глухие раскаты грома… Занепогодило, кажется, надолго. Это нам на руку, хотя ехать напрямик полем труднее, чем посуху…
Был второй час ночи, когда мы подъехали к Журавейне. Коней стреножили в балке. Поползли к конюшне, что еле угадывалась в конце села. Сквозь сетку дождя донесся окрик часового и ответ второго, потом — шлепанье ног по лужам. Вот часовые сошлись у дверей. О чем-то переговорили. Вспыхнул огонек зажигалки, красными точками затлели сигареты, прикрываемые рукавами шинелей. Солдаты прижимаются ближе к стенкам, не желая высовываться под ливень.
Подползаем ближе. Солдат медленно прогуливается возле дверей. Маленькой кометой, описав дугу, сверкнула выплюнутая им сигарета и погасла, угодив в темное пятно лужи. Мы пропускаем солдата вперед. Изготовились… Пора! Подталкиваю локтем Романа. Он сзади бросается на солдата. Взмах руки, удар кинжалом…
— Давай второго!
Роман тяжело дышит. Ему стало жарко.
— Подожди, передохну.
— Держись за мной…
Второй часовой, оглушенный ударом пистолета, успел что-то крикнуть. Подоспевший Астахов быстро разделался и с ним.
Бежим к двери. Черт бы их побрал: они так заскрипели, что у меня перехватило дыхание. Но патрули в селе не придали этому значения.
— Хлопцы, спасайтесь! — вбежал в сарай Роман. — Всем на выход! Скорее!
Арестованные бросились в разные стороны. Хорошо, что дождь! Смоет следы: ищи ветра в поле.
Любу мы взяли с собой.
С порядками в партизанском лагере Люба освоилась быстро. Среди наумовцев нашлись давнишние знакомые: однокашники по средней школе, спортсмены, с которыми, кажется, совсем еще недавно выступала на первенство района по легкой атлетике, колхозники из соседних деревень. Комиссар был доволен новенькой: смелая и настойчивая. Не даст себя в обиду и за товарищей постоит.
Однажды мне пришлось быть очевидцем такой сцены: Люба спорила с самим… комиссаром. Слушая их, я невольно залюбовался девушкой.
— А я говорю — выйдет! — горячилась она. — Нас в отряде шестеро девчат. Сила!
— Шесть лошадиных сил! — подтрунил над ней вертевшийся здесь же Калганов.
Люба пропустила мимо ушей его слова.
— Сила, можно сказать, мертвая. Да-да, не возражайте! Кто мы? Иждивенки? Пар-ти-зан-ки, вот кто! И не имеете права, Иван Евграфович, держать нас без дела. Не сидеть же нам только возле кухни да над стиркой белья.
Любу поддержали подруги. Особенно кипятилась Поля. Она что-то втолковывала комиссару о конституции и женском равноправии, о раскрепощении лучшей половины человечества, которая отнюдь не является «слабым полом»…
— Милые девушки, сдаюсь! — смеялся Анисименко. — Чего женская гвардия желает от комиссара?
— Давно бы так! — торжествовала Люба. — Отпустите нас на задание. Хоть в засаду, хоть в разведку, хоть на боевую операцию — фашистов бить.
— Грозит мышь кошке, да издалече! — посмеивался Калганов.
— Вот это ты зря, — прервал разведчика комиссар. — Рано или поздно, а девушкам придется ходить на боевые операции. Значит, надо учить их, постепенно втягивать в нашу нелегкую военную жизнь. — Он помолчал. — В борьбе бывает и так, что с и л у одолевает у м е н ь е. Так-то. А насчет засады или разведки… разрешаю. Будете ходить по очереди в качестве санинструкторов. Присматривайтесь, приглядывайтесь. При необходимости раненому помощь окажете. А там и в бой можно. Только вот что, один уговор: разрешаю ходить лишь с разведчиками.
Калганов подлетел к Любе:
— Прошу любить и жаловать: вы имеете дело с лучшим разведчиком отряда. Рекомендую себя как проводника, охранника и… кавалера!
Полина не сводит с Калганова восторженных глаз. Люба же, наоборот, как будто не замечает его. От этого он становится еще назойливее.
Комиссар машинально вытащил кисет, задумался и неожиданно заговорил снова, встретившись глазами с Любой:
— А вообще вы молодцы, девчата. Учитесь воевать. Это глупый любит учить, а умный любит учиться. Только не забывайте о нашем быте и партизанском общепите. Это ведь по вашей, женской части…
Так и не закурив, он сунул кисет обратно.
Неугомонный человек эта Люба! Что-нибудь да придумает. Вчера она стрекотала на разбитой, как таратайка, машинке, училась печатать сама и «натаскивала» девчат: пригодится. Листовки партизанские быстрее будут размножать. Сегодня у нее новая идея: уговорила Коршка и Илюшу Астахова организовать соревнования между взводами. Сочинила целую программу. Тут и бег до Государева моста по трудной дороге при полной боевой выкладке, и скрытый подход к хорошо охраняемому объекту, и снятие часового… Предусмотрено даже движение по азимуту и захват «языка», и… еще, кто знает, сколько там у нее «обязательных» пунктов!..
Люба смотрит на меня, улыбается, а в глазах так и скачут веселые чертики. «Что, мол, и тебе задачку задала?..» — как бы спрашивает она.
— Ты бы еще московское «Динамо» открыла в партизанском лагере, чего тебе стоит? Бассейн для плавания, мячики, скакалочки, деды в трусиках наперегонки со старухами…
— Люди добрые, вы посмотрите на этого бюрократа, — пошла в атаку Люба. — Предполагается-то сочетание приятного с полезным!
— Ну и сочетайтесь сами, мне нет охоты в детсадики играть, — не уступаю я.
Тут подоспели «люди добрые». Первым в шалаш влетел Илюша Астахов. Подняв большой палец, многозначительно выпалил:
— Во!
— Что — «во!»? — переспросил я.
— Будем играть в волейбол.
— Какой такой волейбол? Где?
— Ну, столбы, площадка на поляне и… плетень.
Я недоуменно смотрю на Любу. Та хохочет. Наверно, выражение моего лица в ту минуту действительно было дурацким.
— Вы же знаете, Илюше мяч Роман подарил. А сетки у нас нет. Вот и придумали вместо сетки сплести из тонкой лозы что-то вроде плетня и натянуть между столбами.
Я удивляюсь все больше:
— Ну и как?
— Лучше не бывает! — подает голос Коршок. — Играй, не хочу!
— А воюй за вас деды из хозвзвода, Артем Гусаков и его бабка. Так, что ли?
— Мы же на досуге…
Вошел Анисименко. Похоже, он уже в курсе дела. Люба заранее заручилась его поддержкой.
— Уважь ты их, лейтенант. Война — войной, а и спорт нужен. — Комиссар весело оглядел молодежь, энергично махнул рукой. — Закаляйтесь!
С того дня и пошло. Кто в шахматы, кто в шашки режется, кто через окоп прыгает, кто гранаты кидает… Настоящая партизанская академия. И это однажды очень помогло.
…Группа наших разведчиков вторые сутки наблюдала за вражеским гарнизоном в крупном местечке. Там размещались оттянутые для пополнения, потрепанные на фронте пехотные части. Такое соседство для партизан было нежелательно.
Калганов и братья Астаховы стали наблюдать за гарнизоном. Но сколько ни наблюдай, много не узнаешь, если не побываешь там, досконально не выяснишь, где расположены огневые точки, как оборудованы узлы сопротивления, как охраняются казармы, штабы и склады… А гитлеровцы всегда помнили о близком соседстве с партизанами. В местечко никого из гражданских лиц не допускали.
Как быть? Думали-думали, да так ничего и не придумали. Выручил Илюша Астахов.
— У меня в голове идея завелась, — сказал он, сбрасывая разбитые, не по ногам большие кирзовые сапоги. — Дядя Коля, в твоей сумке все есть. Достань шило и нитки. Сшей из холявок футбольный мяч. Все равно от сапог одни дырки остались. Только быстро…
— Это зачем? — удивился Калганов, — И обязательно сейчас?
Хлопец хитро улыбнулся:
— Пока это секрет. Может, что и получится.
Скоро какое-то подобие футбольного мяча было готово, набили его носками и портянками. Калганов критически повертел в руках плод коллективного творчества:
— Прямо скажем, в музее изящных искусств такому экспонату цены бы не-было.
— Сойдет, — бросил Илюша. — Как говорят французы: чем хуже, тем лучше… Я где-то читал.
…На улицах появился босоногий сорванец с мячом невиданной формы, из швов которого вылезало какое-то рванье. Солдаты хватались за бока и безудержно хохотали, некоторые хлопали в ладоши. А Илюша изо всех сил колотил по мячу ногами, подбрасывал его вверх, бил головой. Тучи пыли неслись за хлопцем, а он все бежал с улицы на улицу, побывал и на площади и огородами благополучно выбрался из местечка.
Комиссар вскоре узнал о затее с «футболом». Сразу же вызвал меня.
— Ты ставил задачу на разведку местечка?
— Да, я.
— И опять ни с кем не согласовал?
Комиссар оторвал кусок газеты, стал свертывать цигарку.
— Аника-воин… Зачем Илюшу-то послал? Ведь запросто могли сцапать его фрицы с этим дурацким мячом вместе. Хлопца беречь надо, талант, а ты на рожон его суешь. — Комиссар затоптал цигарку, так и не свернув ее. — Ладно, все хорошо кончилось. А если бы… Учти, лейтенант, с тебя будем строго спрашивать. — И еще раз повторил: — Учти, говорю. А чтобы ты хорошенько почувствовал свою оплошку, посидишь на базе. На боевую операцию не возьмем. Занимайся бумажками: выпустишь боевой листок, напишешь сатирические куплеты. Выступим в селах перед колхозниками…
Я молча проглотил пилюлю. Горькую и, как мне тогда казалось, незаслуженную.
Комиссар знал, как наказать. Для каждого партизана было позором, когда его отстраняли от участия в боевой операции. Но делать нечего. Приказ есть приказ.
Мне потребовалась писчая бумага, а запасы ее иссякли. Как быть? Задерживался выпуск боевого листка и сатирических частушек. Помогла Полина.
— У Любы две общие тетрадки, сейчас я вам их принесу.
— Так Люба на задании, а без нее неудобно.
— Еще чего! — воскликнула Полина. — Свои люди, как-нибудь сочтетесь. — Она лукаво улыбнулась.
Через несколько минут я держал в руках общую тетрадь в клеенчатой обложке. А сам думал: «Что кроется за улыбкой девушки? Она о чем-то догадывается? А что, если?..»
И я стал вспоминать, как Люба разговаривала со мной. Ее улыбка, карие глаза всегда лучились, она будто прислушивалась к себе. Но мне казалось, что так девушка держится и с другими. Чем больше думал я о Любе, тем больше сомневался. А как же тогда Калганов? Нет, так дело не пойдет, надо поговорить с ней…
Встретились мы вечером. По тому, как озарилось радостной улыбкой смуглое лицо девушки, как дрогнули губы, понял: Любе приятна встреча. «Неужели правда? Или мне так кажется?»
Я молча смотрел на нее, и Люба вспыхнула, стыдливо опустила глаза. Она была растеряна. Так стояли мы друг перед другом, оба красные и смущенные…
Как весенний ветерок, влетела Люба на поляну:
— В отряде комсомол будет!
— А может быть, и партия! — подхватил Коршок. — Комиссар собирает у себя политруков и коммунистов. Вот и меня послал за лейтенантами Буяновым и Сачко.
Партизаны встретили новость каждый по своему.
Дмитриев широко улыбнулся. Калганов смутился и покраснел: надо изживать в себе анархистские замашки, а это ой-ой как трудно.
Илюша Астахов решительно тряхнул отросшим чубом, как будто дело касалось вопроса, уже давно и бесповоротно решенного. Годами он, конечно, мал, но опыта житейского у него побольше, чем у иных. «Не спрашивай старого, спрашивай бывалого», — говаривал про Илюшу Анисименко. И это верно. Лишения и тяготы военной жизни Илья разделял наравне со всеми. И попробуй кто из старших пожалеть его, сделать скидку! Задавал же тому перцу Илюша… А вот скоро он поступит в комсомол. По-настоящему, как полагается: при секретаре и председателе собрания. Честь по чести. Все, как у людей. Комсомольский значок, которым наградил его брат Роман за военную хитрость, станет говорить и о принадлежности хлопца к боевому комсомольскому племени.
Илюша бежал вслед за Коршком и пел:
Комсомол у нас будет, У нас будет комсомол!Вечером возле костра на берегу речушки Ивотки проходило открытое комсомольское собрание. Кроме охраняющих лагерь, на собрание пришли все партизаны наумовской группы, даже Артем Гусаков со старухой.
Со времени перехода из Брянских лесов нам впервые довелось собраться вот так, всем вместе. Это была уже не группа, а целый отряд: сотни полторы. У разведчиков появились трофейные автоматы. Многие партизаны обзавелись пулеметами. Была у нас пушка и минометная батарея.
Большинство оружия отнято в боях у полицаев.
Партизаны почти не бывают на базе: все время на операциях. В крупные бои мы не ввязываемся: они нам невыгодны. Наша тактика — скрытый марш-бросок, молниеносный удар по вражескому гарнизону, захват оружия и — расширение партизанской зоны за счет вытеснения или уничтожения полицейских сил. Чаще же мы выходим на засады и на диверсии вблизи сел. Действия одновременно на разных участках путают противника, вызывают растерянность и панику. Этого мы и добиваемся…
И вот мы все вместе. Сами удивляемся. Не думали, что нас такая сила!
Комиссар Анисименко не мог скрыть радости: как самое близкое, кровное дело, восприняли люди весть о создании комсомольской организации: «Сто голов, сто умов, каждый что-то присоветует…»
Необычным было это собрание. Да и трудно, пожалуй, назвать его так. Скорее это дума — одна большая дума о молодежи, о ее месте в партизанской войне. Артем Гусаков так и сказал: «Устав уставом, а что миром положим, так тому и быть». Решая судьбу людей, думали и о дальнейшем развертывании партизанской борьбы в Эсманском и соседних районах Сумщины и Курской области.
Рекомендации давали коммунисты: капитан Наумов, лейтенанты Сачко и Буянов, политруки взводов. Тут все знали друг друга, оценили в боях, кто чего стоит. Знали и о слабостях каждого.
— Человек что замо́к, — сказал Анисименко, — к каждому нужно свой ключик подобрать… Для того и собрались мы здесь. — Комиссар оглядел собрание. — Мы рады за лейтенанта Иволгина, за Любу и Колюху Коршка. Рады за лучших разведчиков Васю Дмитриева, которого не зря называют Соколом, за братьев Астаховых — Романа и Илюшу. — Комиссар поискал глазами Илюшу. — Обе руки поднимаю за младшего Астахова. Я сам ему рекомендацию дал.
— Правильно!
— Илюшку все знаем, достоин!
— А вот как быть с Калгановым, — продолжал Анисименко, — давайте решать. Он, как Иволгин, Дмитриев, Астахов-старший, принят в комсомол еще в армии. Речь о том, чтобы признать его комсомольцем.
Калганов сидел, напружинившись, только стиснутые зубы выдавали волнение. Но этого не было заметно в наступивших сумерках.
Комиссар понимал состояние Калганова, но не щадил парня.
— Вояка и разведчик он отменный, все это знают. Однако с дисциплиной товарищ не в ладах…
Калганов опустил голову.
— Конечно, в одно перо и птица не родится, — изменил комиссар тактику, — и у всякой пташки свои замашки. Но ведь замашки замашкам — рознь. Вот я и думаю…
Нигде так не раскрываются людские сердца, как при решении общих дел. Дипломатию комиссара поняли и «снимали стружку» с Калганова, что называется, до больного места. И, пожалуй, ни от кого так не досталось Калганову, как от лучшего друга и земляка — Васи Дмитриева.
— Добре, хлопцы, — вмешался наконец Анисименко. — Говорить правду — не терять дружбу. Калганов, надо думать, понял, каким должен быть комсомолец-партизан… Поздравим его и всех наших товарищей со вступлением во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
Нас, комсомольцев, стало почти тридцать человек. А будет больше. Комиссар сказал по этому поводу: «Лиха беда — начало!..»
Я часто думал о комиссаре Анисименко.
Когда мы прибыли из Брянского леса, нас едва ли полсотни было. Коммунистов — около десятка. Но комиссар так их расставил, что партийное влияние чувствовалось постоянно. В каждом взводе по ним равняются в бою, им подражают в повседневной жизни. Партийная организация — это пружина, которая постоянно держит на боевом взводе партизан.
Комиссар внимательно присматривался к молодежи. Он прекрасно понимал, что в предстоящей длительной борьбе опираться придется именно на нее. Не жалея сил и времени, возился с молодыми, все усложняя задания, повышая требовательность.
Соответственно прибавлялось забот у самого Анисименко. Но он был по-настоящему счастлив. Он видел: растет молодежь, мужает. Значит, не зря он, комиссар, тратил время и силы.
На следующее утро возле шалаша, в котором жили разведчики, появился Плехотин, бывший полицай, принятый эсманцами в отряд. Это он бросил пулемет, оставив наше головное охранение без огневого прикрытия, и той же ночью вместе со своим земляком Балашовым ушел обратно в Брянские леса. И вот он снова среди наумовцев — самоуверенный и наглый.
Первым увидел Плехотина Вася Дмитриев, а минутой позже — Николай Калганов.
— Так вот ты где попался, голубок, — почти прошипел Калганов, подходя вплотную к Плехотину. — Это по твоей милости нас чуть не прикончили возле Шилинки… Сейчас поглядим, какая у тебя юшка из носа пойдет.
— Стой, Калганов, — перехватил руку друга Дмитриев. — Только вчера на комсомольском собрании стружку с тебя снимали за анархию. Сегодня опять за свое?!
— Калганов в комсомоле? — прищурив глаза, переспросил Плехотин. — Да я бы в три шеи гнал его оттуда. Тоже мне, комсо-мо-лец…
— Заткнись ты, подлая душа, — вспыхнул Калганов. — Не тебе судить о комсомоле. Трус поганый.
На шум из штабного шалаша вышел Анисименко.
— А-а, Плехотин… Какими судьбами? С чем пожаловал?
— От Балашова, из штаба отряда. С приказом. Велено группе капитана Наумова возвращаться в Брянские леса.
— Ну, об этом позже пойдет разговор. А сейчас ответь, где твой напарник, пулеметчик Ефим Новиков, и почему ты оказался вместо Хинельского леса в Брянском?
Глаза Плехотина забегали по сторонам. Он облизнул тонким языком сухие губы, но пытался не показывать растерянности.
— Вот и пришел в Хинельский лес, — деланно рассмеялся. — А про Новикова ничего не знаю. У меня тогда заклинило затвор в пулемете, стрелять было нельзя. Тут нас гранатами забросали из окопов. Чего же зря-то пропадать? «Давай, — говорит Новиков, — Плехотин, отойдем маленько, где мадьяры засели…» Я согласился. Пополз. Новиков с пулеметом следом. Потом услышал крик: «Назад, за мной!» Все наши побежали к Шилинке, я, понятно, тоже. Потом встретился с Балашовым. Тот приказал идти с ним до Брянского леса, в Герасимовку. — Плехотин говорил все увереннее. — Про Ефима Новикова ничего не знаю. Может, к немцам переметнул? Ненадежный парень-то… был.
— Почему — «был»? — сразу же переспросил Анисименко. — Куда он мог деваться?
— Я… я не знаю, — растерялся Плехотин. — Говорю, не видел его с того раза, как ушли с ним от Дмитриева. Мы Васе были приданы в головное охранение.
Комиссар задумался.
— Ну ладно, Плехотин. Отдохни с дороги.
Я слышал этот разговор, и он навел меня на некоторые размышления. Опять, в который уже раз, я с благодарностью подумал о комиссаре.
В жизни каждого из нас встречаются люди, которые стремительной кометой промелькнут перед глазами, на миг осветив мир вокруг… Как ни коротка эта вспышка, все же она оставляет глубокий след в памяти. Для меня таким человеком был наш комиссар — Иван Евграфович Анисименко.
Человек крестьянского склада, он порой бывал немногословен. Но уж если скажет слово, то именно то, которого ожидали: нужное и к месту. Такие люди, как он, не фантазеры и не мечтатели. Они умеют видеть жизнь реально, как говорится, быть всегда на земле. От них отдает спокойствием и силой. Они — сама правда: вымученная и трудная, сердцем найденная и душой согретая.
Жил он, крестьянский сын, до войны в степном селе на Сумщине. Край привольный и село привольное, оттого и называлось — Вольная Слобода. Крепкими корнями врос в землю, наливался силой от ее соков, мужал на знойных ветрах, учился с неуемной жадностью мужика. Университетом была сама жизнь.
Новая жизнь пришла вместе с Октябрем, с Лениным. Встретилась пытливость с новым веянием, зародилась идея. Идея с годами крепчала, закаливалась. Получился характер. Определились свои взгляды: радовался, если радовались вокруг другие. Огорчался, если печалились они… Такой человек не может принадлежать только себе, как вообще не принадлежит себе коммунист. Он нужен людям. И люди шли к нему. Шли с печалью и с доброй вестью. В комиссаре ценили умение найти первопричину событий, понимание того, что человек может, а что ему не под силу. Это давало ему возможность подбирать ключик к сердцам людей…
В отряде Анисименко очень любили и уважали. Один только человек не хотел попадаться на глаза комиссару, Николай Калганов. Злой на язык, необузданный в поступках, не мог выносить разведчик укоризненного взгляда комиссара. Отругал бы или наказал как следует, чем вот так… И маялся Николай, клялся страшными клятвами, сдерживая себя. Но… проходило время, и все начиналось сначала. «Снова, да ладом!» — как говаривал сам виновный.
В свободный вечер Анисименко не прочь посидеть возле костра с партизанами. Кто-нибудь, чаще всего Коршок, Люба или Калганов вполголоса запевают:
В частом поле, поле под ракитой, Где клубится по ночам туман, Там лежит, лежит в земле зарытый, Там схоронен красный партизан…Поют, пока ночь не подступает вплотную к потухшему костру. Партизанам не хочется расходиться. Как будто чего-то ждут… Вот тут-то и подает голос комиссар. Я завидую его умению несколькими словами успокоить человека. Скажет, и нет уже смуты, нет ноющего беспокойства в сердце. И жизнь становится нужной, и смысл находит в ней каждый из нас.
Трудна она и запутана порой, эта жизнь! А комиссар умеет распутать самый сложный узелок.
В поселке Смолень возле Хинельского леса фашисты сожгли семь хат. Погибла жена партизана Пятницкого с двумя малыми детьми. Горячо любил человек свою семью и в один день потерял все. Потерял он и голову, собравшись в одиночку идти во вражеский гарнизон, мстить за смерть близких. Я отпустил его, не подумав о последствиях, не посоветовавшись ни с Наумовым, ни с Анисименко. Каким-то образом узнал обо всем комиссар:
— Кто злу попускает, тот сам зло творит. Ты же, Иволгин, на верную смерть послал человека… Пропадет парень!
Вскочил он на коня, помчался на заставу и едва успел перехватить там Пятницкого.
— Один в поле не воин, Пятницкий. Ну, убьешь ты одного, а то двух паршивых полицаев, а сам пропадешь. Не так надо. Уж коли бить, так кулаком, а не растопыренными пальцами. Пойдешь с диверсантами на железную дорогу. Сбросишь фашистский эшелон. Вот это для тебя. — Анисименко посмотрел Пятницкому в глаза. — Задание дается тебе, партийное поручение. Понял? Возглавишь диверсантов ты. Только смотри не зарывайся…
Если бы не комиссар, трудно предположить, что могло случиться с потрясенным горем человеком. А мне этот случай послужил суровым уроком на будущее. Я запомнил главное: если человеку дана власть, надо пользоваться ею умело.
Или еще один случай. В селе Хвощевке жандармерия схватила партизанскую разведчицу Аню Дубинину. Как только ни глумились враги над юной патриоткой и ее матерью… И не перенести бы матери гибели дочки, казненной на ее глазах, если бы не комиссар. Он, пренебрегая опасностью, пришел в село, помог матери Ани укрыться от глаз и рук предателей и так же, как Пятницкого, вернул к жизни…
Исполосованная тенями поляна, духовитый запах трав умиротворяют человека, отвлекают от жизненных тягот, заставляют забыть о войне.
Вот, словно листик, сорвавшийся с ветки, промелькнула бабочка. Ее привлекла яркая эмаль звездочки на черном картузе комиссара. Звездочка вспыхивает под лучами закатного солнца. Бабочка часто-часто машет крыльями, уносясь прочь от поляны.
— Беззаботная душа! — перехватив мой взгляд, задумчиво улыбается Анисименко. Возле его глаз легли морщинки. — Родилась утром, день попорхает от цветка к цветку, а вечером отдаст богу душу. — Анисименко прикусил стебелек, вздохнул: — А нам вот трудней. Не одним днем жизнь меряем.
— И вечер прихватываем!
Дмитриев бросает на Калганова насмешливый взгляд.
Люба пристально глядит на Николая, а глаза лукавые-лукавые, проникают в самую душу. Видя его замешательство, Илюша Астахов прыскает в кулак. Этот бесенок весь как на ладони. Он уже успел заметить, что Калганов проявляет повышенный интерес к Любе, хотя изо всех сил скрывает свое чувство. Получается это настолько неуклюже, что только сам Калганов и не замечает этого.
Комиссар пропустил реплику Дмитриева мимо ушей. Он словно ничего не видит и не слышит. Просто размышляет вслух. Я знаю его манеру. Он не терпит, когда некоторые воюют как бы напоказ. «Самые опасные для партизанского мира люди — это показухины, — сказал он однажды. — Ненадежные они, бахвалы!..»
Сейчас комиссар готовит нас, пятерых, в дальнюю разведку, на Сейм: надо выяснить, насколько точны сведения местных жителей, которые утверждают, будто на Льговском направлении несколько дней подряд слышали артиллерийскую канонаду. Это могло означать, во-первых, прорыв наших войск и приближение фронта или, во-вторых, отступление нашей армии из района Харькова на север. И то, и другое не могло не отразиться на нашем положении.
Задача была очень сложной.
— Может быть, партизаны рейдом прошли? — высказывает предположение Дмитриев, и сам же отвергает его. — Нет, там, в степях, партизаны почти не бывают. Значит, это был не случайный бой, если судить по канонаде. Так могла работать только фронтовая артиллерия…
— Я думаю, — перебил Калганов, — наши части осуществили глубокий прорыв, и мы скоро соединимся с Красной Армией.
— Вот было бы ловко!.. — загорелся Илюша. — Я бы…
И я бы… Я тоже строю самые смелые планы а своем боевом будущем. Армия — это армия!.. Там свои законы, свои порядки. Невольно сравниваю партизанскую жизнь с армейской, фронтовой. Война в тылу врага идет своими путями-дорогами, по своим особым законам. И хотя воевать можно везде, я бы предпочел армию. Она меня сделала кадровым военным… И потом: победу делает армия, и только она.
Анисименко не знает о моих мыслях.
Комиссар говорит тихо, задумчиво:
— По пути через курские села оставляйте листовочки и газеты. Из тех, что прихватили в брянском крае. Пусть люди увидят газеты своими глазами, пощупают руками, — наставляет он нас. — Там, в степных селах, наш брат — партизан редко бывает, народ не знает правды о положении на фронтах… Вот вы и понесете эту правду… Прочитает один — узнают сотни. Потому слово мое к вам такое: делать все с толком. Без нужды не рисковать…
— Ясно! — вдруг прерывает его Калганов. — Сидят те курские соловьи и поют, наверное, с чужого голоса. Правды ни черта не знают!.. — Взглянул на Любу и спокойно закончил: — Мы ее понесем, правду, Иван Евграфович… Все, как есть, до тонкости растолкуем!..
— И соли пошукаем, — пообещал Илюша.
— Может, посчастливится приемничек раздобыть, — мечтательно говорит Дмитриев. Он не пропустил ни одного слова комиссара: слушал, запоминал. — Я не думаю, что фронт близко… Нам еще долго придется жить в Хинельском лесу… Приемничек очень бы сгодился. Не будет нужды рисковать людьми, посылать за новостями и листовками в Брянские леса. Сами будем слушать Москву и записывать последние известия.
— Ничего не добывайте, — охладил наш пыл комиссар. — Не в комиссионный магазин идете. Ваша задача узкая и конкретная: уточнить сведения о фронте. Далеко ли от Льгова. И все. Попутно оставить листовки…
— Ну, хотя бы рацию, Иван Евграфович, — голос у Любы сильный, чистый.
Калганову кажется, это самый милый голос из всех им слышанных: в нем так много интонаций… Нежных, задушевных, ласковых. Люба — самая красивая девушка на свете. И радостно, что он пойдет с ней так далеко. Шутка сказать — идти на связь с армией!..
Поля погрузились в сумерки. Петля дороги затаилась громадным вопросительным знаком. Дмитриев остановился на развилке:
— Куда идти?
— Направо пойдешь — жену найдешь… — вставляю я.
Калганов подхватывает:
— Налево пойдешь — от тещи умрешь!..
— Ну, началось, — ворчит Дмитриев, однако не выдерживает и сам включается в каламбур. — Прямо пойдешь…
Он не успел сказать, что ожидает того, кто прямо пойдет. Неожиданно до нашего слуха донесся грохот повозки.
— Пропустить! — предупредил я товарищей.
Мы быстро шмыгнули в жито, дождались, пока телега проедет мимо.
— Крадемся, как воры! — возмущался Дмитриев, когда мы снова вышли на дорогу.
— И это на своей земле, голова-елова! — Калганов поглядел вдаль — туда, где скрылась телега и чалая лошадка. — Погодите же, дайте срок! Закончим войну, вернусь из Берлина на Волгу. Приведу в порядок семейные дела. — Тут он недвусмысленно посмотрел на Любу. — Трое суток подряд поспим и айда по всей матушке России ездить, во все уголки заглядывать. Кому помочь, люди добрые? Могу дом срубить и валенки свалять. Могу печи класть и комбайны водить. Но лучше всего — сады разводить да города строить. Красивые, просторные, чтобы ты всех видел и тебя бы видели все. — Калганов все больше воодушевляется. — И специально ездил бы по тем местам, где вот сейчас днем идти не можем. А тогда… свобода! И работа… Пошел бы и пошел работать — до седьмого пота, до кровавых мозолей!
— Эх ты-ы!.. — восхищается Илюша.
Идем по пашне напрямик. Спешим до наступления сумерек перебраться через Сейм и во Льгов войти завтра, в воскресенье, вместе с селянами, едущими на базар. Успеть бы…
Калганов остановился, поднял комок жесткой, высохшей земли. Под ним скрючился худосочный стебелек. Суровое лицо партизана озарила улыбка, так улыбался он, когда смотрел на Любу. Размял в пальцах комок и осторожно присыпал пылью растение.
Вот ты, оказывается, какой, лихой партизан и озорник Калганов! У тебя чуткая, по-крестьянски бесхитростная душа. И ты очень скучаешь по земле, по работе… Тебе осточертело вот так лазать бог знает где, по балкам и буеракам, идти навстречу людям и… опасаться их.
Мне представился Калганов на его родине, в первый день уборочной. На нем любимая сиреневая сорочка, расшитая веселыми васильками. И сам он — веселый, как жаворонок, поет за штурвалом комбайна. И все вокруг него поет и радуется: и налитые тяжелым золотом хлеба, и бездонно-синее небо, и нарядные празднично разодетые девчата.
А колосья — словно тугие косы… Хорошо! Живи и радуйся красоте земли, человек!
Мне кажется, эти слова произнес Калганов, и мне понятна извечная тоска хлебороба по земле. Дать бы ему возможность, ночей бы не спал, все силы отдал бы ей, кормилице…
В мире царит безмолвие. Вокруг — безлюдье. Над полем течет горячее марево… Душно, как в печке. С юга, навстречу нам, в небо вползает тяжелая, темная туча. Воздух становится гуще, хмельнее.
— Яловая, — тычет пальцем в небо Калганов. — Дождя не будет. А надо бы дождичка… Сейчас дождь в самую пору.
Мы понимаем, о чем он говорит.
Город просыпается медленно и трудно, как человек после тяжелого похмелья. Жители привыкли не спешить, да оно и некуда. А если кто и числился на работе, тоже не торопился: не для себя ведь! Целый день впереди.
— От такой жизни позевотой изойдешь, голова-елова!
— А то скулы себе на сторону своротишь, — поддерживает Калганова Вася.
— Тишь да гладь, ни хрена не видать! — распаляется Калганов.
Удручающее впечатление производит на нас город. Жизнь в нем как будто замерла, по крайней мере внешне. Летаргический сон…
Люба и Илюша идут теперь впереди, изредка останавливаясь у листков с немецкими объявлениями, которыми залеплены заборы и витрины. Издали кажется, город осыпан язвенной сыпью. Мельком вникаю в их содержание. Обычные запрещения. Требования немецкой военной администрации. И угрозы: смерть, смерть, смерть!
Улицы быстро наполняются людьми. Но это не горожане. Много жандармов. Значит, город приобретает значение фронтового. Слухи о том, что советские войска вырвались из окружения под Харьковом и отступают на Льгов, могут соответствовать действительности. Люди в самом деле слышали несколько дней назад гул канонады. И еще один факт. Сюда, на Льгов, по дорогам из Глухова и Конотопа шли обозы и маршевые воинские колонны. Мы заявились, что называется, под шумок. И, пожалуй, кстати. Нашему военному командованию небезынтересно будет знать о скоплении войск в такой дыре, как захолустный Льгов. Разумеется, это неспроста.
Возле бывшей церквушки мы обнаружили, к немалому своему изумлению, прожекторные установки, а в городском саду — зенитки и ряды солдатских палаток. Возле них прохаживались часовые. Теперь понятно, почему на улицах мало горожан.
Гулко стуча сапогами, нас догоняет команда солдат. Ведет ее фельдфебель в большой, седлообразной фуражке, явно с чужой головы. Он поминутно поправляет ее, но она упорно налезает на глаза. Фельдфебель обозлен то ли этим, то ли на солдат, которые идут, не соблюдая строя. Он орет, не стесняясь в выражениях. Солдаты в большинстве — пожилые, усталые люди. Зачем они здесь? Спроси, и ни один, пожалуй, не даст вразумительного ответа.
А мне эти солдаты напомнили вчерашний день.
Вчера, обходя город, мы набрели на унылое стадо, оно, казалось, застыло недалеко от реки.
— Там что-то есть! — сказал Калганов, и первый направился туда.
Луговина, по которой мы шли, источала медвяные запахи разнотравья. Над ней стояла застывшая тишина. Шагая по мягкому зеленому шелку луговины, я старался сообразить, что так заинтересовало Калганова. А он шел и шел… Постепенно шаг его становился короче. Вскоре мы увидели четкие ряды крестов с надетыми на них рогатыми касками. Пораженные этим зрелищем, долго молчали. Под каждым таким вот крестом лежат десятки немецких парней.
— Сколько нужных вещей могли бы сделать их руки. А ведь немецкий народ — умный народ. Зачем же дал себя обмануть?
Калганов прав. Сколько таких могильных городков мы встречали на земле украинской, на Орловщине и на побережье Десны! Еще тогда, когда скитались с ним в поисках партизан. С тех пор число могильных холмов значительно увеличилось…
И вот сейчас, глядя на усталых солдат, которые ночью работали на укреплении города, я снова спрашиваю себя: «Зачем они здесь? Что им надо в России?..»
Из переулка в последний раз донесся голос фельдфебеля в нелепой фуражке, наезжавшей ему на глаза…
На площади впервые за многие месяцы войны открылся базар. Об этом, как о великом празднике, местная газетенка начала трубить задолго до его открытия, а старосты специально оглашали по селам решение немецких властей.
— С чего бы это? — недоумевали селяне я озадаченно скребли свои затылки растопыренной пятерней. — Не к добру эта затея.
И не ошиблись. Так оно и получилось. На базаре легче было проверить, что сохранилось у крестьян из продовольствия. Кроме того, гитлеровцы надеялись сделать облаву на молодежь.
А пока…
Пока мы не очень уверенно идем на площадь, хотя в карманах нашей сельской одежонки имеются надежные паспорта — аусвайсы, а у Дмитриева и Калганова — удостоверения агентов тайной полиции. Эти бумажки оказывают магическое действие не только на сельских полицаев, но и на городских постовых и жандармов.
Пистолеты и гранаты мы спрятали вчера на немецком кладбище и в город вошли безоружными. От этого нам немного не по себе. Мы привыкли всегда иметь под руками оружие — с ним чувствуешь себя надежнее. Нам не по себе еще и потому, что у Дмитриева и Калганова запас листовок и по нескольку экземпляров «Правды» и «Красной звезды». Даже экземпляр «Гудка» всего трехмесячной давности! Надо от этого груза срочно избавиться, иначе никакие аусвайсы и удостоверения не спасут.
На приличном расстоянии от Калганова и Дмитриева, не упуская их из виду, идут Люба и Илюша. Я замыкаю шествие, чтобы иметь возможность наблюдать за своими товарищами.
На каждом перекрестке полицаи и жандармы. Жандармов больше. Некоторых пешеходов они подзывают к себе, проверяют документы, привычно ощупывают. Невольно замирает сердце: а вдруг?.. Чаще всего разведчиков подводят мелочи. А если и мы в чем-то просчитались? Иду, не оглядываясь по сторонам. Заметят, не заметят? Позовут, не позовут?
Вот, кажется, и наш черед пришел… Точно! Жандарм в каске с коротко обрубленным шишаком и блестящей медной подвеской на груди поманил пальцем Калганова и Дмитриева: те шли, громко зубоскаля, чем привлекали внимание.
Вася протянул коричневую книжечку со свастикой, вытянулся перед жандармом, бойко представился по-немецки:
— Агент тайной полиции Капф. А этот, — показал на Калганова, — мой напарник, стажер. — Вася рассмеялся: — Ума набирается, господин жандарм. Считает, будто голова не лишняя деталь при нем.
Жандарм расхохотался. Шутка Дмитриева показалась ему очень остроумной.
— О-о!.. Зер гут, очень хорошо! Вы можете сегодня иметь улов: сети надо ставить в мутной водичке. Может и щука попасть. — Снова раздвинул рот в улыбке, блеснув золотом зубов. Угощает Васю сигаретой.
Жандарм полон величия, преисполнен уважения к себе. Еще бы! Его старания заметило начальство — сегодня утром подписан наградной лист и уже отправлен туда, в верха. Он с удовольствием делится этой новостью с господином Капфом. Вася изображает на лице приятное изумление.
Пока он, расточая любезности, поздравлял бравого служаку, Калганов спокойно докуривал остаток жандармской сигареты, взятой «для пробы» у Дмитриева.
Я краем глаза следил за ними. Облегченно вздохнул, увидев догонявших меня товарищей. Люба с Илюшей на противоположной стороне улицы проявляли усиленный интерес к какой-то бумажке на стене. Но вот и они пошли дальше. Пересекли улицу, идут по нашей стороне.
— Надо немедленно сбыть товар, — обгоняя меня, говорит по-мордовски Дмитриев. — Другой жандарм может оказаться не столь любезным. Скажи Илюшке, пусть на базаре разыщет туалет и ждет меня там: передам ему листовки, а он поделится с Любой.
Нам, «лесным людям», этот базар показался на редкость многолюдным и шумным. Над толпой висел ничем не сдерживаемый гомон. Демон наживы управляет толпой, ее стихией и страстями. Здесь люди преображаются.
Демон наживы живет в притихших дельцах, злых неудачниках. Они ошалело суетятся, растирают помятые бока, то и дело поправляют замызганные картузы и соломенные шляпы.
Наше внимание привлекли мадьярские солдаты. Они предлагают пайковое мыло, спички, соль и сахарин в обмен на сало и яйца.
Деревенская молодуха с узелочком яиц ожесточенно торгуется с пожилым полинялым венгром.
— Да разве ж это мыло? Песок с эрзацем! Как им малую детину мыть? Всю шкуру спустишь! — Она послюнявила палец, провела по брусочку: — Вишь, человече, — ни пены, ни духу в нем нет. Какое же это мыло? А ты десяток яиц запросил. А где их взять, яйки? Сами курей попереловили да съели… — Решительно сунула кусок обратно. — Три дам, больше и не жди!..
Вдруг мадьяр резко опустил руки, стал во фрунт. К нему подошел немецкий солдат и влепил союзнику две звонкие пощечины:
— Молоко, яйца и масло не продаются и не обмениваются на рынке. Молоко, яйца и масло предназначены для питания только немецких — слышишь ты, свинья?! — только немецких солдат! Солдат фюрера! — повернулся к молодице, вырвал из ее рук узелок. Продолжая ругаться, пошел дальше, наводя «порядок».
Второй мадьяр оказался похитрее: он запасся спичками и мешочком соли, тоже очень редким товаром. Воровато оглядываясь, выискивал покупателя посостоятельнее, «настоящего», с которым можно «махнуть» баш на баш. Тощий старик с печальными глазами и словно прилепленной козлиной бородкой — не клиент. И говорить с ним нечего. А тот прилип, как смола. Просит продать всего один стакан соли — для больной внучки.
— Нутрё у ней хлипкое… Преснятины не принимает. А соли, говорю, нету… Ты бы, пан, на деньги продал сольцы… Из милости прошу. Потому как самим жевать нечего: нету, говорю, в доме ни сала, ни прочего такого — на обмен. Хоть шаром покати. Травяные лепехи жуем. И то без соли… Продал бы ты мне соли Христа для… Не для себя, для внучки прошу…
Мадьяр сжалился. У самого трое детей. Ждут отца в бедной деревеньке, затерявшейся в родной Венгрии… Ждут… А дождутся ли?..
— На, пан! Один сотка — два стакан.
Таких денег у старика не было. Он дал солдату две красненькие бумажки-тридцатки. Солдат мигом засунул деньги в один из карманов — подальше от греха. Еще раз внимательно осмотрелся кругом и ловко опрокинул стакан в подставленный дедом мешочек. Старику полагалась сдача: десять рублей. Солдат отдал за них полкоробка спичек, заранее связанных в пучок зеленой ниткой. Обе стороны разошлись довольные.
А я все стоял и думал: сегодняшний базар являл собой столкновение двух миров — мира хищников, темных дельцов и трудового люда, вконец ограбленного, обездоленного. Один мир использовал страдания, беды Родины для своего обогащения, другой — страдал вместе с нею. Особенно ясно почувствовал это после нескольких фраз, которыми обменялись два мужика, вероятно односельчане. Один из них продавал муку — просил семьсот рублей за пуд.
— Не стало житья нашему брату-мужику. Масло дай, молоко дай… Шерсть, кожу, щетину — тоже сдай. Ну, ладно, сдали у кого что было. Теперь вот деньгами налог поднесли… За хату плати, за огород плати, за трубу печную плати и за окошки опять же плати. Собака есть — за нее налог! Да чтоб тебя разорвало, черта лысого! Вот и продавай последний куль мучицы. А сами зубы на полку!.. Так-то, брат…
В этих словах и горечь, и боль, и стыд за то, что не могут они жить с расправленными крыльями, как живут села хинельской партизанской зоны. Выследили враги партийное подполье, обезглавили. И остались люди без вожаков…
Толпа ворочается, перемешивается, как тесто в квашне…
— Играем в три листика! — приманивает к себе людей пропойным голосом толстомордый, похожий на бугая босяк в майке. Все его тело разукрашено татуировкой.
Когда он успел здесь появиться? Ведь только что вертелся возле жандарма, беседовавшего с нашими разведчиками.
— В три листика! — оглушительно орет он. — На валет, десятку и туза!.. А ну, подходи за счастьем! — Карты так и мелькают между пальцев. — Подходи, не стесняйся! Рупь поставишь, два возьмешь! Два поставишь…
— Хрен возьмешь! — опередил Калганов. — С такой вывеской на фронте надо быть, а ты… Дать бы тебе по соплям, да опасаюсь жилетку твою забрызгать!..
Босяк опешил, как-то сник, съежился. Руки с картами спрятал за спину.
— Ты чего на своих орешь?..
— Идем, черт, — шипит Дмитриев. — Не ввязывайся!
— Постой, Вася, — горячился Калганов. — За своего принял, сволочь! Думает, я такой же, как он, полицейский хвост!..
Дмитриев увлекает Николая дальше от места ссоры.
— Больше слушай, а сам помалкивай.
— Дамочка, вот туфли на высоких каблучках. Люкс модерн! Шедевра!.. Как раз на вашу ножку! — пытается всучить товар слоноподобной тетке плюгавенький мужичишка.
— Отстань! — лениво отбивается она. — А то ненароком прижму к себе, юшка из тебя так и потечет!
— Трусики с кружевами, заграничные! Кому трусики с кружевами?
— Откуда вся эта сволочь ползучая вылезла? Вот черт, дыхнуть нечем!.. Ох! — Калганов вдруг остановился, рванулся вперед, расталкивая людей: — Лошадку чалую я приметил, Вася. Это она нас обогнала прошлым вечером. Мы еще в посевах укрылись, помнишь?
Возле телеги суетилось существо, напоминающее паука. Смотришь на него и кажется, что человек состоит из одного брюха, остальные части тела — только придатки для его обслуживания. Тонкие, необычайно подвижные руки — не хуже тех, какими природа наградила бугая-картежника; руки с пальцами-щупальцами, чтоб хватать добычу. Короткие, кривые ножки — чтоб бежать и настигать ее… Глаза — чтоб видеть, а огромный лягушачий рот — чтоб заглатывать добычу. Подвижный и терпеливый, он умеет затаиться до поры и ждать, чтобы потом вернее — мертвой хваткой — вцепиться в жертву. Спрут, наделенный человечьим обличьем.
— Так вот от кого мы прятались, Василек! — Калганов наблюдал за пауком. А тот, будто сделанный из шарниров, все время двигался, что-то высматривал, к чему-то прислушивался.
На старинном обшарпанном комоде по соседству с мешками прошлогодней картошки стоял граммофон, такой же старый и нелепый, как музыка, которая исторгалась из широкой его пасти. Цирковые клоуны Бим и Бом, которые еще в прошлом веке развлекали своими пошленькими куплетами скучающих купчих, сегодня во Льгове шипели что-то несуразное.
Неожиданно «спрут» выбросил вбок руку и вцепился в ухо маленького оборвыша, заглянувшего в бочку на телеге. В голодных глазах мальчика метался испуг. Бледное лицо исказилось от боли.
Рывком стащив с телеги жертву, «спрут» зашипел ему в лицо:
— Яблоки вздумал стащить, шпана? — Он все больше закручивал побагровевшее ухо.
— Не брал яблок, дядечка, отпустите! — Крупные слезы текли по лицу мальчика.
— Врешь, гаденыш!
Глаза «спрута» налились кровью. Он тяжело дышал. Возле телеги стала собираться толпа.
— Искалечит ведь, надо отнять.
— С ним только свяжись, рад не будешь…
Калганов мертвой хваткой сжал руку «спрута»:
— Отпусти хлопца.
Тот что-то заворчал. Трудно сказать, чем бы закончилась эта сцена, если бы на Люба. Она протянула руки к плачущему мальчонке, прижала его к себе:
— Ну, не плачь, братику, не плачь. Есть хочешь, да? Вот возьми, поснидай. Бери, бери, не бойся. — Она протянула узелок с продуктами. — Поешь. Никто тебя не обидит больше. Успокойся. — Повернулась к «спруту», измерила его презрительным взглядом: — Носит же земля таких!
Воспользовавшись тем, что собралась толпа, мы весь свой партизанский товар — листовки и газеты — рассовали по карманам и кошелкам крестьян, толпившихся возле повозки.
Предположение о прорыве советских войск не подтвердилось. Это выходила из окружения харьковская группировка.
Благополучно выйдя из города задолго до комендантского часа, мы встретились на кладбище и стали восстанавливать в памяти все подробности, оценивать свои действия. Совершенно в новом свете предстала Люба. Я видел, как волновалась она, когда получила листовки от Илюши. «Как же я полезу кому-то в карман или в чужую кошелку? А вдруг заметят? Подумают, что я — воровка?»
Замирая от страха, она кое-как подсунула первую листовку какому-то здоровенному дядьке. Со второй дело было легче — она оказалась в кошелке пожилой женщины. В людской толчее возле телеги с яблоками Люба быстро освоилась и без помех избавилась от остального «товара».
Из доверительного разговора с женщинами из дальних южных деревень Люба выведала об окруженных под Харьковом советских войсках. Прорвавшись, они уходили на восток, к фронту. Узнала Люба и о том, как живется людям за Сеймом.
Васе Дмитриеву удалось подслушать на базаре обрывок разговора вражеских солдат: не подозревая, что их понимают, они говорили о предстоящем наступлении на Кавказе.
Побывав во Льгове, мы могли ответить на все вопросы, поставленные комиссаром Анисименко и капитаном Наумовым. Кое-что представляло интерес и для фронтового командования.
СОКОЛ
Отблески пламени освещают задумчивые, суровые лица. А к костру все подходят и подходят партизаны, молча прислушиваются к многоголосой беседе.
— Эх, жизнь-жестянка, — вздыхает кто-то. — Где ты сейчас, моя синеокая? Как нужду-горе мыкаешь? Чай, все глаза выплакала, своего хозяина дожидаючись?
— Не она одна горе мыкает, и у нас семьи есть. — Каждому хочется хоть на мгновение приоткрыть свою душу.
А Вася Дмитриев говорит совсем о другом:
— Хорошо будет тем, кто останется жив. — Достал веточку из костра, прикурил. — Города, села, что пожег фашист, заново поднимутся. — Поискал глазами Калганова: — Вместе с Колей в одну строительную бригаду пойдем… Чистые, светлые дома будем строить. — Вася задумчиво следит за струйкой дыма, выпущенной изо рта. — Да и не только это. Сам человек другим будет, вот посмотрите. Война многих заставит на жизнь смотреть по-другому. Человек добрее будет. Ни зла, ни корысти, один другому друг, товарищ. Поможет, выручит.
— Как мы?
— Да, Илья, как мы, партизаны. — Вася умолк. — Наверное, не так говорю, смешно? — спросил через мгновение.
— Все верно, голова-елова. Осталось всего ничего. Фашистов кончить, а так сразу за твой сладкий чай можно садиться.
Вася помешал прутиком золу, подбросил в костер сухие ветки. Задумался.
Родом Дмитриев из-под Ульяновска, мордвин, как и мы с Калгановым. Широкоплечий здоровяк, он выглядел моложе Николая, хотя они ровесники. Наверное, потому что блондин. А может, молодили парня глаза: голубые, как незабудки. В немецкой форме он очень смахивал на «настоящего арийца». Дмитриев хорошо владел немецким языком. Для партизан такой человек был настоящим кладом.
Меня Вася Дмитриев заинтересовал сразу. Я все время присматривался к нему, прислушивался. Действительно, парень смелый, а точнее — отчаянный. Позже в нем мы открыли и лихого наездника.
— Так я же пограничник, — усмехнувшись, пояснил он. — Нас обучали не только верховой езде, а и искусству вольтижировки.
Носил Вася кубанку, белесый чуб выпускал по-казачьи. За лихую удаль и задушевные песни полюбили его не только партизаны, но и многие жители окрестных сел.
— Тебя бы, Вася, в Академию Генерального Штаба послать. Хороший партизан мог бы получиться, — посмеивается Калганов.
— А что? — серьезно отвечает Дмитриев. — После победы многие академии генеральных штабов будут изучать опыт партизанской войны…
Особенно любил слушать такие разговоры Коршок. Он смотрел буквально в рот Дмитриеву, своему побратиму.
В небо взвились искорки. Навстречу им падала звезда.
— Ребята, видели, сейчас звездочка упала? — прошептала Люба. — Пока она летит, надо загадать желание. Оно обязательно сбудется…
— Что же ты загадала?
Это Илюша Астахов. Он везде успевает.
— Загадала, Илюша, чтобы мы все собрались на этом месте через двадцать пять лет после войны. Сидели бы возле ночного костра, вспоминая сегодняшний день.
— А это будет?
— Обязательно будет, Илюша.
— Кем я тогда стану?
— Не меньше, чем инженером.
— А Наумов? — снова не удержался Илюша.
— Не знаю, — призналась Люба. — Наверное, военным. Может, генералом.
— А ты, Люба?
— Она будет хорошей женой, — вмешался Калганов.
Люба, вспыхнула и опустила глаза.
— Сокол кем? — донимал Илюша.
— Вася будет большим артистом. Он талант!..
Калганов передает мне гитару:
— Давай, лейтенант, нашу любимую. — Под мягкий рокот струн он тихо запел:
Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза…Люба смотрит на Калганова, глаза у нее большие-большие. Глядит так, словно хочет проникнуть в душу. Потом переводит взгляд на меня. В карих глазах просвечивает грусть. Знает, скоро предстоит длительная разлука… Тряхнув головой, отгоняя печальные мысли, она поет вместе с нами:
Пой, гармоника, вьюге назло, Заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви…Вася ушел в себя…
В отряде недаром зовут его Соколом. Стремительный в бою, бесстрашный. Сколько раз побывал он в переделках, из каких безвыходных положений выходил!
Знание немецкого языка, умение перевоплощаться дают ему возможность проникать в гарнизоны гитлеровцев.
Нашим друзьям-подпольщикам и партизанским разведчикам нужны бланки аусвайсов, арбайтскарт и других удостоверений, введенных немцами для населения оккупированных областей. Дмитриев ухитрялся покупать их у чиновников на бирже труда, выпрашивать у комендантов «для одной знакомой» и просто похищать, если была возможность. Особенно ценили мы в разведчике умение добывать важнейшие сведения. Приходилось только жалеть, что у нас нет возможности пересылать их на Большую землю. Добытые с таким трудом и риском, они не всегда использовались нашим фронтовым командованием. У нас до сих пор нет связи с Центром, а пересылать разведсведения через рации из Брянского леса так же сложно, как и добывать их. Пока доберешься до Брянского леса! Да и доберешься ли? Противник перекрыл все возможные пути от Хинельских лесов.
В последние дни Дмитриев занялся совершенно неожиданным предприятием, которым успел заразить и меня. Он задумал проникнуть в глубинный район Сумщины, провести среди населения сбор средств на танковую колонну «Советский партизан», а заодно наказать попа — немецкого осведомителя.
Сокол просил в напарницы Любу.
Мы обсудили все подробности с Наумовым, разрешение на выход дали, но дополнили группу Сокола еще несколькими автоматчиками.
Сегодняшний вечер — последний для разведчиков в кругу друзей.
Следующий день прошел как обычно. Мы с Дмитриевым уединились и долго колдовала над картой, обсуждали разные варианты разведки.
— Долгие сборы, долгие хлопоты, — сказал Сокол. — Нельзя всего предусмотреть, Анатолий Иванович. — Пойдем к капитану, доложим о выводах.
Наумов и Анисименко уточнили наш план, дополнили.
— Главное, — как всегда, предупреждает комиссар, — не терять головы, не зарываться. Как говорится в народе: семь раз отмерь…
— Ну, ни пуха ни пера! Иволгин, проводи разведчиков, — это сказал Наумов.
Группа выступила, когда солнце уже садилось за деревья.
Люба немного отстала от товарищей, ожидая меня на опушке. Впереди, на тропинке, с тревожным писком пробежала трясогузка.
— Вот и пташка дорогу вам легкую показывает, — пытался я пошутить. — Все будет хорошо, Любушка.
— Дальше не ходи, — сказала Люба. Порывисто прижалась ко мне. Замерла. Я слышал, как тревожно стучало ее сердце. — Пожелай мне что-нибудь на дорогу.
— Береги себя, Люба. И… возвращайся скорее. Я буду ждать тебя. Очень…
— Поцелуй, — шепнула Люба. — Крепче… А теперь — прощай, родной.
Отец Афанасий сморщил мясистый нос.
— Ох, и смердит от тебя, старче! — Батюшка подозрительно втянул носом воздух. — Над питием усердствуешь? Нехорошо, старче, богопротивно. В таком образе да в храм божий…
В полумраке опустевшей церквушки перед отцом Афанасием стоял старик в длиннополой свитке из шинельного сукна.
— Отпускаются грехи рабу божьему…
— Соколу, святой отец! Партизанскому разведчику Соколу!
Рука попа, поднятая для благословения, застыла над лысиной старика.
— Чур меня! Чур!
— Чур так чур! — согласился Дмитриев. — Только с уговором: о моем к тебе визите не смей доносить Штольцу, не то многогрешная душа твоя отлетит от телес твоих и прямиком в геенну огненную. С моей, конечно, помощью. А то ты фашистам служишь больно усердно.
Сокол выпрямил спину. В его голосе послышались жесткие нотки. Неумолимо и строго он говорил попу:
— Велю тебе, отче, разъяснить пастве, что народ православный по всей округе собирает пожертвования на танковую колонну для Красной Армии. Деньги через партизан переправятся на Большую землю. На той неделе я наведаюсь к тебе. Собери к тому времени пятьдесят тысяч рублей. Да не вздумай у меня шутить! И в грехах раскаяться не успеешь…
Дмитриев исчез, оставив отца Афанасия с открытым ртом.
Вот какая оказия! Сам Сокол пожаловал! И головы своей не пожалел, хотя она оценена в полновесных сто тысяч марок… Хитер! Бороду приклеил, парик натянул и самого отца Афанасия запросто провел: запах эфира в клее принял за спиртной дух. А уж он ли, отец Афанасий, не знает толк в спиртном!
Через неделю возле поповского дома остановились парень и девушка. Скрипнула калитка. В дверь несмело постучали. Натягивая рясу, отец Афанасий ворчал:
— Кого еще несет нечистая сила в такую рань?
— Ребенка окстить, батюшка, — послышался в ответ женский голос.
— Младенца окрестить? Можно бы, да…
Вперед выступил статный парень с волнистыми белокурыми волосами. На нем сатиновая рубаха и плисовые шаровары, выпущенные поверх хромовых сапог.
— Мы за ценой не постоим. Вы уж, батюшка, уважьте.
Парень развязал торбу, выставил на диван четверть самогона, горшок с медом, выложил жареного гуся.
Поп с удовлетворением оглядел все это и повернулся к попадье:
— Матушка, приготовь-ка для крещения что надо!
Опережая попадью, парень раскрыл дверь:
— Я пособлю, батюшка.
Что-то со звоном грохнулось об пол, послышалась ругань, какая-то возня. Попадья выскочила в сенцы.
— Крестная мать, — Люба швырнула сверток под кровать. В руке блеснул браунинг. — Сокол по-хорошему договаривался с тобой, отче, а ты…
Дмитриев, тяжело дыша, вышел из кухни:
— Деньги, поп! Уговор дороже денег! Ну, живо!
Поп рухнул на колени, пополз к Дмитриеву, стоящему возле кровати. В полутьме из пеленок, брошенных «кумой», сверкнули два зеленых кошачьих глаза и шевельнулись длинные усы. Поп отпрянул в сторону:
— Свят, свят!
— Не мешкай, святой отец! Где деньги? Не все же еще ты передал Штольцу?..
— Там… под матрацем. В чулке…
— Ясно! — Дмитриев вытащил чулок, доверху набитый деньгами. — Сколько в этой колбасе?
— Двадцать шесть тысяч… Больше не набралось. Оскудел народ.
— Плоха у тебя память, поп! А кубышка в погребе? — Дмитриев посуровел. — Ложись на пол. Стрелять буду — услышат на улице. Ты сам себя взорвешь. Заминируем тебя, а мина-то и сыграет отходную!
Поп плюхнулся на живот. Сокол достал из торбы увесистый кирпич и положил на широкую спину отца Афанасия. Поп лежал ни жив ни мертв.
— Ох, и смердит же от тебя, отче!.. — плюнул, Дмитриев. Люба фыркнула, не в силах сдержаться, и выскочила в сенцы. Там тряслась от страха попадья.
— Попадью — в сарай! Тоже заминировать! — распорядился Вася.
Сколько раз умирала попадья от страха и сколько раз воскресала, она и сама не могла бы сказать. Мысль о мине, лежащей на спине, приводила ее в ужас.
«За грехи мои тяжкие», — думала она обреченно. В толстую шею жадным хоботком впилась большая муха. И попадья не выдержала. — Брошусь в погреб, — в отчаянии решила она. — Мину спихну и… сигану. Авось не до смерти убьет…»
Осторожно, стараясь не делать резких движений, матушка поползла. Наверное, за час она проползла несколько метров, отделявших ее от погреба. Раскрыв рот и дыша, как загнанная лошадь, она свесила голову в яму, закрыла глаза и бросилась на бочонок с соленьями. За ней покатился сухой кирпич кизяка, положенный Соколом вместо мины.
Гневу попадьи не было предела: столько страху перенесла! Может, партизаны и с отцом Афанасием такую же шутку выкинули?
Она ринулась в дом.
— Тише, матушка, — взмолился отец Афанасий, узнав тяжеловесную походку своей супруги. — Не тряси половиц, на мне мина партизанская сидит.
Обозленная попадья пнула отца Афанасия под ребра:
— Дурак безмозглый! Ми-и-и-на!.. Много ты в минах понимаешь!
Группа Сокола, успешно выполнив задание, собралась в обратный путь, на хинельскую базу. По пути побывала в Шостке и в Глухове. Новости добыла важные, о них следовало срочно сообщить фронту.
Поймав на лугу лошадь, Сокол отправил вперед Коршка с донесением.
— Скачи, не щадя ни себя, ни коня. Надо, чтобы связные тотчас же переслали донесение в Брянские леса, а оттуда — в Москву. Мы придем попозже… Еще кое-куда завернем попутно.
Коршок примчался на базу запыленный, усталый… Хватив ковш холодной воды прямо из ручья, побежал к штабному шалашу.
— Товарищ лейтенант, с донесением от Сокола. — Посмотрел с удивлением на уздечку, которую нес через плечо, и швырнул ее в угол.
— Что с Соколом? — встревожился я.
— Все живы-здоровы, через три дня заявятся. Вести важные, надо в Москву переслать.
Я долго выспрашивал Коршка о походе, о том, как захватили оберштурмфюрера Штольца, что именно удалось узнать в Шостке и в Глухове. После этого изучил записку Сокола: Дмитриев писал на мордовском языке по условному шифру.
Основательно дополнив сообщения Сокола, написал очередное донесение командованию Эсманского отряда. Когда содержание выучат наизусть Калганов и братья Астаховы, бумажка будет разорвана на несколько неравных частей. Клочки донесения посыльные разделят между собой и спрячут. Словом, примут меры к тому, чтобы противник, даже схватив партизанских связных, не мог обнаружить этих бумажек.
Первым в штабной шалаш влетел Илюша:
— Готово, товарищ лейтенант!
— Ну что же, давай проверим. Говори.
Илюша встал, как ученик перед учителем, глубоко вздохнул и начал:
— По сведениям нашей разведки, прибывшей из глубинных районов Сумщины, установлено: в Глухове сосредоточено три пехотных батальона, из которых два мадьярских, один — словацкий. Там же отмечено большое скопление автогужевого транспорта. Противник указанными силами намерен в ближайшие дни прочесать Хинельские леса, блокировать партизан, чтобы обеспечить своевременную, без помех, уборку урожая, а также вывоз зерна на охраняемые элеваторы.
Полиция Эсманского и прилегающих районов принимает меры по охране уборочных машин и молотилок. Население обязано сдать гитлеровцам хлебопоставку — по тридцать пудов с гектара.
Нами принято решение организовать контрмеры, направленные на срыв хлебоуборки и заготовок. С этой целью направляем три взвода на декадный срок в несколько районов области… — Илюша передохнул. И снова, наморщив лоб, слово в слово повторил следующий пункт донесения: — Просим срочно сообщить фронту о скоплении противника в городе Глухове, чтобы уничтожить его нашей бомбардировочной авиацией. Основная цель — район аэродрома — будет указана красными ракетами.
Из рассказов насильно завербованных жителей, недавно сбежавших из эшелона по пути в Германию и вернувшихся в Шосткинский район Сумщины, установлено: немцы восстанавливают старую укрепленную линию обороны и возводят новые фортификационные сооружения вдоль побережья Западного Буга… Все верно? — справился Илюша.
— Молодец, товарищ Астахов, все точно!
Когда каждый связной был проверен, а обрывки донесения тщательно спрятаны, я вручил Калганову документы уничтоженных Соколом полицаев и гитлеровцев, документы вновь принятых партизан и саквояж с ценностями, отобранный Дмитриевым у гестаповского офицера.
— Передашь в отряд. Случится заваруха, взорви гранатой, чтобы и клочка не осталось.
— Знаю, чего там, — проворчал Калганов. — Я собаку съел на этом…
— Гляди, чтоб теперь она не съела тебя…
Комиссар Анисименко, молча слушавший нас, добавил:
— Идите по намеченному маршруту, старайтесь не отклоняться от основного направления. Мы располагаем сведениями о том, что противник вновь активизируется… — Комиссар строго посмотрел на Калганова: — Ты, Калганов, — старший. С тебя и спрос за все. Имей в виду, рисковать запрещаю. Ни тебе самому, ни твоим товарищам. У вас очень важные документы и ценности… Туда спешите изо всех сил. Обратно — по обстоятельствам.
Вместе с посыльными я вышел из лагеря, проводил их до северной опушки.
Мне думается, что в партизанской войне основную роль играет разведка. В самом деле, бойцам обычных подразделений все-таки иногда выпадают часы отдыха. А вот разведчики все время в движении.
Может быть, это утверждение покажется странным на первый взгляд, но особенно достается разведчикам при стабильной обороне, когда отряды базируются на одном месте. Ежедневно, в любую погоду, по бездорожью, а иногда и в колоннах противника, они проходят десятки километров, вступают в неравный бой, проявляя смекалку и отвагу. Многие гибнут…
К счастью, наша посыльная группа вернулась из Брянских лесов жива и невредима. Илюша Астахов лично передал устное донесение в штаб отряда, и его наградили настоящим армейским компасом. Илья так и сиял.
— Я уже пробовал ходить по нему, да не получается. Вы бы мне растолковали, товарищ лейтенант.
— Обязательно, Илюша. И карту изучим с тобой, и как надо пользоваться компасом — все знать будешь.
— Все опушки по-прежнему забиты немцами и мадьярами, — доложил Калганов. — Они расположены в селах Гаврилова Слобода, обеих Гутах, Голубовке и далее, по линии оборонительного пояса «осадной» армии. Гарнизоны увеличены до пятисот-семисот человек в каждом населенном пункте. Помнишь Носатого? — Калганов усмехнулся. — Так и в том селе теперь стоят мадьяры, человек до двухсот… Попробуй, прорвись в Брянский лес, да еще с обозами, как нам приказал Балашов из штаба отряда…
— И о чем он там думает? — недоумевал я. — И сами как следует не разворачиваются, и нам воевать не дают.
Калганов протянул кисет:
— Кури. А насчет воевать… — он выпустил дым из обеих ноздрей. — Мы и здесь воюем, и по пути из Брянского леса маху не даем!
Я насторожился:
— Ты о чем?
В разговор вмешался Роман Астахов. Обычно замкнутый и молчаливый, он предпочитал больше слушать.
— Мы в Брянском лесу достали мины новой конструкции — их наши артиллеристы сами изготовляют… Решили по пути в Хинель испытать, что за мины получились. Сделали засаду, захватили полицейскую подводу. — Смуглое лицо Романа покраснело. Так много он редко говорит.
— Ромка решил: лучше ехать, чем идти, — посочувствовал ему Илюша. — Потому как… Это же Роман, сами знаете!.. Он больше любит на коне сидеть, не то, что мы.
— Поехали мы днем, прямо по дороге, — передохнув, начал Ромка. — А повозка не пустая: барахлишко полицаев сложили мы под себя, чтоб мягче сиделось. — Роман усмехнулся: — Возле села мы с Калгановым сошли, Илюша остался в повозке, проехал через мосток… А одежонку-то, я забыл сказать, мы заминировали…
Калганов не выдержал медлительной речи Романа:
— Спрятались мы под мосток, а Илюха едет в село. А там наперехват ему — полицаи. Илюшка будто испугался их, драпанул обратно. Нырнул в кусты возле речки и пропал с глаз.
— А полицаи бросились к телеге, стали хватать шмотки: как-никак трофеи! — смеется Илюша. — Ну, мина ка-а-а-ак шарахнет!
Я чуть за голову не хватался, слушая рассказ. Вот черти! Это затея Калганова, не иначе. Горбатого, говорят, могила исправит.
— Остальные мины мы на дорогах поставили. И пошли в родные Хинельские леса.
— Не совсем прямо, — уточнил Илюша слова Калганова.
— То есть?
— Возле Воскресеновки поймали на поле пятерых безоружных полицаев. Ну, которых насильно записали. Дали им записку и отпустили с миром.
— Какую еще записку?
— Ультимат… Написали так, — Илюша закатил глаза под лоб, вспоминая содержание партизанского ультиматума. — Ага, вот: «Воскресеновской полиции предлагаю в течение тридцати минут сдать пулеметы и остальное оружие, для чего сложить его на северной окраине села Воскресеновка. За это пощадим вашу жизнь, а желающих примем к себе. Не пытайтесь скрываться или сопротивляться: село окружено засадами. Командир партизан — Наумов».
— Как же вы осмелились от имени Наумова предъявлять ультиматум? Ты, Калганов, забыл, как стадо пасут нарушители и своевольники? Мало тебе «майора», скоро генерала присвоят!.. Так и знай, выгонят тебя из комсомола.
— Ты не кипятись, голова-елова. Наумов сам мне такую записку давал перед уходом в брянский край. Сказал: если случится мимо Воскресеновки проходить на обратном пути, подкиньте мою записку… — закончил Калганов невинным голосом. — А нам как раз мимо и вышла дорога… Как тут не воспользоваться случаем? Опять же полицаи встретились: обе высокие стороны налицо…
В шалаш вошел Вася Дмитриев. Молча присел у входа, достал кисет и стал слушать Калганова.
— Полицаи на наш ультиматум стали собираться в конце села, чтобы сложить оружие. Шли, вправду сказать, не вприпрыжку. Тянулись, как на страшный суд… А тут, откуда ни возьмись, прикатил офицер полиции Тыхтало с личным конвоем. Он арестовал тех, кто пришел сдаваться, и на телеге увез в Сальное, в волость.
— Тыхтало? — встрепенулся Вася. — Он разве в волости?
— Пока в волости. Приехал-то вообще из Севска, районного города. — Калганов задумался. — Понимаешь, лейтенант, мне сдается, полицаи пронюхали о том, что мы наметили нападение на гарнизоны степных сел севернее Хинельских лесов. Вот и принимают меры. Тыхтало не зря появился в Сальном. Он обязательно зашлет свою разведку к нам в лес.
— Калганов прав, Анатолий, — подал голос Дмитриев. — Мы ведь здесь не одни: есть еще и «степной» отряд Ковалева. Осведомители могут осесть как раз в этом отряде и оттуда наблюдать за нами. Надо предупредить Наумова.
— Да-а, дело принимает серьезный оборот.
Прибежал Коршок и сказал, что меня вызывает Анисименко. Ничего хорошего я не ожидал. Беседу с глазу на глаз комиссар назначает только тогда, когда «снимает стружку», распекает за упущения или халатность.
Я не ошибся. На этот раз мне досталось за фокусы Калганова в разведке. Якобы я распустил разведчиков, вот они и «отличаются». Оправдать поступок Калганова было нечем, и я отмалчивался.
— Молчанием прав не будешь, — комиссар заметил мой маневр. — Так говорили в старину умные люди. Скажи Любе, пусть зайдет ко мне. Надо собрать комсомольцев.
Кажется, он сказал вслед мне слово, от которого меня бросило в жар: «Анархисты!»
Комсомольское собрание проходило бурно. Обсуждалось персональное дело разведчика Калганова. Комиссар Анисименко перед собранием сказал Наумову:
— Придется наказать парня, чтоб и другие урок извлекли: сколько удальства, столько и дурости.
Наумов поднялся из-за самодельного столика, свернул карту: он готовил операцию по разгрому волостной управы в Сальном.
— Пойдем, комиссар, послушаем, что народ скажет. А наказать Калганова следует. Это ты верно заметил.
Опять партизаны пришли на берег Ивотки, где обычно проводились комсомольские собрания.
— Калганов пренебрег народной мудростью, нарушил заповедь: с самого начала думай о конце, — говорил Анисименко. — Как старший группы он сразу же, по выходе из Брянского леса, допустил оплошность. А ведь известно, что малая оплошка доводит до большой беды. Зачем ему понадобилось минировать повозку? Мы не так богаты боеприпасами, чтобы на паршивых полицаев тратить взрывчатку… А вдруг бы эту телегу встретили детишки, а не полицаи? Как бы он, Калганов, оправдал их гибель? Что бы мы сказали родителям этих детей? — Анисименко посмотрел на Калганова. — Но главная ошибка Калганова в том, что он подвергал неоправданному риску своих товарищей. Вот и Илюшу тоже…
— Чего цацкаться с ним, с Калгановым? — раздался голос Плехотина. — Гнать его в три шеи не только из комсомола, а и из отряда.
Поднялся шум.
Кто-то дал отповедь Плехотину:
— Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала! Калганов — настоящий разведчик, а ты — трус. Мы не забыли, как ты бросил пулемет в бою и сбежал с Балашовым в Брянский лес.
— От страха чуть штаны не потерял!
Люба еле утихомирила собрание. Очень уж накалились страсти после реплики Плехотина.
— Значит, вали на серого, серый все вывезет! — снова заговорил Анисименко. — Калганов виноват. Он заслуживает наказания. Но виноваты и мы с Наумовым, виноваты командиры и политруки, виноваты коммунисты и комсомольцы, все наше боевое партизанское братство. Надо строже спрашивать друг с друга. Надо укреплять дисциплину.
— Прошу слова, — раздался голос Дмитриева. — Вы знаете, Калганов мой самый близкий друг. Вместе ходим на задания. Хорошо изучил его. Верю в него. Уважаю. Хочу, чтобы он был лучше. И вот… — Вася посмотрел на комиссара, на товарищей. — И вот предлагаю наказать Калганова. Вынести ему строгий выговор. Если еще раз допустит своевольство, нарушит дисциплину, надо выгнать совсем из комсомола.
Несколько дней спустя «степной» отряд Ковалева и наумовцы разгромили волостную управу в Сальном. Но радость победы была омрачена нелепой гибелью ковалевского разведчика Мошкова. В начале боя полицаи отошли на противоположный конец села. Часть их спряталась в картофельном поле, часть — в посевах за селом. Мошков заметил передвижение полицаев, но принял за своих. Крикнул:
— Идите сюда, полицаи разбежались!
Те, в свою очередь, позвали партизана. Разведчик, по-видимому, почувствовал что-то неладное. Предложил выйти к нему без оружия. Сам тоже, дескать, отложит винтовку в сторону. Сойдясь вместе, разберутся, кто чей… Это и погубило парня. Несколько полицаев выскочили из-за домов, напали сзади, попытались скрутить. Он успел ударить прикладом одного, но сам упал с простреленной головой…
— Удивительно, почему Мошков не воспользовался паролем? Ведь пароль давался всем партизанам на эту операцию. Стоило спросить: «Куда идешь? — и сразу бы выяснил, кто перед ним. Если в ответ получил: «В Хинель!» — значит, встретил своих, — размышлял Дмитриев.
Мне тоже была непонятна оплошность Мошкова. Наумовцы понаторели на этом — везде и всюду, в любое время дня и ночи узнают своих. Более того, всем, кто приходит из Брянских лесов, — на разведку ли, на диверсию, — мы непременно сообщаем пароль. Тем более на боевую операцию, когда в темноте очень трудно опознать, кто свой, а кто — враг. Ковалевцы, видимо, не все к этому приучены. Иначе не было бы неоправданной жертвы.
Вторая операция на северном направлении — налет на Грудскую — вообще не удалась. Три наших взвода заблудились, к началу боя их не оказалось на месте. Ковалевцы понесли потери.
Мы пытались разобраться: в чем же наше упущение? И люди проверенные, и командиры обстрелянные, и смелости никому не занимать… А по боевому расчету людей не оказалось. На разборе операции с командным составом и в тот же день на партийном собрании Анисименко был резок, таким его никто из нас не видел.
— Бесчестье — хуже смерти! — говорил он. — На нас надеялись ковалевцы, были уверены в нашей помощи, а мы подвели. Никакими словами не прикрыть срама. Больше других повинны мы с Наумовым. Понадеялись на чужих проводников. Не зря говорится: чужим умом не будь умен. Мы с тобой, Михаил Иванович, сами, понимаешь, сами должны были вести три своих взвода в засаду. В крайнем случае, послать вперед разведку, опять же — свою…
Слушая комиссара, я ломал голову над этими же вопросами и неожиданно для себя пришел к выводу: наши бойцы безграмотны с военной точки зрения. То же можно оказать и о многих командирах. Кроме двух-трех разведчиков и Наумова, никто не может работать с топографической картой, проложить маршрут, вычислить поправку на магнитное отклонение, наконец, просто пройти по азимуту ночью. Значит, дело не в проводнике. Вечером пошел к комиссару. Высказал свои соображения.
— Люба была права, когда говорила о тренировках. Но ее больше интересовала спортивная сторона вопроса. Надо брать шире. Давайте будем создавать у себя «лесную академию», завтра же начнем учебу.
— Добре, лейтенант. Составь план занятий и расписание. — Анисименко молча обдумывает какую-то мысль. В глазах мелькнули веселые искорки: — «Партизанская академия» — это неплохо. Но этого недостаточно. Надо занять людей чем-нибудь таким… — комиссар поднимает вверх прокуренный до черноты палец, — возвышенным.
— Понял, товарищ комиссар! На первый случай — сатирический листок «На прицеле» с хорошим перчиком кое для кого из наших ухарей.
— Во, во! — насмешливо улыбается комиссар, — шпарь дальше.
— Выступление художественной самодеятельности: ансамбль песни и пляски под управлением Калганова. Потом…
— Стоп, лейтенант, хватит! А то пропляшем войну… Впрочем, самодеятельность готовь. И почаще выступайте с частушками на местном материале, освещайте нашу жизнь, борьбу. Люди должны знать новые советские песни. Слушают же радио в Брянском лесу, запоминают мелодии и слова. А наше дело — дальше их нести в народ.
— Ясно, Иван Евграфович. Теперь относительно программы занятий. Мне кажется, надо составить ее из расчета знаний, которые необходимы по топографии, тактике, стрелковой подготовке…
— По этой части тебе лучше посоветоваться с Наумовым. Он человек военный, знает, что к чему… Не простое дело затеваешь. Это, брат, не танцы…
Сам комиссар был человеком штатским, но война заставила и его постигать военное искусство. Со временем в «партизанской академии» Анисименко стал одним из лучших учеников. Не стеснялся спросить, если что не ясно. Спорил, когда ответ собеседника считал недостаточно обоснованным. Дискуссии втягивали в свою орбиту все новых слушателей. Комиссар был доволен.
Случались у нас и казусы с этой «академией».
Однажды поздним вечером мы втроем — Анисименко, Наумов и я — сидели в штабном шалаше, обсуждая текущие задачи. Нашу беседу нарушили возбужденные голоса, топот ног и веселый голос Калганова.
— Конники вернулись? — спросил комиссар. И сам же ответил: — Они… Что-то уж очень веселы. Не нашкодничали ли чего? На Калганова надежда… — Неожиданно прервал себя: — Пойдем-ка к ним, Михаил Иванович.
Анисименко не ошибся. Полтора десятка конников, а с ними Сокол, Калганов, Коршок и братья Астаховы, возвратились из Фотевижа, расположенного южнее Хинельского леса. Оказалось, разведчики потрепали тамошний гарнизон полицаев.
— Это мы проверяли знания на практике после партизанской академии, — доложил Коршок. — Так сказать, увязывали теорию с практикой. — Не без юмора Коршок рассказал: — Уже солнышко садилось, когда мы, подкрепившись в Журавейне, взяли для трофеев повозку и поехали в Фотевиж. На разведку вызвались Дмитриев и Калганов. Выяснили: полицаи в церкви лопают денатурку, закусывают бараниной. Подумали мы между собой да и решили: неплохо бы пугнуть этих пьянчужек. — Коршок улыбнулся: — Коровы помогли. — Заметив недоверчивые ухмылки слушателей, горячо стал уверять: — Ей-бо, не вру! Слово комсомольца! Слухайте!.. Прикрываясь стадом коров, мы с Соколом пошли прямиком в Фотевиж. Остальные конники по три-четыре человека направились в засады вокруг села. Наш маневр полицай с колокольни заметил, но уже поздно: денатурка помешала. Открыли они с церкви огонь из двух пулеметов и автомата, когда мы уже почти в село вошли. Решили с Соколом психическую атаку делать… Кричу громко, специально для полицаев:
— Миномет, на позицию!…
А Сокол говорит:
— Пушка, огонь бронебойным! Бить по окнам церкви и колокольни!..
Коршок, вспоминая подробности «атаки», хохотал.
— А тут и повозка влетела на окраину села, сделала «боевой разворот» и заняла «огневую позицию». — Коршок опять засмеялся. — Я и сам не знаю, что это у нас было — то ли пушка, то ли миномет?.. Снова поскакали. Опять командуем, что твой Суворов, в два голоса: «Пехота, отрезай с правого флангу!..»
Сокол не вытерпел:
— В село входило второе стадо. Оно поднимало столбы пыли. Полицаи, наверное, подумали черт те что. Бросили на колокольне оба пулемета и драпанули… марафон дали, на конях не угнались.
Ребята рассказали, что возле церкви обнаружили повозку, а в ней несколько винтовок и гармошку. Не думали полицаи, что партизаны могут ворваться в село. Расположились по-домашнему.
Коршок командовал операцией, ему и докладывать.
— Жители указали нам, где стояли полицаями привезенные молотилки, трактор и мотор от комбайна. Это они к обмолоту готовились. Мы решили всю полицейскую технику сжечь.
Конники в этом месте рассказа заулыбались. Коршок вдохновился.
— Поехал я к тому трактору, а от него дед какой-то побежал. Кричу ему: «Стой!» Он бежит. «Стой, — говорю, — стрелять буду!» Дед упал. Подскакиваю к нему, спрашиваю: «Кто ты таков?» Отвечает: «Не знаю!» — «Как не знаешь? Партизан небось? — Молчит.
Коршок рассмеялся.
— То, хлопцы, был мой дядька. С перепугу не узнал меня. А я его — тоже. Сумерки уже. Потом дядька поднял вверх глаза, узнал меня на коне. Расшумелся, кулаками замахал — драться полез.
— Ты, — говорит, — галчонок, помешал мне долг свой исполнить. Перепугал насмерть. Померещилось, будто ты полицай из волости. А я как раз трактор малость распотрошил, чтоб полицаям неповадно было нашу технику на гитлеров использовать.
— Вот это ты, дядька, молодец, настоящий партизан. Диверсант, одним словом!
— А что, — отвечает, — тебе одному воевать можно? Мы тоже не лыком шиты, знаем, что почем!..
— Знать-то знаешь, а зачем засветло к трактору полез? Такие дела ночью делаются.
— Мал еще учить меня, — снова рассердился дядька. — Ночью они, вражины, охрану выставляют вокруг машин. Не подлезешь. А в сумерках — в самый раз…
Потом дядька сказал мне такую новость. В селе открыли молочарню. Для гитлеровцев сливки собирают.
— Это непорядок, — горячился дядька. — Прикрыть бы эту лавочку.
— Спасибо, дядечка, прикроем. Только как найти ту хату, где молочарня?
— А у бабки Фетиньи. Знаешь, поди?
— Как же не знать? Очень даже хорошо знаю. — И поехал я в село. Сказал Калганову о молочарне. С ним Илюша Астахов. — Коршок улыбнулся. — А дальше пусть сами они рассказывают, как было дело.
— Чего рассказывать? — неохотно отозвался Илюша. — На той молочарне замок висел. Сбили мы замок, зашли. Калганов набросился на сепаратор, ломает его. Я подошел к кровати. Думаю: одеяло надо взять — для раненых сгодится. Стащил одеяло и присел с испугу: с кровати старуха выпрыгнула… Лохматая, страшная, как ведьма. Бабка Фетинья, начальница молочарни.
— Чого ж мени робыть? Чого ж мени робыть?… — запричитала.
— Ах, чертова бабка! — крикнул Калганов. Да ка-а-ак трахнет по сепаратору, на кусочки раскрошил.
— А Илюша?
— Его потом еле под кроватью нашли.
Все покатились от дружного хохота.
— Это ерунда. Слушайте, что было в Хомутовском районе, — рассказал Дмитриев. — Там немец-комендант созвал партизанские семьи на беседу. «Мы, — говорит, — партизанские семьи не будем уничтожать, пусть и партизаны не трогают нас… Будет лучше, если партизаны вольются в состав полиции. Им даруем жизнь, обещаем почет и славу. Кто перейдет к нам — получит деньги и продукты, как германский военнослужащий… Партизанские командиры станут полицейскими начальниками…»
Калганов ехидничает:
— Работенка у немцев не пыльная, а денежная. И опять же — харч.
— Какой, Коля?
— Известно, фрицевский. — Он встает в позу, экспромтом выпаливает:
Суп-супец, от хвоста конец, От ногтя ребро, ну и суп — добро!..Комиссар повернул беседу в нужное русло.
— Лейтенант, давай-ка нам свою бухгалтерию. Надо подвести итоги работы за месяц…
Я достал из полевой сумки дневник, начал перелистывать страницы. У тех, кто не принимал участия в партизанской борьбе, кто не испытал всех ее тягот и лишений, порой складывалось впечатление, будто партизанская война — это непрерывная цепь подвигов и героических поступков. Между тем, война — это повседневный тяжкий труд. В ней много изнуряющего, на первый взгляд, незначительного. Вот листочек бумаги из обыкновенной школьной тетради. На нем записаны результаты наших ратных трудов за минувший месяц — срок, который мы провели в Хинельских лесах. Для меня и моих товарищей это не просто сухие цифры. Кое-кому из партизан они стоили жизни…
— Ну, лейтенант, давай, о чем задумался?
И как он умеет угадывать настроение, дорогой наш Иван Евграфович!..
— Расскажи хлопцам, как они сработали за август месяц.
Каждый день по крупице, как пчела в улей, мы вкладывали свои усилия в общее дело победы над врагом.
Я стал читать свои записи, без комментариев. Да они и не нужны были.
— Ты как заупокойную молитву читаешь, — не выдержал Калганов, — надо короче. И неожиданно запел:
Я Калганов из Кинели, Бил фашистов у Хинели. Бил и в гриву, бил и в хвост: Получай, бандит-прохвост!Сегодня Сокол раскрылся с новой, неожиданной стороны. Он прочел мне свое стихотворение «К тебе, Мордовия моя!». Я запомнил только начало стихотворения:
Издалека к тебе вернулся Твой сын, Мордовия моя, Душой усталой потянулся В давно знакомые края.Скучает наш Сокол по родным местам. Нетрудно угадать, что творится на душе друга: все мы давно оторваны от дома, ничего не знаем о близких.
В редкие часы досуга, неожиданно помрачнев, уединялся Сокол, доставал небольшую фотографию.
Стася смеется, и мягкие ямочки на ее щеках делают ее очень привлекательной. Глаза большие, ласковые… Юная полька погибла, спасая Дмитриева от печей Освенцима.
Я знаю, не одна девушка вздыхает по нему в отряде. До сих пор, наверное, вспоминают на родине клявлинские девчата голубоглазого паренька… Да все это не то. Вот Стася… Кажется ему, будто росли вместе и любил он ее давным-давно… Даже стихи написал про нее и бережно хранит их вместе с фотографией в блокноте.
Вася не любил вспоминать того, что произошло в его жизни до встречи со Стасей. Да как забыть, когда память услужливо рисует годы детства, набеги на соседские огороды, ночевки с ватагой таких же сорванцов на берегу тихой речушки и такую вкусную, пропахшую дымком уху из пескарей…
Чаще других вспоминается Иосиф — Оська, сын мордовки и пленного австрийца, попавшего к ним в село в первую мировую войну.
Сначала австрияк был в работниках, потом стал хозяином, женившись на овдовевшей солдатке. Пошли дети. Самый младший — Оська — друг и участник всех Васькиных проказ.
Оська свободно говорил по-немецки, переняв от отца его язык. И так же хорошо изъяснялся по-мордовски, с детства вращаясь с мордовскими ребятами. Вася не хотел отставать хоть в чем-нибудь от приятеля и вместе с Оськой лопотал, с лету схватывая немецкие слова. И свободно усвоил немецкий.
Как давно и как недавно, в сущности, все это было!..
Служба на границе. Война. Окружение под Севском, контузия и плен.
Кошмарным сном теперь кажется день, когда Вася с двумя товарищами бежал из концлагеря, убив часового. Его поймали, жестоко избили и повели на расстрел. «Что, конец пришел? Ему, Дмитриеву? Разве для того он рос, учился, мечтал?» Нет, Дмитриев не мог примириться с этим. Неожиданный бросок!.. Штыком вражьей винтовки прикончены два солдата. Но третий — конвойный офицер полиции Тыхтало — успел сбить Дмитриева с ног. На удивление всем Васю не наказали. То ли дерзость пограничника подкупила лагер-фюрера, то ли у гитлеровцев возникли какие-то особые намерения. Он уцелел. И снова побег.
Шесть раз вырывался Вася из плена, пока, наконец, не попал в Польшу. Бреслау. Городки Верхней Силезии — Опельн, Беутен, Катовице… Лагерная баланда из брюквы и каторжная работа в подземелье. Диверсия на шахте, новый побег.
Дмитриев пробрался в эшелон с понтонами и доехал до старой польской границы. Голод вынудил его покинуть надежное убежище под брезентом. Его подстрелил охранник эшелона, когда он на ходу выпрыгнул возле виадука…
Дочь путевого обходчика — Стася — подобрала и спрятала Дмитриева на хуторе. Но сама погибла под пытками в гестапо. И остались Васе на память о девушке только стихи да маленькая фотография, случайно уцелевшая в разгромленном немцами доме обходчика.
Так было…
Мне вспоминалась еще одна пожелтевшая фотокарточка… С нее глядит, улыбаясь, лихой наездник, гордость наумовцев, партизанский разведчик Сокол. Белый чуб из-под смушковой кубанки — той самой, что сбил с Тыхтало ночью в сенях… Но теперь на ней красная лента и пятиконечная красноармейская звезда. На обороте выведено карандашом:
«Земляку-партизану, начальнику разведки Анатолию И. от Васи Д. 1942-й год. Хинельская база».
История этой фотографии довольно примечательна, и о ней стоит рассказать подробнее.
Дмитриев, зная немецкий, часто пользовался удостоверениями гитлеровских офицеров, гестаповцев, жандармов и других чинов немецкой администрации, захваченных в засаде. Никто из партизан, кроме нескольких разведчиков да работников штаба, не знал об этой его роли. Для него мы в потайной землянке держали специальный «гардероб» — несколько костюмов гитлеровских служителей с надежными документами. Фотографии немцев Вася мастерски заменял своими. Люба строго следила за его экипировкой, сама стирала сорочки, утюжила форму, чистила ему ногти и опрыскивала духами платочки.
Всякий раз, отправляясь в разведку под видом гитлеровца, Дмитриев брал с собой Любу. Она провожала его, укутанного в плащ, за линию партизанских застав и возвращалась на повозке обратно. В условленную ночь выезжала, чтобы встретить разведчика и проводить в потайную землянку.
Не обходилось и без ЧП: партизаны дважды стреляли в Сокола, переодетого в немецкую форму, но, к счастью, все обошлось благополучно. С тех пор наши посыльные стали встречать разведчика как можно дальше от базы. И все-таки каждый раз мы опасались, как бы Дмитриев не нарвался на партизан другого отряда.
В одну из вылазок Дмитриев перехватил матерого эсэсовца, сотрудника службы безопасности СД, ехавшего из Харькова в Орел. Теперь нужно было в удостоверении лейтенанта Отто фон Краусса заменить фотокарточку. Вот Вася и отправился к фотографу в город Севск. Но вместо одного снимка сделал два. Вторым был как раз тот, в кубанке. Попало же ему от меня за это, хотя Сокол и успокоил меня, сказав, что риска не было: он забрал пленку, никаких следов не оставил. И все-таки фотографию Васи я в этот раз не принял, решив показать этим другу, что осуждаю его неоправданную лихость.
В который раз припоминая историю жизни Сокола, пытаюсь разобраться в собственных делах и поступках. Как бы со стороны смотрю на себя и на Любу. Дружба с ней окрыляет меня, делает сильнее. А встречаемся так редко. Урывками. Когда мы в разлуке, хочется сказать, как дорога она мне. Но стоит остаться наедине, все слова вылетают из головы. Мне очень неловко перед Калгановым, как будто я похитил у него самое дорогое, его любовь. Но ведь я ни в чем не виноват перед другом.
— Хо, голова-елова! Чего это ты забрался в такую глухомань? Кабы не твой Воронок, не найти бы тебя. По коню разыскал. Стишки, что ли, сочиняешь? Или зазнобушке послание стряпаешь? Новости есть. Тебе, как начальнику разведки и начальнику штаба, знать надобно. Слушай.
Калганов, пыхтя самокруткой, лезет ко мне под ель и растягивается на расстеленной бурке.
— Перво-наперво, прибыли из Брянского леса радисты: Валя и Борис. При них маленькая станция «Север». Будешь, слышь, у нас собственная связь. Кстати, Валю ты знаешь — девушка из Погара… — Калганов перехватил мой недоумевающий взгляд. — Ну, та самая, что с цыганенком Петькой в партизаны ушла. Она была ранена и ее самолетом отправили в Москву. Там ее подготовили как радистку и снова забросили в Брянский лес.
— Откуда ты это знаешь?
— А я успел ее спросить.
Калганов знал, чем меня порадовать.
— А вот с засадой у нас ничего не получилось.
Смотрю в глаза Николая. В них обида и грусть. Кажется, понимаю его. Недоумевает человек, почему ему так не везет? Мрачен Калганов еще и потому, что сегодня погиб разведчик Чечель. Его обстреляли «украинские казаки» — дошли они и до нас. Чечель в перестрелке одного из них ранил, а тот бросил гранату. Напарнику Чечеля — Плехотину — не удалось вынести товарища. «А вдруг Чечель не убит, а только ранен и живым попал в руки врагов?» Калганов делится со мной сомнениями: кто же он, этот Плехотин? Просто трус или хитрый вражина, пригревшийся как гадюка у груди? Не много ли случайностей, связанных с Плехотиным? Сколько уже раз получалось: сам в кусты, а нас — под песты?
Калганов сообщил еще несколько новостей. Главная из них: полицаи Фотевижской и Марбудской волостей переодеты в немецкую форму — черные мундиры, черные шаровары и черные пилотки. Нацепили на петлицы обрубки молний — и будут выглядеть как заправские эсэсовцы. Этим маскарадом, должно быть, пытаются ввести нас в заблуждение.
— Нас не запугаешь, — сказал Калганов. — Нервы у нас крепкие, будем лупить полицаев во всяких нарядах.
— Верно, дружище. Нервы у нас выдержат.
Калганов обернулся, услышав шелест травы под чьими-то ногами.
— А-а, Сокол припожаловал. Давай, Вася, лезь сюда: и тепло, и светло, и мухи… — Калганов шлепнул себя по шее, где уселась здоровенная муха. — С новостями, голова-елова?
Сокол сообщил: приволок пленного «казака».
Мы быстро пошли в лагерь, посмотреть, что это за фрукт такой. По дороге Дмитриев рассказал, по обыкновению скупо, в нескольких словах, как захватил пленного.
— Когда ты послал нас с Астаховым в засаду, задание нам показалось слишком простым: не впервой брать «языков» на шоссейке возле Эсмани. Там и гарнизон, и комендатура, и прямая дорога в город. Полицаи и немцы мало опасаются, особенно днем. Чувствуют себя как дома на печке. Думали, так будет и на этот раз, да просчитались. «Казаки» осторожны и, с другой стороны, хорошо обучены. На рожон не лезут. Остерегаются. Решили мы с Астаховым в самой Эсмани побывать, на окраине пост накрыть. Дело к вечеру, коней мы оставили в овраге и потихоньку пошли. Идем по дороге, как полагается. При оружии и полной боевой форме. Глядь, навстречу из Эсмани человек. В бинокль видно: военный. При оружии. Ну, ясно, не партизан. Мы идем, он тоже. Сблизились. Он видит, на кубанке моей лента.
— Партизан? — спрашивает.
— Точно. А ты кто, не казачок ли, случайно?
— Он самый, — отвечает.
— И куда же тебя несет, господин казачок?
— А к вам, — говорит. — Убег я от своих.
— А зачем-почему, пусть он сам скажет. Только как-то все не по-настоящему у него получилось. — Сокол усмехнулся. — В плен угодил. Бывает такое. Откуда в «казаки» записался? Теперь вот к нам переметнулся. Это что: спектакль что ли? В жизни так не бывает.
Передо мной стоит смуглый, немного раскосый парень. Волосы черные, жесткие, щетинкой. Видно, недавно, острижен. Лицо монгольского, или, точнее, калмыцкого типа. Одет в старую немецкую рвань. Испуган, съежился, как будто в ожидании удара. Говорит по-русски плохо, спотыкается на каждом слове. Понять все же можно. Пытаюсь установить, откуда и каким образом появляются на свет божий эти «казаки». Нам вскоре предстоит с ними боевая встреча. Да и, наверное, не одна. Это ведь не просто полицаи — это каратели. От рук «казаков» пал наш товарищ — партизанский разведчик Чечель. «Не причастен ли к гибели Чечеля Плехотин? — снова кольнула мысль. — Не знает ли что-нибудь об этом пленный?».
Магометов, как он назвался, дважды выходил из окружения со своим полком. Попал в плен. Содержался в Полоцком концлагере, пробыв там около двух месяцев. Бежал с товарищем в Черниговскую область. В Дроздовицах Городнянского района полгода жил у местных жителей. В середине мая попал в список лиц, подлежащих к отправке в Германию. Решил уклониться от поездки в неметчину и бежал с тем же товарищем из села. На станции Сновск, куда они пришли, формировался отряд «украинских казаков», на который возлагались карательные функции. Магометов и его спутник записались в каратели. Там же получили немецкую форму и оружие. В течение трех месяцев «казаков» обучали тактике, строевой, огневой подготовке и уставам. В последних числах августа их привезли в Эсманский район Сумщины для действий против партизан и мирного населения.
Магометов решил сдаться в плен, поскольку не хочет воевать на стороне фашистов. Так вкратце выглядела история Магометова, если принять ее за чистую монету…
Мне с самого начала показалось: лукавит Магометов, неспроста он переметнулся к нам.
Наумов и Анисименко тоже присутствовали при допросе Магометова, но в разговор не вмешивались. «Разделяют ли они мои сомнения?»
— А ты не спеши с выводами, — посоветовал Наумов, когда я ему об этом сказал. — Оставим пока в группе, установим наблюдение, проверим через наших людей, как он вел себя в селах. Тогда и выводы сделаем. — Наумов задумался. — Да и Плехотин… Хотя и поддерживает его Балашов, а не по душе мне он…
Несколько дней прошли относительно спокойно. Магометов ничем не проявлял себя, и мы уже начали привыкать к нему, как к человеку, случайно попавшему к карателям. Тем более, что множество неотложных дел отвлекли наше внимание.
Все это время разведка усиленно работала на фронт. На Большую землю передавались сведения, очень нужные руководству армии. По заданию Центра мы готовили к отправке под Ворожбу, в глубь Сумщины, один из взводов. Партизаны должны помочь радистам Вале и Борису. Радистам нужно установить связь с партизанами юга Сумщины, с подпольными патриотическими группами и наладить разведку для добычи сведений о противнике в его стратегическом тылу…
Еще раньше мы отправляли туда четыре группы, которые возглавляли Сокол, Калганов, взводный командир лейтенант Сачко и Вася Буянов.
Вся наша разведка была брошена на помощь фронтовой разведке.
Все эти напряженные дни Валя была загружена до предела. «Северок» принимал и передавал радиограммы от нас в брянский край, от Москвы к нам и от брянского края опять же к нам… Поговорить с ней толком мне так и не удалось.
А теперь вот она уходит…
— Надо прощупать «казаков» и попытаться распропагандировать их, — пояснил замысел комиссара Наумов. — Может быть, кое-что прояснится в отношении Магометова… Да, лейтенант, — перебил себя Наумов, — отправьте-ка отделение с Калгановым в засаду. На опушке леса надо перехватить всех, кто появится там. Зачастили в Хинельский лес неизвестные субъекты.. Нужно проверить, не лазутчики ли?
Словно в подтверждение слов Наумова появились наши разведчики. Привели полицая, задержанного у лесокомбината.
— Кто ты, откуда, зачем сюда пожаловал? — стал его допрашивать Наумов. Вопросы ставились быстро, напористо.
Выяснилось: полицай ехал на велосипеде. За плечами болталась самозарядная винтовка. Ехал смело, распевая песню. Вроде бы старался привлечь к себе внимание — вот он, едет, знайте, хозяева! Назвался Тарасовым из села Круглая Поляна. Решил, видите ли, перейти из полиции к партизанам! Вот так, запросто…
— Люди меняют убеждения легче, чем перчатки, — не выдержал я.
— Может быть, обстоятельства привели, — вступился комиссар. — И крута гора, да миновать нельзя. — Сам сделал мне знак: молчи, мол, не высказывай своего мнения перед ним, полицаем…
— Верно, обстоятельства могут играть роль в жизни, — согласился я. — Парень пришел к нам с оружием, пусть и направит его, как подсказывает сердце…
Зачислили полицая Тарасова в первый взвод, к лейтенанту Сачко.
— Посмотрим, чем он дышит и с чем к нам пожаловал, — сказал в заключение Наумов. — Глаз с него не сводить, лейтенант, — предупредил он взводного. — Главное, установить, попытается ли он встретиться с Магометовым.
Так и есть! Тарасов встретился с Магометовым. Значит, ниточка одна. Подождем, что скажет Сокол. Он послан к «казакам» в районный центр Эсмань. Попытается выяснить от самих карателей, кто такой Магометов. Кажется, завязывается узелочек!
Сокол пришел с темными кругами под глазами — несколько суток почти не спал. Побывал в Эсмани, говорил с «казаками», полицаями, «инспектировал» их и давал «указания». Заехал в несколько сел, встречался с нашими связными, беседовал с жителями. И вот что ему удалось узнать: в поселке Смолень полицаи совместно с «казаками» убили жену нашего партизана Пятницкого с детьми, избили мирных жителей, сожгли семь дворов. Особенной жестокостью отличился Магометов.
— Михаил Иванович, что будем делать? — спросил Анисименко Наумова после обстоятельного доклада Сокола.
— Ликвидировать! — ответил одним словом Наумов.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
Капитан Наумов смотрит на меня не мигая, в упор. Я уже привык к этому взгляду. Жду.
— Где Дмитриев и Калганов?
Вопрос заставил насторожиться. Если потребовались мои друзья, значит, нашему трио нашлось интересное дело.
— Задача есть ответственная, — словно угадывая мои мысли, говорит Наумов. — Надо провести через фронт «осадной» армии гитлеровцев представителя ЦК партии Украины товарища Бойко.
— В партизанский край?
— Да, в Брянские леса. Там встретишься с секретарем подпольного обкома Сумщины. Он передаст тебе пакет. Доставишь его сюда, комиссару Анисименко… Пакет очень большой важности…
— Ясно.
— Обстановку знаешь, — продолжает капитан. — Гитлеровцы теснят партизан брянского края. Расширяют «зону пустыни». Вероятно, на фронте готовят большое наступление, а здесь пытаются действиями «осадной» армии обеспечить свой тыл. Хотят спокойной жизни.
Действительно, в окружающих нас районах обстановка усложнилась, особенно в последнюю неделю. Дело в том, что в конце июня 1942 года партизанское соединение Сабурова разгромило гарнизон города Ямполя. Противник всполошился, подтянул свежие части — еще целую дивизию. Активизировался в степной полосе между Хинельскими и Брянскими лесами. Участились случаи перехвата наших разведчиков и связных.
Все это мне хорошо известно.
В мыслях я уже был там, среди друзей-ковпаковцев, среди разведчиков-сабуровцев, встречался с задеснянскими партизанами лихого Кошелева и прославленными кавалеристами Покровского… Как всегда в таких случаях, хочется немедленно действовать, попытаться ускорить ход событий. Но трезвый голос рассудка берет верх.
Работаю над картой-десятиверсткой. Вглядываюсь в знакомые паутинки дорог, плавные изгибы рек, кромки Хинельского и Брянского лесов. Для перехода безлесного участка потребуется около недели только в один конец. Еще и еще выверяю маршрут, стараюсь предугадать возможные отклонения.
Наконец остановился на самом безопасном варианте. Сделал выбор. Придется идти вблизи крупных гарнизонов противника: мимо Неплюевских дач, в обход станции Хутор Михайловский, а там уклониться на запад, к Новгород-Северскому, и далее на райцентр Гремяч. Исхожу из тех соображений, что внимание противника все-таки приковано к лесным зонам и он не так бдителен у городов, крупных селений и районных центров. Об этом говорит разведка и разгром Трубчевска, Погара, Ямполя партизанами Кошелева, Наумова и Сабурова…
Гремяч, Гремяч! Как далек ты отсюда: расположен на стыке Черниговской, Сумской и Брянской областей. История этого района богата событиями.
В 1918 году в Гремяче располагался со своими партизанами легендарный Щорс. Там к нему примкнули партизаны Черняка. Совместными усилиями отряды взяли Новгород-Северский…
От Щорса ускользнул офицер кайзеровской оккупационной армии Пальм. Сын его, гитлеровский офицер майор Пальм теперь комендант Новгорода-Северского. Предок Пальмов — немецкий ландскнехт — служил у шведов, когда король Карл пошел войной на Россию. Об этом даже писалось в местной газетенке, и Сокол приносил ее.
Я смотрел на карту. Места действительно исторические. Вот село Воробьевка. Из него гетман Мазепа бежал к шведам, предав свой народ. Недалеко — в Погребах — находился со штабом царь Петр Первый. Он проезжал через Хинельский лес по мосту через Ивотку. С тех пор мост и называют Государевым.
Из поколения в поколение пальмы пытаются побить русских, из поколения в поколение пальмов бьют русские… А им все неймется. Как говорят:
Были германы-деды, Повидали здесь беды! А теперь и внуков Лупят «для науки»…В народе коменданта называют собачьим именем — Пальма.
Я вышел из шалаша. Воронок тихо заржал.
— Кусочек выпрашиваешь, дружище? — потрепал я его по холке. — На уж, держи.
Конь мягкими губами осторожно снял с ладони кусочек хлеба, несколько раз наклонил голову, как бы в знак благодарности. Потом прижался к сосне, стал почесываться.
«К дождю, — отметил я. — Ну что ж, было бы неплохо. Чем ненастнее погода, тем легче партизану».
Под вечер уйдем в партизанский край. Маршрут согласован с Наумовым и Анисименко. Товарищи подобраны, представитель ЦК партии Иван Сергеевич Бойко отдохнул и готов к дальнейшему пути…
Воронок не обманулся. Хмурилось небо, моросил мелкий дождь — нудный, назойливый.
Поглядывая на темное, затянутое тучами небо, мы пытались определить, как долго продержится непогода — верная партизанская помощница. Уже позади линия партизанских застав, поселок лесокомбината, сожженный карателями. Быстро темнело. На земле не стало видно ничего, кроме грязи, глубокой, густой грязи, в которой терялась дорога. Чутьем удавалось находить эту ускользающую дорогу. А дождь все лил и лил. Даже собак загнал он под навесы, и они не слышали нас возле сел.
Идти становилось труднее. Ноги словно налиты свинцом. По опыту знаю: чувство усталости пройдет, его можно подавить усилием воли. Тогда наступит второе дыхание, а с ним вернется и бодрость. Я думаю о Калганове. Сравниваю себя с ним. Замечательный товарищ. Необузданный, горячий человек, сорвиголова, а как тактичен с Любой. Давно понял, что она не разделяет его сердечных чувств, но и вида не подает. А ведь какой тяжелый удар по мужскому самолюбию! Гордый человек и настоящий друг. Мог ли я быть таким же верным и бескорыстным, как он? Не знаю. А вот Николай сумел пересилить себя. Когда мы собирались на задание, Николай улучил минутку, подошел к Любе.
— Проводи лейтенанта, — шепнул ей, — простись. Трудным будет наш путь… Мало ли что случится.
— Спасибо, Коля. Я прощусь.
Она вынырнула навстречу нам возле развилки дорог за лагерем.
— Опять без меня уходишь, — с нескрываемой обидой шептала она. — Возьми, слышишь? Я устала бояться за тебя… Лучше вместе.
— Ты здесь нужнее, Любушка. Жди. Все будет хорошо…
Как бесконечна дорога, так бесконечны и мысли. Но приятным воспоминаниям пришел конец: дождь, к нашему большому огорчению, утих, от сел теперь придется удалиться, сойти с «твердой тропы». Поворачиваем к болотам. Дальнейший путь — по зыбким кочкам, затянутым желтоватой травой.
До рассвета надо надежно укрыться в самом что ни на есть проклятущем месте, чтобы ни один черт не обнаружил нас. Через несколько часов утомительного пути, вымазанные с головы до ног болотной тиной и водорослями, нашли подходящее место для дневки. Солнце к тому времени стояло на высоте хорошей сосны.
Расположились на сухом пятачке среди чахлых кустарников. Над нами звенят тучи комаров. И откуда успели собраться в такую армаду? Отмахиваться не успеваем, да и бесполезно. Комары лезут в уши, залетают в рот. Скоро руки, шея, лицо покрываются волдырями, опухают. Кажется, крапива и та не причиняет такой боли, как эти маленькие вампиры.
Наскоро разделись, выжали белье, одежду, переобулись.
— Давайте устраиваться. Пробудем здесь до вечера. Калганов, подавай харч на стол!
Калганов развязал заплечный мешок. Брови его поползли вверх. Вся физиономия разведчика выражала недоумение и растерянность. Краска жгучего стыда залила лицо.
— Перепутал. Не тот мешок взял.
Я еще не понимал, о чем толкует разведчик, а Дмитриев, ухватившись за бока, беззвучно хохотал. Но вот Калганов вытащил смену белья, запасные портянки, противотанковую гранату, кусок суррогата из картошки и толченой коры. Таким хлебом питались партизаны и жители в Брянском лесу. Хлеб называли «динамитом», а о своей жизни голодной говаривали так: «Живем… Мало жуем. Часом с квасом, а чаще с водой…» И вот теперь перед нами лежали достоверные свидетельства тяжелого голода и постоянного недоедания брянского края, куда нам надо было проникнуть.
Накануне, перед тем как уйти с базы, старик Артем Гусаков возле нашего шалаша положил мешок с продуктами. Мешок был туго набит салом, крупами, сухарями и хлебом. Всего этого нам хватило бы, как говорят, за глаза. Не только нам. Все, кто шел от нас в брянский край, всегда нагружались продуктами, чтобы поделиться с голодающими детишками, с больными и ранеными партизанами. Не изменил обычному правилу старик Гусаков и в этот раз.
Калганов, искавший Любу, чтобы предупредить ее о нашем выходе в поход, не знал о том, что прибыл связной из Брянского леса. Не знал, что тот оставил свой «сидор» — солдатский мешок — у входа в шалаш разведчиков поверх мешка Гусакова, припасенного для нас. Калганов второпях и схватил мешок связного. И вот финал. Мы остались без продуктов. Тот энзэ, что каждый разведчик всегда имеет при себе, конечно, не в счет. Несколько сухарей да кусок сала не меняли дела.
Николай не взял даже такого запаса: понадеялся на мешок. Вот он теперь и колдует над ним, выворачивая крошки. Невесело шутит:
— Кушай тюрю, Яша, жисть такая наша.
Сам, сгорая от стыда, боится поднять глаза на Ивана Сергеевича. Хорош разведчик, нечего сказать, оставил представителя ЦК без крошки хлеба…
Не по себе и нам с Дмитриевым. Надо ведь так оплошать!.. И в села заходить нельзя: Наумов категорически запретил.
Бойко достал из кармана фуфайки тряпку. В нее завернут кусок сала и хлеб. Делит свои запасы. Протягивает Калганову:
— Бери, голова-елова!
Он уже запомнил присказку разведчика.
Иван Сергеевич Бойко, молчаливый тридцатилетний человек, относился к тому разряду людей, про которых говорят: небрежно скроен, да ладно сшит. Есть в его манере та обстоятельность, которая лучше слов характеризует человека, знающего свое дело, умеющего, если надо, постоять за себя и за других.
Смуглый, большеносый, с внимательным взглядом темно-карих глаз, то серьезных, то насмешливых, Бойко имел много общего с Калгановым. Наверное, потому они и почувствовали взаимную приязнь. Калганов пытается обратить все в шутку.
— Чай, не впервой нам, перетерпим. Жуй кашицу и запивай болотной водицей. Крепка, что твой зверобой!.. И пользительна: сколько всяких живчиков тут проживает? Тоже — мясо. — Он почерпнул горсть желтовато-бурой воды, поднес к глазам. — Гляньте, братцы, и тут война идет. Жрут друг друга, твари. Значит, вода безопасна, врут доктора… Вот эти зверушки кончают друг друга, и никакой тебе болячки в животе не будет. А напейся ключевой воды — и готов! А почему? Потому, что нет там микробов. Или мало их. Гоняются друг за другом и не видят — кто где. Кого скушаешь? Некого. И давай, значит, человека грызть! Отсюда и хворь…
До чего бы договорился Калганов — трудно сказать. Сокол корчился от смеха, Бойко молчал, лукаво поглядывая на рассказчика. Калганов хотел еще что-то приврать и уже собрался было раскрыть рот, но тут, в самом интересном месте, его прервали.
То, что произошло дальше, заставило забыть о байках Калганова. На болоте раздался выстрел. Кто стрелял, с какой целью? Это надо было узнать немедленно и по возможности увести противника от места дневки, подальше от нас.
— Иду я, — решительно проговорил Сокол, отвечая на мой безмолвный вопрос. — Вы пока замрите. Постараюсь вернуться скоро.
По еле заметному колебанию камыша можно было некоторое время следить за движением Дмитриева, но вскоре он исчез.
…Сокол полз по тине, стараясь, чтобы вода не булькала, а пузырьки, как хвост, не тянулись вослед. Движения были замедленные, почти незаметные. Теперь уже не колебался и камыш.
По грудь в воде добрался до чистой заводи. Раздвинул камыш и ахнул. Прямо на него шла плоскодонная лодка, а в ней двое немцев с охотничьей собакой.
Разведчик погрузился в воду. Лодка, зашуршав камышами, остановилась невдалеке.
— Подождем, Вилли, может быть, новая стая уток сядет, — услышал разведчик.
— Ну что же, подождем, — согласился второй. — Торопиться некуда.
Немцы достали термос, попили горячего кофе, закусили, выкурили по сигарете. А уток все не было. Нырков тоже. Прошел час, другой, Вася окоченел, его трясла мелкая дрожь. Комары слепили, набивались в глаза, а пошевелиться нельзя; собака враз бы подняла шум. Оставалось одно спасение: погрузиться как можно глубже в воду. Сокол так и сделал. Теперь из воды выступали только нос да кустики камыша перед лицом. Хитрость спасала разведчика недолго. Нагрянула новая беда. Появились пиявки. Сначала немного, но чем дальше, тем больше их появлялось возле Дмитриева. Видно, как извиваются перед глазами: одна, вторая, третья. Бр-р-р!.. Противно. Ближе к нему, ближе… Вот уже присасываются к щекам, губам…
Трудно сказать, как вынес Сокол такую муку, но выдержал, не шелохнулся, пока горе-охотники не убрались с болота.
Уже под вечер, совершенно обессиленный, приполз Дмитриев на нашу кочку. На разведчика страшно было смотреть. Лицо опухло так, будто он сутки висел вниз головой. Шея в темных кровоподтеках. Губы обезображены.
— Я бы с ума сошел на твоем месте, — сочувствовал Калганов. — Вишь, как они изукрасили тебя, голова-елова!..
У Васи совсем не было сил. Он замертво свалился на телогрейку, подложенную Иваном Сергеевичем.
Мы обменялись взглядами с Калгановым: как же Дмитриев пойдет дальше? Скоро выходить… Оставаться здесь нельзя: комары и нас довели до помешательства…
— Попробую идти, — пролежав недвижимо часа полтора, заявил Вася. — Поможете, а там я сам разойдусь.
На том и порешили.
Поминутно останавливаясь и прислушиваясь, пошли через болотистую речонку. Не видно ни зги. Только неспокойная дрожащая стрелка компаса холодным фосфористым светом указывала направление. Дневные ориентиры потеряли очертания. Путь оказался значительно труднее, чем мы предполагали.
Переползли через полотно железной дороги, охраняемой патрулями. Теперь надо миновать мост. Контуры его угадываются слева от нас, ниже по течению. Опять река, а за рекой будет рощица. Нам надо туда.
Вдруг кто-то оступился и шлепнулся в воду. Наверное, Дмитриев. Он еле-еле передвигал ногами. Тотчас же с берега, навстречу нам, шипя взлетела ракета, нервно застучал пулемет. Засада! Надо прорываться!
— Ложись!
Мой крик тонет в звуках пальбы.
Одну за другой бросаю на вспышки две гранаты.
— Бегом, за мной!
С моста бьют по нас из другого пулемета. Пули тяжело шлепаются о кочки, поднимая фонтанчики грязной воды. Пропускаю вперед товарищей: надо выводить Васю.
Приподнимаюсь с земли, бросаюсь вперед. Бегу. Неожиданно лечу навзничь, ударившись о пенек. Острая боль пронизывает ногу.
В голове застучало: та-та-та… Или это пули? Над самым ухом, с противным свистом, рассекая воздух, прожужжали смертельные шмели: вжик, вжик, вжик!
Рядом падает ракета. Она ослепляет, накрывая меня горячими искрами. Пули застучали о пенек. Ложатся ближе, ближе.
«Засекли! — мелькнуло в голове. — Ведут прицельный огонь». На месте оставаться нельзя. Нельзя и пошевелиться. Ругаю себя последними словами.
При вспышке очередной ракеты замечаю ползущего человека. Это Калганов. Кричу: «Назад!», но он как будто не слышит, тогда, превозмогая боль, ползу ему навстречу.
Пули чиркают по деревьям, сбивая ветки, срезая листья. Холодный, противно-липкий пот выступает на лице от напряжения и боли. Нога будто наполнена раскаленным свинцом. Каждое, даже малейшее, движение причиняет боль… Адскую боль. А время летит, обгоняя пули. Летит с какой-то сумасшедшей скоростью.
— Куда ранен? — спрашивает Калганов.
В его голосе столько волнения, тревоги. Слабость охватывает меня. Застываю на траве, нет сил пошевелиться. А трава, влажная и сочная, холодит, успокаивает. Калганов нарвал травы и приложил к моей распухшей коленке. Стало как будто легче.
— А все через меня, — укоряет себя Сокол. Он помолчал: — Голова кружится. И слабость в ногах…
— Это пиявки, будь они трижды неладны! — чертыхается Калганов.
Как бы то ни было, а пришла беда — отворяй ворота: двое из четырех вышли из строя. Немцы опять открыли стрельбу.
— Надо уходить, — торопит Калганов. — Утром тут обшарят каждый кустик.
— Рощицу надо пересечь в темноте, — поддерживает Дмитриев.
Бойко не вмешивается в наши разговоры. Удивительно сдержанный и спокойный человек! Мне бы такое самообладание!
— Давай, лейтенант, капитально подремонтируем твою ногу, — с грубоватой ласковостью говорит Калганов. — А то тормозить будешь…
Поверх травяной подушки он накладывает слой гибких прутьев, перевязывает ремнями этот примитивный «лубок».
— А ну, попробуй шагать! — Калганов подает мне палку. — Да не так, — сердится он. — Длинная с рогулькой вместо костыля дадена тебе. А короткая — в помощники, чтобы опираться. Смелей, смелей, — подбадривает он. — Эх ты, незадача-то какая!
Действительно, плохо мое дело. Идти тяжело. Боль отдается во всем теле. Каждый шаг причиняет муку. Может быть, разомнусь? Иду. Иду и ругаю себя. Так, кажется, легче. Я хорошо знаю, что если удастся переключить внимание на другое, боль утихнет…
Компас разбился возле злополучного пенька. Идем наугад, ориентируясь только по выстрелам от моста. Там все еще стреляют. В лесу тихо. Не шелохнется ни один листочек, словно все живое заснуло после беспокойного дня. Но тишина обманчива. Мы привыкли к лесным звукам, научились различать их. Вот с легким скользящим свистом промелькнула летучая мышь. Деловито гудит жук, и, ударившись о ветку, в недоумении замолкает. Вскоре он опять в воздухе и гудит с прежней неторопливостью. Или это гудит в голове? Гудит в голове, гудит в ноге. Ох как гудит!.. Но об этом не надо. Стараюсь отвлечься.
Светлячки, притаившись в траве, образуют множество голубоватых неподвижных точек. Кажется, идем по темному небосводу между звездочек. Звездочки излучают мягкий-мягкий свет. А может быть, рябит в глазах?
В стороне слышится заунывный крик коростеля. Значит, кончается лесок, выходим в поле. Коростель подсказывает: «Надо спешить, скоро займется заря», и я тороплюсь, волоча разбитую ногу. Нога — чужая, деревянная.
Я весь мокрый. Чувствую: меня окончательно покидают силы. А нам ведь нужно пересечь еще одну линию железной дороги и успеть где-то укрыться на день. Немцы обязательно прочешут местность.
Вася Дмитриев тоже еле волочит ноги. И ему сегодняшняя ночь показалась вечностью. Дмитриева поддерживает Иван Сергеевич, меня Калганов. Так и идем.
— Осторожно, тут кочка… — то и дело подсказывает он. — Смотри, в яму не угоди. Пройди, я придержу ветку.
Предутренний ветерок взлетает в небо, к поблекшим звездам, и одну за другой гасит их. Светлеет небосклон. Свежеет…
Утром вышли к полотну железной дороги. За поворотом виднелась красная крыша казармы. Из трубы вился веселый дымок: дом жилой. Кто в нем? Может, немецкий кордон?
Калганов пошел выяснять обстановку. Мы спрятались в кустах, наблюдаем. Около казармы появился человек в форменной фуражке железнодорожника. Начал точить косу, ловко проводя бруском то по одной, то по другой стороне ее. Сталь звенела, издавая тягучий, малиновый звон. Невдалеке ходила корова с колокольчиком на шее. Звон колокольчика вместе со звоном косы напоминал знакомую с детства мелодию. Сразу и не понять, что это были отголоски забытой мирной жизни…
Человек засунул за голенище порыжевшего сапога брусок и, широко расставляя ноги, пошел, равномерно взмахивая косой. Позади оставалась рядком срезанная трава.
— Эй, дядя! — позвал Калганов.
Косарь остановился, испуганно озираясь.
— Да вот я, гляди! — из-под самых ног косаря поднялась голова, утыканная ветками. — Ловко? Да ты не бойся! Сядь-ка вот сюда, под кустик, потолкуем.
Железнодорожник недоверчиво поглядел на Калганова, неохотно давал ответы, его смущала неизвестность: кто перед ним? Партизан или полицай? Теперь такие времена настали, всего и всех бойся… Калганов прямо спросил перетрусившего обходчика:
— Дрожжи продаешь, дядя, боишься? А ты не робь: кроме смерти, ничего не будет. — Усмехнулся: — Выкладывай как на духу. И про немцев, и про партизан. Тогда не прогадаешь. Только правду, на том и поладим.
Железнодорожник сообщил все, что знал о немцах и о партизанах. Несколько дней назад партизаны Сабуровского отряда форсировали реки Судость и Десну, налетели на гарнизон райцентра Гремяч. Убили немецкого генерала, оказавшегося там проездом. Когда из Новгорода-Северского гитлеровцы подтянули подкрепление с тремя танками и пушками, сабуровцы умышленно побежали. Оставили сильную засаду у опушки леса, подорвали на минах все три танка и разгромили зарвавшихся преследователей. Сейчас по селам размещены войска — много пулеметов и минометов. Днем мадьяры занимаются покосом. По ночам бросают ракеты. Охраняются надежно. На сенокос выгоняют все взрослое население и даже детей.
Положение наше усложнялось. Покосы проводятся как раз в той полосе, где мы наметили переход в партизанский край. Размах работ, проводимых противником, весьма широк, скрыться будет негде. Нас неизбежно обнаружат. Оставаться возле казармы тоже нельзя: черт его знает, этого обходчика, можно ли ему довериться? Люди воюют, а он косой помахивает возле дома и молочко попивает!.. Надо идти.
Мы продолжаем путь. Я уже еле-еле переставляю ноги. Дмитриев чувствует себя не лучше. Мы с ним задерживаем товарищей, но что поделаешь? В разведке все бывает…
В лощине показался хуторок, утопающий в зелени садов. Кроме этой вот зелени, теперь до самого Брянского леса не встретим ни одной рощицы, ни одного деревца.
Решили день переждать на ржаном поле, что начинается сразу же за огородами.
— Отдыхайте! — сказал я. — Покараулю вас. Все равно не уснуть: нога не даст.
Стоило только людям прилечь на теплую землю, как они тотчас же уснули мертвым сном. Усталость свалила и Бойко — самого выносливого из нас. Трудным оказался наш путь…
Я разбинтовал ногу и совсем упал духом. Нога распухла как бревно. Темно-фиолетовое пятно украшало то место, где положено быть коленной чашечке. Смочил водой из фляжки платок, приложил к ушибу. Вот ведь угораздило!.. Оставаться нельзя и двигаться невозможно. Незавидное положение.
Июльское солнце жгло нещадно. Казалось, время остановилось и солнце никогда не сойдет с зенита. Хотелось пить, но фляга пуста — вода истрачена на примочки.
Рядом, на покосах кричали солдаты, ругая жителей. Переговаривались между собой, смеялись. Этот смех злил, доводил до бешенства, до исступления. Еще немного и я, наверное, стал бы в них стрелять.
Боль между тем усиливалась, начинало лихорадить. А день был таким утомительным и долгим!.. Скоро ли придет спасительная темнота и прохлада? Уйди, солнце! Ты мне растопило мозги, высушило внутренности, ты на жарком огне испекло мою ногу…
Солнце не ушло, оно померкло для меня: я лишился чувств. Сколько пролежал в обмороке — не знаю… Должно быть, долго. Вокруг стояла чуткая, звездная ночь. Калганов лил мне на голову воду, черпал ее фляжкой прямо из ручейка. Значит, меня перетащили с поля на луговину.
— Мы понесем тебя, лейтенант. Васе стало лучше, он отдохнул. Ты не будешь тревожить ногу, и через день-другой она заживет. Плясать будешь!
Мое молчание расценил по-своему.
— Не журись, голова-елова, и на носилках ты останешься проводником. Командуй, куда двигаться.
Противник начал наступление раньше того срока, о котором нас предупреждали Наумов и Анисименко. Всю «осадную» армию гитлеровское командование бросило на юг Брянских лесов. Мы оказались в окружении врагов. Пришлось резко изменить маршрут, вновь отойти в тыл, потом повернуть на восток и продвигаться параллельно кромке леса к Большой Березке. Село вошло в «зону пустыни». Немцы снесли его с лица земли.
По идее гитлеровцев «зона пустыни» должна сыграть роль своеобразной блокады партизанского края, отмежевать жителей от партизан и не дать распространиться народной войне на юг и запад.
Села предавались огню, жители — поголовному истреблению. Поводом к таким акциям служило появление в селе партизан. Но несмотря ни на что, жители всемерно поддерживали нас, помогали, сознательно шли на риск. Фашисты в ответ сеяли смерть. Так получилось с жителями Большой Березки — красивого и богатого села. Погреба, подвалы, колодцы, овощехранилище и даже силосные ямы были забиты трупами.
На широкой площади стояла виселица. Возле нее на растяжках из бельевого шнура прикреплена простыня с крупными буквами. Вася прочитал каракули:
— «Они были активистами большевистской вредительской и шпионской организации».
Гитлеровцы обычно не осмеливались заглядывать в такие места: боялись заразиться. Мы учли это, избрали местом перехода блокады Большую Березку — единственный участок, не занятый врагом. Но мы знали, что «враг хитер и коварен», как любил повторять Калганов, и мог подступы к этому могильнику и выходы из него заминировать. Особенно опасен шлях между селами Новая Гута и Старая Гута.
Уже под утро нам удалось выбраться из страшного места. И тут мы чуть не наткнулись на группу связистов — они тянули провод в сторону Голубовки. Там взлетали ракеты, слышалась пулеметная очередь, приглушенная расстоянием. Калганов обрезал провода, концы их заземлил: так труднее найти обрыв.
Дмитриев замедлил шаг, прислушиваясь к выстрелам. Мы тоже остановились.
— Не нравится мне эта стрельба, — как бы самому себе сказал Сокол. — Что-то раненько нынче всполошились фрицы.
— Проческа? — предположил Калганов. — А может, новое наступление задумали?
— Черт их знает.
Прислушиваемся.
Утренний туман скрадывает звуки, но, кажется, стреляют недалеко от нас.
— Как бы не нарваться на мины, — забеспокоился Дмитриев. — Лучше прямиком через болото двинуться. — Он вопросительно смотрит на меня. — Как, Анатолий? Времени, конечно, затратим больше, но зато это надежнее. А?
— Пожалуй, — соглашаюсь. — Только ведь…
Сокол понял мои сомнения.
— Ничего, справимся как-нибудь. Тебя опять на носилки приспособим.
Нам предстояло около десяти километров тяжелого бездорожья по болотистой топи, между густых кустарников, через сплошную завесу желтых водяных лилий и плотных зарослей камыша.
Пахло сыростью, мхом, прелым деревом. И снова, как на первой дневке, мириады мошкары. Я не выдержал и попросил спустить меня с носилок.. В голове стоял сплошной звон. То ли от голода, то ли от боли в ноге. А может, от комаров.
Время от времени Калганов нагибался, запускал руки в воду, вытаскивал корень камыша, очищал его, протягивал мне. Я покорно жевал сочный, мясистый корень, не чувствуя ни вкуса его, ни запаха.
— Ешь, голова-елова, пользительная штука: дикие кабаны за лучшее блюдо признают, от них жиреют.
Бойко и Сокол тоже жевали корни, время от времени останавливаясь, настороженно прислушиваясь. Стрельбы, кажется, не слышно.
Часов шесть переходили мы лесное болото. Когда выбрались на сухой берег, солнце стояло довольно высоко над лесом.
— Привал! — скомандовал Сокол. — Давайте выжмем одежду. Да надо шагать дальше. — Он подошел ко мне. — Как думаешь, Анатолий, далеко ли еще до шляха между Новой и Старой Гутами?
— Километров с десять. Может, чуть больше.
Сокол помрачнел.
— Скверно. — Постоял, что-то обдумывая. — Вот что, лейтенант, давай-ка опять на носилки. Надо спешить.
Под шелест листвы и мягкое покачивание самодельных носилок я задремал. Очень хотелось пить, горела голова, болела нога… Потом все куда-то исчезло, я провалился в темную яму. Пришел в себя оттого, что носилки не раскачивались. Мои товарищи к чему-то прислушивались.
— Не успеем, Иван Сергеевич, до шоссе еще…
Калганов не договорил. Издалека докатился слабый, еще глухой, но плотный гул. Он доносился со стороны Большой Березки, которая осталась за нашей спиной.
— Идут! — он повернулся к Дмитриеву. — Давай, Вася, бегом к шоссейке.
— Поздно! Там, — Дмитриев протянул вперед руку, — тоже немцы. Слышишь?
В сердце будто тоненькая острая иголка кольнула, неприятный холодок прошел по спине. Мы попали в коридор между двумя наступавшими цепями гитлеровцев.
Шансов на спасение у нас, по существу, никаких. Впереди, от шоссе, слышался рев танковых моторов, орудийные выстрелы, пулеметная дробь. Позади, все ближе, — топот сотен солдатских сапог. Мы уже стали различать отдельные выкрики, сигнальные свистки офицеров.
Бойко вытащил из кармана наган, сунул его за пояс. Калганов поставил на боевой взвод карабин, Меня по-прежнему мучила мысль: «Погубил друзей. Не выполнил задание. Эх ты, лейтенант Иволгин!»
Сокол бросился ко мне. Я увидел, как что-то изменилось в его глазах.
— Ты знаешь мой адрес. Я — твой… В случае чего напиши в Клявлино. — Обхватил мои плечи. Шепнул: — Прощай, Толя. — Обнялся с Калгановым. Подошел к Бойко.
«Неужели конец?! — не покидала мысль. — А что если к шоссе?»
Бойко, словно угадав мою мысль, как-то просто по-будничному сказал:
— Хлопцы, давайте-ка к шоссе… А там дело покажет.
Дмитриев и Калганов, подхватив меня под руки, потащили к дороге. По лесу покатилось эхо первого пристрелочного выстрела из танковой пушки. Танки, подминая кусты, шли развернутой цепью в тучах пыли вдоль шоссе.
Невдалеке от дороги лежали кучи старого хвороста — следы довоенной еще «гигиенической» вырубки. Разведчики быстро укрыли меня под одной из таких куч, под другой — Бойко. Завалив хворостом Калганова, последним спрятался Сокол. Это была идея Бойко.
У меня в руке зажата противотанковая граната — на случай, если обнаружат. Ее сунул мне Калганов. Это была та самая граната, которую из Брянского леса в мешке принес связной. Теперь она может пригодиться.
«Как это я забыл о валежнике? Ведь у меня уже возникала мысль, что в нем при случае можно укрыть засаду. А тут забыл… Хорошо, что Бойко не растерялся». Он, наверное, хотел воспользоваться плотной пеленой пыли у дороги. Прикрываться ею, как дымовой завесой, и проскочить через шлях…
Конечно, укрытие из хвороста ненадежное. Могут обнаружить каждую минуту. И обязательно обнаружат, если у гитлеровцев есть собаки. И все-таки я благодарен Бойко.
В каждом из нас теплится надежда: может быть, спасемся? Мы лежим «под ногами» наступающих и, наверное, поэтому не привлекаем внимания: кучи хвороста подальше от дороги обстреливаются и поджигаются.
Во второй половине дня разморенные зноем и трудным маршем враги стали двигаться медленнее.
Танки прошли. Их урчание и пушечная пальба еще доносились до слуха. Мимо нас лениво полз обоз. Огромные битюги яростно отмахивались от слепней куцыми хвостами. Тяжелые военные повозки прогрохотали по пыльному лесному большаку.
— Вылезай! — крикнул Сокол.
Он, как наблюдатель, находился чуть в стороне от нас и заметил, что как раз настало время прошмыгнуть через шлях. Мы поняли его, медленно поползли по обочине дороги, пересекли шоссе. Минут через пять свернули в густой кустарник.
Мы были почти спасены, но, надо же тому случиться, нас заметил кто-то из обозников, уже когда мы были по другую сторону шляха. Солдаты подняли стрельбу.
Как назло, я истратил весь запас сил и теперь, в решающий момент, оказался неспособным идти.
Калганов подставил широкую спину, я взобрался на нее. До нас доносился треск кустарника, где-то совсем недалеко слышался топот ног. Нас настигали.
Никогда в жизни ни до, ни после этого часа, мы не напрягали столько сил, моральных и физических. С Бойко сбило фуражку веткой или пулей — неизвестно. Но он даже не заметил этого. Калганов старался продраться сквозь густой кустарник, чтобы уйти от погони. Он задыхался, начал спотыкаться и, казалось, вот-вот упадет.
— Передохни, Коля, я пойду сам. Иначе обоим конец. Отпусти, говорю!
Меня подхватили под руки Бойко и Сокол.
— Потерпи немного, браток, — уговаривал Бойко. — Теперь, считай, ушли. Огонь-то не прицельный, нас не видно.
Калганов никак не мог отдышаться.
— Я прикрою. Но вы не мешкайте, — и тотчас заговорил его карабин.
Мы резко свернули в сторону, пули роем летели нам вдогонку.
— Еще немного, лейтенант, — тяжело выдохнул Бойко. — Ты сам говорил, речка близко… За речкой нас не достанут.
Наконец, вот она, речка. Кое-как перебрались через нее, углубились в чащу и дальше, дальше, в большой, вековой Брянский лес, прочь от шляха с солдатами, туда, где нам не страшны ни танки с пушками, ни солдаты с пулеметами.
На некоторое время я был выброшен из вихря событий: лежал в госпитале возле Смелижа — нашего партизанского аэродрома. Нога заживала медленно, и я тяжело переносил свое безделье.
Где-то недалеко партизаны вели упорные бои, обороняя Брянщину. Тридцать тысяч человек, способных держать оружие, откликнулись на призыв подпольных райкомов и обкомов партии. Тридцать тысяч народных мстителей встали на защиту родного края. Три недели беспрерывной бомбежки, артиллерийского обстрела и танковых атак выдержала «лесная армия».
Враг медленно, но неуклонно продвигался вперед, занимая партизанские базы, выжигая лесные села. Уже был захвачен аэродром орловских партизан восточнее Смелижа. Огонь и дым зловеще поднимался над лесом, заслоняя солнце, затемняя небо. Зарева пожарищ наводили ужас на жителей районов. Кольцо блокады все туже опоясывало леса…
Враг торжествовал, предчувствуя близкую победу: не будет больше постоянной опасности в тылу! Снова можно сосредоточить усилия на востоке. К большевистской столице, к Москве! И продолжал наращивать удары…
Самые боеспособные отряды: Ковпака, Сабурова, Дуки, Покровского, Гудзенко, Кошелева и бригада курских партизан — в одну из ночей сняли оборону и открыли широкие ворота немецким полкам. Озлобленные громадными потерями и длительным упорством партизан, а теперь ослепленные близкой победой, враги устремились в эти ворота и попали в ловушку.
В лесной чащобе, где танки лишены маневра, а артиллерия — подвижности, партизанам удалось отсечь пехоту, расчленить на мелкие части и прижать к Десне. Разгром врага на этом участке был полным, угроза уничтожения партизанского края ликвидирована…
Об этом рассказали мне Сокол и Калганов, когда навестили меня в госпитале после боев.
Многие бойцы сложили головы в те страшные дни. И все же партизанские отряды выстояли.
Брянские леса, на страх фашистам, вновь остались оплотом партизанской войны, вторым фронтом.
Борьба приняла еще более широкие масштабы, новые формы, с новыми, небывалыми задачами. Их поставил отрядам украинских партизан Центральный Комитет партии Украины через своего посланца — Ивана Сергеевича Бойко.
ДЕСАНТНИКИ
Южная кромка Брянского леса опоясана разноцветными огнями. Ракеты пронизывают звездный полог неба, останавливаются над темным шнурком горизонта и, рассыпавшись на сотни раскаленных шариков, скатываются на зубчатые вершины застывших деревьев. Желто-багровые снопы разрывов вкрапливаются в темноту летней ночи, раздвигают ее и медленно опадают на перепаханную снарядами землю. Елочными фонариками скользят трассирующие пули. Мрачные зарницы полыхают над батареями.
В напряженном мозгу мгновенно фиксируется кажущийся на вид безобидным фейерверк: ведь любая красиво светящаяся точка несет в себе смерть. Где-то внутри, в самых сокровенных тайниках своего существа слышу, как копошится беспокойный червячок, терзает сомнениями. Назойливая мысль сверлит мозг: «Ни звездного неба, ни тебя самого, может, не останется сегодня… Если ты удачно прошел через заставы и засады, благополучно прорвался с Бойко в Брянские леса, то это совсем не значит, что та же удача будет сопутствовать тебе и на обратном пути…»
Но тут же поднимается протест: «Врешь, выживу, пройду сквозь все и вернусь на Волгу! Мне всего двадцать с небольшим, я еще и жить-то как следует не начал…»
Мы лежим возле шляха. Ждем, когда предутренний туман поднимется над урочищем, скроет нас от окопов, где притаились немцы. Мы — это капитан Бережной, его помощник саратовец Алексей Калинин, радистка Дуся, мои верные друзья — разведчики Сокол и Калганов и еще полтора десятка автоматчиков. Это десантники, заброшенные в Брянские леса разведывательным управлением фронта.
— А может, голова-елова, рубануть из автоматов да прорваться, пока темно? — нетерпеливо шепчет Калганов. — Нас такая силища! Вчетвером от взвода мадьяр отбились под Новой Гутой, когда через шлях переводили Ивана Сергеевича Бойко. Теперь батальон расколошматим!
— Давай уж сразу всю фашистскую армию, чего тебе стоит!
Я старательно запоминаю огневую систему переднего края гитлеровцев. Меня раздражает такое легкое, несерьезное отношение Калганова к переходу фронта «осадной» армии. Уж кому-кому, а ему-то должно бы быть известно, что это дело опасное, тут шутить нельзя. Это не просто обычный бой с фрицами, как, скажем, было при большом наступлении на брянский край, где Калганов на самом деле отличился дерзостью и бесстрашием. Переход через полосу, занятую немцами, требует выдержки и терпения. За малейший промах придется расплачиваться головой. И не только своей.
Справа неуверенно подал голос коростель, неведомо как сохранившийся в этих местах. Ведь, кажется, не осталось клочка земли, где бы не разорвался снаряд, не лопнула бомба. И вдруг — коростель!
Значит, близок рассвет.
Пора…
Секретарь подпольного обкома встретился со мной накануне вечером, через час после того, как был представлен ему начальник группы десантников — капитан Бережной.
— Спеши обратно, лейтенант. Назревают события на одном из участков. Тебе поручается оказать этому фронту большую и немедленную помощь.
Я решил, что он шутит. Как могу я помочь фронту — простой лейтенант, не имеющий ни житейского опыта, ни сколь-нибудь серьезных военных знаний?! Не лучше ли остаться в эти трудные дни с товарищами? На партизанский край снова начались наскоки «осадной» армии.
Калганов отличился в боях с частями 8-го армейского корпуса Бегумана, мы с Соколом провели несколько успешных вылазок в тыл «осадной» армии, доставили командованию нужные сведения о противнике. В последний раз захватили для партизанского объединенного штаба сведущего «языка». Обо всем этом знает, конечно, секретарь обкома. Почему же отсылает нас из партизанского края?
Поняв мою обиду, он спокойно пояснил:
— Ты прежде всего разведчик. Пройдешь там, где не сможет другой. — И понизил голос до шепота. — Разведотдел Брянского фронта забросил в партизанский край своих людей. Полтора десятка автоматчиков с капитаном Бережным надо провести в Шалыгинские леса.
«На юг Сумщины нацеливают, к железным дорогам», — отметил я про себя.
— И провести так, чтобы комар носа не подточил!
— Или?
— Никаких «или», лейтенант! Фронт «осадной» армии переходите деликатно, без треска.
Я молча кивнул головой.
— Без треска, — еще раз подчеркнул секретарь обкома. — И далее следовать так же — совершенно незаметно. Движение группы ни в коем случае не должно быть рассекречено гитлеровцами. В этом заключается важность задания, которое поручается тебе. Поручается партией.
— Ясно!
— Согласуйте с Бережным маршрут и заходите после ужина. — Секретарь обкома посуровел. — Учти, лейтенант, тебе доверено особое задание. Подчеркиваю: о-со-бо-е!.. Думай! Хорошенько думай! То, что должна сделать группа Бережного, и будет той помощью фронту, о которой я упомянул.
На ходу обдумывая задание, я шел к своим.
— Милости прошу к нашему шалашу! — еще издали крикнул Калганов.
Он сидел у костра, здесь же были и другие.
Выпустив изо рта струйку дыма, Калганов притушил самокрутку и бережно ссыпал на ладонь остатки табака. Так же медленно развязал тесемку кисета, того, что достался ему в наследство от полицая Носатого, — до последней крошки ссыпал в кисет. Уселся поудобнее и запел:
Жизнь в селе теперь настала: Нет ни сахара, ни сала. Ни коровы, ни свиньи — Все фашисты увели!— Да-а, — задумчиво отозвался Алексей Калинин, помощник капитана Бережного. — Трудно приходится людям. Трудно.
Пудовые кулачищи бывшего судового машиниста тяжело лежали на коленях. Как все сильные люди, Калинин был удивительно спокоен и даже медлителен, полнейшая противоположность Калганову.
— Мы наслышаны о том, как живут люди в тылу врага, и сами уже видели, — проговорил Бережной. Он размешивал в котелке кашу — знаменитую армейскую кашу из пшенных концентратов. — Еще походим и снова поглядим…
Бережному на вид около двадцати пяти лет. Он худощав и кажется несколько сутулым. Движения угловаты, но не резки. Лицо интеллигента, и весь он какой-то штатский, словно только что сошел к нашему партизанскому костру с семейной довоенной фотокарточки.
— Верно, братцы, говорил Суворов, — продолжал свою мысль Бережной, — будто победа зависит от ног, а руки — только оружие победы… Для нас эта истина особенно справедлива. Тихо перейти линию фронта — это тоже искусство…
Все это — встреча и знакомство с фронтовыми разведчиками-десантниками, — происходившее всего несколько часов назад, сейчас представляется мне далеким-далеким. Мне кажется, что и Бережного, и Алешу Калинина, и радистку Дусю я знаю всю жизнь. До чего быстро сближаются люди на войне!
Вспарывая тишину, неподалеку от окопа раздается короткая пулеметная очередь. Это немецкое охранение стреляет на всякий случай, а вернее всего — отгоняет ночные страхи. Не один раз партизаны подбирались к таким вот окопам и, набросившись на наблюдателей, волокли их в лес…
— Пора!
Безмолвные тени скользнули за мной в густую и вязкую пелену тумана. Мы начали ввинчиваться в расположение, частей «осадной» армии.
Через двое суток наша небольшая группа была у нее уже в глубоком тылу. Мы выполнили первую, основную часть задания подпольного обкома.
В раннее прохладное утро вышли к железной дороге. День провели по соседству на болотистой луговине, не спуская глаз с полотна. Движение было не очень оживленным, но все-таки дорога действовала. Во второй половине дня за дрезиной прошли два состава порожняком. Это означает, что следом может проследовать важный, возможно литерный, поезд. Хорошо бы его…
Правда, у нас нет мин. Зато в заплечном солдатском мешке каждый, включая и нас, партизан, несет килограммов по двадцать толу. Есть и добрый запас детонаторов. Значит…
— …идем на диверсию! — подхватил мою мысль Калганов.
— Поддерживаю, — одобрил мою идею Сокол. — Пожадничали, многовато тола взяли. Не бросать же так, без употребления. А здесь как раз в дело пойдет. И нам облегчение.
Все так, и все не так. А указание секретаря обкома? Ведь он же ясно сказал: «Провести группу капитана Бережного в Шалыгинские леса. И провести так, чтобы комар носа не подточил… Фронт «осадной» армии переходите деликатно, без треска… И далее следовать так же — совершенно незаметно. В этом и важность задания, которое поручается тебе…»
Снова и снова взвешиваю решение. Сомневаюсь. Но какой-то бес соблазняет: боевые части «осадной» армии остались позади. Фронт прошли «деликатно», как и следовало, себя не обнаружили. А тут такая возможность…
Опять же Калганов и Сокол — опытные разведчики. Поддерживают… А как отнесется Бережной к затее? В конце концов, он старший, как решит, так и будет.
— Благослови, Иван Иванович, — просим его. — Пока слазаем на полотно, вы отойдете подальше отсюда. Мы вас догоним. Все равно пора потихоньку двигаться — уже вечереет.
Капитан согласился не сразу. Но Калганов так прицепился к Бережному — не отцепить.
— Уговорили, — сдался наконец Бережной. Посерьезнев, строго предупредил: — Обеспечьте себя с флангов, а то наскочит патруль, хлопот не оберешься. Советую взять Калинина: он классный диверсант.
Что правда, то правда: всего несколько минут потребовалось Калинину, чтобы заложить взрывчатку, замаскировать следы и уползти обратно в кусты. По свежим надломам — условному знаку Бережного — мы добрались до мелколесья, где нас ожидали остальные. Спустя несколько минут явились и Сокол с Калгановым.
Сокол был зол.
— Радуются, гады, — сквозь зубы процедил он. — Опять город наш взяли. Под Воронежем.
Калганов пояснил:
— Только отползли от полотна, к выемке подошел парный патруль и остановился как раз в том самом месте, где заложили заряд. Следов работы Калинина не обнаружили. Постояли, посмеялись, покурили и повернули обратно.
— Скорей, друзья, марш-марш отсюда! — заторопил десантников Калганов.
На этот раз он был прав.
Все вроде получилось неплохо, и все же я в который раз думаю: «Не выйдет ли боком для нас эта диверсия в тылу «осадной» армии?».
Знать бы, чем окончится это самовольство, к каким последствиям оно приведет…
Вытянувшись цепочкой друг за другом, идем без отдыха и остановок: подальше от железной дороги, от места задуманной диверсии.
Всю ночь, до утра, не останавливаясь и не сбавляя темпа, двигались на юг. Вот уже последние километры редкого кустарника. Впереди — голая степь, тридцать километров до Ямпольского леса. Позади — стокилометровый путь по бездорожью, с тяжелым грузом за плечами. Особенно в этом походе досталось Дусе, которая наравне со всеми разделяет тяготы пути: несет ящик с радиостанцией, сумку с батареями и автомат.
Мы миновали несколько секретов и засад. Каждая ловушка врага могла оказаться смертельной. Но теперь все, кажется, позади. Теперь мы почти дома: от Ямпольского леса до Хинельского рукой подать — полтора хороших партизанских перехода. Вот миновать бы только степную полосу.
— Нажимай, братцы! Поднатужься! — подбадривает нас Калганов. — Тут неподалеку небольшая роща. Дневку там устроим.
Мы спешим изо всех сил, стараясь дойти до места, пока не взошло солнце. Однако нас ожидало разочарование. Рощи не было. Остались только обугленные пеньки да несколько изуродованных высохших кустарников.
Мы с Калгановым молча переглянулись: место памятное. Здесь я, как сострил Калганов, «соприкоснулся» с пеньком… И вот рощи нет. Даже следов не осталось.
— Что будем делать? Успеем ли дойти до Ямпольского леса? — забеспокоился, и не без основания, капитан Бережной.
Сокол поднял руку — знак, призывающий к вниманию.
Из ближайшей деревни жители выгоняли на пастбище скот. Щелкали пастушьи кнуты. Слышалось мычание коров, утренняя перекличка петухов и заливистый лай дворняжек.
Обычная мирная картина. Не хотелось верить, что где-то здесь, рядом, в это благостное утро нас поджидает опасность.
Лес отсюда хорошо виден: темно-зеленый, манящий, с ласковым шелком травы и надежной тенью под кронами богатырских дубов… Еще одно усилие, и мы достигнем его. Но это мираж… До леса не менее пяти-шести километров. А силы уже на исходе. Но и останавливаться нельзя: стоит измученным дорогой людям присесть, и они не найдут в себе сил подняться.
— Как быть, Толя? — Бережной уловил мое беспокойство.
— Идти, так дотянем, — бросает Калинин.
Не задерживаясь, спустились в лощину, пошли по тропе, вытоптанной стадом. Рядом беспечно журчал ручеек, поросший травой. Еще дальше, в низине около ручья, квакала лягушка.
— Дождичка кличешь? — пытался пошутить Калганов. — Давай, давай, голова-елова. Нам дождичек был бы в самый раз.
Шутку не поддержали. Не до нее. Впереди, правее, раскинулось большое село. Слева, за бугром, скрылась деревушка. У меня нет под руками карты, и я не знаю названий здешних сел.
Лощина, по которой мы идем, петляет то вправо, то влево и наконец упирается в большое село.
— Пойдем, капитан, через село — напролом.
Бережной не соглашается. Но, по-моему, в данной ситуации больше всего надо рассчитывать на внезапность. Если в селе и есть полиция, то она не сумеет оказать организованного сопротивления. У нас полтора десятка автоматов! Попробуй, сунься!
— Проваландаешься с этими полицаями… — не решается Бережной. — Надо быстрее проскочить через ямпольский шлях. Село обойдем слева, прикрываясь садами.
— На сады надежда плоха, — ворчит Калганов.
Дмитриев тоже недоволен решением капитана. Я понимаю своих друзей: они знают цену времени и значение внезапности во вражеском тылу.
Взошло солнце. В селе начинался обычный трудовой день. Кто-то стучал молотком, наверное, отбивал косу. Доносился плач ребенка, слышалось кудахтанье курицы. В огородах, блистая росой, тянулись вверх копья зеленого лука. Подсолнухи повернули головы к небу: высоко ли поднялось солнце? Через плетни, дразня нас, свешивались сочные вишни. Белые хаты утопали в густых садах. Мирно, тихо, спокойно. Значит, опасения были напрасны. Дай-то бог!
Три выстрела, разорвавшие тишину, показались нам нелепыми, хотя мы и были готовы к любым неожиданностям.
Залаяли собаки, послышались торопливые слова команды.
— Засекли, гады! Тревогу подняли. — Сокол сплюнул.
— Сейчас исполнят для нас «Во саду ли, в огороде!» — это Калганов.
— Не стрелять! — предупредил Бережной. — Наблюдатели с тыла — Костя Стрелюк и Володя Славкин. А сейчас — бегом!
Вещевые мешки неуклюже запрыгали на спинах. Алексей Калинин почти насильно вырвал у Дуси ее вещмешок, а Сокол сумку с питанием для рации. Лицо девушки покрыто капельками пота, волосы прилипли ко лбу.
Вот гребень высотки. Еще немного и мы будем недосягаемы. Не успели: из села выскочили полицаи, десятка полтора-два. Они на бегу открывают огонь во фланг нашей группе.
— Нахально прут, черти, — ругается Калганов. — Чуют силу.
В минуты опасности он преображается. Вот и сейчас он останавливается, стреляет в полицаев, набивает патронами магазинную коробку, и снова щелкает его фузея, как он называет свой карабин.
— Стрелюк и Савкин, задержать противника! — кричит Бережной. Двое десантников присоединяются к Калганову.
— Может, успеем добраться до леса, а там дадим бой? — советуется Бережной, когда все собрались в лощине за гребнем.
— Если они допустят нас до леса, то сами в него уже не войдут, — ответил Калганов.
— Нам бы перевалить за ту высотку, — показывает Калинин, — а там рукой подать до леса.
— Руки коротки, — Калганов не успел закончить фразу: из-за высотки словно из-под земли вынырнул грузовик с немцами. Полицаи поднялись в атаку. Обе вражеские группы оказались на высоте, мы на виду у них — в лощине.
Если ударить по гитлеровцам, пока они не развернулись в боевой порядок, мы, может, еще и прорвемся к лесу. Но Бережной уклоняется от боя, увлекая группу вперед.
— Калинин и ты, Толя, со своими хлопцами быстро займите высоту слева от деревни. Прикрывайте нас. Попробуем все-таки уйти тихо.
— Погибать, так с музыкой! — Калганов разряжает карабин.
Полицаи поняли маневр Бережного по-своему, решив, что это паническое бегство. Пустились в погоню и не заметили, когда десантники залегли во ржи.
— Молодец, Бережной, правильно действуешь, — одобрил Сокол.
Ударили наши автоматы. Несколько полицаев упали, остальные бросились обратно. Произошло замешательство, и они уже не решались на повторную атаку. Мы немедленно воспользовались паузой и броском заняли высотку. Взвод гитлеровцев рассыпался в цепь. Самоуверенные, наглые, они с автоматами и легким пулеметом идут в полный рост, идут прямо на Бережного и его людей.
Капитан Бережной действовал смело, решительно — пулеметчик и несколько гитлеровцев были убиты. Но справа опять поднялись в атаку полицаи.
— Дмитриев, передай капитану, пусть отходит к нам. Полицаев мы задержим.
— Есть!
Сокол ящерицей пополз с высотки, потом побежал к лощине. Увлеченные боем, гитлеровцы не заметили его.
— Молодец, Васька! Жми, жми, милай! — шептал Калганов, будто Дмитриев мог его услышать.
«Пора!» — подумал я.
— Огонь!
Мы увидели, как полицаи залегли в посевах, зато гитлеровцы уже вплотную подошли к группе Бережного.
— Чего они молчат? — нервничает Калинин.
Я тоже чувствую нетерпеливое покалывание в ладонях, обычное при нервном возбуждении.
— Это Сокол показывает выдержку, — высказал предположение Калганов. — Вот подступят вплотную и рубанут!
И в самом деле вскоре захлопали выстрелы, взрывы гранат: Бережной повел десантников на прорыв.
Мы перенесли огонь на гитлеровцев. Теперь в своих не попадем! Послышался топот ног — возле высотки появились десантники. Пот с них лил градом, лица почернели от пыли. Только тогда я заметил, как жарко палит солнце. Захотелось пить. Губы стали жесткими, как жесть.
— Эх, водички бы! — хрипел Бережной.
Водички ни у кого не оказалось.
Гитлеровцы залегли невдалеке и нехотя, лениво постреливали. Мы не отзывались.
— Чего они лежат? — беспокоился Калинин, — Или ждут, когда мы начнем пробиваться к лесу?
— Сейчас поймешь, чего они ждут, — Калганов показал рукой на ямпольский шлях. По нему неслись еще две машины, одна легковая. Скорее всего это машина коменданта.
— Возможно, это не сюда? Случайно? — предположил Бережной.
— Вряд ли…
Машины остановились. Силы противника увеличились вдвое.
— Сейчас нам станет по-настоящему жарко, — тихо, очень тихо сказал Сокол. Но его все услышали.
Десантники держались спокойно и уверенно, хотя каждый понимал трудность положения. От леса мы отрезаны гитлеровцами — их теперь больше полусотни. Справа — заслон полицаев, человек в двадцать. В деревушке слева обнаружена засада. Позади нас врага нет, но там — чистое поле. Именно туда и теснят нас. Высотку ничего не стоит обойти и ударить с тыла. Враг превосходит нас почти впятеро. Кроме того, в любое время может подойти подкрепление. Мы же рассчитываем только на себя. У врага — транспорт и возможность широкого маневра. Мы скованы. Хорошо, что у нас нет потерь. Только Костя Стрелюк легко ранен. Сокол отделался дыркой в пилотке. Калганов — ожогом шеи. Если врагам удастся подстрелить кого из наших — все! Мы обречены. С ранеными нам не пробиться.
Я мучительно думаю, как вывести товарищей из мышеловки. Мы упустили единственно правильный выход — идти напролом через село.
Есть еще одна возможность: обойти слева. Для этого надо оставить прикрытие. Люди вызовут огонь на себя… Кого оставить? Десантников забросили с очень важным заданием, они работают на разведотдел фронта. Им любой ценой надо попасть в намеченный район. И уже если подпольный обком поручил безопасность группы Бережного нам, партизанам, значит, и оставаться в прикрытии придется нам…
Делюсь планом с капитаном.
— Спасибо, друг! Но…
— Не тяни, капитан.
Стрельба усиливается. Противник пошел в атаку, гитлеровцы соединились с полицаями. Еще усилие, и наша высотка окажется в кольце.
— Уходи, черт побери! Быстрее!.. — кричу я.
— Подготовить гранаты! — командует Бережной. — После контратаки — в деревню. Отход прикроют партизаны. — Он облизывает пересохшие губы. — А может, всем вместе, Толя?
— Нет, Иван, всем не пройти…
— Не поминай лихом, друг…
Высокая трава и картофельная ботва, цепляются за ноги, мешают бежать. Люди падают, поднимаются и снова бегут. Все понимают, что это последний шанс на спасение. Вот они пересекли шлях. До леса не более полутора километров. Теперь десантники спасены. Во что обойдется это нам, трем партизанам, оставшимся в засаде возле кладбища?
Только мы залегли, послышался топот.
— Пропустим! — шепчу товарищам.
Враги беспорядочной толпой неслись по следу Бережного, орали, стреляли. Три наши гранаты почти одновременно рванулись в гуще немцев. Гитлеровцы не ожидали нападения с тыла, слишком невероятной была дерзость. Бросились в рожь, залегли. Осталось несколько неподвижных тел да тяжело раненный парень, почти мальчишка. Он кричал, звал на помощь, но никто не спешил к нему, своя шкура дороже.
— Цурюк! — скомандовал Дмитриев. — Сейчас же назад!
Солдаты повиновались. Пока они, введенные в заблуждение Соколом, бежали от кладбища, мы бросились через село. Окраина деревни была уже занята гитлеровцами, но мы успели скрыться в другом конце за строениями. Через огороды поползли на картофельное поле, залегли в густой, высокой ботве… Пошарив в деревне и на кладбище, гитлеровцы часа через полтора убрались в город. Мы переползли шлях и по лощинке добрались до леса. По заломам веток нашли разведчиков Бережного. Они углубились порядочно: к берегу Ивотки.
Если бы не Калганов, мы бы, наверное, не смогли сделать и шага от усталости и пережитых волнений. Николай, как обычно, кидал шутки-прибаутки, и постепенно настроение улучшилось. Мы уже не думали о трудном пути, который нам предстоял. Бережной подал команду:
— Подъем!
Мы шли, радуясь тому, что остались живы, что скоро закончится наш путь и мы вернемся, наконец, на хинельскую базу. Впереди маячила спина Васи. Вдруг он остановился, поднял руку. Все замерли. А что, если немцы?
Из-за деревьев показались две девушки. Усталый вид, поношенная одежда и разбитая обувь говорили о долгом и нелегком пути.
Сокол решил остановить девушек, хотя те, не замечая нас, так и ушли бы своей дорогой, и тогда ничего бы не изменилось в нашей дальнейшей судьбе. Вмешался его величество случай.
…Анна Денисюк и Октябрина Качулина, уроженки Западной Украины, в первые же часы войны примкнули к одному из наших стрелковых полков. Отступали до Слуцка. При бомбежке города Аню ранило, и в эшелон она не попала. Октябрина могла эвакуироваться, но как оставишь подругу одну. Потом вместе они ушли из города, скитались по деревням, пока не попали на Ровенщину.
Девушки многое знали. Они рассказали о том, что гитлеровцы вытащили на свет божий ОУН — организацию украинских националистов. Те ратуют за отделение Украины от России. Их главный лозунг — «Украина — для украинцев!». Один из оуновцев, «генерал-хорунжий» Капустянский, пригретый фашистами, создает в Ровно «национальные» кавалерийские формирования, как внутренние силы «самостийной» Украины.
— Почему в Ровно? — спросил Бережной.
— Столица Украины находится в Ровно, — пояснила Анна. — В Киеве, во Львове и Луцке только некоторые ведомства и филиалы. В Ровно и резиденция обер-президента и гауляйтера Восточной Пруссии, начальника Цеханувского и Белостокского округов Польши, рейхскомиссара Украины, генерала СА Эриха Коха. Там его заместитель — Герман Кнут и ровенский гебитскомиссар — Вернер Беер. В руках этой фашистской троицы находится судьба поляков, украинцев, белорусов…
— Послушай, Анна, откуда тебе это все известно? — Бережной записывал для радиошифровки важные сообщения.
— Этого я сказать не могу, — уклонилась от ответа Денисюк. — Но все это чистая правда. Мы с Октябриной хотим перейти линию фронта и рассказать нашим все, что знаем о фашистах в Западной Украине и везде, где проходили. Пусть узнают о наших людях, которые ждут вызволения… Они не склоняют головы перед гитлеровцами.
— Мы сегодня передадим в центр радиограммой, — перебил Анну Бережной. — Вам сейчас через фронт не перейти.
— Спасибо, товарищ капитан, только нам надо связать своих людей с советским военным командованием. За нас никто этого не сделает.
— Почему же? — возразил Бережной. — Мы как раз и сделаем. Свяжем вас с кем надо, а там решат, как поступить дальше с людьми, пославшими вас на связь… Это, надо полагать, партийное подполье или партизанский отряд. Так, наверное?
Девушки переглянулись. Отойдя в сторонку, о чем-то зашептали. Потом отозвали Бережного и поговорили с ним один на один.
Пока Дуся колдовала возле своего «Северка», выстукивая позывные для внеочередного сеанса, мы, трое партизан, тоже успели посоветоваться между собой.
— А не отправить ли этих подружек вместе с Соколом и Калгановым в Хинельский лес? Наумову важно узнать то, о чем они рассказали. Надо думать, они располагают и другими сведениями. Заодно и пакет от подпольного обкома передадим для нашего комиссара…
— Что-то не пойму, к чему ты клонишь разговор, — откровенно сказал Калганов. — Не можем же мы оставить тебя одного. Пусть и недалеко теперь осталось — дня четыре, от силы пять, но как все сложится? Кто может предугадать? Да и закон разведки нельзя нарушать. Разведка должна быть парной. Забыл, голова-елова?
Сокол тоже не склонен был оставлять меня одного с людьми Бережного.
Не знаю, как бы я поступил, если бы под вечер возле железнодорожного моста через Ивотку нам не встретилась диверсионная группа хинельцев.
Старший группы Панченко вел партизан на ту самую «железку», где всего несколько дней назад мы заложили добрый заряд тола. Стоило ли еще раз идти туда? Может быть, лучше проникнуть на юг Сумщины вместе с Бережным? Заодно помогут боеприпасы нести. У нас порядком болели плечи и спины. А тут сразу пятеро помощников!
Панченко не колебался: с Бережным так с Бережным!
— Только надо сообщить на базу, что у нас изменились маршрут и задача, — попросил он.
— Все будет в порядке! — пообещал я.
Так я совершил вторую ошибку. О первой я уже говорил: это было минирование «железки».
— Какие новости в Хинельском лесу? — обступили мы Панченко, долговязого, нескладного детину из Эсмани.
— Новостей много.
— Были бы хорошими.
— Этим как раз похвалиться нельзя. Перво-наперво, от нас дезертировали Плехотин и Степановский…
— Когда?
— Как вы ушли, тут вскоре дошел до нас слух, что фашисты задумали большое наступление на партизан. Ну у Плехотина кишка оказалась тонка, не выдержал. Переметнулся в полицию. Теперь гуляет по Эсмани с пулеметом. Требует две сотни солдат и обещает выловить хинельских партизан. Мол, знаю все ходы-выходы партизанские. В награду за усердие Плехотину дали корову… — Панченко посуровел. — Плехотин похваляется, что это он зарезал пулеметчика Новикова возле Шилинки. Он и Чечеля на засаду навел…
— Вот стерва! — выругался Калганов. — Говорил я — прибрать его надо.
— А я не удивляюсь, — как всегда, спокойно сказал Сокол. — Капитан Наумов как-то говорил, что каждый трус в конце концов становится предателем. Вот Плехотин со Степановским еще раз подтвердили это. А в их трусости мы не раз убеждались.
— Да, теперь Плехотин может натворить бед. Он действительно многое знает.
— Он уже успел выдать фашистам нашего связного Цемберева, — подтвердил Панченко.
У меня сжалось сердце. Я знал Цемберева, он во многом помогал нам. На него всегда можно было рассчитывать. И вот его не стало…
— Роман Астахов и Коршок долго охотились за Плехотиным и Степановским, но те осторожны: знают, что их ожидает за предательство. Собрали вокруг себя человек тридцать полицаев — кроме тех, что в Фотевиже. И скачут по району, как собаки бешеные, голыми руками их не возьмешь, ночуют в каменной церкви, а днем пьянствуют и грабят партизанские семьи. Грозятся выдать всех до одного немцам.
— Неужели поисковые группы так и вернулись ни с чем? — воскликнул Сокол. — Уж кто-кто, а Роман Астахов…
— Говорю же, остерегаются вражины.
— Ничего, — недобро усмехнулся Калганов. — От нас не уйдут. Везде достанем.
Узнав о предательстве Плехотина и Степановского, я перестал колебаться: Сокол и Калганов должны быть на базе. Там они нужнее. Приняв окончательное решение, передал разведчикам устное донесение для Наумова и пакет для комиссара Анисименко.
— А Любе что передать? — спросил Калганов.
— Скажем сами, — перебил его Сокол. — Знаем небось.
Крепкие рукопожатия.
Последняя цигарка — «посошок» на дорогу.
— Спасибо, хлопцы, — растроганно говорил Бережной. — До новой встречи… Если живы будем, в долгу не останемся.
— Ладно. Долгие проводы — длинная дорога… Бывайте! — Дмитриев махнул рукой на прощание. — Ни пуха вам ни пера!
И опять трудные партизанские километры, новые опасности, неожиданности и лишения. Но каждый новый шаг приближал нас к цели, и это прибавляло сил.
Наконец последний день нашего пути с десантниками. Ночью мы уже без них пойдем на диверсию. Потом — обратная дорога в Хинельский лес, оттуда мы вышли с представителем ЦК Иваном Бойко более месяца назад.
Но на диверсию мы не пошли. И расстались не так, как надо бы. Все спутал нелепый случай. Впрочем, случай ли? Не много ли случайностей за последние дни? Может быть, мы сами причиной тому…
Смутная тревога закралась в сердце. Я без конца анализировал свои поступки и решения. У меня было такое чувство, что нас обложили со всех сторон, следят буквально за каждым нашим шагом. И все туже затягивается узел вокруг нас…
…На опушке леса, неподалеку от Глухова, на нас вышли из леса женщины-ягодницы. Оглядываясь, они торопливо перешли через старый противотанковый ров и прямиком, по пшеничному полю, кинулись на станцию. Вскоре со стороны Локтя послышались выстрелы из винтовок и короткие автоматные очереди.
— Не нравится мне вся эта история с дневкой возле хаты лесника, эти ягодницы и стрельба на станции, — сказал я Калинину.
— Да-а, день воскресный. Здесь может побывать еще не один человек, — согласился со мной Бережной. — Надо немедленно уходить. А вечером разведаем Локотский поселок — по карте он называется Передовик.
— Запасемся провизией и выйдем в район Шалыгинских лесов, — подхватил Калинин.
После памятного боя возле Ямпольского леса, когда мы чудом уцелели, Бережной стал считаться с нашим мнением. Но тут мы, кажется, подвели его: не надо было останавливаться здесь, возле хаты лесника. А все Панченко. «Я знаю здешние места, никто нас тут не увидит!..»
«А может, опасения наши напрасны и нет причин для волнения? Хорошо, если так…» Но чувство тревоги все сильнее охватывает меня. Бережной и Калинин тоже беспокоятся.
Оставив наблюдателей, — одного на поле, за рвом, второго — на опушке леса, — укрываемся в противотанковом рву, недалеко от опушки.
Костя Стрелюк подшивал к гимнастерке свежий подворотничок, Володя Савкин и Дуся растягивали антенну: приближалось время очередного сеанса. Надо было послушать фронтовую сводку. Бережной набрасывал текст, радиодонесения, готовясь сообщить о выходе в намеченный район действий. Алеша Калинин, сбросив гимнастерку и тельняшку, ожесточенно скреб безопаской щетину на подбородке. Лезвие было тупым, но Алеша, казалось, не замечал этого, приговаривая:.
У меня с утра три заботы: Побриться, умыться и угробить фрица!— Ради этого чего не вытерпишь, — вторил ему Панченко.
— Тем более, что первая моя забота почти что… — Калинин не договорил. Радистка Дуся, сбросив наушники, горько заплакала.
— Ты чего? — бросился к ней Бережной. — Что случилось?
— Воронеж… — сквозь слезы выдавила Дуся. — Немцы ворвались в пригород.
Дрогнула рука Калинина. Из глубокого пореза побежала темная струйка.
Все замерли в угрюмом молчании. Не замечали того, что сидят в глинистой воде, выпачкались и промокли. Позабыли о том, что с утра ни у кого не было ни крошки хлеба во рту. Медленно тянулось время, еле-еле дождались сумерек.
— Пора в поселок, капитан, — говорю Бережному. — Разведать надо, что и как.
— И я с тобой, — решительно поднялся Калинин.
…Тренькала балалайка. Мы подошли. Парни внимательно оглядели нас, нехотя ответили на приветствие.
— Чужих в поселке нет?
— Если не считать вас, — нагловато усмехнулся один.
Нелюбезно встречают партизан… Здесь что-то не так!.. Но раздумывать некогда. Надо взять хоть что-нибудь из продуктов. Товарищи голодные, а нам еще предстоит нелегкий путь.
Оставив Калинина на улице, я завернул в крайний дом.
— Бах!
— Та-та-та!
— Тиу, тиу, тью!
Взрыв гранаты, пулеметная очередь.
«Засада! — похолодело в душе. — Хорошо, если группа Панченко не успела пойти следом за вами…»
Удар ногой в оконную раму, прыжок в палисадник и… запоздалый выстрел в спину. Еще прыжок. Оглядываюсь, пытаюсь понять, что происходит. Засада продумана врагами до мельчайших подробностей, но что-то заставило их преждевременно раскрыть себя. До сих пор не понимаю, почему меня не схватили в хате? Счастье, что выпрыгнул в окно, а не пошел через сенцы. Взяли бы живьем, как куренка. Где же Алеша? Что с ним? Почему безмолвствует группа Панченко?
Калинина я увидел на улице.
Почему он стоит на виду? Лучше бы залег.
Только я успел подумать, грянул выстрел с бревен, где сидели парни, — теперь ясно — это полицаи. Топот ног, громкая торжествующая команда:
— Брать живьем!
— Того, что зашел в хату, уже скрутили!..
«Это обо мне…»
— А-а-а!
— Ы-ы-ы! — остервенело орут полицаи.
Калинин бросает гранату. Короткий бой… Пугающая тишина. Покачиваясь, Алексей выпускает из рук автомат, делает шаг мне навстречу и падает.
— Куда тебя, Алеша? — склоняюсь над ним.
— Грудь… Горит. Не оставляй им… Кончай сам, братишка… И уходи. Вдвоем… — Слабеющей рукой пытается разорвать матросскую тельняшку. — Душно… Горит…
Из-за угла появляется голова в кубанке. Вот он, убийца! Вскидываю карабин. Полицай дергается и валится на землю.
— Держись, Алеша, за шею. Хватайся крепче!
Но Калинин не слышит меня: он потерял сознание. Я тащу его на себе. Возле насыпи делаю передышку. Спина мокрая от пота и Алешиной крови. Я не могу взять в толк: куда девались враги? В чем дело? Поселок будто вымер: ни звука, ни огонька.
«Виадук! Они пошли в обход через виадук и встретят нас по ту сторону насыпи… Скорее наверх, надо опередить врага, пока не поднялась луна!..»
От напряжения дрожат руки, я обливаюсь потом, задыхаюсь. Страшно мешает оружие. Алексей съезжает со спины. Кое-как вытащил его на полотно, и сам свалился возле неподвижного товарища. Чуть приподнялся, в ответ:
— Бах! Бах!
— Та-та-та!.. Та-та-та!..
Белые дуги ракет скрестились над поселком. Тупо шлепаются в песок пули и с каким-то наждачным скрипом ввинчиваются в него. Лежим между рельсов, не шевелимся. Над садами появился голубой ободок луны. «Надо спешить вниз, не ожидая погони из поселка, — решил я. И с опаской подумал: — А вдруг полицаи уже за насыпью, внизу?» И как бы в подтверждение окрик:
— Стой!
Неясные силуэты впереди, у подошвы насыпи. Так и есть: нас перехватили! Назад пути нет, вперед с такой ношей не прорваться. Что делать?..
— Пристрели! — шепчет Калинин. Он пришел в сознание.
— Кто такие? — нетерпеливо спрашивают внизу.
— Та свои! Поранило тут нашего.
— А ну, ходить до нас!
— Не можу: я теж пораненный… Доможить, будь ласка!
Трое гуськом поднимаются на насыпь. Поверили! Теперь у меня есть преимущество: сверху я хорошо различаю цель. И против трех винтовок — автомат десантника. А что, если Алеша успел расстрелять диск там, в поселке? Эх, была не была! Все равно другого выхода нет! Почти в упор резанул очередью первого, за ним — второго. Медленно оседая, полицаи скатились вниз. Третий упал, не дожидаясь участи первых. По-собачьи перевернулся на спину, поднял руки и ноги вверх.
— Не стреляй, браток, партизаном буду…
— Подыхай, гад, полицаем!
Быстро, как только позволяет крутой спуск, тащу Калинина. Добраться бы до пашни. А там кустиками в противотанковый ров, к Бережному… Ноги заплетаются, я падаю. У меня такое ощущение, что не смогу больше шевельнуть ни рукой, ни ногой. Бешено колотится сердце. Вот-вот выскочит из груди… Чувствую, как обмяк Алеша. «Он истечет кровью, — ужаснула мысль. — Что же я лежу?» Поднялся на ноги и еле побрел к противотанковому рву. Издали подал условный свист. Навстречу выскочили Бережной и Костя Стрелюк.
— Что произошло? Где Калинин? Где люди Панченко?
— Скорей, Иван… Надо вынести Алешу. Давай двух парней.
— Эх, черт! — с тоской в голосе произнес Бережной. — Такого бойца потеряли… Веди, Толя, я сам пойду.
Мы пересекаем пашню, направляясь к тому месту, где я оставил Калинина.
— Ложись! — шепчу я.
Стрелюк и Бережной падают в борозду.
— Ты чего? — не понимает Бережной. — А-а, вон оно в чем дело…
На насыпи лежат несколько полицаев и простреливают пашню и кустарники, освещенные луной.
— Подождите, я их гранатой, — говорю Бережному. — А вы бегом в кусты!
Изготовил гранату, пополз к железной дороге, второй раз в этот злополучный вечер. «Воды бы… Хотя бы каплю. Капельку!..»
Кажется, меня взяли на мушку те, сверху. И ждут, чтобы вернее… Физически ощущаю, как черные глазки стволов уставились в мою голову. Может быть, остановиться, переждать? А Алеша? Он там, на освещенном поле, истекает кровью. И Бережной со Стрелюком.
Воды бы… Немного воды!
Прижимаюсь к земле, пахнущей горьковатой полынью, теплой, как ладонь матери. Время остановилось. Кроме меня, полицаев и полной луны, никого в огромном, необъятном мире…
Пули уходят с визгом куда-то дальше, откуда я только что отполз. Почему-то вспомнил Стародуб… Мне однажды приходилось уже пережить такое же вот состояние на кладбище в Беловщине, когда на меня, безоружного и беспомощного, враги наставляли оружие.
И вот сейчас. Почти то же самое. Только тогда я бросился в темную ночь, а сейчас сам ползу навстречу врагам. Пора… Рывок. Кольцо лимонки мягко ложится в борозду. Я на ногах. Делаю широкий взмах рукой и сразу откатываюсь в сторону. Секунда, две, три… Целая вечность!
— Бах!
— Чш… Чш… Чуф!.. Ф-ф… — летят осколки. Вопль за насыпью. И все. Тишина.
Раненого Калинина мы оставили на попечение путевого обходчика, километрах в четырех от Локотского поселка. Там я расстался с людьми Бережного. Панченко без меня ушел на железную дорогу, я решил возвращаться на базу один.
Фронтовые разведчики двинулись на юго-запад, в глубь Украины. Мой путь лежал на северо-восток, в Хинельские леса. Там, в отряде Наумова, ждут меня боевые друзья и новые дела. Дмитриев и Калганов, наверное, уже потеряли надежду на встречу. Может быть, и Люба втихомолку смахнула с ресниц не одну слезу… Но до них еще очень и очень далеко.
Четверо суток пробираюсь один, минуя селения, обходя поселки. Дважды попадал в хитроумные засады, но оба раза удачно выбирался из них. Мой желудок и фляжка для воды вторые сутки пусты. Спать приходится мало и то вполглаза. Все время держусь настороже. Я очень устал… Только теперь по-настоящему понял всю тяжесть одиночества.
Вчера побывал в поселке Бишкинь, на южной границе Эсманского района. Там, скрываясь от полиции, живет жена одного нашего партизана. Передал ей письмо из Брянского леса от ее мужа, несколько листовок и как величайшую драгоценность — газету с Большой земли почти двухмесячной давности, сообщил партизанские новости.
Помня поручение секретаря подпольного обкома Сумщины, побывал на конспиративной квартире в поселке Комаровка. Туда, к бабке Соне, приходят люди, направляемые через фронт к партизанам. Здесь же в свое время был встречен и представитель ЦК Украины Иван Сергеевич Бойко.
Явочная квартира оказалась пустой: никто после Ивана Сергеевича тут не был. Но и в этот заброшенный поселок постоянно доходят слухи о дерзких вылазках наумовцев, о диверсиях на дорогах, о стычках с полицией и об организации саботажа среди населения. Здесь знают: гитлеровцы всполошились не на шутку. На днях подняты по тревоге тыловые гарнизоны, против партизан выставляются крупные воинские подразделения. Как и в брянском крае, наумовцам в Хинельском лесу грозят блокадой и полным разгромом.
Я бессилен помочь своим друзьям, предупредить их о надвигающейся опасности: в хинельской зоне, наверное, уже идут бои с карателями.
Чувство бессилия еще больше озлобляет меня. Знать, что товарищам угрожает опасность, и не суметь отвести от них беду! Может статься, меня самого уже записали в поминальник? Молва идет быстрее человека. В отряде уже слышали, конечно, о схватке с полицаями в Локотском поселке и о том, что кто-то из наших тяжело ранен, если не убит.
А я лежу в дозревающей ржи, смотрю, слушаю… Мерно топают сотни солдатских ног, поднимая вверх тучи сухой, бурой пыли. Поет, трепеща крылышками, какая-то пичужка, без устали прославляя голубое небо, солнце, простой и понятный ей мир.
Я очутился в коридоре, зажатый с обеих сторон колоннами войск. Точь-в-точь как тогда с Бойко, в Брянском лесу, возле шляха между двумя Гутами. Только сейчас войска идут на Хинель.
Меня могут обнаружить каждую минуту. Но я устал бояться. Натягиваю на себя пятнистую мадьярскую плащ-палатку, погружаюсь в тяжелое забытье. Мерный стук солдатских сапог по обе стороны от меня… Плещет, ласкаясь, теплая вода… Хорошо… Покойно. Это река Волга и ватага приятелей-сорванцов… Я уже в лодке… Нет, в колыбели. Мать наклоняется надо мной, улыбается и поет. Нежно, ласково…
ШУМЯТ ЛЕСА ХИНЕЛЬСКИЕ
Комиссар Анисименко беспрерывно смолил козьи ножки: «Дмитриев, положим, мог задержаться: у него полный портфель захваченных в комендатуре документов. Пока их изучают в подпольном обкоме, пройдет добрая неделя. А Калганову что помешало вернуться вовремя? Еще вчера должен прийти из Брянского леса…»
И вдруг радостный голос Коршка:
— Коля, ты ли это?
— Почти не я, голова-елова. Даже, наверное, не я…
«Вернулся!» — с облегчением вздохнул Анисименко и поспешил на голоса.
— Как сходили?
— Что нового в партизанском крае?
— Как живет Большая земля?
— А письма где?
Калганова буквально засыпали вопросами.
— Стой, хлопцы, стой! Всем отвечу. Только дайте сперва перед начальством отчитаться.
Похудевший, но, как всегда, не унывающий, Калганов доложил комиссару о благополучном переходе в зону Брянских лесов и обратно.
— Это для вас из обкома. Эти из штаба для капитана Наумова. — Он протянул Анисименко два объемистых пакета. — На словах велено передать: ваше решение об уборке хлебов правильное. Жителям надо помочь с уборкой и обмолотом, а зерно спрятать понадежнее… Если не будет такой возможности, хлеб сжечь на корню или в скирдах. Не дать врагу ни зернышка. — Калганов словно стрелял словами. — В райкоме говорили еще вот о чем: надо постараться закрепиться в тех селах, которые считаются «ничейными», то есть контролируются нами. Расширять связи с населением, вытеснять гитлеровцев и «казаков» из районов. Всеми путями разлагать полицию… Тех, кто зачислен на службу насильно, принимать в отряд. Заядлых — уничтожать. Так и сказано: «На месте вам виднее, как действовать. Где нужно — словом, а где — пулей!»
— Все ясно, Калганов. Кого слова не берут, того палкой бьют. — Комиссар снова завернул цигарку. — А что с Дмитриевым, ты не знаешь?
— Его встретил на заставе Наумов. Разговаривают там… С минуты на минуту появится.
Когда мы с Николаем остались вдвоем, на мой вопросительный взгляд он ответил отрицательно.
— Сам два самолета встречал в Смелиже. Из Москвы приходили. Ни тебе, ни мне писем нет… Да и рано им быть-то, пожалуй. Ведь я только отнес им в первом рейсе. В следующий раз будет тебе письмо. Не с Большой земли, так здешние красавицы черкнут пару слов… — переходя на обычный шутливый тон, Калганов пытался утешить меня. — Не горюй, голова-елова, пойдем, я тебе Васькин трофей покажу.
— Что за трофей?
— Знатный, голова-елова: живой фриц, да еще с лошадью.
— Где вы его подцепили?
— Он сам нас подцепил. Партизанить захотел.
Я с недоверием смотрю на Калганова: не врет ли? Но тот по-прежнему серьезен.
— Ну что ж, пойдем. Кстати, вон и сам Сокол. Послушаем, что скажет.
— Это более солидный источник?
— Нет, дружище, более достоверный. Ты ведь обязательно увлечешься и так же обязательно наврешь!
Калганов засмеялся.
— Эх ты-ты!.. Да Калганов — как апостол! Только правду, единственно правду речет!.. — Махнул рукой. — Ладно, пошли к Соколу.
На поляне возле Дмитриева уже собралась большая группа партизан. Поощрительно похлопывая по спине немецкого солдата, Вася о чем-то оживленно говорил.
К толпе подошли Наумов и Анисименко.
Калганов лихо козырнул капитану и обратился к Анисименко:
— Еще один пакет имею, совсем забыл… Не успел, бедняга, отослать в Германию: поросенок помешал.
— Какой бедняга и при чем тут поросенок?
— Очень просто, товарищ комиссар. Фронт «осадной» армии усилился. В Брянские леса путь заказан. Нам в штабе отряда посоветовали с Соколом на пару идти. У нас так уж заведено: где одному не пройти, двое обязательно проскочат!
— Ну, опять расхвастался, — рассмеялся Анисименко. — Говори толком.
— Я и говорю. Пошли это мы с Дмитриевым. Спешим, конечно. Проходим через сожженный хуторок, что под самым лесом. Помните, мы сюда шли через него? Все название забываю… Ну, идем, значит, через этот хуторок. Видим — бегает поросеночек. Такой симпатяга! Надо думать, ничейный, потому как хутор спалили фашисты только-только перед нашим приходом. Жителей нет: в лес подались. И пропадает добро… — Калганов бросил взгляд на комиссара. Тот понял. Протянул кисет.
Николай оторвал листик бумажки, начал свертывать цигарку.
— Ничего не успели сделать, — Николай отдышался после крепкой затяжки. — Откуда ни возьмись, повозка с немцами, а на ней три солдата. Васька цап порося и за угол недогоревшей баньки! Поросенок визг поднял. А немцы и услышь… Насторожились. Брось, говорю, Дмитриев, к чертям эту холеру: еще немцев на крик наведешь… Ку-ды-ы там! Стреканул мой Сокол от баньки в кусты. К сердцу, словно невесту, порося прижимает… Сами знаете — в Брянском лесу и со свиньей поцелуешься.
Партизаны хохочут: ловко загибает парень. А Калганов знай свое.
— Один из фрицев, и правда, с повозки спрыгнул: тоже, голова-елова, мясца захотел. А при мне важные пакеты, мне срочно их в Хинельский лес доставить надобно, а не в Брянский возвращаться, как это Дмитриев делает… А пока деваться некуда: бежит Васька с поросенком, я за Васькой, а за нами обоими фриц. Так и бежим, как на кроссе. Обогнал я Дмитриева. Меняй курс, говорю. Отвлекай вражину. Сокол и сам понял свою оплошку. Остановился. Только немец раздвинул кусты, он и треснул его по черепушке тем поросенком. Поросенок богу душу отдал, а тому… царствие ему небесное… мы помогли.
Калганов передохнул.
— Обыскали, как полагается, забрали документы и пакет с письмами…
Илюша Астахов нетерпеливо дергает рассказчика за рукав: скорее, мол, не тяни. Калганов будто и не замечает. Продолжает со смаком:
— Только было собрались с Соколом назад, к хутору, слышим, телега затарахтела. Что за диво? Очень даже странно. Чтоб фашисты на ночь глядя да в партизанский лес вдвоем сунулись? Тут что-то не так!.. Засомневались: уж не своего ли брата-партизана тюкнули в кустах? Может, хлопцы из разведки возвращались? Под немца и вырядились… Мороз по коже продрал. Натворили!.. — Калганов вытер капельки пота, проступившие на лбу.
— На всякий случай залегли в кустах, приготовились к бою. Васька гонит меня: «Пакеты сбереги! Один, мол, справлюсь!» Вину искупить хочет: из-за него сыр-бор разгорелся. Да и страшного ничего нет: мы же в лесу, в партизанском крае.
— Валяй, — говорю, — только не задерживайся. И ушел. Малость погодя он свистит. Выхожу и глазам не верю! Сидит мой Васька на телеге с немцем, сигаретку покуривает, а третий фриц возле них покойничком лежит. Вот этот Густав фашиста укокал. Вместо пропуска к партизанам повез.
— Густав — рабочий частного гаража, до войны был шофером. Сам он родом из Силезии. Наполовину поляк. Воевать не хотел, ждал случая, чтобы перейти к нам, — рассказал о Густаве Дмитриев. И опять же боялся как бы партизаны его не прикончили… Вот подходящий случай и помог парню.
— Ну, видим, немец правильный, — Калганову не терпится досказать, — опять же, не ариец… Посудили-порядили с Дмитриевым и поехали. Так в казенной повозке и катили, прямиком через села.
— Ну, это уж слишком! — заговорили партизаны. — Лихачество.
— Откуда полицаям знать, куда мы солдата везем? — парирует нападки Калганов. — С настоящим фрицем едем.
— А если бы немцев встретили?
— А тем откуда знать, куда нас Густав везет?
Такая логика мало кого убедила. Рисковали разведчики напрасно. В нашей жизни никогда раз на раз не приходится.
— Да, опять вы дел натворили, — отозвался молчавший все время Анисименко. — От разведки придется отстранить обоих. Как, Михаил Иванович? Верно говорю? — обращается он к Наумову.
— Верно, Иван Евграфович.
Калганов передал Наумову оперативную карту. Ее похитил Густав в штабе батальона перед побегом к партизанам: не хотел идти с пустыми руками.
— Займись, лейтенант, — приказал Наумов. — Изучи доскональнейшим образом расстановку вражеских сил.
Приняв документ, я оценил догадливость Густава: на карте условными значками были нанесены номера частей и подразделений «осадной» армии, основой которой был восьмой венгерский армейский корпус. «Осадная» армия продолжала наращивать силы, производить перегруппировку войск. Сопоставив недавние сведения своей разведки с новыми данными о дислокации противника, убедился, насколько точно, обстоятельно работает наша служба, созданная Наумовым.
Калганов, как и другие наши разведчики, знает, что какой-то интерес могут представить солдатская книжка, блокнот и даже обычное письмо. Поэтому он и передал захваченное письмо Наумову, а тот — нам. Это письмо мы с Соколом посмотрим позже. Теперь же предстоит изучение оперативной карты и разговор с Густавом: о замыслах противника может сказать только сам противник или документы его штаба.
Два полка 205-й пехотной дивизии заняли фронт от Новгорода-Северского до Середина-Буды. В самой Буде — штаб дивизии. Далее на восток развернулись части 102-й пехотной дивизии. В начале июля появилась еще одна 108-я пехотная дивизия. Теперь фронт «осадной» армии тянется от Новгорода-Северского через Севск до Локтя.
Вот уж истинно: близок Локоть, да не укусишь! Теперь там штаб корпуса.
Многое рассказал Густав.
— В каждом селе размещен гарнизон немцев, мадьяр или полиции с артиллерией или минометной батареей. Построены дзоты я бункера, окопы и ходы сообщений между ними. Каменные здания оборудованы как узлы сопротивления, на случай нападения партизан. В сторону леса подступы к селам минируются, натягивается колючая проволока. На ночь в поле выставляются посты и секреты. Устраиваются засады и «волчьи ямы» для перехвата партизанских разведчиков и связных. Среди солдат ходят слухи, — признался немец, — что командование готовит в скором времени новое большое наступление против брянских партизан. Вот я и хотел предупредить их об этом… Но теперь, наверное, вы сами передадите тем товарищам, которых я так и не увидел в Брянском лесу?
— Конечно, — успокоили мы Густава. — Но только ли поэтому ты, Густав, перешел на сторону партизан?
— Не только это. Главное в том, что мне не по пути с нацистами. Нам говорят о технике войны, — поясняет Густав, — а об ее общем смысле — ни слова. Но многие наши солдаты сами начали понимать этот смысл… Здорово помогли бои под Москвой!
— Так почему же они не переходят на нашу сторону?
— Боятся: семьи перебежчиков гестапо сразу уничтожит. У нас солдаты даже между собой не говорят об этом.
— О чем же говорят солдаты?
Густава перебил Дмитриев.
— Послушай, лейтенант, что пишет каратель, любитель поросятины. Письмо адресовано какой-то Катрин в Лейпциг. — Он стал читать, а я записывать текст письма.
— «…Наш карательный отряд, который обеспечивает тыл корпуса, брошенного на борьбу с партизанами, прошел рейдом по нескольким районам Сумской, Черниговской и Брянской областей. Были мы также в Белоруссии и на Курской земле. Через руки уполномоченного гестапо лейтенанта фон Гитмарштайна прошли сотни русских, украинцев и белорусов. А лейтенант в методах не стесняется. Мы сметаем с лица земли целые деревни, но — странное дело — это не действует. Мы убиваем этих проклятых партизан, не считаясь с тем, кто стоит перед нами, — взрослый или ребенок, женщина или мужчина, — а жители усиливают сопротивление. Некоторые солдаты допускают к ним непростительную мягкость. Таких солдат мы расстреливаем, как и русских… В городе Погаре я, как котенка, стукнул об угол жидовского выкормыша. Заодно прикончил и его мать. Пусть все знают силу непобедимой Великой Германии.
Между прочим, я писал тебе о награде. Я ее получил за действия в Погаре. И хорошенько отметил с оберфельдфебелем Куртом Шмультке…»
— Вот сволочь! — не выдержал Калганов, который забежал к нам на минутку. — О чем пишет женщине.
— Помолчи. И она, наверное, добрая штучка, если связалась с этаким бандюгой…
— «…А на днях ухлопал пойманного партизана и мальчишку — за агитацию. Они не боятся пыток…»
Я стиснул пальцы, кровь ударила в голову. «Вот, значит, где вынырнул этот вражина и палач — лейтенант фон Гитмарштайн! Мало с него Стародуба, забитого насмерть Хлапова, казненного Самусева, истерзанной Елены Жаркой и расстрела назаровских подпольщиков. Захотелось еще и детской крови?! — Во мне кипит холодное бешенство. Оно ослепляет, захлестывает душу. — Откуда берутся такие звери? Неужели женщина могла породить этих убийц?»
— Да ты совсем не слушаешь, — нарушил ход моих мыслей Вася.
— Извини, действительно, отвлекся. Читай.
— «…Достойно удивления презрение к смерти всех русских вообще, — читал Вася. — Мы не можем понять, в чем сущность их упорства. Большевистская пропаганда, что ли? Им уже и защищать-то нечего — ничего своего нет, все колхозное. А вот, поди же! Упорствуют. Хоть режь по частям, а мы и режем их, — они все равно твердят о своей будущей победе».
— Позвольте, я выскажусь, — вмешался Густав. Он сидел рядом с Соколом и читал письмо про себя. — Мне кажется, германское военное командование способно выигрывать отдельные сражения. Но если взять войну целиком, немцы ее проиграют.
Сокол перевел.
Это было сказано так категорично, что мы не удержались от улыбок. А Калганов похлопал по плечу Густава:
— Верно стратегуешь, голова-елова! Гитлер — капут!..
Пришла очередь рассмеяться Густаву.
— О-о, эту фразу знают не только солдаты, но кое-кто постарше. Там, — он поднял палец вверх, — господа тоже поговаривают об этом.
— «…Мне часто мерещится, что вместо одного убитого наутро встают трое живых. Так оно, в сущности, и есть… — продолжает читать Дмитриев. — Сказывается результат комиссарского воспитания. Голова начинает кружиться, теряешь веру в себя и поддаешься самым мрачным мыслям… Мадьярские части, которые находятся здесь, ненадежны. Могут подвести в самый трудный момент, как уже и делали не раз… Меня в последние дни мучают тяжелые предчувствия…»
— Предчувствия его не обманули, — подвел итог Анисименко, дослушав письмо. — Чего заслужил, то и получил. Это должно было произойти.
«Вот бы и фон Гитмарштайна изловить, — подумал я. — И посмотреть, как будет он держать ответ один на один перед партизанами…»
— Не думай много, голова лопнет! — хлопнул меня по плечу Калганов. — Лучше спросил бы о друзьях-приятелях…
— Ты это о ком?
— Да хотя бы о Петьке-цыганенке. Помнишь, в Погаре-то был?
Еще бы не помнить Погара и всего, что с ним было связано!
— У Петьки теперь слава громкая, на весь партизанский край!..
— Чем это он так прославился?
— В какой-то местный отряд попал. Кажись, в Суземский… Не в том суть. Стал разведчиком. И хвалят его и клянут… Стоит Петьке приметить доброго коня — непременно уведет. Ну, сам знаешь, лучшие кони в отрядах у начальства водятся. Ну вот, схватятся — нет коня! У начальника штаба или у самого командира отряда! Туда-сюда… На кого подумать? Ломают они, ломают головы. Дознаются: цыган здесь был. Начинаются розыски. Приезжают в Петькин отряд.
— Есть у вас цыганенок?
— Имеется…
— Коня нашего… как бы сказать?
— Понятно! Зовут Петьку.
— Брал коня?
— На кой прах мне твой конь нужен? У меня свой — красавец! Ветер! Пуля!.. Во какой конь, от немецкого полковника!
— Зачем же нашего угнал?
— Та хто его уводил, вашего клячу? Он сам причепился до меня, як той репей. Шагу ступить не дает. Куда я, туды он…
— Показывай, где конь.
Повздыхает, поскучнеет Петька, но возвратит коня.
Сраму через Петьку набрались в отряде — страсть. Сами не рады тому цыганенку. Но в разведке — зверь парень. Где хочешь — пройдет, чего хочешь — достанет.
Несколько дней Сокола и Калганова в отряде не было: в качестве парламентеров ходили к полицаям в села под городом Севском. Принесли много новых, интересных сведений о противнике, хотя задача им ставилась в этот раз весьма деликатного свойства…
Пока Сокол и Калганов перебрасывали дипломатические мостики к полицейским душам, к нам прибыл связной из Брянского леса. Принес категорический приказ Балашова: Наумову срочно привести всю группу в расположение отряда, то есть в Брянский лес. Да и не просто самим явиться туда, а… пригнать как можно больший обоз с продовольствием.
Нас смущает такое недомыслие: какого черта нам делать там, где сосредоточены тысячи, десятки тысяч партизан? И к тому же плохо обеспеченных продовольствием? Не лучше ли было поступить наоборот: весь Эсманский отряд перевести сюда, в Хинельские леса? И потом: попробуй-ка перейти летом с обозом через фронт «осадной» армии, когда и пешему-то это сделать трудно…
Комиссар разделяет наше возмещение.
— Без обозов мы не нужны, — усмехается он. — Нашему Балашову, как я понял, сала подавай, мучицы беленькой, самогона да медку… — Анисименко согнал с лица улыбку. Жестко закончил: — Воевать надо, расширять районы партизанские, а не отсиживаться в тех местах… Там без нас управятся, есть кому. — Анисименко нервно рвет листок газеты, свертывает цигарку. — Правильно нацеливает нас партия. Иван Сергеевич Бойко не на прогулку шел туда, в Брянский лес. Слово партии не так восприняли наши эсманцы: вместо того, чтобы всеми силами вырваться на просторы Украины, им подавай обозы с харчами через фронт «осадной» армии!.. Шутка дело, попробовали бы сами это сделать. Удивительно, как терпит возле себя Балашова командир отряда Ванин?
— Ничего, комиссар, — успокоил Наумов. — Мы не скоро пойдем на север. Наше место — здесь. Будем держаться, пока возможно. Нас уже двести человек, и мы шумим в стане врагов: захватили и повернули против гитлеровцев артиллерийскую батарею, почти десяток минометов, сколько станковых и ручных пулеметов… Это же силища!.. — Наумов прикурил от комиссарской цигарки, глубоко затянулся. — Вся эта огневая мощь направлена и действует против многих гарнизонов гитлеровцев: как-никак полдюжины районов нами контролируются — не шутка.
Капитан бросил окурок, втоптал в землю.
— «Осадная» армия не очень бы хотела иметь в своем тылу такую силу, как мы. Жаль, что штабники Ванина не понимают этого.
— По-моему, Балашов действует без ведома райкома и подпольного обкома. Не советуется с коммунистами. — Комиссар помрачнел. — Самодеятельность такая в общем деле только вредна. А мы с тобой, капитан, тоже хороши — надулись на Балашова. Давно надо бы сообщить в обком и о наших возможностях здесь, и о действиях эсманского командования… Нашли метод — отписываться на нелепые приказы!..
Наумов неопределенно пожал плечами.
— Субординация, комиссар… — помолчал, что-то обдумывая. — Наше место — здесь! — рубанул рукой. — И не будем торопиться в Брянские леса. — Посмотрел в глаза Анисименко. — А насчет партии — согласен с тобой, Иван Евграфович. — Надо делать, как велит партийная совесть. Пиши свое мнение, доложи в райком и обком партии. Там разберутся, кто прав.
Когда я вышел из штабного шалаша, Калганов передал мне несколько бумажек, состряпанных каким-то борзописцем под немецкую диктовку.
— Это нам вызов, голова-елова!.. Как говорится, в пику! Да ты вслух читай, не бубни себе под нос.
Читаю:
— «Командирам эсманской, севской и ковпаковской групп, находящихся в Хинельских лесах».
— Видишь, как считает противник, — поднял вверх палец Калганов. — И ковпаковцев к нам причислил. Гордись, лейтенант!
Тут надо оговориться. Среди нас действительно не было ни одного ковпаковца. Просто через Хинельские леса проходили разведывательные и диверсионные группы украинских отрядов. Мы с ними делились продуктами, частенько давали своих проводников, рекомендовали наиболее выгодные маршруты. А я, кроме того, вычерчивал схемы, заменяющие топографические карты, сообщал пароли, явочные квартиры и уж конечно оперативную обстановку вокруг Хинельских лесов и ближних районов. Хинельский лес в этом смысле является форпостом украинских партизан и в тот период сыграл немаловажное значение в общей народной войне.
Но вернемся к листовкам. Нам писали:
— «Командиры партизанских отрядов, для сохранения вашей жизни и для спасения многих руководимых вами людей германское командование предлагает вам явиться вместе со своими людьми и с полным вооружением в распоряжение комендатуры Хутора Михайловского. Вам и людям вашим будет дарована жизнь. Срок для явки в комендатуру и выхода из леса дается ВОСЕМЬ дней, то есть до 25-го июля 1942 года, после чего будет уже поздно.
г. Середина-Буда».
Спор между хинельскими командирами и эсманцами решался… нашими врагами. Они сами оценили действия наумовцев!..
— Вот как запели, голубчики, — не выдержал Дмитриев. — А в первые дни войны, я помню, фашисты сбрасывали с самолетов такие листовки:
Не пеките пирогов, Не месите теста: С двадцать первого числа Не найдете места!..— Они, голова-елова, так перли, что многие страны Европы не смогли устоять…
— Стишки бросали вперемешку с бомбами. Насмешки строили… Были уверены в победе. Не просто в победе, а в молниеносной войне, — поправил Сокол. — Теперь, видите ли, решили пожалеть нас! Даже жизнь даруют! Вот ведь какие щедрые!..
— А мы все сидели здесь да раздумывали: куда бы ее приспособить, эту самую жизнь: то ли себе оставить, то ли фрицам подарить! — подал голос Коршок.
— Стой, Вася, — вмешался Калганов. — Дай лейтенанту еще вот эту писульку осмыслить. Первая, кажись, не задела струн в его душе.
Вторая листовка оказалась не лучше первой.
— Чего они там вещают? — спросил Илюша Астахов. Не желая ударить лицом в грязь перед Коршком, он подбирает «ученые» слова.
— Велят тебе идти к коменданту в Хутор Михайловский на чашку чая.
— Ну да? — недоверчиво смотрит на Калганова Илюша. — Как — к коменданту?
— А вот слушай как. Может, и потянет на чаи…
Читаю обращение немецкого командования к партизанам и красноармейцам в партизанских районах.
— «Прекратите бесполезную борьбу, вы окружены! Кто добровольно перейдет к нам и в плену будет себя хорошо держать, тот возвратится к своей семье. У вас нет больше времени для раздумывания. Спасайте вашу жизнь!»
— Точка, братцы! Яснее не скажешь: мы их лупим почем зря, а они кричат: «Сдавайтесь!» — Сокол хохочет. — Ну и ну-у!..
— А вот еще бумаженция. Похлеще первых. Читай, голова-елова.
Из-за спин виднеется голова Анисименко. Комиссар вытягивает шею, стараясь не пропустить ни слова из того, что пишут наши враги.
— Читай, читай, лейтенант. Пусть люди учатся уму-разуму.
Грязно-серая бумажка с мелким шрифтом. Над словом «ПРОПУСК» распростерлась когтистая хищная птица со свастикой. По мере того, как я читал пропуск, лица слушателей становились все более суровыми. Только Калганов сохранял чувство юмора.
— Мы уже являлись к фрицам, только комендант Хутора Михайловского от нас так драпанул, что пятки в задницу втыкались!
Анисименко ждал, когда люди выговорятся, изольют душу, перекипят. Потом тихо, так, вроде бы про себя, заметил:
— Ответить бы надо. Только не фашистам. Обратимся к народу.
— Во! — крикнул Коршок. — Пусть люди знают НАШУ правду!
— Верно, голова-елова! Правду! Тяжелую, но честную, без прикрас и без посулов!
— Пиши, лейтенант! — раздались голоса.
Партизаны устроились на снарядных ящиках, лотках с минами, прямо здесь же, на поляне. Каждый предлагал свою мысль, вставлял свое слово.
— Как запорожские казаки турецкому султану писать собрались, — улыбался комиссар, усаживаясь возле Илюши Астахова. — Как начал, лейтенант?
Я прочитал:
«Прочти и передай другому
ОБРАЩЕНИЕ
к колхозникам и всем советским гражданам оккупированных гитлеровцами районов: Эсманского, Хомутовского, Ямпольского, Севского и других. Наступает время уборки урожая. Над этим урожаем потрудились вы, и он принадлежит вам и Советскому Государству, но не гитлеровским грабителям. Уничтожайте полицаев, которые попытаются отправлять хлеб фашистам. Затягивайте время обмолота, выводите из строя тракторы, молотилки, комбайны…»
— Про немецкие оклады сказать надо, — вставил Анисименко.
«Уничтожайте немецкие склады, в которых им удастся собрать зерно и продовольствие. Закапывайте и прячьте больше зерна для себя и для наступающей Красной Армии — вашей освободительницы».
— Ни грамма хлеба немецким захватчикам! — крикнула Люба.
— Вместо хлеба — проклятие и смерть! — подал голос Сокол.
— Записано! Дальше что?
— Пиши, лейтенант, подпись: «Партизанский отряд».
Анисименко взял тетрадку с листовкой, бережно расправил ее и еще раз внимательно прочитал.
— Да-а, советский народ всегда смотрит вперед. — Улыбнулся: — Добре, хлопцы, сморокувалы! Може, шероховато, да зато от чистого сердца! — Он повернулся к Любе. — Собери свою комсомолию — хлопчиков та дивчат, посади за переписку. Сотни с три хотя бы зробыте оцих листив!
Мы поняли: листовка удалась. Если комиссар говорит на родном ему, украинском, языке, значит, доволен.
— Стой, хлопцы! Це ж не дило: односторонняя агитация получается. Полицаев тоже надо трошки распропагандировать. Хай думають, бисовы диты!.. Напишить и для них листовку. Да так, шоб за душу шкрябала, шоб тии полицаи навзрыд рыдали, читаючи!
У меня не получалась листовка, я это понял сразу, как стал читать.
— «Никогда наша история не знала таких подлых предателей. Вы будете прокляты всем советским народом! Как послушные собаки фашизма…»
— Что-то не так, лейтенант!
— Не мешайте, пусть читает до конца!
— «Необразумившихся полицейских гадюк будем беспощадно давить и уничтожать! Пошевелите своими жалкими мозгами, если они у вас еще остались…»
Комиссар подождал, когда утихнут восклицания и взрывы смеха, положил руку мне на плечо и сказал:
— Ну, дорогой лейтенант, дипломат из тебя… как из морковки пуля… Надо заново все продумать и переписать: агитировать с подходом, бить с дальним прицелом.
— Агитировать в данном случае всего лучше гранатой и клинком! — ворчал я.
— Не скажи, лейтенант, старые люди говорят так: умные речи и в потемках слышно. Понимай. Слово страшнее бомбы бывает, если умеючи подкинуть его.
— И все-таки для иудушек-полицаев у меня нет добреньких слов! Писать им не смогу.
В одну из темных июльских ночей наумовцы лесными потаенными тропами ушли сразу в десяток сел, чтобы совершить акт возмездия над теми, кто служил врагу, одновременно взяв для населения листовки.
Через несколько суток партизаны возвратились — также ночью. Командиры поисковых групп докладывали:
— В Эсмани уничтожен фашистский ставленник — старший агроном района.
— В Хвощевке убиты староста и его секретарь.
— Истреблены старосты в селах Поляна и Доброе Поле.
— Обстрелян староста из Фотевижа. Он предупрежден через местных жителей: за попытку создать в селе кустовое объединение полиции будет казнен… Перепуганный насмерть фашистский прихвостень поклялся три года дома не появляться, не то чтобы верховодить на селе…
А вот Плехотина и Степановского, переметнувшихся от нас в стан врагов, так и не смогли разыскать. Однако поймаем, быть бычкам на веревочке.
Особую угрозу представлял Плехотин. Осторожный, хитрый и коварный, он старался заслужить доверие гитлеровцев. Выдал им десять партизанских семей.
Настало время проучить Плехотина. Лучше это поручить Соколу и нашему новенькому — Густаву. Как посмотрят на мой план Наумов и Анисименко?
А поисковые группы продолжали прибывать.
— В Севском районе уничтожены несколько чинов военной администрации. Захвачено оружие, документы и форма этих чиновников!
— Добре, хлопцы, — комиссар был доволен. — Пусть знает кошка свое лукошко. Это хорошо, что тряхнули немецкую администрацию. Но и враги ответят на нашу вылазку. Обязательно ответят. Интересно, с чего они начнут?
Ждать пришлось недолго.
В селе Сальном Севского района гитлеровцы расстреляли волостного старшину за плохую организацию полицейской службы. Вновь назначенный старшина застрелился сам: он в равной степени страшился как гнева немцев так и мести партизан. «Все одно не жить мне!» — нацарапал на бумажке он перед тем, как сделать роковой выстрел.
— Это тоже неплохо! — заключил комиссар, выслушав донесение. — Только вот дело-то какое: умерла щука, да зубы остались. Гитлеровцы что-нибудь да предпримут: во-первых, для собственной безопасности, во-вторых, против нас.
Анисименко не ошибся. Чтобы уберечь административный аппарат, немцы перенесли волости подальше от Хинельских лесов.
Комендант Эсманского района обзавелся конспиративными квартирами в четырех селах, в Эсмани почти не ночевал. Он спешно стянул изо всех гарнизонов района около тысячи всякой сволочи, сколотил карательную экспедицию, но и это результатов не принесло: население саботировало все его распоряжения. Были сорваны сенопоставка, молокосдача, заготовка скота и вербовка рабочей силы в Германию.
Комендант призывал страшные кары на головы селян, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Гитлеровец поседел от вечных неприятностей и страха за свою жизнь: того и гляди разжалуют да на фронт отправят, если до того партизаны не выведут в расход…
Между тем, мы перенесли удары на шоссейные и железные дороги. Разведывательно-диверсионные группы появились даже под Ворожбой — на юге Сумщины, в Ямполе, Глухове, Шостке.
Сокол и Калганов с группой партизан побывали в Курской области, между Льговом и Рыльском взорвали вражеский эшелон, сожгли два моста на шоссейных дорогах, в нескольких местах обрубили телеграфно-телефонную линию. Возле районного центра Хомутовка им удалось захватить повозку с тремя старостами. Двоих в перестрелке убили, третьего взяли живьем, с ним доехали до Хинели. Староста на допросе признался, что они возвращались из Хомутовки, где гитлеровцы проводили съезд старост нескольких смежных районов области. Под страхом смерти на старост возложили ответственность за проведение уборочной и обмолота… Жителям запрещено выгонять скот на пастбища и выходить из сел в течение десяти дней. Эти меры, по мнению гитлеровцев, должны обеспечить сохранность и уборку урожая…
В этот день прибыл связной из Брянского леса от подпольного обкома. Наумова и Анисименко ставили в известность о том, что против хинельских партизан нацеливается словацкая дивизия. Операция, закодированная под условным названием «Кугель» — по-русски «Пуля», начнется в ближайшие дни. Обком рекомендовал нам открытого боя со словаками не принимать. Партизанам следовало или рассредоточиться мелкими группами, или укрыться в глухих участках леса, или же загодя выйти из леса на юг Сумщины, чтобы там, действуя мелкими группами, сорвать хлебоуборку.
Сведения Калганова и Сокола подтвердились.
Наумов срочно созвал совещание командного состава, комиссар провел собрание с коммунистами и комсомольцами. Все партизаны были предупреждены о нависшей опасности.
Коршок и братья Астаховы отыскали в глубине леса старый овраг, густо поросший кустарником. Место называлось Глухим яром. В нем можно было укрыть весь отряд.
Наумов осмотрел овраг и остался доволен, приказал заранее сосредоточить в Глухом яре продовольствие, боеприпасы и выкопать колодец. Хозяйственники Артема Гусакова и взвод лейтенанта Скачко кроме всего этого сделали навесы для лошадей и убежища-щели для партизан. Была продумана система огневой защиты на случай круговой обороны, намечены дальние и ближние посты для наблюдения и подачи сигналов о передвижении противника.
Люба и ее подруги в Хинели и других ближних к нам селах организовали выпечку хлеба, сушили сухари.
— Для чего вам сухари? — интересовались женщины.
— Уходим в поход. На дорогу готовим.
— Далеко ли уходите? Опять в Брянские леса?
— Военная тайна.
Что же, дезориентация противника тоже входит в наши расчеты. В целях конспирации взвод Сачко и хозяйственников из Глухого яра мы не выпускали. Остальные партизаны место будущего укрытия не знали…
Все эти дни с большой нагрузкой работала разведка: надо было уточнить начало операции «Кугель», ее основной замысел и сроки исполнения. Главное же — выяснить силы противника.
— Пойдет Сокол, — предложил я Наумову. — А с ним наш новенький Густав.
— Доверяешь?
— Он хорошо показал себя на диверсии между Льговом и Рыльском. Я брал его с собой. Вместе с ребятами захватил тогда же старосту возле Хомутовки. Помните?
— Да, конечно.
— Дважды после этого Густав бывал с Дмитриевым в разведке. Сокол говорит: парень стойкий…
— Ну, добро. Пусть будет Густав. Так, пожалуй, лучше. Оба понимают язык противника. Это уже большой козырь… Доложи, как разработал план разведки.
— Поподробнее, — попросил Анисименко. — Не торопясь.
— Вы помните, — начал я, — Сокол захватил машину с офицером СД бароном Отто фон Крауссом?
— Еще бы, — усмехнулся комиссар. — Мы даже помним, что она шла, эта машина, из Сум на Орел…
— Совершенно верно, Иван Евграфович. Так вот, костюм этого барона был перешит и подогнан на Дмитриева сразу же. Документы выучены им наизусть, фотография в удостоверении заменена…
Расчет наш строился на том, что офицер Отто фон Краусс работал в южной группе войск гитлеровцев и поэтому в Сумщине его не знали. Барона спокойно может заменить в данной операции Сокол. Возраст обоих совпадает, есть что-то общее даже во внешности. Но главный козырь Сокола в том, что он согласно документам — представитель службы безопасности и как контрразведчик мог рассчитывать на содействие немецкой военной администрации. Небольшой чин лейтенанта с лихвой окупался дворянским званием. А немцы не могут с этим не считаться. Перед разведчиком будут, стало быть, открыты все двери: в воинских частях, комендатурах и в гестапо.
— Ты хорошо проверил готовность Сокола? — озабоченно спросил комиссар. — Не придется ли ему копать колодец около воды: тратить время, рисковать и… уйти ни с чем?
— Дмитриев готов, Иван Евграфович, — уверил я комиссара. — Мы ему на немецкой машинке подготовили командировку. Он будет стажироваться в Глухове. Пусть учится ловить партизан.
— Так ты, лейтенант, проверь, чтобы Дмитриев прихватил с собой все хозяйство покойного барона, вплоть до салфеток, рюмок, разных выпивок. — Анисименко строго посмотрел на меня: — Надеюсь, сохранился саквояж Краусса? Как Густав подготовлен? Знает ли он задачу разведки.
— С Густавом я еще поговорю сам, — пообещал Наумов. — С Дмитриевым тоже… — Он посмотрел на Анисименко: — Маскарады с переодеванием — дело полезное. А я еще думаю… вот о чем: а не вооружить ли Дмитриева картой? Ну, той самой, что добыл Густав. С нанесенной на ней оперативной обстановкой, с номерами частей «осадной» армии и дислокацией партизанских отрядов, как это представляют себе офицеры 8-го армейского корпуса. Написано-то по-немецки…
— А ведь верно, Михаил Иванович. Хлопцам этот документ может пригодиться. Не хуже любого удостоверения.
Вечером следующего дня улицами районного городка Ямполя ехали два всадника. Под белокурым лейтенантом, одетым в щегольскую, с иголочки, форму СС, устало шел рыжий иноходец. На полкорпуса слева почтительно держался ординарец — рослый пожилой служака, с элегантным дорожным саквояжем в руке.
Офицер изредка, чуть повернув влево голову, небрежно бросал две-три фразы своему спутнику. Тот, внимательно выслушав офицера, утвердительно кивал в знак согласия головой: «Яволь!».
По тому, как держал себя офицер, можно было заключить, что едут барин и слуга, причем слуга привык ухаживать за хозяином с детства.
При встрече с военными офицер небрежно сгибал руку в локте, выставив раскрытую ладонь-вперед, по-нацистски отвечая на приветствия.
Ни у кого не спрашивая дороги, путники уверенно направлялись в военную комендатуру.
— Лейтенант Отто фон Краусс, — бросил офицер дежурному, войдя в приемную. — Мне нужен комендант.
— Он отдыхает, господин лейтенант, рабочий день господина гауптмана уже закончился.
— Что-о? От-ды-ха-ет? Во время войны солдаты фюрера обязаны воевать. Вы поняли? Немедленно вызвать сюда коменданта!
Офицер явно был доволен тем переполохом, который был вызван его появлением.
— Густав, достаньте-ка бутылочку. Этот болван никак не может дозвониться до квартиры коменданта. — Он развалился на мягком кожаном диване. — Не будем тратить времени. Жизнь чертовски коротка, и ее могут без нашего желания в любой момент укоротить.
Ординарец подвинул к дивану небольшой столик, за которым, вероятно, работал переводчик. Ловко расстелил чистую накрахмаленную салфетку с вышитым на углу фамильным гербом.
— Коньяку, господин барон, или рейнского?
— Давайте, старина, и того и другого. И поесть надо как следует.
Из саквояжа быстро извлекались рюмки, свертки, бутылки, фамильное серебро: ножи, вилки, ложечки, тарелочки и тарелки. Появились сыр в металлической коробке, домашняя колбаса, кусок розового шпига, яйца, овощи, зелень, печенье и булка пышного пшеничного хлеба.
— В этой дыре ни лимона, ни винограда не найдешь. Даже яблок приличных нет, — ворчал офицер. — Варвары. Скифы. — Он наполнил рюмку и задумался. Что-то вспомнив, раскрыл планшет, вытащил из него топографическую карту, пестревшую условными значками. Разложил рядом на диване.
Дверь раскрылась, в комнату стремительно вошел пожилой армейский капитан.
Лейтенант поднялся.
— Барон Отто фон Краусс. Прошу извинить за вторжение. — Он развел руками. — Дела… Потревожил вас, гауптман? Говорят, вы уже отдыхали? — Лейтенант недобро усмехнулся. — Счастливчики эти коменданты. Живут в глубоком тылу без тревог и волнений, строчат реляции о разгроме партизан после того, как вздернут на веревке двух-трех столетних стариков… Получают награды, чины, богатеют… И не ведают, как рвутся снаряды, воют над головой бомбы, смешивая с грязью то, что было солдатами, людьми высшей германской расы, надеждой фюрера.
Комендант то бледнел, то краснел, слушая этот нелицеприятный разговор. На что намекает этот вылощенный хлюст, как он смеет?!
Не будь на самоуверенном нахале черной формы и нарукавного шеврона службы безопасности, он, гауптман, проучил бы этого мальчишку. Но всесильное ведомство рейхсфюрера СС заставляет быть сдержанным и учтивым. Не такие головы, как гауптманская, летели по доносу этих ищеек.
Лейтенант между тем достал из нагрудного кармана френча черную книжку с распластанной когтистой птицей, вытисненной светлым серебром на обложке.
— Мое удостоверение, гауптман. Порядок есть порядок! Проверьте. А вот командировочное предписание. Впрочем, — лейтенант махнул рукой, сунул документы обратно в карман. — Прошу к столу. Знакомиться лучше за добрым старым рейнским или французским коньяком.
Комендант натянуто улыбнулся, сел, придвинул к столику полумягкий стул. Он хотел показать себя солдатом.
— Будем пить и немного работать. Вы не возражаете?
Комендант пожал плечами.
— Я слушаю вас, барон. Рад быть полезным. — Сам незаметно бросил несколько изучающих взглядов, неприязненно подумал: «Герой вонючий. Рыцаря изображает. Люди как люди, в машинах ездят, а этот тевтон на лошади притащился. Эффект ему нужен…»
Приезжий бесцеремонно прервал поток злых мыслей гауптмана:
— Восьмой венгерский корпус генерала Бегумана, отряды специального назначения СС штандартенфюрера Ульке, полевая жандармерия и полиция, блокирующие Брянские леса, ведут активную борьбу против партизан.
— Я слушаю вас, барон, — повторил комендант.
— Партизанские банды в значительной мере ослаблены. Сказывается и недостаток у них боеприпасов, и потери в живой силе, и болезни, а главное — голод. Голод, гауптман, наш основной союзник против партизан. В лесах нет продуктов. Генерал голод играет на нас.
«Кажется, он быстро пьянеет. Тем лучше. А вообще, он глуп, этот юнец, — отметил про себя комендант, с удовольствием потягивая душистый французский коньяк. — Но к чему все эти разглагольствования?»
— Хорошо уже то обстоятельство, — продолжал лейтенант, — что партизаны надежно заперты нами и не мешают проводить уборку хлебов. Хлеб — это сильнейшее оружие войны. Такое же, как снаряды и бомбы. Даже сильнее. Он нужен фронту, нужен и фатерлянду. — Лейтенант посмотрел на карту, перевел взгляд на собеседника. — Таким образом, вопрос о хлебе сейчас является главным для тыловой военной администрации. Для вас, господин комендант.
Лицо коменданта приняло кирпично-красный цвет. Глаза наполнились яростью. Он тяжело, с трудом повернул бычью шею, сдавленную тугим воротником сорочки и галстуком.
— Хлеб… Где он, этот хлеб?! Как его взять?
— Не понимаю, гауптман. Извольте объяснить точнее.
— На вашей карте, барон, Хинельский лес очерчен синей подковой. Вы знаете, что она означает?
Лейтенант бросил вопрошающий взгляд. Комендант перехватил его.
— Поясняю. В Хинельском лесу засела сильная банда в несколько тысяч человек с пушками, минометами, пулеметами. Партизаны построили укрепления, которые под силу разве только армейским корпусам. — Комендант залпом осушил рюмку и снова наполнил ее коньяком. — Партизаны контролируют ряд районов, срывают хлебоуборку, жгут хлеб на корню, ломают машины, подбивают население на саботаж…
— А операция «Кугель»? — перебил лейтенант. — Разве вам не известно о ней? Целая дивизия направлена на указанный вами участок. А партизан не так уже много, гауптман, вы преувеличиваете. Мы же засылаем к партизанам своих агентов. Знаем… Просто вы увиливаете от ответственности, завышая в отчетах число партизан.
«Черт бы его побрал, этого барона. До чего дотошный… — комендант снова потянулся к бутылке. — Может, промолчать?»
— Итак, мы говорили с вами об операции «Кугель», — напомнил барон.
— «Кугель»? — переспросил гауптман. — Да, мне известно об этой операции. Действительно, она направлена против партизан. Хинельских партизан, — поправился комендант. — Но это же словаки. Сло-ва-ки, барон. Низшая, неполноценная раса. Не немцы. Они ничего не сделают. Да и когда еще прибудут они сюда?
— Не понимаю…
— Словацкая дивизия идет походным порядком. По-ход-ным… Появится здесь через пару дней. Потом потребуется время на подготовку исходного рубежа для атаки после разведки партизанского леса… Партизаны и местные жители успеют перехватить у нас из-под носа весь урожай.
— А полиция?
— Сброд, пьяницы, трусы. Тру-сы…
Гауптман заметно пьянел. Последние слова фраз произносил по слогам, повторяя их дважды. Он снова наполнил рюмку. Выпил. Достал сигареты и закурил.
— А словаки топчутся на марше. Не торопятся.
— У них есть время, — возразил лейтенант.
— Не так уж много, барон. Операция намечена на утро двадцать пятого июля. Одновременным ударом из Хутора Михайловского, Марчихиной Буды и из Ямполя. От нас, барон… — палец коменданта ткнулся в карту. — Вот так…
— Без артподготовки и авиационной обработки с воздуха?
— «Кугель» начнется танковой атакой. — Палец коменданта снова уперся в карту. На западной кромке Хинельского леса. Туда, где извивалась синяя жилка речки Ивотки.
«Удар наносится через Государев мост», — отметил про себя лейтенант, складывая карту в планшетку.
Накануне операции «Кугель» разведывательные группы стали возвращаться в условное место. Остальные партизаны уже были в Глухом яру. В лесу уничтожены все шалаши, убраны следы стоянки. Ни клочка бумаги, ни кострищ, ни старой тряпки — не осталось ничего, что хотя бы отдаленно могло указать на пребывание здесь партизан. Наблюдатели укрыты так, что их нельзя заметить даже в двух-трех шагах. Все опушки, перекрестки и развилки дорог взяты под контроль. Сняты мины, которыми мы прежде всего ограждали себя на некоторых участках.
Комиссар Анисименко, капитан Наумов и мы, несколько офицеров, сделали последний, особенно придирчивый осмотр местности. Кажется, все учтено…
Вдали затарахтела повозка.
— Люба и Илюша едут, — определил Анисименко, прислушавшись. — Так, лейтенант?
Вопрос ко мне.
— Они, Иван Евграфович. Едут с мельницы из Эсмани.
Послать разведчиков в районное село под видом помольщиков надоумил меня сам комиссар. И опять ругал за Илюшу Астахова: «Не бережешь хлопца!» Попробуй тут, убереги. «Я же не просто партизан, товарищ лейтенант, я еще и комсомолец!» Слова-то какие выкопал. Роман только ухмыляется, слушая Илюхины наскоки на меня. Потом на правах старшего брата решает спор короткой репликой:
— Пусть едет.
Вот и на мельницу в Эсмань Илюша напросился. Правда, задание несложное: установить, как будут держать себя словаки с населением, каково их вооружение, боевой дух. Но был и риск: вдруг нарвутся на Плехотина или Степановского? Комендант района заранее стянул в Эсмань всю полицию, и ее тоже включил в операцию «Кугель».
У разведчиков все обошлось благополучно, и вот Люба с Илюшей перед нами.
— Словаки прибыли в Эсмань вчера вечером, — докладывает Люба. — Разговаривают чудно как-то: не по-нашему, не по-немецки… Хотя с трудом, а понять их можно. Веселые парни, улыбаются.
— Все бы тебе о парнях, — пробурчал Илюша. — Ты о деле давай.
Мы улыбнулись, а Люба смутилась.
— Ну, ну, продолжай, — подбодрил ее комиссар. — Говори подробнее… А ты, Илюша, не перебивай. Потом скажешь, если что Люба забудет.
— Словаки не хотят воевать. Их пригнали сюда насильно. Гитлеровцы им не доверяют. Солдаты понимают: немцы хотят прикрыться словацкой дивизией, чтобы убрать урожай, увезти хлеб в Германию, а непокорную Украину задушить голодом.
— Чья земля, того и хлеб, — бросил реплику комиссар. — Словаки это хорошо уяснили.
— Их двадцать пять тысяч, словаков-то, — вмешался Илюша. — И танки есть, и пушки.
— Верно, — подтвердила Люба. — Только на Хинельский лес не все пойдут и из пушек стрелять не будут. Танки против партизан пустят… для шума.
Наумов и Анисименко обменялись понимающими взглядами.
— Значит, мы верное решение приняли — не обнаруживать себя. Словаки и не станут особенно-то искать. Им бы лишь видимость создать, «приказ выполнить».
Дробно застучали подковы. Наблюдатели по цепочке передали: «Свой».
Перед нами, словно из-под земли, выросли Роман Астахов, Калганов и Коршок.
— Товарищ капитан, — Астахов вытянулся перед Наумовым, — Государев мост сожжен только что. Танки в лес не войдут…
— Спасибо, ребята, — совсем не по-воински поблагодарил капитан. — Отдыхайте.
Операция «Кугель» началась ровно в восемь утра.
Враг продумал все.
Словаки в глубину леса не заходили, не сворачивали даже на просеки, и, конечно, никого не обнаружили. Убедившись, что партизан в Хинельских, Ямпольских и Неплюевских лесах нет, солдаты расстреляли у сожженного партизанами Государева моста начальника Ломленской полиции, нескольких полицаев из подлесных сел за то, что ввели в заблуждение немецкое командование. Полицаев-проводников поголовно всех выпороли шомполами, приговаривая:
— Вы болтали, будто в лесу скопилось несколько тысяч партизан. Где же они?.. Покажите хотя бы одного.
Полицаям ответить было нечего…
Участвовавшие в операции Плехотин и Степановский смекнули, чем она может для них окончиться, и вовремя сбежали. Плехотин укрылся в Глухове, Степановский подался в Фотевиж. Нам об этом в тот же день передали жители Хинели и Фотевижа — наши осведомители.
— Направь в Фотевиж Дмитриева и Густава, — приказал мне Наумов. — При словаках Степановского легче взять.
Как и предполагалось, словаки после прочески сразу же ушли из Хинельских лесов. В селах, беседуя с жителями, они доверительно признавались:
— А мы особенно и не искали партизан. Они нам не враги. Мы и вы — одна кровь, — славянская…
А некоторые выражались еще откровеннее:
— Скоро уйдем на родину, сами станем партизанами…
Так закончилась эта карательная экспедиция.
Мы поняли, какую опасность представляем для противника, находясь здесь, в Хинельском лесу. Значит, Наумов, Анисименко и партийная организация избрали правильную позицию.
Операция «Кугель» имела для нас другие, весьма важные последствия.
Разведчики Сокол и Густав, явившись под видом немцев в Фотевиж, схватили предателя Степановского.
На трофейной машинке мы отпечатали приказ начальнику Фотевижской кустовой полиции, в котором говорилось о том, чтобы он направил в сопровождении Густава Кранке полицая Степановского в город Глухов. «Степановский, — писали мы, — дезертировал от словаков в момент выполнения ими операции «Кугель».
Густав Кранке использовал свою солдатскую книжку и форму. Сокол шел в форме жандарма.
Степановский, вызванный в волостную управу, сразу был связан и брошен в повозку. Словаки предпочитали не вмешиваться в действия «швабов», как они презрительно называли немцев.
Полумертвого от страха предателя разведчики доставили на базу, в Хинельский лес.
Степановский плакал, размазывая слезы грязной ладонью. Следы веревок черными рубцами чернели на его руках.
— Братцы, товарищи, — всхлипывал он. — Простите… Искуплю. Это все он, Плехотин. Он все…
— Спохватился, когда скатился, — жестко бросил в ответ комиссар. — Струсил, душонка хлипкая оказалась… Сколько черных дел на твоей совести?
— Какая же у него совесть? — воскликнул Сокол, стоявший тут же, уже в обычной одежде. Он успел переодеться, пока Густав вел полицая лесом. — Совесть, — повторил Сокол. — Обрадовался, что фашистам сапоги лизать стал.
Тут что-то сказал Густав, сплюнувший в сердцах.
— Чего он? — спросил комиссар.
Сокол перевел.
— Загордилась свинья, что о панский забор почесалась. Такое есть присловье у поляков.
Степановского допрашивали мы с Наумовым. Предатель юлил, изворачивался, лгал.
— Ну хватит! — наконец не выдержал Наумов. — Пиши, лейтенант, приказ: расстрелять перед строем.
— Все равно скоро вам всем будет капут! — неожиданно выкрикнул Степановский. — Не мытьем, так катаньем!..
Мы переглянулись. «Вот так да!»
— Ты о чем? — спросил я предателя, но он больше не проронил ни слова.
Он шел, потемневший, сгорбившийся, злобно косясь на партизан. Он жил среди нас и готовил нам гибель. Бежавшие от партизан, презираемые знакомыми и проклятые родными, Степановский и Плехотин, как волки, рыскали по округе, все больше погрязая в преступлениях. Это они с Плехотиным убили в поселке Новина за неделю до операции «Кугель» лейтенанта Щеглова, нашего комвзвода, и ранили партизана Солодкова, устроив на них засаду возле конспиративной квартиры. Кровь наших товарищей призывала к мести.
Приказ о расстреле предателя наумовцы встретили молчаливым одобрением: худую траву из поля вон!
Степановский стоял перед строем обмякший, с блуждающими, почти безумными от страха глазами.
— Братцы, товарищи!.. Простите. Братцы… — опять заскулил он.
Все мы не раз видели смерть в глаза. Любой из нас мог без раздумий броситься на врага, задушить его своими руками. Но когда стоишь вот так, против безоружного, уже полумертвого человека, рука на него не поднимается. Мы знали — Степановский враг. Его надо уничтожить, но… каждый хотел, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Наступило тягостное мгновение…
Тогда комиссар медленно приблизился к строю, по очереди посмотрел на партизан.
Лейтенант Сачко вышел из строя. Повернулся лицом к своему взводу. Достал пистолет.
— В нашем взводе был Степановский. Нам и стрелять. Слышали приказ?
Люди замерли. Оцепенели.
Никто не решался двинуться с места.
— Чего стоим? — не выдержал Калганов. — Что заработал, то и получит.
— Верно, Калганов. Жалеть нечего. За чем пошел, то и нашел.
Комиссар медленно оторвал взгляд от земли. В его глазах мы приметили задумчивую грусть и бесконечную усталость.
Я уединился в лесу — было тяжело на душе после того, что произошло на поляне… Вот ведь как случается иногда: последний кусок хлеба делили пополам, укрывались одной шинелёшкой, вместе мыкали горе… Но настал час, когда один остался на своем трудном пути, а другой ступил на скользкую дорожку, изменил боевому братству.
Видимо, тут сказалась вражеская агитация: листовки с угрозами, посулами и соблазнами. Но не в том главная причина. Никогда предатели не отличались чистотой души, мужеством, никого они не любили, кроме себя. И в отряд пошли только за тем, чтобы спрятаться за спины товарищей, любой ценой уцелеть… Когда опасность стала слишком явной и приняла угрожающие размеры, Степановский и Плехотин стали предателями.
Какая-то неосознанная тревога все больше беспокоила меня. Я невольно связывал ее с событием на поляне. Постепенно мысли стали принимать определенное направление. Отчетливо вспомнилась фраза, брошенная Степановским на допросе. Она вырвалась, я убежден, помимо его воли: «Все равно скоро всем вам будет капут! Не мытьем, так катаньем!»
Откуда грозит нам новая беда? Какая?
Весь день не выходили у меня из головы слова Степановского. «Что они значат? А может, просто так брехнул?» Решил посоветоваться с Наумовым и Анисименко, как всегда в трудную для себя минуту.
— А ты усиль разведку, — ответил на мои сомнения Анисименко. — Не спускай глаз с Фотевижа, коль скоро Степановского взяли оттуда.
Наумов приказал послать в Фотевиж связника.
В Фотевиже время от времени стал появляться приезжий фельдшер, человек энергичный и деловой. По фамилии Гуримов. Живет в городе, а приезжает то на машине, то на лошади. Загонял старост по всей волости. Требует списки жителей, готовится делать прививки — не то от дизентерии, не то от другой какой болезни… Желудочно-кишечных заболеваний в районе действительно было много. Нередко со смертельным исходом.
Появление нового человека в Фотевиже насторожило Наумова. Видимо, это неспроста. Он приказал заняться Гуримовым.
Вскоре мы убедились, что фельдшер связан с Плехотиным и действует по заданию гестапо. Что бы это могло означать?
В Фотевиж мы опять послали Сокола и Густава Кранке. На правах «старого» знакомого староста сообщил им, будто Плехотин и Гуримов похвалялись, что они скоро расправятся с партизанами. Дни наумовцев, по их словам, сочтены. А что они думают предпринять, староста не знал.
— А что если спросить об этом самого Гуримова? — обдумывал Сокол. — Только как его поделикатнее взять? Теперь, говорят, он приезжает в машине и подолгу не задерживается. Очень осторожен. Не вспугнули ли его партизаны?
Выручил Густав.
— Давай сделаем так: я заболею, пусть староста срочно вызовет фельдшера. Немцы должны прислать Гуримова. В противном случае они рискуют раскрыть своего агента. Ну, а дальше будем действовать по обстановке.
Дмитриев сообщил нам этот вариант, а мы согласились.
Гуримов в самом деле приехал на следующий день. Это был бесцветный, очень подвижный человек. Старомодное пенсне со шнурком украшало вытянутый утиный нос. Новый костюм сидел на фельдшере мешковато, но он, кажется, уделял своей внешности немного внимания.
Густав лежал на широкой деревянной кровати в избе волостного старосты, поминутно облизывал губы и корчился от боли в желудке.
— Ничем не могу помочь, — развел руками Гуримов, — выслушав его жалобы. — Я специалист по… прививкам. — Он как-то странно усмехнулся. — Придется отвезти вас в лазарет, в Глухов.
Охающего Густава перенесли в машину, бережно усадили рядом с шофером. Гуримов и Сокол устроились на заднем сиденье.
За селом Густав неожиданно нажал на тормоз и обезоружил шофера. Сокол сунул руку во внутренний карман пиджака Гуримова, вытащил небольшой вороненый пистолет. В другом кармане лежало удостоверение сотрудника гестапо.
Машина остановилась, свернув в кювет, мотор работал на малых оборотах.
— Итак, господин Гуримов, игра окончена. Хотите откупиться?
— Цена?
— Правда. Только она может спасти вас.
— Я хотел бы получить гарантии. И, прежде всего, выяснить, кто затянул меня в эту ловушку.
— Мысль вызвать вас в Фотевиж к больному немецкому солдату Густаву Кранке подал ваш друг, Плехотин.
Гуримов вскинул удивленные глаза. Сокол пояснил.
— Да, да, господин Гуримов. Не удивляйтесь, Плехотин — наш агент. Он же сообщил нам, какие уколы вы, по заданию гестапо, готовились привить населению…
— О-о, черт! — заскрипел зубами Гуримов. — Какая подлость!
— Кстати, вы ведь не один такой «фельдшер», которому гестапо дало задание заразить население? Так ведь?
— Я этого не знаю.
— Вы, Гуримов, забываете о цене своей шкуры. Говорите правду. Фамилии, клички, участки действия?
— Слово благородного человека, мне ничего об этом неизвестно.
— Ну насчет благородства… — хмыкнул Сокол. — Какой препарат используете для прививок?
— Точно не знаю. Мы должны были, как я предполагаю, вызвать эпидемию чумы. Или холеры.
— Зачем?
— Чтобы перекинуть эпидемию на партизан и таким образом покончить с ними: не мытьем, так катаньем!
— Вот оно что-о! Чисто работаете, господин Гуримов. — Дмитриев взвел пистолет, отобранный у гестаповца. — Ну, вот что… Выходите-ка на свет божий, служитель медицины… Вы, Густав, тоже.
Шофер рванул машину с места, и только темное облачко пыли поднялось там, где она стояла.
— Зачем отпустил? — недоумевал Густав.
— Машина нам не нужна, а шофер — мелкая сошка, чтобы пачкаться об него, и потом, он окажет нам услугу. Расскажет в городе о Плехотине. Его, как партизанского разведчика, расстреляют сами же гестаповцы.
Гуримов понял, что его дважды перехитрили. Понял и то, что так удачно начавшаяся карьера фиктивного фельдшера на этом заканчивается…
Мы стремились расширить зону действия нашей разведки. Этого требовали и интересы фронта. Подпольный обком нацеливал нас на дальние районы. Надо было помочь подпольным группам связаться между собой, с обкомом и подпольными райкомами Сумщины. Кроме этих задач, разведчики обычно «наводили на местах революционный порядок», как любил говорить Калганов. Под этим подразумевалось уничтожение особенно опасных чинов и гитлеровских приспешников.
Сокола мы берегли для более «тонкой» работы. Но иногда, для «встряски», как говаривал сам Дмитриев, он отпрашивался у Наумова или Анисименко и вместе со своим неизменным напарником Густавом Кранке надолго исчезал. Возвращались они только ночью, обходя наши заставы и секреты. Иногда Сокол брал «на выучку» молодых разведчиков. Несколько раз с ним ходили Илюша Астахов и Коля Коршок. А у Сокола было чему поучиться: работал поистине «тонко» и «деликатно», залюбуешься.
Калганов, наоборот, любил действовать «с шумом» и часто переключался на «малую войну» с полицаями. У него появились новые друзья — старшина Виктор Жаров, бесшабашный и несдержанный, отчаянный Володя Шашков, родственник Любы, и ровесник Илюши — Вася Ветрюченко.
— Ну и подобрал же себе друзей наш Калганов, — сказал как-то Наумов, и было непонятно, то ли нравятся они ему, то ли нет.
— Рыбак рыбака видит издалека, — вставил Анисименко. — А вообще-то хлопцы добрые, Михайло Иванович, ничего не скажешь.
— Хорошие-то они хорошие. Это верно. Но не слишком ли много треска подняли в округе?
— А чего им скрываться? — возразил Анисименко. — Мы же партизаны… И этим все сказано.
— Ну-ну, — неопределенно промолвил Наумов. — Шумите… Лучше бы поучились у Романа Астахова. Я уж не говорю о Дмитриеве. Вот это — высший класс.
Роман Астахов на самом деле был врожденным разведчиком и наездником, каких я мало видел. Мы помогли ему сколотить конную группу, постепенно она выросла до взвода. Конники выполняли самостоятельные задачи.
Бывало так, что вся наша разведка садилась на коней и все вместе, человек до пятидесяти, внезапно налетали на полицейский гарнизон, истребляли его и исчезали. Ходили конники и в длительные рейды. В этих случаях непременно ехал с ними и я. Несколько раз присоединялся к нам капитан Наумов. Комиссар оставался на базе.
Хозяйственники Артема Гусакова — наша «девятая нестроевая» — заготавливали зерно, закладывали тайники, маскировали ямы. Старик Гусаков был рачительный хозяин. Он привез в лес конную молотилку, мельницу, открыл сапожную и портняжную мастерскую, стал даже поговаривать о своей кузнице.
Артем мог приспособить к делу любого человека: старого и малого.
— Учись в «девятой нестроевой», — распекая нерадивого партизана, говорил комиссар Анисименко. И без всяких скидок отправлял «штрафника» на несколько дней под надзор Гусакова. А тому только попадись!..
Стрелковые взводы, выросшие до рот, последние дни занимались уборкой хлебов. Отдельные из них были посланы в глубинные районы, где местные жители под их защитой дни и ночи проводили на поле.
Люба, Поля и остальные девушки переписывали листовки, обращения к населению, письма к молодежи. Потом сами же и распространяли их. У них было много добровольных помощников в каждом селе и на каждом хуторе. Их знали жители, ждали и оберегали от опасности.
Любу это не устраивало, ей хотелось быть участницей больших событий.
— Девчата справятся без меня, — доказывала она. — Поля вон останется. Мне нужно боевое задание. Понимаешь? — Подходила она близко ко мне, заглядывала в глаза. — Возьми с собой в разведку. Ну что тебе стоит? Или пошли с кем-нибудь…
Я пытался принять официальный вид.
— Работа с населением, Люба, — твое комсомольское поручение. Отменить его я не имею права.
Люба обижалась и еле-еле сдерживалась, чтобы не надерзить мне.
— Пожалуюсь комиссару, — грозилась она и шла к Анисименко.
— Опять не поладили? — понимающе улыбался Иван Евграфович. — Иволгин — известный бюрократ: лучше сам десять раз в разведку сходит, чем один раз тебя отпустит.
Люба вспыхивала.
— Да нет, Иван Евграфович, я ведь не жаловаться пришла. Отпрашиваться. Не одними же этими листовками жить. Правда ведь? Ну, скажите сами!
— Ладно, Любушка, ладно. Согласен. Давай вместе этого злодея уговаривать, может, смилуется… Сказано: и комар лошадь свалит, коли волк поможет!
Люба опять бежала ко мне. Она улыбалась. Я уже догадывался о решении комиссара, но все-таки ради формы спрашивал:
— Ну как?
— Хорошо!
От улыбки ли, от яркого ли летнего солнца, или от тайной радости, наполнявшей светом нашу жизнь, Люба хорошела на глазах. Может быть, оттого, что предстоящая разлука сулила нам счастье новой встречи…
— Жди, родной, — шептала она и легким шагом уходила к себе.
Жили девчата в одном шалаше. Они очень сдружились и поверяли друг другу свои нехитрые тайны. Люба мне не раз говорила о чувствах Полины к Николаю Калганову. А тому как будто невдомек: крепко присохла к сердцу Люба, не скоро, видно, оторвешь. Кроме Любы, знать никого не хочет, слышать не слышит. И срывается, наверное, из-за этого. Его много раз наказывали. Наказание он воспринимал как должное. На шутки товарищей отвечал серьезно: «Значит, заслужил…»
Я очень жалею Полину.
Маленькая миловидная брюнетка, с первого взгляда она не производила никакого впечатления. Но стоило узнать ее поближе, и тебе уже казалось, что более очаровательной девушки ты не встречал. Особенно чудесны ее глаза, серые, с темной каемкой ресниц. Пышные волосы свободно рассыпаны по плечам. Голос звонкий, серебряный, рассыпается колокольчиком, когда она, запрокинув голову, заливается смехом. Беззаботная, словно мотылек.
Многие парни именно так и думали о ней, решив приударить «на досуге», Полина же не замечала никого, кроме Николая. Она жила им, жила для него, и ни для кого больше это не было уже секретом, кроме самого Калганова.
Вот из шалаша показалась Люба с небольшим узелком в руке.
— Ну вот я и готова, Толя. С кем пошлешь?
— Идет сводная группа Сокола и Калганова. А пожитки свои спрячь, не пригодятся…
Группа Сокола направилась в многодневный поход на юго-запад области. Вернулись разведчики подавленные: погиб замечательный человек, польский патриот Густав Кранке.
Сокол в нескольких словах доложил, как это случилось. Уже на обратном пути, выполнив задание, разведчики сделали засаду на гитлеровских заготовителей. На Илюшу Астахова сбоку налетел здоровенный мордастый немец. Люба вскинула пистолет, выстрелила и… промахнулась. На какую-то долю секунды Густав опередил врага, прикрыв собой Илюшу…
Разведчики немало сделали, чтобы выявить подпольные группы, но так ничего и не добились: группы коммунистов, оставленные для работы в тылу, почти все истреблены. Сказалась неподготовленность к конспиративной работе.
Несколько активных сотрудников полиции, старост разведчики уничтожили, кроме того, разгромили имение одного помещика-фашиста.
— Это что-то новое, — заметил Анисименко. — Что за имение, какой такой помещик?
…«За особые заслуги» один гитлеровский офицер был награжден по приказу Эриха Коха. Наградой оказался бывший совхоз, названный имением. Все строения, службы, инвентарь, тягловая сила, а заодно и жители, проживающие на территории совхоза, перешли в полную собственность нового помещика. Поскольку сам офицер не смог воспользоваться имением — был убит в бою с партизанами, — править хозяйством приехал из Пруссии его отец, личный друг Эриха Коха.
Старый бюргер стал наводить в совхозе крепостные порядки. Как крайсландвирт — сельскохозяйственный комендант — помещик мог бы собрать по селам и МТС тракторы, машины, плуги и бороны. Но не захотел. Весной, когда началась пахота, он приказал впрягать в плуг… женщин и пахать на них. Пруссак забил насмерть несколько человек, отказавшихся работать на него. Но и этого ему было мало. Уверовав в свою силу, в то, что его власть над людьми практически не имеет предела, старый нацист приказал доставлять ему на ночь «спальных девок», вплоть до подростков.
Многие не выдерживали глумления, накладывали на себя руки. Матери пытались слезами умилостивить «пана», но тот собственноручно избивал их хлыстом.
Были попытки убить фашиста, но его особу охраняли свирепый пес-боксер и не менее свирепые охранники.
Последней жертвой была тринадцатилетняя девочка.
«Надо кончать с извергом», — решили разведчики. — Но как?»
— А просто, — ответил Калганов. — Наскочить на имение днем и захватить помещика. Днем он меньше опасается нападения…
— Да, другого выхода нет, — согласился Сокол.
Договорились, кому войти в группу захвата, кому в обеспечение, кто будет прикрывать отход, кто рвать связь.
— У меня есть кое-какие соображения, — выслушав разведчиков, сказал Густав. — Налет — это хорошо. Днем — тоже хорошо. Но не пешком. Лучше будет, если мы захватим машину. Возят же зерно на элеватор? — И сам ответил: — Конечно, возят. Надо выйти к станции и немного подождать.
И вот группа партизан, задержав на дороге грузовик, среди бела дня появилась на центральной усадьбе.
Густав, не покидая шоферского сиденья, обстрелял клуб, где размещались охранники-полицаи. Илюша Астахов набросил на телефонные провода шнур с камнем на конце и замкнул линию.
Сокол, Коршок, Роман Астахов и Калганов выволокли перепуганного насмерть помещика и, как куль, бросили в кузов. Люба стреляла по окнам клуба, помогая Густаву и Илюше.
Взвыл мотор. Машина, поднимая тучи пыли, через несколько минут исчезла в поле.
Коротконогий, с лоснящимся от жира лицом, толстый бюргер ревел, как бугай, вымаливая прощение.
— Жалко мне шнура, — вздохнул Илюша. — Новенький, из парашютной стропы. Сокол из Брянского леса принес…
— Не горюй, голова-елова, Сокол еще принесет, — утешал парнишку Калганов. — Тому борову именно такой шнур и требовался.
СУДЬБА ДЕСАНТНИКА
Несмотря на постоянные хлопоты, меня все эти дни не оставляла мысль: как сложились дела у раненого десантника, Алеши Калинина, которого мы оставили на попечение путевого обходчика, невдалеке от станции Локоть? Надежно ли это укрытие? И почему оттуда так долго не возвращаются наши посыльные — Коршок и Калганов? Я уже собирался послать туда новую группу, как они вернулись. Удрученные и подавленные. Нет, это не физическая усталость. Ребята принесли горестную весть: Алексей Калинин схвачен полицией и отправлен в Глухов. Дальнейшие следы десантника теряются там…
— Надо поквитаться за Алешу, — горячился Калганов. — Наскочить на локотский гарнизон всем отрядом и разбомбить его по нашим, партизанским законам!
— За сто верст киселя хлебать? — не соглашается с ним Сокол. — Много чести будет — весь отряд поднимать. Будто кроме этих паршивцев полицаев и дел больше нет… Нас втроем за глаза хватит! Верно, лейтенант?
— Подумаем, Вася, — отвечаю Дмитриеву. — Подумаем… И посоветуемся со старшими. Надо брать не числом, а умением, ты верно сказал.
— Тоже мне Суворовы нашлись, голова-елова! — фыркнул Калганов, как рассерженный кот. — Рубануть, и точка!
Признаться, я боялся заводить с комиссаром разговор о десантниках Бережного, о раненом Калинине и участи, постигшей его. По моей вине случилось: нарушил приказ секретаря подпольного обкома, привлек внимание противника, уговорил Бережного на диверсию. И вот мы потеряли Калинина… Одна ошибка повлекла за собой другую, третью…
Расставшись с Бережным, я при докладе Наумову и Анисименко рассказал все без утайки. Комиссар побледнел, стиснув зубы.
— Ты понимаешь, Иволгин, что натворил? Да это… это… Отстраняем тебя от разведки и от участия в боевых операциях на две недели!..
И вот опять предстоял еще один неприятный разговор. Я опасался, что комиссар не разрешит провести задуманную операцию. Но ведь надо было узнать все, что возможно, об Алешке Калинине…
Разговор, как и предполагал, был не из легких, но все-таки комиссар операцию разрешил.
Трое всадников осадили взмыленных коней на обширной площади местечка. Высокий белокурый офицер в форме СС при орденах и медалях ткнул плетью в сторону полицая. Полицай только что сбил с тополя ворону и стоял, ухмыляясь, довольный удачным выстрелом. Переводчик — смуглый горбоносый мадьяр, похожий скорее на цыгана, чертом подлетел к полицаю:
— Господин офицер недоволен полицаем… Полицай — хундер, говорит господин офицер… Хундер — есть собака.
Обалдевший полицай хлопал глазами, стараясь понять, о чем толкует переводчик.
— Ты, голова-елова, много стреляешь по воронам и мало воюешь с партизанами… Давай сюда винтовку и иди к пану офицеру — ответ держать!
Полицай с опаской приблизился к офицеру, который заметно нервничал. Он шпорами горячил и без того горячего жеребца. Заметив, наконец, полицая, офицер стеганул его плеткой.
— Вызвать старосту! Немедленно! — приказал он через переводчика. — Пригласить чиновника по заготовкам. Потом — начальника полиции и жандарма. Через полчаса быть здесь с оружием всем, кто вызван. Предстоит важное задание.
В знойный полдень по дороге в Глухов выступил маленький отряд. Впереди двух повозок с полицейским начальством рысил, чуть пригнувшись к седлу, белокурый офицер. Позади ехал безразличный ко всему молоденький немец с задумчивыми голубыми глазами.
Бравый переводчик с капральскими нашивками, заехав между повозок, начал зубоскалить, задирая чубатого детину — начальника кустовой полиции, оказавшегося на станции в гостях у старшего полицая.
— Да-а, голова-елова, опростоволосились вы. Не смогли с двумя партизанами справиться. Полсотни таких орлов! — переводчик сделал широкий жест. Довольный своей шуткой захохотал. — Вот это геро-о-ои! — повторил он с видимым удовольствием. — Что?.. Говорите громче, не слышу! А-а, дрались партизаны отчаянно? А вам что помешало доблесть свою показать?
— Покажешь тут, держи карман шире! — кривоногий старший полицай, обвешанный оружием и поэтому выглядевший особенно нелепо, морщился, потирая спину.
— Что, Аника-воин, обидел кто? Пошто чухаешься?
— Шла на фронт дивизия, — снова вступил в разговор чубатый. — Чи словены, чи словаки — бес их разберет… Повернули энтую дивизию на Хинель, партизанов изничтожить. Дело было дня через два-три после нашей засады в Локотском поселке… Ну нас, десятка два полицейских, взяли эти самые словены вроде бы как проводниками. Шли двумя дорогами двое суток. Пылища, жара. Упаси и помилуй!..
Офицер, ехавший теперь сбоку, как-то странно усмехнулся, указывая на вафельные вмятины танковых гусениц. Что-то буркнул на своем тарабарском наречии. Переводчик сочувственно кивнул головой.
— Ну-ну, дальше рассказывай! — его взгляд цепко держал на прицеле обоих собеседников.
Чубатый посмотрел на переводчика, потом на соседа — обвешанного оружием человека.
— Пану старшому лучше рассказать. Он водил на Хинель словаков.
— Не-ет, я сам расскажу! — озорно сверкнул глазами неугомонный переводчик. — Неудобно говорить про пана старшого полицая, да чего уж там скрывать? Из песни слов не выкидывают… Никаких партизан в Хинельском лесу не оказалось. Только след остался — сожженный ими Государев моет — при царе Петре еще построен был, когда со шведом тот воевал…
Полицаи переглянулись: очень уж осведомлен переводчик. А тот, как ни в чем не бывало, продолжал:
— Словаки рассердились, кое-кому всыпали по мягкому месту. Кое-кого пощелкали возле моста… Этого господина тоже не обошли милостью — горячих всыпали! Верно говорю, голова-елова?
Лицо старшего полицая полыхало краской от стыда и гнева. Что за язык у этого цыганистого разбойника? Такому только попадись: хоть на язык, хоть на мушку — пощады не жди!
Посоловевшие от жары и самогона полицаи клевали носами. Некоторые спали. Дорога, пыльная, бесконечная, никого не радовала.
— Куда в такую жарищу тащимся? Будто не знаем, где и как засады ставить…
— Прогулка всегда полезна, голова-елова! И в жару, и в холод. А насчет засад… Сколько вы тогда в Локотском поселке своих потеряли?
— Шестерых убитыми, двое были ранены.
— Отлично!.. А у партизан без потерь?
— Как это — без потерь? — возмутился чубатый. — А пораненный десантник?
— Упустили вы его.
— Положим, далеко не ушел! За всех с него спросили!..
— Расскажи как?
— Чего там рассказывать-то? Обыкновенно.
— Спрашиваю, как догадались засаду устроить против партизан именно в тот вечер и в том месте?
— Они сами о себе дали знать. Очень приметно шли. Возле Брянского леса поезд свалили. Листовки в двух селах подкинули. Бой с немцами возле Ямпольского шляха вели. В поселке Тополь за харчами заходили и в хату гранату бросили… Вишь, какой след тянулся… Опять же у хаты лесника их видели. Наши бабы натыкались на них. Мы их, бабов-то, каждый день в лес гоняем, вроде как по ягоды. А это — разведка. — Чубатый ухмыльнулся: — Бабы дюже дошлый народ на такие дела: выспросить, выглядеть да голову заморочить: хошь свому, хошь — чужому…
— Ты ближе к делу.
— Я и говорю: как только прибегли бабы из лесу, мы сразу же дали знать в город. Глуховский комендант прислал подмогу. Засаду в Локотском поселке устроили как надо, да, вишь ты, не все гладко получилось. Десантник заметил, как наши парни с голов бабьи платки стаскивать начали да винтовки из-под бревен вынимать… Ну, и шарахнул в кучу-то гранатой. Хорошо еще в конец бревна угодил, возле самой земли лопнула… А то быть бы великому урону.
— А раненого как потом нашли?
— Десантника того? Облавой нашли. В жите, возле казармы путейской. Как раз сейчас подъезжаем к энтому месту… Вот тута, выходит, и спымали его.
— Почему ты раненого называешь десантником? Он что, сам сказал?
— Ну да, скажет он… — Чубатый хвастливо ухмыльнулся. — Мы сам с усам. Раскусили.
— По документам?
— Документов не было. — Чубатый помолчал, выискивая слова. — Тут, правду сказать, само дело показало. Перво-наперво, фронт далеко, а они, не все, правда, были одеты в советскую форму. Опять же автоматы новенькие. Как они попали в глубокий тыл? Только самолетом. — Чубатый покосился на переводчика, не смеется ли тот над ним? Нет, слушает внимательно. Даже слишком внимательно. Стал рассуждать еще убедительнее: ну, а цивильные, ясно, партизаны. Проводники. Выводили десантников от Брянского леса и вот до наших мест…
Казарма показалась неожиданно. Крыша ее сдвинулась после разрыва авиабомбы, а из-под сорванных листов жести виднелись худые ребра стропил. Переводчик скомандовал:
— Привал!
— Оце — дило! — оживились полицаи. — Все печенки повымотало. Не грех и подкрепиться.
Началась суета возле повозок. Чубатый вытащил из повозок сулею с самогоном, появились сумки и узелки с харчами. Толстые губы раздвинулись в самодовольной улыбке: знай, мол, наших!
Белокурый солдат-немец с задумчивыми глазами, безучастно взиравший на всю эту суету, велел полицаям составить оружие в козлы — в стороне от повозок и в отдалении от дуба.
— У военных людей везде и всегда должен быть воинский порядок, — пояснил он через переводчика.
Компания расположилась в тени дуба.
Струя самогона лилась, ударяясь об алюминиевые солдатские кружки. Только офицер оставался равнодушным ко всему, да капрал возился с оружием: ему никак не удавалось пристроить свой автомат к винтовкам полицаев.
Белокурый солдат тоже снял автомат, но почему-то отошел в противоположную от повозок сторону.
— Прошу до нашего шалашу! — засеменил к офицеру старший полицай на своих коротеньких кривых ножках.
— Сокол, Калганов, — крикнул офицер, — пора! — и замахнулся гранатой.
— За Алешу! — вскинул автомат Сокол.
— За Алешу! — словно эхо, повторил Калганов.
Много времени спустя от Бережного нам стало известно: вместе с Калининым был арестован и хозяин казармы — путевой обходчик.
Алексея отвезли в Глухов, сдали немцам, а те водворили его в тыловой лазарет при военном городке, изолировав в отдельную палату. «Десантник», как его считали, представлял интерес для гестапо. Поэтому начальство приняло все меры, чтобы Калинина поскорее поставили на ноги. Его лечили добросовестно, не жалея лекарств. И не менее добросовестно охраняли. Предполагая, что Алексей — сотрудник советской разведки, им заинтересовались крупные чины контрразведки. А со службой имперской безопасности не шутят.
— Как волка ни ешь, а он все в лес бежит! — коверкая русскую пословицу, сказал начальник глуховского гестапо. — В два глаза смотреть за комиссар-десантник!
Его не покидали приятные мысли о повышении в чине, новых наградах… Не всякому и не каждый день попадают в руки советские десантники из армейской разведки!..
Мы не знали точно, где Калинин, что с ним? Жив ли?..
Бережной выделил специальную поисковую группу. В нее вошли Костя Стрелюк и Володя Савкин. Мы подключили к ним Сокола и Любу. Они от жены арестованного путейца узнали о том, что Алексей помещен в лазарет военного городка, но на этом следы терялись… Нужен был человек, который мог бы побывать в этом городке и узнать о судьбе раненого. Дальнейшие поиски и расспросы привели к Локотскому поселку — тому самому, в котором был ранен Калинин. В поселке жила девушка Галя, работала при лагерном лазарете в Глухове. По воскресеньям ее иногда отпускали домой, «до матки». Вот ее и решено было сделать, на первых порах, связной между Калининым и Бережным…
Савкин и Стрелюк однажды вечером пробрались огородами к Галиной хате. Перед нею высился пирамидальный тополь, самый высокий в поселке.
Разведчики долго наблюдали с огорода за домом и небольшим отрезком улицы, видневшимся через тын. Наконец движение в поселке утихло. Володя остался на улице, а Костя Стрелюк пробрался к дому, постучал в окно. На вопрос: «Кто там?» — Костя ответил:
— Я от Гали.
— Что с ней? Где она? — приглушенным голосом спросила мать. — Войдите в хату.
— Не волнуйтесь, пожалуйста… Я пришел от партизан. Мне как раз самому надобно повидать Галю по очень важному делу. Помогите устроить с ней встречу.
— Я вас не знаю, как могу доверить свою дочь первому встречному? Кто вы такой? Что вам от нас надо?
— А я разве не доверяю вам свою жизнь, явившись вечером в поселок с оружием в красноармейской форме? Разве мой товарищ не был подстрелен полицаями здесь, в этом поселке, возле вашей хаты? С Галей мы и хотели бы поговорить о нем. Она работает в военном городке, там сейчас находится раненый. В лазарете. Нам надо связаться с ним. Это можно сделать только через Галю. Передать два слова. И как можно скорее. Алеша находится в смертельной опасности. Еще несколько дней, и он будет передан в руки гестапо.
Волнение разведчика передалось Галиной матери.
— Что должна сделать моя дочь?
— Нам известно, что Галя работает в лазарете, а по субботам приходит домой. Значит, завтра она должна прийти…
— После обеда.
— Скажите ей, что мы ее ждем завтра или послезавтра на опушке леса у дороги.
— Я скажу Гале, но… боюсь за нее.
— Честное комсомольское, все будет в порядке! Галя нужна всего на несколько слов, я уже говорил. Да, вот что! Мы же ее не знаем. Пусть наденет на шею платок… Голубая косынка? Хорошо, пусть будет косынка.
Пока люди Бережного устанавливали связь с Галей, а через нее — с Алексеем Калининым, Сокол и Люба держали под наблюдением военный городок, а в нем — лазарет…
— Надо как-то подобраться к этому лазарету, помочь Гале, — озабоченно поделился мыслями Сокол. — Есть у меня одна задумка…
— Выкладывай, — попросил я его.
— Галю надо устроить кастеляншей. Деньги все могут. У нас они есть. А там… — Вася помолчал и голосом скрипучим, как несмазанный сапог, закончил: — Но-о, дохлая!.. Два узла с бельем не можешь потащить… — При этом выражение лица разведчика было таким глупым, что я не удержался от хохота…
— Ну, артист, Вася!.. Талант!
— Думаешь, подойду на роль возчика.
— Вполне. Только, смотри, не переиграй.
— Не переиграю. Мне тоже надо устроиться в лазарете возчиком, как-то вытолкнув с этой должности контуженного фрица-дурака.
— Значит, тебе понадобится медицинское свидетельство из полевого госпиталя, справка о ранении и направление в глуховский лазарет. Хорошо бы и историю болезни, только где достать эти бланки?
— А не добудет ли нам их Галя через палатную или старшую сестру?
— Хорошо бы…
Я подумал о Густаве Кранке, нашем верном друге. С ним было бы намного легче. И Любой бы не рисковали…
— Любу тоже перебросим в город, — словно угадав ход моих мыслей, сказал Сокол. — Она хороша, — он вздохнул, — очень хороша собой. Ей в день операции надо заняться часовым у проходной. Немцы — бабники. Клюнут на приманку…
Мне неприятны были слова Сокола о Любе, но я промолчал. Рассуждал он, как всегда, прямолинейно, называя вещи своими именами.
— Ну, как там наш Алеша?
— Рана заживает…
Галю, после хорошей взятки, назначили кастеляншей. Она и должна была вывезти Алексея из лазарета. Это был самый простой и самый надежный способ — увезти десантника на глазах у немцев.
Для часовых Галя была давно «своим» человеком, а в последнее время — особенно. У нее появилась смазливая подружка, которая все время крутилась возле проходной, строила глазки солдатам, недвусмысленно улыбалась. Галя тоже кокетничала с охраной, и солдаты охотно отвечали ей улыбками, заигрывали при всяком удобном случае. Дошло до того, что у нее даже и пропуска не спрашивали.
Настал решающий день. Все было готово. Скрюченный в три погибели Алексей задыхался под грудой узлов. Подвода с грязным бельем направилась к контрольным воротам городка. Галя сидела на узлах и щелкала семечки. Внутри у нее все тряслось от страха.
Возле ворот подвода остановилась. Подошел часовой.
— Так до вечера, милый Курт? — мягким грудным голосом переспросила Люба — та самая смазливая девушка, которая с недавних пор стала появляться возле проходной.
Часовой не успел ответить Любе.
— Ловите, Курт, — крикнула Галя и кинула завязанный в узелок белоснежный носовой платок. В нем были крупные, хорошо поджаренные семечки. Тот на лету подхватил подарок, жеманно поклонился:
— Данке шен, спасибо. — Открыл ворота: — Ехайт!..
Продолжение этой истории рассказал мне капитан Бережной год спустя в знаменитом «междуречье» — между Припятью и Днепром, когда кавалерийское партизанское соединение Героя Советского Союза генерала Наумова совместно с ковпаковцами отражало яростное наступление гитлеровцев, прорываясь из «водного мешка». Бережной к тому времени в соединении Ковпака руководил разведкой. Я командовал Первым Хинельским кавалерийским отрядом. Встреча наша состоялась, что называется, «на ходу»: мы оба спешили в цепи к наступавшим товарищам — партизанам. Но капитан успел все-таки сообщить кое-что про Алешу Калинина и Галю.
— Галя в лазарете больше не появлялась. Часового Курта расстреляли, — Бережной умолк. Его задумчивый взгляд остановился на мне. — А Калинин вместе с Галей перешел линию фронта и добрался до Москвы, в школу особого назначения: там его знали и подтвердили личность. После этого он попал в распоряжение Центрального штаба партизанского движения. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Алеша опять попросился в тыл к гитлеровцам. Его направили уже в качестве командира группы в Белоруссию. Группа примерно такая же, как была у меня. Помнишь?
Я молча кивнул головой.
— Алеша в Белоруссии организовал боевитый отряд, успешно громил врагов, все время совершал рейды и поэтому оставался неуловимым. Во многих жарких схватках участвовал, но выходил из них благополучно. Галя погибла недавно… — Бережной вздохнул: — Да, погибла…
Мы помолчали.
— Откуда ты все это знаешь, Иван Иванович?
Бережной загадочно улыбнулся:
— Угадай.
— Неужто свиделись с Алешей?
— Точно! Так же случайно, как вот теперь с тобой. Мимоходом.
— Ну как он, наш богатырь?
— Как и всякий богатырь: молодой, здоровый, деятельный. Между прочим, ему очень идут офицерские погоны… Звал меня после войны на Волгу «чаи гонять».
— Поедем вместе, — в тон Бережному ответил я. — А пока пришпорим-ка коней, Иван Иванович!
Мы помчались навстречу неизвестности. Каждый своей дорогой, но к общей цели.
БЕЗ ПАРОЛЯ
— Лейтенанта Иволгина — к капитану! — закричал дневальный от штабной землянки.
Я поспешил на вызов. Капитан Наумов сидел над записной книжкой. Снарядный ящик, приспособленный под стул, жалобно скрипел проволочными стяжками. По бумаге торопливо бегал карандаш. Из-за плеча Наумова я прочитал:
«За два месяца наша группа в Хинельском лесу выросла на полторы сотни человек. Потери партизан составляют шесть убитых и схваченных врагами связных… Нами уничтожено волостных старшин, начальников полиции, старост, шпионов к тайных агентов гестапо, а также полицаев, гитлеровских солдат и украинских казаков-карателей 205 человек. Захваченными трофеями вооружено пополнение группы. Заложены продовольственные базы с зерном, мукой, медом, салом из расчета на весь Эсманский отряд. Проведено свыше 40 боев и засад. Сорвана хлебопоставка в ряде районов и предотвращена отправка молодежи на каторгу в Германию…»
Наумов машинально хлопнул себя по шее, прибив комара. И опять торопливо забегал карандаш.
«Были ошибки, неудачи и поражения. Но удач — больше. Командиры стали грамотнее. Калганову доверили взвод. Ответственность за подчиненных заставила его быть сдержаннее. Дмитриев по-прежнему выполняет особо важные задания по разведке».
Отмечаю про себя объективность Наумова, манеру изложения мысли — четко, сжато и… суховато. Места для лирики у него не находится. Даже о действиях Сокола сказано всего в нескольких словах.
«Он устроил так, что Степановский и Плехотин, перебежавшие от нас в полицию, обезврежены…»
Наумов поставил точку, устало потянулся.
— Ну, рассказывай, каков был твой поход в курские степи. Чем порадуешь?
— Можете приобщить к своим записям. — Я передал донесение.
— Это я для тебя старался. Цени, брат. Знаю, ведешь записи, Пимен-летописец. А что тут было в твое отсутствие, поди, не ведаешь. Вот мне и захотелось вспомнить да на карандашик взять.
Наумов достал кисет, отсыпал на закрутку.
— Кури.
Две тоненькие струйки голубоватого дыма растворились под крышей шалаша.
— На диверсию ходили впятером, — начал я, — лейтенант Василий Буянов, старшина Виктор Жаров и еще двое новичков. Я брал их впервые. Пусть, думаю, учатся. Опять избрали шоссейные и железные дороги на участках Льгов — Брянск и Льгов — Курск. Дорогу на Курск заминировали вечером 14 сентября, а через каких-нибудь сорок минут с шестиметровой высоты слетел под насыпь эшелон: пять пассажирских вагонов с живой силой и тринадцать грузовых с зерном нового урожая — тонн пятьсот. Гитлеровцев человек двести погибло, много раненых…
Наумов потер ладони:
— Неплохо, Анатолий, совсем неплохо! Но у тебя, кажется, еще в запасе что-то есть?
— Есть. Еще один «суставчик», как говорит Вася Буянов. Шел со Льгова на Брянск. Это было двумя днями раньше, 12 сентября. Насчитывалось до тридцати вагонов. Грузовой поезд. Мы его сбросили, но точных сведений, с чем он был, не имеем: сразу же после диверсии пришлось ретироваться, район окружили немцы, выставив возле места крушения сильную охрану. Организовали проческу местности, но мы уже ушли. Ущерб должен быть порядочный: насыпь достигала высоты трех с половиной метров, и мина была заложена на повороте… Потом три мины заложили на шоссейных дорогах. Сработали удачно. Подорвались две машины с зерном, одна с солдатами.
Я погасил цигарку. Крошки табака ссыпал в карман: сгодятся.
— Ну-ну? — нетерпеливо спросил Наумов.
— А дальше — мелочь: несколько уничтоженных полицаев, молотилок, сожгли четыре тока с завезенной для обмолота пшеницей.
— Как ведет себя противник?
— Гитлеровцы продолжают насильно мобилизовывать местных жителей, особенно молодежь, на службу в полицию… Те упираются, бегут кто куда…
Наумов оживился.
— Слушай, Анатолий! Мы уже говорили с Анисименко. А не провести ли нам тоже мобилизацию? Многие опасаются открыто к нам идти: семьи будут уничтожены. А тут без придирки: население, мол, не виновато: пришли партизаны, мобилизовали и — все! С них и спрашивайте!..
— А почему бы и нет, Михаил Иванович? Мысль добрая. Давайте предварительно набросаем основные пункты приказа. Потом согласуем с комиссаром. Ну, а там размножим на машинке и во всех селах вокруг леса вывесим…
— Действуй, лейтенант.
Вечером вернулся из поездки по селам Анисименко. Он вторую неделю агитировал колхозников саботировать уборку урожая. Такие поездки он шутливо называет «саботажными вылазками».
Как всегда, он и в этот раз оживленно делился новостями, рассказывал, где и что сделано, сколько спрятано хлеба, сколько сожжено на корню и в скирдах…
Я молча подал комиссару листок с подлинником приказа о мобилизации в партизанский отряд.
— Вот это — дело! — обрадовался Анисименко. — Расписали, как военные министры… — Он на минуту умолк. — А как население к этому отнесется? Как воспримет? — И сам же ответил: — Как приказ Родины!.. Как же еще?!
— Именно, — поддержал Наумов. — На то и пишутся приказы, чтобы они выполнялись!.. Верно говоришь, Иван Евграфович, придут люди!..
— Давайте загодя подбирать командиров на отделения и взводы, — предложил Анисименко. — Не зря же мы обучали хлопцев в «лесной академии»: вытянут!.. — Не дожидаясь ответа, повернулся ко мне. — Доставай, лейтенант, из своих сейфов списки личного состава. Посмотрим, кто на что гож… — Он задумчиво посмотрел на Наумова и тихо закончил: — Начальник — всему делу печальник!.. Верно старики говорили.
И вот подготовка к приему пополнения закончена. Командиры подобраны и проинструктированы. Дело за людьми, как мы и предполагали, не стало: уже на второй день после вылазки кавалерийского взвода в села, бесед коммунистов и комсомолии с жителями на пункт сбора в лесокомбинат стали стягиваться в одиночку, а затем и группами местные жители и те из военнослужащих, кто еще не успел прийти к партизанам. Комплектовались новые отделения, взводы и роты. И сразу же началось обучение новых бойцов партизанской тактике. Главное внимание уделялось действиям одиночного бойца в нападении, в обороне при встречном бое. Одновременно постигались основы стрельбы из ручного оружия, метание гранат на дальность и точность… Все были заняты до предела. Не партизанский лагерь, а учебный полигон.
Вместе со «стариками» на задания теперь ходили и новички. Действовали уже сноровисто, толково.
Однажды Наумов позвал меня в штабной шалаш.
— Есть идея, — сказал он. — Догадываешься?
— Это о чем?
— Надо узаконить наших новичков.
— Присягу?
— Точно, лейтенант. — Наумов передал мне листок с текстом. — Это событие должно стать праздником для каждого. И провести его надо как можно торжественнее.
Наумов прав. В жизни каждого военного присяга играет огромную роль, тем более важна она для партизан.
Соблюдая традицию, мы оповестили соседей — командование Степного и Хомутовского отрядов, пригласив их на торжество.
И вот на поляне выстроен отряд. В строю стоят все, кроме тех, кто несет охрану лагеря. К этому дню мы не отправили на боевые задания ни одного человека.
Анисименко поздравил новое пополнение с принятием в отряд, пожелал успешной борьбы с врагами и полной победы над фашизмом. Потом взял в руки лист с текстом присяги советского партизана. За ним, волнуясь, но четко и громко чеканя слова, партизаны повторяли:
— «Я, гражданин Советского Союза, верный сын героического народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад не будет уничтожен на нашей земле…»
Ясный осенний день, безоблачная синева и легкое колебание листвы — словно от единого дыхания людей в суровом строю народных мстителей.
— «Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы командиров и начальников, строго соблюдать военную дисциплину…»
Суровые лица, гневные слова…
— «За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пытки, насилия и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть!..»
Набежало облако, пала тень на лица бойцов. От этого они кажутся еще более суровыми, а слова клятвы боевому партизанскому братству и верности матери-Родине — еще более грозными. В этих словах не только глубокий смысл, в них — основа жизни каждого из нас: стремление обрести свободу.
— «Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя своей крови и своей жизни.
Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагами, чем отдам себя, семью и весь советский народ в рабство кровавому фашизму…»
Голос комиссара звучал, как натянутая струна:
— «Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу присягу и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки своих товарищей!..»
Единым дыханием вместе с комиссаром произнесли партизаны последние слова: все они отныне связаны одними мыслями, одной судьбой.
Наши гости — хомутовцы — уехали тотчас же после торжественного обеда и концерта художественной самодеятельности. Им надо было готовиться к боевой операции. Зато партизаны Степного отряда, ближние наши соседи, задержались допоздна. Командир отряда Ковалев, молодой еще человек, все присматривался к нашим порядкам, расспрашивал о житье-бытье, о боевой подготовке, участии в боевых и хозяйственных операциях и, кажется, остался доволен. Может быть, действительно, соседям кое-что не мешало бы перенять у нас. Мы знали, что степняки живут не столь уж строго и порой не понимают вреда от той вольности, которая допускалась в их лагере.
Анисименко сказал однажды, возвратясь от Ковалева:
— Табор какой-то… Все перемешалось. Не поймешь толком. Семьями живут, не по-воински… Так и беды накличут. Приходи кто хочешь — никто и не спросит зачем. А еще в старину умные люди сказывали: согласного стада и волк не берет! — Анисименко задумался. Долго молчал. Потом предложил Наумову: — Надо бы поговорить с Ковалевым, подсказать ему. Командир он молодой, сразу все тонкости партизанской жизни не охватит. К тому же слаб после ранения, почти не поднимается. Вместо него всеми делами заворачивает Юрко, его заместитель.
Мне довелось присутствовать при этом разговоре, и я не мог не оценить наблюдательности комиссара. Он сделал неожиданное для нас заключение:
— Юрко действует в одиночку, не советуется с коммунистами. Иначе было бы в лагере по-другому. По всему видать, мало их в Степном отряде, коммунистов. И не так, мне кажется, поняли тамошние командиры задачи партизанской борьбы. Они подняли несколько сел да и переселили в лес. Вот вам и массовость!.. Мол, и будь без хвоста, да не кажись кургуз!
— В Степной район пошлем свою разведку, комиссар, — поразмыслив, решил Наумов. — Поможем соседям… А с Ковалевым, действительно, надо по душам поговорить. Предостеречь товарища, поправить…
Офицер полиции Тыхтало сидел за столом в самом мрачном настроении.
— Да плевать я хотел на Ковалева! — стукнул он кулачищем. На столе звякнул, опрокинувшись, стакан. — Тоже мне партизан! Собрал какую-то орду в Хинельском лесу и баламутит!.. Забыл, видать, как мы две сотни его приспешников из Подывотья в расход пустили! — Тыхтало зло хрупнул огурцом. — С Ковалева сам спущу штаны и плетью раскрошу евонную филею… Не его нам опасаться. Главный враг — отряд Наумова. Вот это орешек! Успели уже и мобилизацию провести и новичков обучить своему бандитскому ремеслу… Присягу намедни приняли! — Тыхтало сплюнул. Зло повторил: — Наумова бы схватить! Тогда никакой комендантишко не посмеет орать на меня да кулаками тыкать. Я сам умею руками махать — еще Петлюрой обучен… Вот так, господа! — губы Тыхтало кривятся, выражая крайнюю степень обиды. — Нет, за что мне, офицеру тайной полиции, паршивый германец в морду дал, а?! За Ковалева, да?! Так с Ковалева я и спрошу! Сам в лес пойду ловить его. Вот так, господа!
— Лучше не чеплять их, — возразил полицай, — отчаянные… ик! Лучше выпьем. — Он опустил голову в чашку с капустой.
Тыхтало презрительно оглядел захмелевших полицаев. «Разве это вояки? Так себе, слабаки! Вот он, бывало!» Впрочем, и сейчас Тыхтало пьет не пьянея. Только злости в нем прибавляется. На всех, на весь мир! Никому нельзя довериться, ни в ком правды нет — по себе знает. И никуда от этого не уйдешь. «Дурачье!.. Вот он — другое дело. Всякую драку умеет себе на пользу обратить. Вот этот мундир, например… Приятно было получить его за храбрость при поимке отчаянного пленного пограничника, который заколол двух немецких солдат… Тряпки, разумеется, мелочь. У меня припрятано кое-что поценнее. Неплохо бы лагерь Ковалева пощипать: там была бы пожива! Там бы я разгулялся, от всей души!»
Опрокинув в широко раскрытый рот стакан первача, Тыхтало насторожился: «Будто кто за дверью скребется? Кому бы это в сени попасть?» Прихлопнув на огненно-рыжей шевелюре белую смушковую кубанку, мельком оглядел себя в зеркало. Точь-в-точь подсолнух на заре!..
Тяжелой походкой двинулся из горницы, вытащив наган.
Гулкий револьверный выстрел, возня и топот ног в сенях всполошили полицаев. Захлопали выстрелы.
Два конника на широкой рыси проскакали в сторону леса: это партизанские лазутчики побывали в логове Тыхтало.
Тыхтало задыхался от ярости:
— И наган, сволочь, выбил, и кубанку сбил с головы!..
— Нашел о чем жалеть, пане начальник! Помешкай бы немного, вас самого уволокли бы в Хинельский лес. А там разговор короткий.
— Это все Ковалев!.. — бесновался Тыхтало. — Ну, погоди у меня. Только не переместил бы он свой табор! Возьмем подмогу из Севска и… Вот так, господа! — Тыхтало сжал огромный кулачище, словно сдавил в нем ковалевских партизан. — А наумовцы? Связь есть у них с Ковалевым? Должна быть. Непременно… Вот в чем закавыка… Тут ухо востро держать надо!
— Да уж не хлопать! Запросто можно голову потерять, не только кубанку! — захихикал полицейский.
25 сентября 1942 года мы встретились с командирами Степного отряда. Уединились на тихой солнечной поляне на берегу Ивотки, где проводились комсомольские собрания, принимали присягу и решали свои самые важные дела.
Говорил капитан Наумов — откровенно, без скидок на самолюбие.
— Вы плохую услугу оказываете населению. Собрали людей со всей округи, привязали себя к табору. А ведь даже охрану мирных жителей не можете обеспечить силами своего отряда, да еще расположились на опушке леса, в доступном для противника месте. Привлечете в лагерь врага, понесете неоправданные потери. Защищаться надо нападая. В этом — смысл партизанской войны. Надо теснить полицию, вышибать их гарнизоны из сел, а не тянуть жителей сюда…
Гостям неприятно выслушивать то, что говорит Наумов. Разве они мальчишки, чтобы их отчитывали? Особенно недоволен Юрко — он приехал за старшего. Хмуря тяжелые брови, он покусывает горький стебелек сухой полыни. Слова Наумова горше. Юрко выплюнул огрызок. Серые глаза горят недобрым огоньком.
— Капитан Наумов говорил здесь о какой-то группе. У нас, чтобы вы знали, не группа, а бригада! Бригада! Ясно вам?
— Колхозная бригада! — под смех наумовских командиров уточнил Коршок. Охраняя военный совет, он одновременно слушает и подает реплики.
— Не колхозная, а партизанская бригада! — повторяет Юрко. Перетянутый ремнями, с биноклем на шее, он держит себя важно. Испортила парня власть.
— Вы весной ушли из Хинели: ковпаковцы, ворошиловцы, ямпольцы… Вы тоже, капитан, драпанули с эсманцами… Велик Брянский лес, но до него от Хинели — добрая сотня верст. Вот туда за собой народ из Сумщины действительно не потащишь. Здесь его надо было защищать! И кто это сделал без вас? Наш Ковалев! Он один не ушел тогда из леса, от родных хат… Раненый, не испугался ни бомбежек, ни карателей! Ничего!.. Тогда нас, действительно, была группа — всего несколько человек. А теперь? Сотни!.. И мы не потерпим, чтобы кто-то вмешивался в наши внутренние дела. Тем более, что мы здесь — не гости, живем в своем, Хинельском лесу… Ясно?.. А вы в чужой монастырь со своим уставом лезете.
— Это местничество, — послышались возмущенные голоса наумовцев.
— Нет, хуже — зазнайство!
— Я понимаю, сосед, — обратился к Юрко Наумов, — обидно выслушивать о себе такое, но это правда. — Легкий ветерок мягко шевелит прядку светлых волос Наумова, бросает их на высокий крутой лоб. Капитан проводит ладонью по голове. — Дело кончится тем, что ваше воинство будет разгромлено десятком паршивых полицаев… Тыхтало готовит налет, — Наумов повел рукой в сторону Сокола. — Вот Дмитриев с Романом Астаховым побывали в его логове, сами слышали, как грозился Тыхтало напасть на вас.
Наумов замолчал.
— Давайте хотя бы обменяемся паролями, — предложил Анисименко. — А то блуждают по лесу неизвестно чьи люди, неизвестно зачем. Нам нужна определенность…
— И проверить невозможно, — подхватил Наумов. — Попадались в наши руки вражеские агенты и лазутчики. На допросе показывали сначала, будто из вашего лагеря они, партизаны… Уже потом оказывалось, что это — вражины. А был бы общий пароль — другое бы дело.
— Зато вы, как улитки в скорлупе, прячетесь, — взорвался Юрко. — За нас — люди, они всегда предупредят в случае чего… Без всяких паролей. Ясно вам? — Он вскочил в седло, огрел плетью коня. За ним поспешили остальные, командиры его отряда.
— И я хотел этому индюку подарить Тыхталову кубанку, — ругнулся Сокол. — Тоже мне, посланец комбрига… На месте Ковалева я своим заместителем подобрал бы другого человека. Не такого наполеончика.
— Да-а, если все командиры Ковалева думают так же, как Юрко, придется им лиха хватить, — заметил Анисименко. — Как говорится, у коротких ног и шаг короткий…
Детские зыбки, подвешенные к ветвям, сонное бормотанье кур на вершинах деревьев, утробные вздохи коров, пережевывающих жвачку. Затухающие костры «куреней» и дремлющий часовой возле штабного шалаша, влюбленная парочка в кустах возле ручья… Это лагерь соседей, ковалевцев.
Постепенно все звуки утихли. Лагерь погрузился в безмятежный сон. Тишина…
На болоте закричала ночная птица. С дерева дружно и разноголосо ответили петухи. Вскрикнул во сне младенец, но тут же, убаюканный ласковой рукой матери, заснул. И опять тишина…
Спит лагерь.
Спит часовой.
А в это время…
Командир маршевого батальона Генрих Битнер поднял ракетницу. Цепь солдат и полицаев, окружавших лагерь Ковалева, затаилась, ожидая команды.
— Штурм!
— Фойер!
Ракета, вторая, третья… Редкие щелчки ответных выстрелов, истошный вой баб, крики ребятишек… Местами завязывается рукопашная схватка, но это не бой, а беспощадная, яростная резня безоружных людей…
— Дмитриев!
— Здесь!
— Скачи к соседям, выясни обстановку. Ковалеву скажи — спешим на помощь.
Мы заранее подготовились к отражению противника на случай, если он вторгнется в расположение соседей. Поэтому выступили быстро, без проволочек.
Мы скачем через чащобу, без дороги — напрямик путь короче. Вот-вот должен вернуться Сокол. Он должен встретить нас возле развилки дорог — у лагеря Ковалева.
Над лагерем висят осветительные ракеты, ночное небо отражают темно-багровые сполохи разгорающегося пожара.
— Беда, лейтенант! — на рыси подскакал Роман Астахов.
Трещит кустарник… Тревожно ржет лошадь. Я понял, что означало восклицание Астахова. Боюсь поверить. Тревога передается и другим.
— Васина лошадь, ребята, — замечает Коршок. — Ласточка… Ржет, зовет хозяина.
— А где сам Дмитриев? Сокол где?
Сердце сжимается в предчувствии беды. Почему конь вернулся без всадника? Где Сокол?
Темный лес затаился враждебно. Ветки хлещут по лицу, цепляются за одежду. Скорее, скорее! Кони чувствуют нетерпение всадников: скорее, скорее!
Выстрелы внезапно смолкли — в лагерь ковалевцев ворвался наш кавалерийский взвод.
Поздно… Враги на машинах уже уходили на Севск.
Лагеря нет. Догорают шалаши. Дымится, тлея, одежда брошенных в огонь раненых и убитых… Изредка вспарывают тишину ночи одинокие выстрелы: рвутся патроны, накалившиеся в огне. То здесь, то там раздается стон, мольба о помощи, приглушенное проклятье…
— Ой, да что это такое? — шепчут посиневшими губами умирающие. — Ой, да что это?
Тяжело дышит затоптанная сапогом фашиста грудная девочка. Сломанная ручонка ее придавлена зыбкой.
А вот лежит на пепелище старик. Глаза вытекли, лопнув от жары. Чернеют страшные ямы пустых глазниц.
— Дедушка, дедуся! — всхлипывает на дереве мальчонка. — Мне страшно, дедуня! Почему ты молчишь?.. Сними меня отсюда, пойдем к маме…
При первых выстрелах дед посадил внука на дерево. Сам, сбитый пулей, упал в костер.
Втоптана в пыль белая смушковая кубанка с красной лентой и пятиконечной звездой… Валяется раскрытый блокнот и две выпавшие из него фотокарточки. На одной надпись:
«Земляку-партизану, начальнику разведки Анатолию И. от Васи Д. 1942-й год».
Погиб Вася Дмитриев, наш Сокол.
О том, как это произошло, нам рассказал мальчик, сидевший на дереве.
Вася Дмитриев влетел в самый центр лагеря, к штабному шалашу Ковалева.
— Где командир? — опросил он, осаживая Ласточку.
— Какой?
— Ковалев.
— Вот тебе Ковалев! — налетел на Дмитриева один из полицаев.
Вася выхватил шашку. Клинок, со свистом описав дугу, хрястнул полицая.
Выстрел… Второй… Третий…
Осыпаются ветки, сбитые пулями. Вася вздыбил Ласточку и нанес удар по стрелявшему в него офицеру.
Генрих Битнер упал под копыта коня. Но при ударе о каску клинок треснул пополам. Отбросив обломок, Вася пустил в ход плетку, отбиваясь от навалившихся солдат.
Сила ломит силу…
Васю стащили с лошади. Она дала свечку и вырвалась из круга.
Поверженный на землю, Вася признал Тыхтало по огненному чубу. Выхватил нож, всадил его в грудь наклонившегося над ним давнего врага. Отплатил за ковалевцев, за Стасю. За друзей. За все… Вцепился обеими руками в тыхталовскую шевелюру и застыл, пронзенный несколькими штыками.
Враги торопились, опасаясь нападения с тыла: вот-вот появятся наумовцы. Однако они успели отсечь голову Сокола и бросить ее в мешок. Насадив на кол, они возили ее потом по селам и городам Севского района, устрашая людей.
Нет Сокола… В душе пустота. Ни к чему не могу приложить руки, все немило… Ах, Вася, Вася! Как же ты не уберег себя?!. Вот еще одного сына потеряла земля родная… А сколько их еще будет, таких потерь?
Держу в руках фотографию. Всматриваюсь в знакомые черты. Кажется, вот-вот раздастся знакомый голос:
— Задание выполнено, прибыл…
Каждая ветка вокруг нашей стоянки, каждая тропка в лесу напоминает о славном разведчике.
Притих Калганов. Сидит возле меня хмурый, опустошенный, как и я. Все валится у него из рук.
— Был там… у него. Люба с девушками цветами украшают могилу…
Я молчу. Никакими цветами не оправдать нам этой потери.
Ах, Сокол, Сокол!..
В который раз подходит ко мне Люба.
— Не надо так. — Слезы льются из ее больших, тоскливых глаз. — Чего терзаешься и меня мучаешь?..
Николай Калганов изготовил скромный обелиск с пятиконечной звездой. Над рамочкой с Васиной фотокарточкой выжег раскаленным шомполом эмблему партизан: клинок, перекрещенный с автоматом, над ними — кубанка с красной лентой. Сбоку склонилась скромная дубовая ветвь. Ниже написал крупными, сразу бросающимися в глаза буквами всего два слова:
«ПОМНИТЕ, ЛЮДИ!»
В них, в этих словах, боль и скорбь, в них — крик души. И требование. Суровое, решительное требование к тем, кто после нас останется жить. Обращение нашего поколения к людям будущего.
Не было дня, чтобы кто-нибудь из друзей Сокола не побывал здесь, не посидел возле могилы, не погрустил о нем, не подумал бы о себе, о жизни — такой быстротечной и ненадежной…
Но пришло время нам расставаться с хинельским краем и со всем, что было с ним связано. Нас отзывали в Брянские леса.
Первого октября наумовцы выступили на север, к железнодорожной станции Знобь. Там нас ожидали две роты Эсманского отряда, которому подчинялась и группа Наумова. Мы уже знали о новости: украинские партизаны готовятся к перегруппировке сил и к выходу на оперативные просторы — за Днепр. Теперь, действительно, и нам надо быть там, среди своих.
Мне подумалось: не напрасно ходил по земле украинской Иван Бойко, посланец партии.
Мы пошли, как обычно, со всеми мерами предосторожности, быстро и скрытно. Ночевку сделали на выходе из рощицы — последней перед степью.
Возле поселка Дороновка встретился нам паренек лет пятнадцати. Возвращался с поля домой. Разговорились. Отец на фронте. Мать умерла. Остался с малолетней сестренкой. Приходится батрачить у полицая. С весны сестренку взяла тетка, а он перешел на жительство к полицаю. Неуютно одному-то в пустой избе сидеть.
— Поехал бы ты с нами, — пригласил Илюша Астахов.
Паренек малость подумал.
— А куда я лошадь дену?
— Лошадь тоже может к партизанам на довольствие стать, — поддержал Илюшу Калганов. — Звон, сколько их у нас, коней-то. Не чета твоей…
— Кто ж меня примет? — засомневался паренек.
— Я и приму, — рассмеялся Калганов. — Давай в мой взвод!
Глаза паренька засияли.
— Я радый партизаном стать.
— Как зовут тебя, партизан?
— Пашкой.
— А коня?
— Пегашкой.
— Значит, Пашка на Пегашке! — резюмирует Калганов. — Воюй на здоровье, парень. До самой победы!..
Ночью за Красичкой, несколько восточнее ее, показалось зарево, затем — чуть дальше и восточнее — другое. Донеслись приглушенные расстоянием выстрелы. Бой разгорался сразу в нескольких местах. Скоротечный, партизанский бой.
— Ну как там, разведка? — нетерпеливо справляется связной от Наумова.
Что ему ответить? Можно только предполагать. А разведчик обязан говорить только о том, что сам видел, или о том, что сам слышал. Не больше… Время идет, мы топчемся на месте в полном неведении. Надо послать связных в головную роту.
— Старшина Жаров! — зову в темноте.
— Есть!
— Коршок!
— Есть!
— Вместе со связными от головной роты разыщите лейтенанта Сачко — он где-то возле Красички. Передайте ему: мы изменили маршрут, идем на станцию Победа. Пусть Сачко ведет роту за нами. Мы будем оставлять на поле «маяков» из конной разведки. Свое появление на станции отметим серией условных ракет. Он знает.
С конными разведчиками Романа Астахова и взводом Калганова я двинулся впереди колонны — в головном охранении. Охранение пришлось сколачивать на ходу. Надо наверстывать упущенное время: и так потеряли минут сорок!..
Бой в Красичке становится напряженнее. Сквозь стрельбу и разрывы прорываются крики женщин, детей, мычание коров… И снова взрывы снарядов, мин и ручных гранат, очереди пулеметов и автоматов, вспышки ракет.
Мигнул фонарик: наши разведчики на окраине Победы.
В ложбине, возле крайних строений, Калганов, Коршок, братья Астаховы кого-то усердно тузили кулаками. Чуть в стороне, охраняя разведчиков, стояла Люба.
— Что тут происходит?
— Да вот, товарищ лейтенант, поймали возле пулемета… Один куда-то отлучился, а второго мы накрыли. — Астахов тяжело дышит.
Кое-как разобрались. Оказалось: на станции Победа в засаде находились пулеметчики из отряда «Смерть фашизму». Наша разведка захватила пулеметчика как полицая. Тот, в свою очередь, наших посчитал за врагов и не признавался, кто он… Когда недоразумение было устранено, а пострадавшему вместе с извинениями возвращен пулемет, он рассказал: в эту ночь украинские отряды наносят отвлекающие удары по нескольким вражеским гарнизонам в полосе нашего предполагаемого прорыва… Значит, связные добрались до Брянского леса вовремя и наумовцам открывают путь боевые друзья.
Тем временем подтянулась к нашим главным силам и рота Сачко вместе с «маяками» и нашей разведкой. Я с охранением опять выдвинулся вперед.
— И я с вами, хлопцы, — сказал Анисименко.
— Беспокоится, голова-елова, — шепнул Калганов. — Сам хочет быть впереди…
Партизаны снова выстроились в походную колонну. От Победы шли до самого утра безостановочно.
Огромное красное солнце вставало над дремлющей синевой далеких Брянских лесов. Медно-красные стволы сосен извилистым золотым поясом охватили южную опушку. Лежебока-ветер, наверное, все еще нежился в ветках молодых березок и увядающих духовитых травах.
Легкое облачко, залюбовавшись рождением нового дня, застыло над степью. Потом оно растворилось в синеве. Небо стало чистым и ласковым, как глаза ребенка.
Мы невольно замедляем шаг. Каждый из нас впитывает в себя очарование раннего утра, необыкновенно красивое сочетание ярких осенних красок.
— Возле села Лесное сделать привал! — передал нам приказ Наумова прискакавший Пашка на Пегашке.
— Ба, да это твой хлопец! — говорю Калганову.
— Тот самый, — улыбается Анисименко.
— И уже военную науку постигает, — не без гордости заявляет Калганов. — Моя школа!.. — Он кивает Пашке: — Успел и карабином обзавестись?
Тот засиял от удовольствия: сам взводный командир похвалил!
— Это вот он, Илюша Астахов, дал. У него автомат есть…
Договорить он не успел. Над растянувшейся колонной появились, пикируя, два звена вражеских бомбардировщиков.
Дрогнули, заметались партизаны, особенно новички, не обстрелянные в боях. Бывалые партизаны знают, что делать в подобных случаях: надо рассредоточиться и залечь. Но лежать под бомбами стало невмоготу: очень уж часто и густо ложились они…
Кажется, уже нет силы, которая была бы способна вернуть присутствие духа и уверенность.
Сила такая нашлась. Комиссар Анисименко и раненный в руку Калганов одновременно открыли огонь из пулеметов. Тут же заговорили все наши пулеметы, карабины и винтовки. Словно стая воронья, вспугнутая выстрелом, самолеты легли на обратный курс.
Пашка на Пегашке даже помчался по полю вслед уходившим самолетам. Отчаянно колотя пятками по брюху Пегашки, он кричал:
— Стой, гады! Кому говорю — стой!..
Пулеметная очередь — последняя в этом бою — перерезала всадника и его коня.
Калганов бежал по полю, махая раненой рукой, словно подстреленная птица перебитым крылом.
— Насмерть! А какой хлопец был!..
Стоим молча. Стоим, обнажив головы. И мне слышатся слова Пашки, простого деревенского паренька, которые он произнес накануне: «Я радый, что партизаном стал!..»
И вот нет Пашки…
КРАЙ БРЯНСКИЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ
В Брянский лес стягивались разрозненные партизанские группы и отряды. Пришли и мы, наумовцы.
Наши хинельцы выглядели молодцевато. У них и табачок водился, и обмундирование лучше, и боевого опыта поднакопили. Наверное, поэтому Балашов распорядился наше пополнение передать в другие группы, а самых боевых парней — к автоматчикам. У наумовцев осталось три взвода — всего полсотни человек.
— Как в сказке, — невесело пошутил Коршок. — Вернулся дед от синего моря к разбитому корыту…
— Да-а, голова-елова, здорово нас пощипали, — вздохнул Калганов. — Куда же теперь наших начальников определят?
А когда узнали, только руками развели. Капитан Наумов назначен начальником штаба, я — начальником разведки Эсманского отряда.
— Ладно хоть тебя, Иволгин, возле меня догадались оставить, — сетовал Наумов. — Расчихвостили хинельскую группу, черт возьми.
— Ничего, Михаил Иванович, орла видно по полету, а хинельцев — по делам.
Вскоре меня вызвали в Объединенный штаб партизанских отрядов Сумщины. Начальником разведки этого штаба был капитан Бессонов. Он приветливо улыбнулся, поднимаясь мне навстречу.
— Рад познакомиться! Садитесь, рассказывайте.
Выслушав доклад, Бессонов сказал:
— Район разведки для эсманцев намечается до Знобь-Новгородской. Устраивает ли он вас?
— Да, район удобен. Нам он более всего и подходит.
— Рад, что угодил! — Бессонов улыбнулся. — Значит, урожайное местечко попалось? Подавайте теперь побольше «языков», осваивайтесь. Очень полагаюсь на вас.
На мой молчаливый вопрос ответил:
— О хинельской группе наслышан много. Похвально отзывались партизаны о ней и о ее командирах — Наумове и Анисименко. — Бессонов покрутил в руках карандаш. — У нашего брата нелегко заслужить такую характеристику.
— Нет теперь этой группы. Не у дел и комиссар Анисименко. Да и Наумова пришпилили к бумажкам в штабе отряда, как бабочку под стеклышко, — для видимости.
Бессонов расхохотался:
— Весьма образно… и зло!..
Странно, только познакомились, а расставаться не хотелось обоим.
— Пойдем, лейтенант, поужинаем, — пригласил Бессонов к себе. — По пути зайдем к москвичкам.
— Каким москвичкам?
— Э-э, брат, у нас в штабе такие невесты…
— Догадываюсь. Из ЦК комсомола, наверное.
— Правильно.
— Вот видите: разведчики наши уже пронюхали.
В просторной пятистенной избе жили, по рассказу Бессонова, пять девушек, посланцев Центрального Комитета комсомола. Они все время разъезжали по отрядам, знакомились с молодежью, комсомольскими делами партизан, собирали материалы для газеты…
Бессонов тут был своим человеком.
— Приглашаю на банкет, девушки! — объявил он. — На сборы две минуты.
Вскоре веселой гурьбой мы ввалились к капитану.
Трапеза оказалась довольно скромной: по сухарику на брата и две банки консервов на всех. Но радушный хозяин так приветливо и от души угощал нас, что мы были буквально очарованы им. Время пролетело незаметно.
— Долго не могу задерживаться, — извинился я. — Мне бы хотелось заглянуть еще в редакцию газеты «Партизан Украины»: посылал заметки и стихи из Хинели с нашими связными — Шамановым и Латышовым. И с другими ребятами.
— Так вы и есть тот самый хинельский корреспондент? — опросила одна из девушек, Ася.
Получив утвердительный ответ, заметила:
— Информацию вашу мы получили. Кое-что отобрали для «Вестей с Советской Родины» и в «Совинформбюро»… К сожалению, не все материалы дошли до нас. — Печаль мелькнула на ее лице. — Жаль Шаманова и Латышова. Перехватили их враги, казнили…
За окнами потемнело. Надо спешить.
— Где располагается редакция газеты? Мне все-таки хотелось бы там побывать.
— А газеты здесь уже нет, — ответила Ася. — Редакция переехала в Ново-Васильевку.
— Туда не с руки, — пожалел я. — Да и времени в обрез.
— Куда, лейтенант, на ночь глядя? — попробовал отговорить меня Бессонов. — Завтра поутру и уехал бы…
— Нет, капитан, спешу. Дел — невпроворот… Спасибо за прием да за ласку.
— А ты напрасно, лейтенант, разъезжаешь один: в следующий раз изволь брать с собой двух-трех разведчиков посмекалистей.
— Спасибо, учту.
Тепло простился я с новыми знакомыми и, духовно освеженный, пустился в обратный путь. Воронок шел уверенно. Сколько раз он выручал меня!
Вдали врезаются в небесную темень немецкие ракеты: они всю ночь освещают подступы к населенным пунктам.
Надеются вовремя заметить партизан, когда они будут подкрадываться. И хоть ракеты, как неоднократно показывал опыт, не спасали гарнизоны от разгрома, а гитлеровцев — от смерти, но такова сила привычки…
Интересно, как закончится вылазка поисковой группы — Коршка, Калганова и братьев Астаховых? Перед отъездом в Объединенный штаб я направлял их за «языком» в Знобь-Новгородскую. Хотел с ними поехать, да не пришлось. Теперь вот думай — что там да как?
Но скоро буду в отряде, выясню… Уже рассветает.
Едва успел слезть с лошади, как вызвал Наумов. Приказал отобрать в отряде тяжелораненых для отправки на Большую землю. Самолеты придут на Смелижский аэродром следующей ночью.
— Дошла молитва до бога! — смеется Анисименко. — «Осадная» армия гитлеровцев крепко увязла возле Брянских лесов. Она тут простоит, пока наша наступающая армия не даст ей по зубам… А покамест с нее достаточно орловских да брянских партизан. Нам пора и честь знать: загостевались тут. Домой пойдем, на Украину!
— Да, Иван Евграфович, все очень верно, — заметил Наумов, — партия принимает меры по расширению партизанской войны на Украине. Значит, мы правильно делали, что не спешили сюда из Хинельских лесов.
— Там теперь хомутовские партизаны из курской земли и отряд Ковалева хозяинуют… Держат то, что им передали «по наследству». Теперь, поди, поумнели — узнали, почем фунт лиха!..
За повседневными хлопотами и не заметили, как подкралась чудесница осень. Бросила цветастую кружевную шаль на плечи брянского разнолесья. Пестрит солнечными бликами на полянах да на пойменных лугах. Всегда приносила осень людям полными пригоршнями свои богатые дары. Так было из века в век. Теперь же люди с голоду пухнут, умирают… Партизаны перебиваются кое-как с травки на толченую кору, а разве это харч? На такой пище долго не протянешь. В брянском крае нет мяса, нет соли, нет хлеба… Жители сел сбежали от родных пепелищ в леса, под защиту партизан. И голодают еще больше нас.
Надо что-то предпринимать. Мы надумали провести уборку хлебов в соседних с лесами деревнях. Мобилизовали жителей Знобь-Трубчевской и Знобь-Новгородской, стоящих табором неподалеку.
Днем ничего делать нельзя: вражеские самолеты кидают бомбы куда попало. Обстреливают опушки из пушек и пулеметов. Только вечером утихает канонада. Тогда-то и выходят из леса партизаны, оцепляют намеченный под уборку участок, занимая оборону. В ход идут серпы, косы. Свободные от охраны партизаны помогают жителям. Но редко такие вылазки обходятся без потерь. Движение на поле, скрип телег и конский топот привлекают внимание гитлеровцев. Они начинают освещать участки ракетами и бить из пушек и минометов. Когда — наугад, а больше — прицельно. На огороды тоже безнаказанно не пойдешь. Тут иная хитрость. Немцы ставят мины на картофельных полях, на табачных грядках и в капусте.
Горек хлеб партизанский, часто не лезет в горло…
Сегодня вот опять беда приключилась. Принесли на рассвете истекающего кровью партизана — Федю-баяниста. Взрывом фашистской мины вырвало ему внутренности.
— За ведро картохи помираю, — только и успел вымолвить парень.
Старшина Жаров и Коршок вынесли Федю на себе и сами чуть не разделили участь товарища.
Шумит угрюмо лес. Бьются под ветром листья. Протягивает деревцо руки-ветки к могильному холмику, еще одному на этой поляне. Прощай, Федя!
Суровые, печальные, возвращаемся каждый к своему повседневному делу. Живой должен думать о живущем!.. Я искоса поглядываю на друзей. Осунулись, похудели — кожа да кости. А в глазах — неуемная ненависть.
У разведчиков дел по горло: то поиск, то огневой бой, то вылазка в расположение «осадной» армии. И так изо дня в день, из ночи в ночь…
Сегодня я, по обыкновению, вернулся из поездки поздно. И сразу же прибежал связной от Наумова.
— Надо ехать, Анатолий, во второй Ворошиловский отряд.
— К Гудзенко? Далековато!..
— Знаю, устал ты, но… — Наумов развел руками. — Ничего, брат, не попишешь: такая доля у разведчика… Мы закурили.
— У тебя хоть дело-то живое. А меня впрягли в возок с бумажками. Вот и тяну… — Наумов подвинул мне карту: — Смотри.
Я наклонился над картой брянского края. Прикидываю измерителем. Приличный путь. Километров около десяти лесом, затем вдоль линии железной дороги на восток от разъезда Скрипкино, потом… Одним словом, маршрут трудный и запутанный. На пути — несколько сел, занятых гитлеровцами. Днем бы проще, а вот ночью… Да еще в ненастную погоду.
Наумов понимает, насколько опасен путь.
— Будь внимателен. — Крепко пожимает мне руку. — Действуй!
От Наумова направляюсь к разведчикам.
— Коршок, готовься в поездку!
— Может, я поеду? — вызвался Роман Астахов.
— Нет. Ты нужен для иного дела. Слушай…
Пока объяснял Астахову задание — надо взять контрольного «языка», — Коршок успел подседлать свою лошадь и доложил: готов хоть на край света!
— Мы поедем ближе, Коля. Но путь будет нелегкий. Харчишками запасся?
— А как же? Старшина Жаров дал по две картошки и травяную лепеху.
Дождь уныло стучит по немецкому прорезиненному плащу, стекает крупными каплями по лицу, забирается в рукава, лезет в сапоги. Дорога бесконечна, как мысли. До разъезда добрались глубокой ночью. В одной хатенке заметили свет. Мутное пятно его еле различалось сквозь густую сетку дождя. Решили зайти, перекурить.
В маленькой избенке располагалось начальство отряда имени Котовского. Мы называем этот отряд по месту его создания — Харьковским.
— Никак хинельцы? — ответив на приветствие, спросил Воронцов, командир отряда.
— Наумовские парни, — подтвердил долговязый, худой человек. Я узнал в нем Гуторова, комиссара харьковчан. О бесстрашии Гуторова ходили легенды.
— Проходи, лейтенант, к столу, — пригласил комиссар. — Может, чарочку опрокинешь? Наши хлопцы где-то раздобыли бутылочку. С такой окаянной непогоды не повредило бы, думаю. А?
— На такую компанию бутылочки-то маловато, наверное? — ответил шуткой на предложение Гуторова. — В честь чего пьете? Победу обмываете?
— Победу. Это ты верно подметил. Праздник на душе. К рейду готовимся. На Украину ридну пидем!.. — Воронцов указал на карту. — Вот, лейтенант, маршрут прокладываем.
Я снял плащ, бросил на лавку. Подошел к столу.
— А здесь, на вашем участке как? Располагаете какими-нибудь сведениями о противнике?
— Как же! — воскликнул Воронцов. — Загонял свою разведку. — Он пыхнул цигаркой, прикуривая от лампы. Видно, что и сам он, и комиссар Гуторов смертельно устали. А дел еще сколько!.. И сил уже нет. — Давеча прискакали двое наших, вот эту бутылочку попутно у фрицев отобрали. Думали хлопцы, на этом оставим их в покое. А не получилось. Опять угнали в непогодь такую… — Воронцов посмотрел на меня. — Наплюй, лейтенант, на все, дербалызни чарку. Помогает от усталости. Я своим разведчикам сохраняю… Вот только с закуской не того… Нет у нас закуски. Рукавом пользуемся. Зря отказываешься. Я ведь от души…
Дождь усилился. Мы спешили выехать с разъезда.
Уныло шумит лес, монотонно стучит дождь.
Где-то среди окопов, в гарнизонах и между передовых секретов «осадной» армии в эти минуты пробираются партизанские разведчики. Кто охотится за «языком», кто подслушивает телефонные разговоры между штабами, подключившись к кабелю полевого телефона…
Сколько бы нас, разведчиков, ни было, где бы мы ни действовали в эту темную ночь, задача у всех одна: помочь тем, кто уходит за Днепр.
Вот почему не спали Воронцов и Гуторов, ставя все новые задачи своей разведке. Вот почему не спал капитан Бессонов и не давал спать командирам других отрядов. Не довелось спать в эту ночь и нам с Коршком.
В редкие минуты одиночества я неизменно думаю о Любе. Все чаще мысли возвращаются к ней. После трагической гибели Сокола Люба стала внимательнее к Калганову, относится к нему по-сестрински. Разведчик тосковал по другу, не находил себе места и был признателен ей за внимание. Кажется, он примирился с мыслью о том, что Люба его не любит. А к Полине он так и не потянулся душой. Оба страдали порознь, каждый о своем… Да, так уж устроена жизнь…
— Мерзопакостная погодка, — ворчу вполголоса.
Коршок молчит. Под копытами коней чавкает грязь. Лошади скользят, оступаются. Того и гляди, свернешь шею… Мой Воронок за сегодняшние сутки прошел более семидесяти километров. И не просто прошел, а все рысью, скорее да скорее…
— Слезай, Коля. Дадим отдых коням. Пусть попасутся с полчасика…
— В такую чертову темень они и траву не увидят.
— Еще как! Ты, к примеру, разве пронесешь мимо рта свою лепеху? Конь тоже найдет, что ему надобно. Умное животное. Даже настроение чувствует: понурый, если хозяин печалится, и радостный, когда тот веселится.
— Сегодня ни нам, ни коням веселиться не с чего.
Коршок явно не в духе.
Мы жуем лепеху из какой-то смеси картофеля, вручную раздробленных зерен ржи и толченой сосновой коры. Диву даешься, как только ухитряются женщины выпекать подобие хлеба из этого суррогата? Долго еще будет после войны сниться партизанский хлебушек тем, кто вкусил его.
Разведчикам давно по-человечески не приходилось поесть. Все на ходу, все всухомятку. Многие болеют цингой. И все-таки никто не жалуется, каждый остается на своем посту, при своем деле.
— Подъем, Коля!
Побрели вперед, ощупью, коней ведем под уздцы. Наш путь — на лесное село Старая Погощь. Правильно ли идем?
Дождь все льет и льет из темной прорехи неба, словно жидкость из лопнувшего бурдюка.
Клонит ко сну. В последние дни я страшно измотался, спать почти не удается. И теперь иду, едва передвигая ноги. Нет сил бороться с усталостью… Так бы, кажется, растянулся прямо на дороге и уснул мертвым сном! А спать нельзя. Нужно во что бы то ни стало разыскать отряд Гудзенко, передать очень важную информацию и получить в обмен от них сведения о противнике.
Трудно назвать дорогой потоки грязи, которые растекаются по старой вырубке. Дальше идти нет сил. Мы сели на коней. И почти тут же их копыта застучали по настилу дряхлого, совсем сгнившего моста.
Конь Коршка передними ногами провалился между бревнами. Николай вылетел из седла, едва не свернув шею. Я ехал впереди, и мне удалось благополучно перебраться на противоположную сторону размытого дождями оврага. Остановил Воронка, поспешил на помощь. Включил фонарик, висевший на поясе, осветил место катастрофы. С трудом вместе с Колей подняли застрявшего в настиле коня. Осмотрели.
— Обе ноги переломил? — чуть не плача, спросил Коршок.
— Обе ноги целы. Конь ушибся и только. А как ты, джигит?
— Легкий испуг и… несколько синяков.
— Дешево отделался. Повезло тебе.
После происшествия на мосту удваиваем осторожность.
Впереди должен быть разъезд Новенький, но его что-то не видно. Мне стало казаться, что мы уклоняемся от заданного направления. Ориентиров нет. Ночь — темнее сажи. Лес мрачен, суров, шумит листвой, скрадывая звуки. На душе кошки скребут. Мне не приходилось бывать в этих местах, запросто можно сбиться с дороги…
Уже под утро вдали приметили огонек. Свет показался таким ярким, что мы приняли его за упавшую осветительную ракету.
Шепчу Коршку:
— Оставайся с конями. Я пойду вперед, узнаю, куда нас кривая вывела.
— Как вы еще умудряетесь шутки шутить? — нервничает Коршок.
— Спокойно, друже! Если все будет в порядке, я просигналю тебе вызов фонариком. Ну, а если будет стрельба, жди меня минут двадцать… В случае чего кони сами тебя в отряд привезут.
— Как бы не так, — ворчит Коршок. — Сразу и поскачу. Брошу на съедение…
Раздвигая густой бурьян, ползу к строениям.
Вот кто-то с головешкой в руке прошел в дом. Наверное, печку надумали разжигать: в такую мокреть и в доме, как в погребе. Здесь, по-видимому, сторожевой пост или застава. Чья? За углом сарая под листом старой жести тлеют угли потухающего костра. Шипит под дождевыми потоками головешка, сыплются под ветром искры.
«Кто же тот человек, вошедший в дом: наш или чужой? И выйдет ли он снова во двор?» Перевел предохранитель пистолета, нащупал нож и притаился сбоку от костра. Скрипнула дверь. Из сеней вышел тот же человек. Помешкал возле крылечка и побрел к сараю.
— Руки вверх! Ни звука! — вполголоса скомандовал я, выскакивая из засады.
Человек мгновенно сорвал с плеча винтовку, вскинул ее, щелкая затвором. Пригнувшись, резко бросаюсь ему под ноги. Винтовка летит в сторону. Услышав виртуознейшую русскую брань, я обрадовался. Для меня она оказалась лучшей музыкой: не фашист все-таки. Русский… Вспышка фонаря осветила лицо парня и фуражку с ленточкой!
— Ты кто? — спрашиваю парня. — Партизан?
— А кто же еще? Не фриц же!
— Я тоже. Лейтенант Иволгин. Из Эсманского отряда. Прости, брат. Думал — в пасть к гитлеровцам угодил…
— Ладно уж, — заворчал тот, — моя фамилия Карев.
Выяснилось, что мы наконец-то нашли тех, кого искали всю ночь. В поселке стояла застава батальона Азарьяна от второй ворошиловской бригады. До штаба отряда было еще далеко…
Вызвал сигналом Коршка. До утра решили отдохнуть и на рассвете поехать дальше.
Попросил Карева:
— Разбуди, крестничек, не забудь, пожалуйста…
— Через три часа разбужу, не сумлевайтесь.
Боится парень нахлобучки от начальства: дал себя застать врасплох. Но я не сказал никому о происшествии возле сарая. Просто посоветовал Азарьяну чаще проверять посты, особенно в такую окаянную непогодь. Тот, кажется, не догадался, почему я намекнул о бдительности. Скорее наоборот.
— Собак нэ выпускаэт хароший хазяин…
Наутро мы поехали в Стеклянную Гуту в штаб Гудзенко, куда-добрались часа через четыре.
Подполковник Гудзенко — спокойный, чуть медлительный здоровяк лет под тридцать пять — встретил нас приветливо.
— От Наумова? Спасибо за привет. Слышал, много вы нашумели в Хинельском лесу. Молодцы! Я знаю, у капитана есть ухватка… Раздевайся, разведчик, сушись. Раздели со мной завтрак… Как говорится, чем бог послал…
Илларион Гудзенко был веселым и остроумным собеседником. Он рассказал о недавней встрече с членами Правительства в Москве, о том, как их, партизанских вожаков Украины, Орловщины, Брянщины и курян принимали в Кремле.
— Вот, наградили. — На суконной гимнастерке подполковника блестел орден Ленина.
— Рад. Поздравляю от души! По заслугам и награда, — сказал я… — Проявили себя ворошиловцы в боях…
— Ладно, хватит, а то захвалишь…
После завтрака обменялись разведывательными данными. Сделали прогнозы на ближайшие дни. С удовольствием я отметил про себя: разведка у Гудзенко поставлена великолепно.
Расстались, весьма довольные друг другом.
Возвращаясь от ворошиловцев, я заехал в Старую Гуту, к ковпаковцам.
Ненадолго задержавшись у ковпаковцев, направился к середино-будцам. Этот отряд отпочковался от нашего, эсманского. Повидался с Сенем, комиссаром. Он в наумовской группе был политруком взвода. Теперь вот комиссарит и, кажется, успешно.
Сень пожаловался, что не знает толком, как организовать службу разведки. Пришлось на скорую руку рассказать.
— Оставайся на денек, лейтенант, — просит Сень. — Помоги разведку наладить.
— Помогу, комиссар, только не сейчас.
— Не надоело тебе рыскать, сутками не слезая с седла? Других нет, что ли?..
— Не могу. Надо побывать еще в Суземском отряде. И с ними обменяться разведывательными сведениями, самому полазить в их секторе.
— А для чего это нужно?
— Так полагается, комиссар. До скорой встречи!
Не мог я тогда сказать Сеню, что эти сведения готовились для рейдовых соединений. Для этого была поставлена на ноги вся партизанская служба разведки. Не мог сказать ему и о том, что с середино-будским отрядом я уже не встречусь скоро, как обещал: мы тоже уйдем из брянского края. Но придет время, комиссар Сень сам поймет и разберется в причинах строгой конспирации, которой была окружена подготовка похода партизан за Днепр.
Вести были утешительные: противник не обнаруживал наших активных действий, хотя и держался настороже. Прорыв ковпаковцев и сабурцев в рейд на запад должен быть успешным, но надо брать больше хитростью. На других участках нашей обороны обком разрешил делать «сабантуй» — отвлекающие бои. Под шумок рейдовики и выскользнут из кольца «осадной» армии.
— Иволгин, хорошо, что вернулся. Есть дело. — Наумов перехватил меня по пути в штабную землянку и на ходу объяснил задачу. — Надо военнослужащих отделить от цивильных, как у нас называют штатских лиц.
— Что, Михаил Иванович, началась дележка?
— Началась. — И ошарашил новостью: — Ванин берет из отряда три сотни военнослужащих. Создается Военный Эсманский отряд. Отряд вливается в соединение Сабурова и следует с ним за Днепр. Кстати, Анатолий, ты намечен начальником штаба Военного отряда. Значит, тоже идешь в рейд. — Он помолчал и тихо добавил: — С Ваниным… — И еще тише: — А мне приказано пока оставаться здесь.
Идти в рейд — моя давняя мечта. Триста обстрелянных бойцов, бывалых партизан — это же сила! Командир отрада эсманцев Леонид Ванин — знающий командир, с ним нетрудно сработаться. Но у него в помощниках Балашов — недалекий, самолюбивый карьерист. Чего греха таить, Балашова мы, хинельцы, недолюбливали. И он, зная об этом, отвечал всем нам вместе и каждому в отдельности тем же. Нет, не хотелось бы мне иметь дело с ним. И потом, я привык к Наумову. Просто не по-товарищески было бы оставлять Наумова и Анисименко в этот трудный для них час… Ведь и Люба не идет в рейд. А она… «Пойти к Ванину и сказать ему напрямик обо всем? Останусь, мол, здесь с Наумовым и Анисименко, буду создавать свой кавалерийский отряд, — с ним и пойду в рейд. Не только за Днепр, за Буг махнем! Ванин может расценить мой отказ как недоверие к нему, обидится. Я на его месте тоже бы обиделся. Как же поступить?»
Неожиданно судьбу мою решил сам комиссар. Анисименко встретился с Ваниным в штабе, куда нас пригласили на утверждение штатов.
— Слушай, Леня, — просто, как к товарищу, обратился Анисименко. — Отступись ты от Иволгина, оставь его с нами. Найди другого начальника штаба. Ведь у нас никого почти не осталось из кадровых. Всех лучших вам отдали…
— А как он сам? — подумав, спросил Ванин.
— Я бы уважил просьбу комиссара.
— Значит, хочешь остаться? Я понимаю, и тебя, и комиссара. Дружба — дело великое… Я мог бы приказать тебе, лейтенант, идти со мной… Но насильно мил не будешь. Оставайся! Это по-справедливому. У Наумова действительно специалистов почти не осталось. Ты здесь нужнее.
— Спасибо, командир. Возьми на память. — Я протянул свой бинокль. — И до встречи за Днепром!
Я был благодарен Ванину: как бы там ни было, мы снова будем вместе: Наумов, Анисименко, Люба, Коршок, братья Астаховы — Роман и Илюша…
Главное же, как мне казалось, я избавился от Балашова. Не того полета человек. Подделываться под его вкусы я бы не сумел, да и не захотел бы.
Довольный, ушел я из штаба, чтобы разыскать Калганова и поделиться с ним новостью.
— Счастливый ты человек, земляк, — погрустнел Калганов. — Остаешься с комиссаром Анисименко, с Наумовым, с Любой… А мне… в рейд.
— Ничего, друже, — попытался я, утешить Калганова. — Бог не выдаст, свинья не съест. И у Ванина ты будешь взводом командовать. Хлопот много, скучать не придется.
— В разведку тянет, — признался Калганов. — Люблю по неизведанным путям-дорогам бродить… Вот и с тобой, помнишь, — он оживился, — помнишь, как партизан искали, по курским степям бродили, от Покровского поворот получили? Разве такое забудешь? А вот теперь и тебя не станет… — Калганов увидел неторопливо шествующего Балашова. — А этот, — повел в его сторону головой, — слышал, куда определился?
— Тоже уходит с Ваниным?
— Ошибаешься, брат, он остается с вами. Балашов, конечно, рад. Кто знает, что ожидает партизан в далеком, неведомом пути? А здесь вроде бы поспокойнее…
Слова Калганова окатили меня, словно водой из ушата.
Взгляд невольно останавливается на нескладной фигуре Балашова. В нем нет ничего военного: холеный, самодовольный, обтянутый в хрустящий хром, он сверкает, как фальшивая монета.
Но, может быть, я не совсем справедлив к нему, может быть, он все-таки лучше? Дай бог, чтобы я ошибся!..
Лесная тропинка прихотливо вилась, огибая мочажину с поседевшей вокруг нее осокой, потом резво взбегала на бугорок, ныряла на дно широкого оврага, поросшего буйным ольшаником и молодыми зарослями рябины.
Я прощаюсь с лесом — благодатью брянского края. Увижу ли тебя еще когда? Наверное, не скоро. А может быть, и никогда…
Тропинка расширялась, деревья стояли реже. Будто разбежавшись, внезапно остановились они: впереди открывалась просторная поляна. На другом краю ее, под огромной разлапистой елью, горел костер. Возле него сидели на еловых ветвях партизаны, грели руки над огоньком. В стороне, под дубом, стоял часовой, наблюдал за воздухом. Увидев меня, поставил над головой руки крестом, потом махнул вправо. Это — сигнал. Он означал: «Не проходи по открытому месту, не оставляй следов на поляне: их могут заметить с самолета… Обходи поляну правым краем ее по лесу…»
От костра доносились взрывы хохота. Не иначе — Калганов там верховодил. Подошел. Так и есть. Николай сидел, поджав под себя ноги, и врал: вдохновенно и, как всегда, мастерски. Илюша Астахов смотрел ему в рот.
Дождавшись, пока ребята вдоволь нахохочутся, я отозвал Калганова в сторонку.
— Печаль развеять надумал?
— А что делать? В последний раз душу отвожу. Совсем теперь осиротею: «и тебя не будет, ни Васи Дмитриева… — он помолчал. — Такие дела, голова-елова… Разлука нам пришла.
Молча я снял пояс с трофейным пистолетом.
— Возьми. Давно тебе этот «вальтер» спокойно спать не дает. В далеком твоем пути пригодится. И не один раз… — Посмотрел в глаза друга. — Ты с умом воюй, теперь приглядывать за тобой некому.
Постояли. Помолчали. Обнялись по-братски.
— Прощай, Толя! Встретимся ли когда?
— Встретимся, Коля.
— Любу береги. Любит она тебя…
Вдали прозвучала команда… Отряды выстраивались в походную колонну. Их поведут прославленные партизанские вожаки Ковпак и Сабуров.
Горсточка разведчиков — хинельская молодежь — стояла возле меня и долго махала вслед.
Лучший цвет хинельской гвардии понес нашу боевую славу на Запад — туда, где стонала под гнетом земля украинская и где ждал помощи непокоренный народ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ядреный мороз щиплет за уши, хватает за нос. Трещат деревья, обступившие большое поле хинельского партизанского аэродрома. Похудевший бледный месяц нет-нет да и высунет любопытный обмороженный нос из тучи: «А зачем это жгут партизаны в неурочный полуночный час костры?»
Несколько ночей подряд мы принимаем на сигнальные костры самолеты с Большой земли.
Родина щедрой рукой наделяет нас вооружением и боеприпасами, обувью и обмундированием, пополняет специалистами-подрывниками и кадрами партийных, комсомольских работников.
Через несколько дней, в самый разгар Сталинградской битвы, партизанское соединение Наумова уйдет в рейд на юг Сумщины, к Харькову, чтобы, взаимодействуя с наступающими советскими войсками, обрушить удары на тылы гитлеровцев, хорошенько потрепать их.
Когда задача будет выполнена, мы, кавалеристы-наумовцы, форсируем Днепр и перенесем боевые действия на Правобережную Украину, где совершим свой знаменитый Степной рейд по четырнадцати южным (степным) областям.




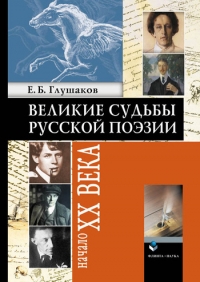

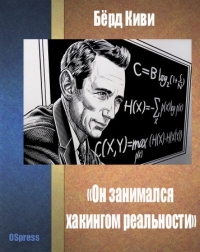
Комментарии к книге «Шумят леса Хинельские», Анатолий Иванович Инчин
Всего 0 комментариев