ПИЛСУДСКИЙ Легенды и факты
Вступление
Как каждый крупный политик, Юзеф Пилсудский имел фанатичных поклонников и непримиримых врагов. Первые не знали меры в восхвалении его действий, другие не прочь были обвинить его в самых тяжких грехах.
Примеры этих различных подходов читатель найдет во всей книге, в особенности там, где сопоставляются противоречивые, изменяющиеся во времени мнения о Пилсудском. Однако они не дают даже контуров легенды Маршала[1]. Полное раскрытие этого явления требовало бы значительного расширения книги: характеристики всего общества, его потребностей, настроений, состояния общественного сознания.
Приводимые в прессе мнения и оценки его современников в большей степени были связаны с созданием стереотипов — позитивного и негативного, чем с легендой в полном смысле этого слова. Ведь легенда никогда не формируется исключительно под воздействием текущей пропаганды. В не меньшей степени ее обусловливает «живая история» — обычное историческое сознание различных общественных кругов. Важную роль в ее формировании играет школа. В создании легенды Пилсудского этот фактор еще более важен, поскольку в 30-х годах была введена государственная модель воспитания, построенная на восхвалении достижений Маршала. Не следует также забывать о роли литературы, искусства и прессы. Каждая из этих областей может быть темой отдельного научного исследования.
Главная трудность при написании книги о Юзефе Пилсудском заключалась в соблюдении пропорций между сложными мыслями, отражающими личные качества, и общественными делами, вопросами большой политики, в формировании и решении которых он принимал участие. Оправданным казался отказ от чрезмерного акцента на так называемый исторический фон. Ведь сегодня это уже достаточно известные вопросы, описанные во многих трудах, не составляющие тайны для даже не очень интересующегося историей читателя. Поэтому при освещении деятельности Пилсудского акцент сделан на тех делах, на которые он наложил свой особенный отпечаток, на тех проблемах, которые без его участия другими политическими и государственными деятелями, наверное, были бы решены иначе.
Этот выбор в несколько ином измерении проявился в описании последних лет жизни Маршала, бывшего в то время самым высоким авторитетом в Польше.
В соответствии с этим допустимо было бы ожидать от заключительных разделов книги представления главных политических, экономических, общественных проблем того периода. Более обоснованной показалась авторам, однако, попытка воспроизвести механизмы правления, каналы и методы общения Пилсудского с окружением, установить принципиальные сферы его интересов, поведения и способ реакции в тот период деятельности, когда болезнь все сильнее поражала его изменяющуюся личность.
Биография была задумана как популярная книга. Поэтому авторы отказались от справочного аппарата, в том числе от ссылок на источники, из которых взяты цитаты. Информация о наиболее часто использованных публикациях содержится в библиографическом перечне, помещенном в конце книги. Он составлен в алфавитном порядке, однако стоит выделить труды профессора Анджея Гарлицкого, автора новейшей многотомной биографии Пилсудского, а также работы Вацлава Енджеевича[2] — в одном лице солдата, министра и биографа Маршала. Их советы и размышления дали больше всего материалов и вдохновения.
1. Зюк
Юзеф Клемент Пилсудский родился 5 декабря 1867 года в Зулуве в Литве. Он был четвертым ребенком Юзефа Винценты и Марии (урожденной Биллевич) Пилсудских. После него на свет появилось еще пятеро сыновей и три дочери, последние дети-близнецы умерли в грудном возрасте.
Семьи относилась к древним родам литовской шляхты, полностью полонизированной еще несколько веков назад.
Ее корни терялись во мраке истории. Легендарные свидетельства связывали род Пилсудских с упоминаемым в документах XV века Гинетом, а через него с мифической великокняжеской династией Довспрунга, кажется, правившей Литвой еще до Гедимина[3].
Позже, когда Юзеф Пилсудский достиг самых высоких постов в Речи Посполитой, это княжеское прошлое стало предметом острых споров. Сторонники с полной серьезностью указывали на царские корни Коменданта, видя в этом еще один аргумент, обосновывающий его предназначение властвовать. Враги беспощадно издевались над этой генеалогией и доказывали ее историческую несостоятельность.
«Тот Гинет, — писала в «Легенде Пилсудского» Ирена Панненкова, — который среди других литовских бояр получил польский герб (Заремба) в Хородле в 1413 году, был Гинет Концевнч (сын Коньчи), а не Гинвилтович, а значит, не потомок князя Гинвилта или Гинвилда.
Тот Гинет, между прочим, — добавляла мастер антипилсудчиковского памфлета, — был выдающимся, как мы сейчас сказали бы, «германофилом», или по тем временам «тевтонофилом». Он принадлежал к партии бояр, которые уже после унии 1386 года, попирая закон, выступали против Польши и против Ягеллы (трактат 1396 г.)[4]. В 1398 году вместе с 82 политическими единомышленниками он вынужден был переселиться в Пруссию, где тевтонцы приняли их с вниманием и осыпали дарами».
Упоминание этой любопытной исторической подробности преследовало ясную цель. Речь шла о компрометации «тевтонофильского» потомка XX века, о том, чтобы напомнить о его военном сотрудничестве с немцами. Каждый мог убедиться, что гинетовский череп давно уже пропитался симпатией к германским соседям. А в Польше, в течение веков сражавшейся с немецким нашествием, описанном в «Крестоносцах» Сенкевича[5], такие констатации не прибавляли популярности.
Пока же молодой панич, которого еще с виленских времен ближние называли Юзюком или Зюком, прятался в зулувском дворе, окруженный достатком и любовью родителей. Особенно любил мать, женщину незаурядную, как писал один из биографов, «с горячим сердцем возвышенных национальных и семейных идеалов, существо необыкновенное по своей доброте, правоте и стойкости».
Семья принадлежала к зажиточным главным образом благодаря приданому матери, которое существенно укрепило уже подорванное состояние Пилсудских. Однако вскоре от усадьбы, насчитывавшей более десятка тысяч гектаров, осталось совсем немного.
Как каждый факт, связанный с Пилсудским, так и это событие по-разному интерпретировалось биографами. Отдавая себе отчет в том, что во времена разделов Польши хорошее хозяйствование и защита польского состояния возводились в ранг патриотизма, они старались подчеркнуть благородные причины финансового краха семьи. Писали о губительных последствиях контрибуции, наложенной за участие отца в январском восстании. Подчеркивали новаторские методы хозяйствования, которые забитые массы не были в состоянии ни понять, ни оценить. Одним словом, изображали картину образцового владельца, задавленного репрессиями периода разделов и не находившего понимания у консервативного окружения.
Правда была более прозаична, несмотря на то что репрессии не обошли отца-повстанца. Упадок хозяйства был вызван в первую очередь хваленым новаторством в его ведении. Владелец Зулува был полон задумок, инициатив, планов. Значительно хуже ему удавалось претворять их в жизнь.
«Покупал сельскохозяйственные машины, — писал в «Воспоминаниях» Людвик Кшивицкий, — о которых где-то услышал и которые были за границей, но в Виленских краях в связи с чрезмерной дешевизной рабочей силы они не окупались. Рабочий же был неотесан, он великолепно ходил за сохой и деревянной бороной, но не умел обращаться с бороной металлической в ее различных вариантах. Те машины устаревали без дела, потихоньку превращаясь в ржавый лом. Основал спиртовой завод. Зулувскяя почва подходила для выращивания картофеля, но владелец не подходил для производителя спирта. Как раз во время начинающейся кампании производства спирта, а начало, в частности, зависело от прибытия акцизника, Пилсудский выехал с усадьбы. Начал течь спирт, но оказалось, что посуда для разлива продукции не приготовлена в достаточном количестве. Взяли из домашнего хозяйства все котлы, кастрюли, жбаны, колбы. Естественно, этого было очень мало, и спирт выливался на землю».
Эти слова писал не враг семьи, хотя такое впечатление и может сложиться. Свидетельствовала об этом хотя бы запись Фелициана Славоя-Складковского[6] в его известных «Отрывках донесений», содержащая суждение Пилсудского об отце: «Мой покойный отец был замечательным ученым-агрономом, но такая огромная усадьба, как Зулув, и конце его жизни выглядела подобно Сморгоне[7] после ее разрушения; во дворе был лес каменных столбов, неизвестно для какой цели. Один бог знает, чего он там не наделал, потому что не был администратором».
Этот, как сказали бы мы сегодня, экономический волюнтаризм способствовал тому, что, когда в 1874 году Зулув был уничтожен пожаром, на его восстановление не хватило средств. Семья переехала в Вильно. Ее финансы таяли все более заметно, доказательством чему становились очередные переселения во все меньшие и все худшие квартиры. Отец постоянно был полон больших надежд и новых замыслов, но его деятельность неизменно приносила разочарование. Главным источником существования стали банковские займы, которые полностью расходовались на содержание дома и неуклонно приближали момент окончательной продажи имущества с аукциона.
Зулувская атмосфера достатка и беспечности бесповоротно ушла в прошлое. Беспокойство перенеслось также на детей. Старший на год, чем Зюк, Бронислав[8] записал в дневнике в декабре 1884 года: «Завтра истекает срок выплаты по процентам в банке, а папа не имеет и половины требуемой суммы… Не знаю, что с нами будет? Чем дальше, тем хуже. Уже сейчас мало кто верит папе, а что будет дальше. Ужасно боюсь этого завтрашнего дня. Если дело пойдет так, то через пару лет мы останемся почти ни с чем…»
И хотя дети не страдали от голода, все чаще на собственной шкуре они чувствовали недостаток, испытываемый семьей. «Зюк не ходит в школу, — замечал в марте 1883 года Бронислав, — потому что не имеет штанов, а новых Морохель еще не принес».
Однако сам Зюк не очень-то близко к сердцу принимал все эти заботы. Судя по описанным Брониславом эпизодам, его поведение не свидетельствовало о чрезмерно развитом альтруизме.
«Мы пили чай у бабушки, — жаловался 14 февраля 1883 года Бронислав, — Зюк, Адась[9] и Зиньо {Казимеж, младший из братьев}, и обжора так бросился на перники[10], которые были поданы к чаю, что мне стало стыдно, а он даже не подумал, что это некрасиво. И дома Зюк не учитывает, хватит или нет ветчины другому, лишь бы ему было достаточно, а Зиньо и Адась не хотят отставать и поступают так же».
Несмотря на эту склонность к эгоизму, по мнению Бронислава, счастье всегда сопутствовало Зюку. «После обеда я ходил с Зюком на прогулки по некоторым улицам. Он не учит, но для него все будет хорошо, как и на всех предыдущих экзаменах. Его везение не сравнимо ни с чем, и так все время. Читает час, а ходит два, но завтра точно получит пятерку».
Зюка всегда сопровождали везение и успехи. «Этому Зюку безумно везет, — отмечал также брат, — все у него получается хорошо, а это потому, что ставит себя на первом плане и что много болтает (а делает мало), а дураки верят ему и восхищаются им…»
И хотя индивидуальность человека со временем меняется, не подлежит сомнению, что многие из тех черт до конца сохранились в характере Пилсудского, нанося отпечаток как на его личную жизнь, так и на общественную деятельность.
Чрезвычайно устойчивой чертой личности, сформировавшейся в то время, осталась также вражда к России. Первые ее зерна посеяла в сердце мальчика любимая мать. «Несгибаемая патриотка, — вспоминал он через несколько лет, — она не старалась даже скрывать перед нами боль и разочарование по поводу восстания. Да, воспитывала нас, делая, собственно, нажим на необходимость дальнейшей борьбы с врагом Родины».
Эта цель стала одним из наиболее переживаемых детских идеалов. «Все мои мечты концентрировались в то время вокруг восстания и вооруженной борьбы с москалями, которых я всей душой ненавидел, считая каждого из них подлецом и вором. То последнее было в конце концов оправданным. В свое время рассказы о подлостях и варварстве орды Муравьева[11] не сходили с уст каждого».
Действительно, репрессии после восстания были в Литве особенно ужасны, а курс на русификацию[12] соблюдался исключительно безоговорочно и последовательно. Но в те годы в образе мышления Пилсудского произошло также фальшивое и далеко идущее по своим результатам отождествление царизма и причиненных им несправедливостей с Россией и русским народом. Это, в частности, способствовало тому, что с течением времени антирусизм стал основным пунктом его политической программы.
Пока же детские восприятия и наблюдения нашли подтверждение в молодежной, гимназической практике. «Я стал учеником, — писал он в 1903 году в статье «Как стать социалистом», — первой Виленской гимназии (в 1877 г. — Авт.), находящейся в стенах старинного Виленского университета, бывшей альма матер[13] Мицкевича[14] и Словацкого[15]. Выглядело все здесь, естественно, иначе, чем в их времена. Хозяйствовали здесь, учили и воспитывали молодежь царские педагоги, которые приносили в школу всякие политические страсти, считая в порядке вещей попирание самостоятельности и личного достоинства своих воспитанников. Для меня гимназическая эпоха была своего рода каторгой. <…> Не хватило бы воловьей кожи на описание неустанных, унижающих придирок со стороны учителей, их действий, позорящих все, что ты привык уважать и любить. <…> В таких условиях моя ненависть к царским учреждениям, к московскому притеснению возрастала с каждым годом…»
Однако в те годы Пилсудский не вел, как бы ни мечтали об этом его биографы, активной антиправительственной деятельности. Правда, вместе с Брониславом он состоял в тайном гимназическом обществе «Спуйня», но на деле это был типичный молодежный конспиративный кружок, членами которого становились чаще всего в поисках романтики, чем по сознательному политическому выбору.
На эту непоследовательность, не позволяющую увязать обильно изрекаемые им позднее антирусские декларации с беззаботными гимназическими годами, с ехидцей обращали внимание противники. «Его школьная жизнь, — писала Панненкова, — внутренние переживания в стычках с московскими педагогами <…> — типичные для ряда поколений польской молодежи, проходящей через московскую школу, и известные всем, кто был в такой школе, — зафиксированы Жеромским в «Сизифовом труде»[16]. Как известно, много было таких, кто в борьбе с той школой и в бунте против системы русификации раньше времени ломали себе жизнь, изгонялись за «неблагонадежность» и нередко не могли уже получить даже среднего образования. Пилсудский закончил школу».
Сколько же издевательства и насмешек было в тех трех неброских словах, завершающих абзац! Будто бы простая констатация очевидного факта, а в основе своей, в контексте предыдущих выводов — жестокое обвинение в часто проявлявшемся в Польше патриотизме громких слов и несравнимо меньших дел.
По окончании гимназии в 1885 году восемнадцатилетний юноша с прекрасной генеалогией и значительно менее привлекательными перспективами встал перед выбором путей взрослой жизни. О спокойном существовании землевладельца даже не приходилось мечтать. От огромного, как это было несколько лет назад, состояния остались крохи. Нужно было, и быстро, получить специальность, обеспечивающую самостоятельность. Зюк решил учиться медицине, что давало бы затем стабильный подходящий заработок.
Финансовое состояние семьи выглядело столь плачевным, что, выбирая учебное заведение, он подумал об относительно дешевом, провинциальном университете в Харькове. Там он и оказался осенью 1885 года. Учился без энтузиазма. Не бросился и в водоворот студенческой политической жизни, хотя столкнулся с модной в то время студенческой конспирацией. За участие в демонстрации провел даже пару дней под арестом. Однако в активистах не ходил. По окончании первого года возвратился в Вильно, намереваясь после каникул возобновить учебу в университете в Дерпте[17].
Почтовые формальности, связанные с переводом, затянулись. В Вильно Зюк не был особо занят, не работал, оставаясь на содержании семьи. Одновременно немного втянулся в конспиративную деятельность, встречаясь в кругу друзей и дискутируя о модном тогда социализме. Именно тогда впервые обратился к русскому изданию «Капитала» Маркса. Чтение не произвело на него впечатления. «Абстрактная логика Маркса, а также властвование товара над человеком не укладывалось в моем мозгу», — вспоминал он в 1903 году. А много лет спустя, в 1931 году, он облек эту мысль в такие слова:
«Я старался познать и углубить идеи социализма. Начал читать «Капитал» Маркса. Но когда встретился с доказательством, что стол равняется сюртуку или же может равняться сюртуку, если речь идет о количестве и стоимости труда, которые заключают оба эти предмета, я закрыл книгу, так как такое истолкование казалось мне вздором. Материалистическая философия, властвование которой быстро закончилось и на почве которой возникла теория Маркса, никогда не умела убедить меня».
Это искреннее признание свидетельствовало в равной степени как о психическом складе, так и о пробелах в образовании. Ведь можно считать теорию Маркса ошибочной, но поднимать ее на смех рассуждениями об идентичности стола и сюртука означало показать не столько убеждения, сколько экономическое невежество.
Заполненное в большей части скукой ежедневного прозябания, вынужденное пребывание в Вильно прервал арест 22 марта 1887 года. Неожиданно девятнадцатилетний юноша оказался втянут в круговорот больших и грозных дел, о значении которых даже не мог и догадываться.
Действовавшая несколько месяцев назад в Петербурге террористическая фракция «Народной воли» решила убить царя Александра III. Покушение готовились осуществить с помощью бомбы, дополнительно наполненной ядом, чтобы монарх погиб даже в случае легкого ранения. Необходимые смертоносные компоненты доставили из Вильно. Помогли в этом братья Пилсудские, особенно Бронислав, который, обучаясь в Петербурге, участвовал в конспиративной жизни города. Но ни он, несмотря на принадлежность к организации, ни тем более Зюк, который только выполнял просьбы брата, понятия не имели о подготовке покушения. Информированность Бронислава о заговоре была более широкой, а Зюка, видимо, ограничивалась тем убеждением, что он участвует в каких-то неопределенных действиях, квалифицируемых правом как подрывная деятельность. Однако это его не очень беспокоило, а революционная этика того времени требовала оказывать мелкую помощь в проведении антиправительственных акций.
Подготовка к покушению была закончена. Однако заговорщикам не везло. 10 марта 1887 года они несколько часов подстерегали царя, но он не покидал дворца. Подобная неудача постигла их спустя два дня. Неудача преследовала их и еще через день, когда, казалось, успех был так близок: 13 марта Александр III направлялся на траурную панихиду в годовщину смерти отца, который ровно шесть лет назад погиб от бомбы заговорщика Игнацы Гриневицкого — поляка, члена «Народной воли». Однако случай распорядился так, что служба плохо поняла поручение и уже готовый в дорогу царь вынужден был полчаса ждать карету. На головы виновных посыпались громы. Никто не знал, что эта задержка спасает монарха от участи своего отца.
В то же время полиция арестовала заговорщиков. Это произошло случайно. Она следила за одним из конспираторов по совершенно иному поводу и решилась на профилактическое задержание его вместе с группой лиц в таком людном месте, как трасса, по которой проезжает кортеж монарха. Когда выяснилось, какая большая добыча сама попалась в руки, власти приступили к энергичному следствию. Оно охватывало все более широкие круги, в частности, из-за того, что несколько арестованных не выдержали допросов и выдали всю информацию, которой располагали.
Одна из с трудом распутываемых полицией нитей привела к братьям Пилсудским. И хотя не было доказательств участия в подготовке покушения, их на всякий случай сурово наказали.
Бронислав, разделяя судьбу всех обвиненных в покушении, был присужден к смертной казни, которую царь «милостиво» заменил на 15 лет сибирской каторги. Ибо в конце концов власти решили, что повешение пяти лиц (в том числе одного из главных организаторов покушения — Александра Ульянова, брата Владимира Ульянова-Ленина) и так отпугнет других от мыслей о покушении.
Зюка вообще не поставили перед судом. В принципе полиция не имела убедительных доказательств его вины, однако считала, что даже самая малая причастность к «государственному преступлению» не должна пройти безнаказанно. В результате ничего не знающего о покушении юнца еще до процесса, в административном порядке, наказали пятилетней ссылкой в Восточную Сибирь.
Он тяжело пережил это. На него обрушился совершенно неожиданный удар. Переполнявшие его настроения, горечь и надломленность отчетливо проявились в стихотворении, которое он написал как раз накануне отъезда в Сибирь:
Разбита жизнь моя по воле рока. И мой пример, излом в моей судьбе Пусть будут поучительным уроком, Как следует готовиться к борьбе. Не рвитесь безрассудно в гущу дела, А много думайте, работайте сполна,— И лишь тогда настойчиво и смело Штурмуйте цель, что жизнью вам дана [18].Стихотворение заканчивалось личным впечатлением:
Скажите, что было ему очень больно, За мгновенье ошибки заплатил он невольно, И напрасно погиб, хотя цель и имел. Надо его простить, ведь любить он умел.Биографы ставят под сомнение подлинность этого произведения. Оно не вошло и в «Избранные записки», включающие все писательские труды Пилсудского. В конце концов этому трудно удивляться. Стихотворение не соответствовало, а в целом даже входило в коллизию с создаваемой позднее легендой, в которой ссылка была представлена как следствие давно осуществленного политического выбора — настойчивой борьбы с Россией.
Подобным способом был развенчан миф о пребывании Пилсудского в Сибири, представлявшийся его сторонниками как период твердой школы жизни, закалки и самопожертвования, одиночества и мужества, наблюдательности и раздумий. Молодой ссыльный изображался как друг и товарищ из разряда самых достойных польских мучеников. С одной стороны, борцов за дело народа — повстанцев января, главным образом Бронислава Шварца[19], члена Центрального Комитета периода, предшествовавшего взрыву борьбы. С другой же стороны, его рисовали в окружении поборников общественного дела — пролетариев, заключенных в Сибири после разгрома первой польской рабочей партии.
По мнению биографов, Пилсудский после пяти лет ссылки возвратился в страну как зрелый муж, осознающий величие национальных и общественных целей, к реализации которых с этих пор он будет стремиться без устали, используя самые лучшие методы и средства.
И в этом случае действительность была далека от легенды. Без сомнения, во время пребывания в Сибири Зюк повзрослел, столкнулся с настоящими революционерами, которые относились к нему как к товарищу, превратился из мальчика в мужчину. В его возрасте пять лет в любых условиях должны были составлять важный отрезок жизни. Но от так понимаемого становления личности было далеко до идеализированного образа мужа без пороков, безошибочно понимающего суть польской политической загадки благодаря необычному интеллекту и силе духа.
Впрочем, сохранился чрезвычайно интересный источник, который не вызывает в этом вопросе никаких сомнений. Это письмо Зюка к Леонарде Левандовской, первой его любви. Он познакомился с ней в ссылке. Знакомство не было продолжительным, поскольку срок наказания избранницы закончился раньше. Затем более чем полтора года они переписывались, открывая самые сокровенные уголки своих душ.
Картина, возникающая из тех интимных текстов, даже в ничтожной степени не подходит к образу Пилсудского, рисуемого перьями биографов.
Как это подчеркивается в процитированном выше прощальном стихотворении, Зюк решительно держался на дистанции от каких бы то ни было революционных порывов. «Сейчас, — отмечал он в письме от 20 августа 1890 года, — я займусь подсчетом недель, которые остались до конца моего срока. Представь себе целых 85 недель. Впрочем, я пришел к убеждению, что мне наверняка добавят еще каких-то два года. Во-первых, за дело в марте (Пилсудский пользуется старым стилем для определения даты покушения на царя. — Авт.), а именно за это меня сослали, хотя же, ей-богу, я мог бы дать им слово чести, что больше в подобные 1 марта дела не буду вмешиваться (курсив наш. — Авт.). Однажды я обжегся и то без особенного желания, поэтому после такой науки тем более буду осторожным. Во-вторых же, глупое иркутское дело (Пилсудский по пути и ссылку участвовал в бунте заключенных в Иркутске, за что был приговорен к нескольким месяцам заключения. — Авт.) мне также может помешать. Вот как приходится расплачиваться за грехи молодости и отсутствие опыта…»
Из писем видно, что в то время он жил от утра до вечера, не посвящая особо много времени расширению интеллектуального горизонта. Впрочем, и сам признавался в этом. Писал Леонарде 10 марта 1891 года: «В самые лучшие минуты я чувствую, что надо мной как бы что-то повисло, возбуждая во мне неудовлетворение собой, окружением, моим образом жизни. Сейчас я в этом хорошо разобрался. Дело в том, Милая, что меня воспитали так, что мне внушили веру в мои способности и, что из этого вытекает — в необычное мое предназначение. Эта вера глубоко въелась в меня, но в то же время я не был воспитан в духе настойчивости, без которой, разумеется, много намерений может остаться только намерениями. Применительно же к здешней жизни эти две стороны моего характера проявляются в следующем. Я чувствую, что мне надо много-много работать; ощущая в себе способности, я упрекаю себя, что их расточаю, а настойчивости в выполнении своих намерений не имею, отсюда остается глухое неудовлетворение собой, угрызения совести не отпускают меня ни на минуту…»
Эти откровения были близки содержанию записок Бронислава, обращавшего внимание на надменность брата и одновременно на его нежелание систематически работать. Они имели мало общего с восторженностью биографов, говорящих о напряженной работе по самосовершенствованию.
В свете переписки лопаются также и более конкретные мифы, хотя бы о великой дружбе, объединявшей Зюка со Шварцем. «Шварц, — писал Пилсудский в единственной на эту тему заметке от 20 августа 1890 года, — малый симпатичный, разумеется, немного староват, чтобы быть мне приятелем, но с ним чрезвычайно приятно говорить, так как он очень много читал и видел. Некоторые его бзики только добавляют радости в беседе с ним».
Следовательно, Пилсудский проводил годы ссылки не так, чтобы это напоминало поведение революционера, готовящегося к дальнейшей борьбе с ненавистным злом. В то время он и не думал о начале каких-либо заговорщических действий.
Не знал даже, что делать по истечении срока. Беспомощно признавался в этом в письме от 5 ноября 1890 года: «Думая о том времени, когда я возвращусь домой, часто не могу себе представить, как я устроюсь. Было бы, понятно, очень хорошо, если бы не потребовалось лично бороться за быт, добывать кусок хлеба. Такую жизнь могло бы дать имение, если бы оно сохранилось в целости до моего возвращения, а это еще неизвестно. В противном случае я абсолютно не знаю, за что возьмусь, не могу себе представить ни одного занятия, в котором чувствовал бы себя как дома. Ведь не давать же уроки, слишком паскуден этот труд, а только это, кажется, я умел бы делать без всякой подготовки. Понятно, можно мечтать, как я мечтаю, о литературном труде, но и для этого надо многому подучиться. В целом, повторяю, в стране я практически не могу представить себя, и это меня немного пугает. Разумеется, я верю в свои силы и способности, но, с другой стороны, кто же в это не верил, а несмотря на все, как часто мы встречаем так называемых неудачников. Вот будет анекдот, когда в итоге, не найдя для себя подходящей работы и убедившись в том, что в стране я совершенно не нужен, приду к убеждению, что я чувствую себя на месте только в Сибири, в роли преступника; по крайней мере, это совершенно четкое и ясное положение. Но что об этом говорить, ведь возвращение в страну еще так далеко, это будущая жизнь…»
Действительно, до конца срока наказания ему оставалось еще более полутора лет. Он провел это время, как и предыдущие годы, от случая к случаю подрабатывая, занимаясь охотой, беседами, чтением.
После отъезда Леонарды в его жизни появились новые женщины. В письме от 24 июня 1891 года он писал: «Леося! Я не писал тебе так долго потому, что не имел силы и сердца сообщить тебе, что наши отношения такими, как были, далее оставаться не могут. Леося! Забудь обо мне, я недостоин тебя и, если можешь, прости меня. Я хотел бы… да нет, на все, о чем хотел бы тебе сообщить, не хватит бумаги, итак, все равно, милая, дорогая, будь счастлива. До свидания, может, навсегда. Зюк».
Эту таинственную формулировку прояснило признание от 16 сентября 1891 года: «Я, любя тебя, отдал себя другому человеку…» А значит, измена, а позднее — угрызения совести. Последние были сняты письменным прощением Леонарды, но юношеская любовь явно не выдерживала испытания расставанием. Никогда также не была выполнена взаимная договоренность о женитьбе по возвращении в страну. Неизвестно, кто первый отказался от данного в Сибири слова. Но факт самоубийства Леонарды несколько лет спустя может быть красноречивым ответом на этот вопрос.
2. Товарищ Виктор
Ссылка закончилась в апреле 1892 года. В конце июня Пилсудский возвратился в родной Вильно. Как и предполагал Зюк, он не знал, чем заниматься дальше. Финансовое состояние семьи катастрофически осложнилось. Зулув решили продать. Нужно было искать занятие, гарантирующее самостоятельность. Это было нелегким делом, так как молодой человек, собственно, ничего не умел. Со средним образованием он мог в лучшем случае стать чиновником или давать частные уроки, что ни в коей степени его не удовлетворяло.
Пока же он оставался на содержании семьи. Обложился книгами, заявляя, что попробует собственными силами, без университетской подготовки, сдать экзамен по юридическим наукам. Такие случаи были, но с пренебрежением относящийся к учебе Зюк больше хотел создать видимость деятельности и успокоить совесть, чем обстоятельно штудировать академические учебники. И хотя амбициозный план остался исключительно в сфере мечтаний, уже сама мысль об этом заслуживает быть отмеченной. Приоткрывались характерные черты личности, прежде всего склонность к постановке максималистских целей, которые другие были способны относить лишь к сфере фантазии. Тем временем жизнь облекала в реальные формы, казалось бы, наиболее нереальные мечты. Так должно было случиться в будущем с главным жизненным устремлением Пилсудского — с идеей национально-освободительной борьбы. Хотя здесь нельзя не добавить, что и юридические амбиции Зюка в определенном смысле дождались реализации, когда тридцать лет спустя Ягеллонский университет присвоил ему звание почетного доктора именно в этой области.
Такого поистине сказочного финала не ожидал и сам Пилсудский, когда летом 1892 года, обложившись юридической литературой, видел свое будущее скорее в черном цвете. В новых условиях он достаточно быстро забыл и о сибирских обещаниях отмежеваться от всего нелегального. Несмотря на надзор полиции, которым окружили его как недавнего ссыльного, начал заниматься конспиративной деятельностью. Ломка старых обещаний прошла тем легче, что новые контакты имели мало общего с антиправительственным заговором, решительным — на каждом шагу — противостоянием властям. Скорее всего они напоминали дружеские встречи, с той разницей, что вместо характерных для этой среды сплетен и сенсаций здесь обсуждались социалистические книги и брошюры. Со временем начали размышлять о практической деятельности, хотя первые шаги, как это обычно бывает, делались неумело, так, что это ничем не напоминало революционной решимости, закалки и самопожертвования, которыми была заворожена более поздняя благосклонная историография.
Вероятно, именно тогда Пилсудский познакомился с известной своей красотой Марией Юшкевич (урожденной Коплевской)[20] — «прекрасной пани», как ее называли окружающие. Эта женщина была неординарной во всех отношениях, выделяясь не только внешностью, но и интеллигентностью. Очаровывала также бескомпромиссностью в поведении, кстати, она арестовывалась за конспиративную деятельность. Впрочем, эта деятельность и явилась причиной ее появления в Вильно. Ибо она оказалась здесь не по собственному желанию, а в результате депортации.
К моменту поселения в Вильно у нее уже был приличный стаж конспиративной деятельности. В ее биографии было зафиксировано и первое неудачное замужество. Однако недостатка в поклонниках не испытывала. Оказался среди них и Пилсудский. Его наиболее серьезным соперником, добивавшимся взаимности от прекрасной Марии, оказался Роман Дмовский, будущий руководитель национальной демократии[21].
Эта борьба за сердце женщины обросла своей легендой. Апологеты Пилсудского придерживались мнения, что Мария не отвечала взаимностью на чувства Дмовского. Поэтому, отвергнутый, он не мог простить, что она решилась на брак с соперником. Это обстоятельство должно было привести к сохранявшейся до конца жизни враждебности, разделявшей обоих деятелей.
Противники же Пилсудского, хотя и не подвергали сомнению факт, что именно он оказался окончательным победителем в этом соперничестве, подчеркивали, однако, сильные чувства Марии к Дмовскому. Этот роман и ревность к прошлому избранницы, по их мнению, должны были определить неприязненное отношение Пилсудского к Дмовскому.
Наверное, мы уже никогда не узнаем, какая из этих версий была ближе к истине. Но даже если они обе придуманы, то это убедительно показывает, каких интимных тем касалась легенда с целью возвышения своего героя и принижения его оппонента.
Виленская конспирация, с которой связался Пилсудский, была одним из узеньких ручейков социалистической агитации, очень несмело пробивавшихся в польской действительности. Рабочее движение, переживавшее дни успеха и героизма более десяти лет назад, в период активности «Великого Пролетариата»[22], сейчас приутихло из-за понесенных неудач. Однако его возрождение было делом времени. Из года в год на польской земле развивалась промышленность. Росли ряды занятых в ней рабочих. Усилилось недовольство несправедливостью и эксплуатацией. В сознании сохранились недавние события в Лодзи, когда в 1892 году под воздействием первомайской агитации город охватила забастовка, в которой приняло участие около 60 тысяч рабочих, — масса, которую по тем временам трудно представить[23].
Наряду со стихийным рабочим протестом появились новые инициативы организационного порядка. В ноябре 1892 года дошло до объединения этих усилий. В эмиграции, в Париже, был создан Заграничный союз польских социалистов[24], ставящий своей целью создание в стране единой, сильной социалистической партии.
Именно с такой миссией в январе 1893 года в Варшаву был направлен один из столпов польского социализма того времени — Станислав Мендельсон[25]. Ему удалось добиться цели — объединить местные рабочие организации и создать Польскую социалистическую партию[26].
В ходе этой работы Мендельсон установил контакт с группой виленских конспираторов, в том числе с Пилсудским. Беседы были непродолжительными, но в итоге неоформленная до тех пор конспиративная организации преобразовалась в Литовскую секцию ППС. Впрочем, это не повлекло за собой ни заметного оживления деятельности, ни количественного роста группы.
Для Пилсудского это событие имело огромное значение. В конце концов он обретал цель своей запутанной ссылкой жизни. Правда, открывавшийся путь означал переход к противозаконным действиям, которые он так решительно осуждал в письмах к Леонарде, однако с теx пор многое изменилось. Более ясным взглядом оценивая отношения в стране, он пришел к выводу, что все шаги, выходящие за рамки ненавидимого народом соглашения, находятся в коллизии с законами, установленными захватчиком. Этот риск брали на себя многие поляки, и, озаренный в кругу знакомых ореолом сибирской ссылки, Зюк даже и не мыслил, чтобы он мог выглядеть хуже, чем они.
Может быть, он также хотел понравиться прекрасной Марии? Неизвестно. Но нельзя исключать и такую мотивировку, памятуя, на какие большие самопожертвования Зюк был способен уже в детстве, только бы достичь возлелеянного в мечтах первенства.
Даже если исключить эти сугубо личные мотивы, то и так с ППС его связывало многое. Прежде всего идейные взгляды. В своей программе партия объединяла национальные и социальные лозунги. Боролась за независимую Польшу, одновременно обещая ликвидировать социальное угнетение в воссоединенной родине. Эти принципы соответствовали убеждениям молодого конспиратора. Они представляли венец семейной традиции борьбы за независимость и в то же время апеллировали к привитому в период сибирской ссылки общественному радикализму с его главным принципом, признающим пролетариат в качестве движущей силы истории.
Не последнее значение имело также то, что в создающейся партии можно было быстро сделать карьеру. Следовательно, Пилсудский не должен был настойчиво карабкаться по ступенькам организационной иерархии. Сразу мог достичь самых высоких постов, руководить, правда, еще немногочисленными группами, поскольку движение только делало первые шаги. Но перспективы представлялись слишком заманчивыми. Зюк же никогда не жаловался на отсутствие амбиций.
Продвижение было, однако, вопросом будущего, хотя, как показало время, в целом не такого уж далекого. Но и сегодняшний день подбрасывал дела, которые еще недавно, в грустных сибирских раздумьях, казались совершенно неосуществимыми. Начал исполняться сон о литературной карьере.
Мендельсон предложил новоиспеченному товарищу стать корреспондентом «Пшедсвита» — печатного органа ППС, издававшегося в Лондоне. Пилсудский взялся за дело с задором, характерным для большинства начинающих. Первую корреспонденцию, датированную 1 февраля 1893 года, Вильно, он посвятил отставке местного генерал- губернатора. С тех пор почти в каждом номере можно было найти его публикации, подписанные псевдонимом Ром. Неизвестно, что должно было обозначать это сокращение, однако нельзя исключать гипотезы, объясняющей его происхождение от слова «романтик», что великолепно характеризовало тогдашние настроения молодого публициста и деятеля, более связанные с повстанческой идеей, любимой прорицателями, чем со стремлением к социальному освобождению народа.
Уже первые тексты, помещенные в «Пшедсвите», показывали, как быстро созрел интеллектуально их автор. Стиль и внутренняя конструкция статей были свободны от ошибок, часто встречавшихся в тех, уже отдаленных во времени письмах к Леонарде. Хотя на первой стадии журналистского творчества можно было найти и очевидные слабости. Одна из них — приоритет личных дел. Например, Пилсудский писал о смерти директора гимназии, которого несколько лет назад частенько посещал. Он не скрывал злорадного удовлетворения, написав, что это событие «было принято с настоящей радостью, люди поздравляли друг друга в связи со смертью этого пана» Предпринял также достаточно наивную попытку прийти на помощь Брониславу. В письме в редакцию, в котором он представлялся как хороший приятель Бронислава, Зюк пространно объяснял, что тот, в сущности, имел мало общего с покушением на царя. Выполнял только просьбы своих коллег, а в итоге «был подлейше предан и выдан полиции теми, которым помогал». Такое суровое наказание ему вынесено незаслуженно.
Пилсудский совершенствовал свои писательские способности. За этим стоял солидный труд, тем более изнурительный, что ему сопутствовало все большее втягивание в другие сферы партийной деятельности.
Молодой конспиратор быстро выдвинулся. Уже на втором съезде партии, в феврале 1894 года, вошел в состав высшего партийного органа — Центрального рабочего комитета, состоявшего из четырех членов. Вскоре стал в нем личностью номер один. Отчасти способствовал этому случай. Очередные волны арестов поглощали коллег, а Пилсудскому вплоть до 1900 года сопутствовало счастье. В этой ситуации, несмотря на то что в партии были люди с бóльшим революционным стажем, лучше постигшие идеалы социализма, он вырастал в неформального руководителя движения, хотя в нем и был принят принцип коллегиального руководства.
Итак, в течение лишь десяти с небольшим месяцев он из никому не известного раньше бывшего ссыльного стал одним из столпов польского социалистического движения. И именно с этой минуты вплоть до сегодняшнего дня ведется спор о сущности его связи с социализмом. Некоторые из авторов посвященных ему публикаций так сильно впадают в полемическую запальчивость, что вообще не признают его социалистом. Этот суд — арбитражный, коль скоро сам Пилсудский в течение около двадцати лет считал себя социалистом, посвящая партии все, рискуя ради нее утратой свободы, а позднее и жизнью. Другое дело, что более всего привлекало его в социализме. Кажется. он видел в нем прежде всего силу, дестабилизирующую прежний строй, а тем самым создающую шансы для лишенной независимости Польши. В уже процитированной статье «Как я стал социалистом» он писал: «Социалист в Польше должен стремиться к независимости страны, а независимость — знаменательное условие победы социализма в Польше».
Так рисуемая иерархия целей не оставляла никаких сомнений. В качестве первоочередной задачи ставилась национально-освободительная борьба. Общественные преобразования должны были произойти позднее, в уже независимой Польше. Впрочем, им Пилсудский не уделял особо много внимания. Отчасти потому, что это было делом будущего. Но не только. В сущности, с рабочим классом его связывали не программа восстановления социальных прав или желание изменить общественный строй, а надежда, что растущую силу пролетариата удастся использовать в борьбе за независимость. Не в вооруженном столкновении предвиденной Марксом социальной революции, а в очередном польском национальном восстании. Не случайно Пилсудскому всегда были ближе солдаты январского восстания, проливавшие кровь в борьбе за польскую государственность, чем борцы «Великого Пролетариата», отдавшие жизни в борьбе против классовой эксплуатации.
Однако вывод, приписывающий ему трактовку роли пролетариата как инструмента в этой борьбе, был бы несправедливым. К таким оценкам склоняют его более поздние действия, предпринимавшиеся в уже независимой Польше. Все же нельзя забывать, что взгляды каждого политика подвергаются эволюции, приспосабливаются к новым возможностям и перспективам. Так происходило и с Пилсудским. Нет никаких оснований считать тактическим приемом его высказывания в период, когда он возглавлял ППС, связывающие восстановление, а затем укрепление независимости с необходимостью устранения главных социальных несправедливостей. Ибо тогда Пилсудский не представлял себе, что эти задачи вообще можно было разделить. Революционный настрой в не меньшей степени, чем патриотизм, должен был быть движущей силой национальной армии, борющейся с царизмом. Энтузиазм масс, вскармливаемый надеждой добиться удовлетворения социальных требований, явился одной из гарантий стабилизации и силы будущей, уже суверенной Речи Посполитой.
Реализация этих пророчеств виделась, однако, в достаточно отдаленной перспективе. Пока же месяцы и годы уходили на кропотливую и изнурительную организаторскую работу, которой товарищ Виктор отдал себя без остатка.
Цели, которых он и возглавляемая им партия намеревались достичь, казались выше человеческих возможностей. Неволю Польши охраняли три государства, осуществившие ее раздел[27]. Действуя согласованно, они представляли мощь, которой в тогдашней Европе, а тем самым и в мире никто не был в состоянии противостоять. Мечты победить наследников «Священного Союза» исключительно польскими силами припоминали пословицу о хождении «с мотыгой на солнце».
Можно было, ясное дело, и так думал Пилсудский, рассчитывать на войну и революцию, подрывающие устойчивость тронов, на которых восседали захватчики. Первый из этих катаклизмов становился все более правдоподобным вместе с усилением антагонистических военных блоков в Европе: немецко-австрийско-итальянского, с одной стороны, и русско-французского — с другой. Однако сгущавшиеся военные тучи могли развеяться, хотя социалистический анализ капиталистической системы исключал шансы на долговременный международный мир.
Как каждый польский социалист, Пилсудский в это время рассчитывал прежде всего не на войну, а на революцию. Ее же трудно было представить без соответствующей подготовки пролетариата. Правда, вместе с развитием промышленности росли ряды рабочего класса, но тот все еще напоминал дремлющую стихию, лишь спорадически, как это было хотя бы в мае 1892 года в Лодзи, взрывающуюся вспышками трудно сдерживаемого протеста.
Массам, находящимся в культурной отсталости и живущим в убожестве, следовало указать социалистическую идею, предусматривающую новые методы и цели борьбы. Эта задача была не из легких, особенно для выходцев из другой, непролетарской среды. Потому что в рабочих районах их принимали с недоверием и подозрительностью, не веря в искренность намерений, выискивая подвохи. Барьеры, годами воздвигавшиеся обеими сторонами, надлежало преодолеть с большой терпеливостью и настойчивостью.
В этой ситуации не менее эффективно, чем агитаторы, сторонников завоевывало печатное слово, в будущем легендарная «бибула»[28]. «Ее шествие, — писал Пилсудский, — не оставляет после себя таких следов, как шествие человека. Она действует тихо, без шума, может быть уничтоженной в каждую минуту, может быть только немым свидетелем при допросах, наконец, не возбуждает столько подозрений и не вызывает такого наказания и премирований, как человек. <…> Когда чтение бибулы становится уже потребностью многих людей, то тот, кто удовлетворяет эту потребность, укрепляет свое влияние в их среде; к этому добавим, что партийная бибула для многих людей, стоящих в стороне от организации, является единственным доказательством существования партии, и мы поймем, какое значение имеет бибула для революционных организаций при царизме. Если их можно сравнить с организмом, то бибула — это кровь, которая сохраняет ему жизнь».
Поэтому в первые годы существования ППС Пилсудский посвятил больше всего энергии редактированию и изданию печатного органа партии газеты «Роботник». Немало хлопот доставил уже сам сбор необходимых печатных аксессуаров. Правда, они были доступны для приобретения во многих магазинах на территории страны, но их распространение тщательно контролировалось полицией, которая искала таким образом нити, ведущие к возможным конспираторам. Поэтому руководство ППС решилось закупить печатный станок за границей. Это не представляло никаких проблем. Они появились только в ту минуту, когда ценный груз переправлялся в страну. Благодаря контактам с заграницей и известному везению удалось избежать ловушек, расставленных таможенниками и полицией. Опасность деконспирации была несколько отдалена, хотя совершенно быть устраненной, ясное дело, не могла. Она угрожала, собственно, на каждом шагу: при покупке бумаги, краски, в ходе транспортировки редакционных материалов, во время вывоза уже отпечатанных номеров. Не меньше, чем полиции, следовало остерегаться обычного человеческого интереса и любопытства, которые всегда могли обернуться трагическим по результатам доносом.
Трагедию мог вызвать также случай, которого даже самый совершенный конспиратор не был в состоянии предусмотреть и исключить. Еще немного — и убедился бы в этом сам Пилсудский, и то сразу же после начала печатания «Роботника»
Для типографии было выбрано идеальное место. Небольшое литовское местечко Липнишки практически не представляло интереса для полиции, внимательно контролирующей крупные рабочие центры. Для того чтобы избежать естественного в столь малонаселенном пункте интереса, один из посвященных в тайну, начинающий фармацевт, открыл в Липнишках аптеку, что делало объяснимым получение им всяких посылок и неожиданных визитов к нему.
Казалось, что типография здесь будет в безопасности на многие годы. Случай распорядился так, что наборщик завел роман с одной из местных девчат, перед которой, движимый мужским тщеславием, раскрыл суть своей миссии. Избранница же, когда оказалось, что обещаемое ей замужество скорее всего не осуществится, начала угрожать раскрытием тайны. Легко представить себе, как бы выглядел финал этой аферы! Наверняка провал не миновал бы и Пилсудского, который как действительный редактор «Роботника» был частым гостем в Липнишках. Однако фатальное развитие событий удалось предотвратить. В конце 1894 года типографию потребовалось перевести в другое место.
После полугодовых безрезультатных поисков было решено законспирировать ее в Вильно, где продолжал проживать Пилсудский. Правда, в течение двух лет его выслеживала полиция, но, изменив внешний облик, фамилию и адрес, он особенно тем не беспокоился. Он любил этот город и не хотел его покидать, тем более что в нем жила Мария Юшкевич.
В Вильно типография действовала четыре года, выпусти в свет двадцать шесть номеров газеты. Издательский груд Пилсудский разделял с другим ведущим деятелем ППC того времени — Станиславом Войцеховским[29], будущим президентом Речи Посполитой, с которым он дружил в течение последующих тридцати лет, вплоть до драматической беседы, состоявшейся на мосту Понятовского в трагические дни майского переворота. Во время эмиграции Войцеховский освоил секреты искусства наборщика, и его задача состояла в составлении текстов. Пилсудский же обязан был доставлять статьи и материалы, впрочем, и значительной части выходившие из-под его пера, а также помогать в тиражировании уже набранного номера.
Больше всего беспокойства помимо скрупулезного соблюдения принципов конспирации — адрес типографии знали только Войцеховский, Пилсудский и Михал Сулькевич[30] — доставляла постоянная борьба с финансовыми трудностями. «В этом дошло до того, — отмечал Пилсудский в письме от 22 ноября 1895 года в Заграничный союз польских социалистов, — что с Адасем (псевдоним Войцеховского. — Авт.) мы уже несколько раз серьезно задумывались над возможностью закрыть «лавку» {типографию} и пойти в мир «на поиски хлеба».
Тогда Пилсудский уже превратился в профессионального революционера, то есть жил на субсидированные партией деньги. Огромная активность не позволяла ему выполнять какую-либо дополнительную работу ради заработка. На это ему не хватало времени. Кроме редактирования и печатания «Роботнка» много энергии отдавал он установлению новых организационных контактов, благодаря которым партия доходила до самых различных слоев общества, погрязших до этого времени в застое. Немало сил стоило ему также добывание финансовых средств, предназначенных на партийные цели. Касса постоянно светила дырами.
«Жизнь протекала не только в тяжелом труде, — писал один из слишком благосклонных к нему биографов, — а также в постоянной опасности нового ареста и ссылки в Сибирь. <…> Это требовало особых мер и особой игры с жандармерией: кто кого обманет, какой подход найдет? Нужно было бросать «отличные приманки» нередко с угрозой для собственного существования. В связи с частыми выездами с постоянного места ночи почти всегда проводились в условиях, не соответствовавших самым примитивным требованиям; о том, чтобы остановиться в гостинице, не могло быть и речи; следовательно, укрытия можно было искать только в квартирах членов организации, чаще всего в убогих рабочих комнатах. Однако нередко не было и таких убогих, надежных, поэтому и безопасных квартир, тогда ночь проводилась в поезде. <…> Но такие трудности не пугали. Отрекались, как правильно подчеркнул когда-то Стефан Жеромский, «от дома, постели, покоя, собственного имени…».
Без сомнения, на службе ППС встретился Пилсудский со многими проблемами. Все же рисуемая биографами картина самопожертвования в не меньшей степени грешила односторонностью. Как бы наперекор процитированному утверждению Жеромского, именно в период наибольшего нагромождения партийных дел редактор «Роботника» нашел время для женитьбы на Марии Юшкевич.
Свадьба состоялась 15 июля 1899 года в Папроте Дужей в Ломжинской губернии. Поскольку Мария была разведенной, что делало невозможным регистрацию брака в костеле, оба решили принять протестантскую веру. Перемене вероисповедания они не придавали особого значения. Ведь они вращались в среде, в которой религиозная индифферентность или просто атеистическая позиция были обычным явлением. Однако это не меняет факта, что в течение последующих семнадцати лет Пилсудский формально был протестантом. Возвратился он в лоно католической церкви только в феврале 1916 года, уже во время борьбы легионов. Наверное, это решение было вызвано не только желанием примириться с римским костелом, но и убеждением, что булаву, о которой он все больше мечтал, в Польше легче будет добыть и сохранить не протестанту, а католику.
Этот, в сущности, маловажный в биографии эпизод стал со временем причиной большого замешательства. Ибо когда Пилсудский занял наивысшие в республике посты, его сторонники опустили занавес молчания над фактом отказа его от католической религии. Они прекрасно понимали, что в верном костелу обществе вероотступничество не может прибавить популярности. Поскольку этот факт был известен лишь небольшому кругу людей, его довольно долго удавалось сохранять в тайне. Но все больше исследователей брались за написание биографии Пилсудского, и в конце концов одни из них — Владислав Побуг-Малиновский[31] докопался до правды. Более того, руководствуясь весьма распространенным у поклонников Пилсудского принципом, что ни один из поступков героя не может позорить его, предал в 1934 году этот секрет гласности. Побуг-Малиновский вызвал сенсацию, а на свою голову навлек громы осуждения со стороны политиков, придерживающихся совершенно иных, чем историк, принципов.
Решение создать семью было нелегким. В любую минуту его могли выследить и арестовать. Впрочем, Пилсудские ничего не предпринимали, чтобы отдалить опасность. Правда, они покинули Вильно, где их в любой момент могли опознать, и перебрались в Лодзь, но вместе с типографией, которая рано или поздно должна была навлечь на них несчастье. Ибо бесконечно испытывать судьбу нельзя.
Катастрофа наступила неожиданно и совершенно случайно. 19 февраля 1900 года на Лозинском вокзале полиция арестовала одного из деятелей партии. Видимо, он уже раньше вызвал подозрение у тайных агентов. Подозрение подтвердила закупка большого количества бумаги и доставка ее в квартиру, которую под вымышленной фамилией Домбровских занимали Пилсудские. На всякий случай полиция устроила обыск по указанному шпиками адресу. Его результаты превзошли самые смелые ожидания. Нашли типографию, которую безуспешно искали не один год на обширных, насчитывающих сотни тысяч квадратных километров западных рубежах империи.
Пилсудские были брошены в тюрьму. Только благодаря хладнокровию и сообразительности Марии, которая во время обыска послала прислугу с предупреждением к одному из товарищей, удалось избежать дальнейших арестов. Судьбе арестованных вряд ли можно было позавидовать, особенно редактора «Работника», в котором полиция быстро опознала разыскиваемого несколько лет руководителя ППС, приписав ему как подлинные, так и не совершенные им дела, за которые грозила ссылка до десяти лет.
Марию спустя одиннадцать месяцев выпустили из тюрьмы, сочтя ее «жертвой любви» и приняв за чистую монету ее объяснение, что только чувства не позволяли ей донести на мужа, с деятельностью которого она, в сущности, не имела ничего общего.
Пилсудский же не мог обольщать себя надеждой в отношении суровости ожидающего его приговора. Поэтому он решил любой ценой бежать из тюрьмы. Выбраться из X Павильона варшавской Цитадели, куда его перевезли из Лодзи, было нелегкой задачей. Посоветовавшись с друзьями, он решил симулировать болезнь, причем такую, которую можно лечить только в больнице, что увеличивало шансы успешного побега. Пилсудский начал изображать сумасшедшего: вел себя в соответствии с рекомендациями видного психиатра доктора Рефала Радзивилловича, брата Октавии Жеромской. Главными симптомами болезни были идиосинкразия (отвращение) к жандармскому мундиру и неприятие ничего из рук тюремного персонала, что свелось к голодовке. Обеспокоенные ухудшающимся состоянием здоровья заключенного, власти дали согласие, чтобы его обследовал директор варшавской больницы для душевнобольных Иван Шабашников. Этот видный специалист понял, что имеет дело с симуляцией, но, восхищаясь решимостью, с которой заключенный боролся за свое дело, дал официальное заключение с рекомендацией пройти специальный курс лечения в больнице.
В декабре 1900 года тюремные власти сочли, что нет иного выхода, и отправили больного в больницу для умалишенных в Петербурге.
Это было гражданское, а не тюремное учреждение, но из-за особого характера его пациентов довольно бдительно охраняемое. Палаты закрывались на ключ, а сторож у ворот следил, чтобы больные не покидали здания больницы, учитывая опасность, которую они представляли для окружающих. Боровшийся за свободу политический заключенный должен был преодолеть все эти преграды. Пилсудскому помог решить эту отнюдь не простую задачу врач, состоящий в ППС. Во время одного из его ночных дежурств оба, никем не замеченные, ушли через черный ход и беспрепятственно добрались до конспиративной квартиры, где их ждали.
Целый месяц пробирался Пилсудский по России и в июне 1901 года вместе с Марией, которая присоединилась к нему, добрался до Замостья (Замосць). Там его ждал надежный человек, инспектор лесов родового имения Замойских, который без каких-либо неожиданностей по лесному бездорожью провел их нелегально через границу в Галицию. Здесь они могли чувствовать себя относительно безопасно. А спокойствие Пилсудскому было крайне необходимо. Его здоровье и нервы находились в критическом состоянии. Симуляция помешательства окончательно подорвала его силы, не говоря уже о том, что ему пришлось провести пять месяцев в общих палатах петербургской больницы вместе с настоящими сумасшедшими, что во всяком случае не доставляло приятных впечатлений. Окруженный доброжелательными друзьями, он постепенно обретал силы, хотя иногда непроизвольно вел себя так, как будто бы чувствовал на себе чужие подозрительные взгляды. «Зюк, — записал один из знакомых, — не раз после продолжительной беседы выбивался из сил. Глаза проваливались, лицо вытягивалось, и вдруг поникший уходил, пошатываясь».
Осенью 1901 года здоровье Пилсудского поправилось настолько, что он принял решение вернуться к партийной работе. Однако он не был до конца убежден, какой ее участок взять. Больше всего он был нужен на территории, аннексированной царской Россией, но там ему как раз и грозила наибольшая опасность. Ведь его прекрасно знала полиция. Его преследовали разосланные по всей империи объявления о розыске после бегства из больницы. Понимая огромный риск, друзья уговаривали его поселиться в Лондоне и возглавить редакцию одного из эмигрантских социалистических журналов.
Туда и отправился в ноябре 1901 года Пилсудский в сопровождении жены. Однако он не собирался пробыть долго в эмиграции. Свой отъезд в Англию он рассматривал скорее как передышку перед новым погружением в нелегальную деятельность на родине. Определенную роль сыграли также соображения безопасности. Неизвестно было, не потребуют ли русские от австрийцев выдать беглеца и как в такой ситуации поведут себя компетентные органы придунайской монархии. На берегах же Темзы право на политическое убежище представляло собой крепость, несокрушимую даже для наиболее ловких петербургских дипломатов.
В Лондоне Пилсудский погрузился в водоворот партийных дел. Быстро сориентировался, что во время его заключения ситуация в ППС заметно ухудшилась. В результате пробуждения политической активности интеллигенции и рабочего класса партия потеряла фактическую монополию на конспиративную деятельность, которую имела раньше. Да и в ее лоне произошли неблагоприятные, с точки зрения бывшего редактора «Роботника», перемены. Все большее влияние начали приобретать деятели, отдававшие предпочтение социальным, а не национальным целям. Частично это явилось результатом арестов, которым подверглись еще несколько лиц из старого руководства. Но не только. Начался процесс кристаллизации взглядов, который резко ускорила революция 1905 года, что должно было привести в конечном счете к расколу в партии.
В 1902 году эта опасность вырисовывалась еще не так отчетливо, но Пилсудский уже в то время не пренебрегал ею, решив бороться за предоставление ему всей полноты власти. Эту баталию можно было выиграть только на родине, куда он и выехал весной 1902 года. 10 апреля он покинул Лондон, 16-го был уже в Кракове, а 21-го с подложным паспортом пересек границу Королевства Польского.
Пилсудский возвращался в ореоле героя, озаренного славой дерзкого побега из рук полиции. Это облегчило ему его деятельность, но предрешить успех не могло. Он быстро понял, что «умиротворить» оппозицию могут только уступки. Уже тогда он был прежде всего прагматиком. Хорошо чувствуя ситуацию, он выдвинул тезис о необходимости эластичности в идеологических и политических делах. Много говорил и писал о толерантности, о необходимости не обострять конфликты и избегать напряженностей. Одновременно прилагал усилия, чтобы укрепить свою легенду. Не случайно именно в это время появились нашумевшая статья «Как я стал социалистом» и автобиографическая «Нелегальная литература» о непростой истории нелегальных партийных издательств.
В результате Пилсудский восстановил прежние позиции в партии, снова стал во главе ее. Отдавая себе отчет в угрожающем ее рядам глубоком расколе, он не навязывал категорически своей воли. Это давалось ему легко, поскольку идеологические вопросы никогда особенно не интересовали его. Как и до ареста, он посвятил себя ежедневным партийным занятиям: редактированию и изданию нелегальной литературы, добыванию материальных средств, установлению новых и восстановлению рвущихся контактов. «Остаюсь на родине подольше, — писал он спустя несколько месяцев Болеславу Антони Енджеевскому[32], — и выполняю различные функции такой «служанки на все руки» и для поддержания порядка, и для затыкания дыр и т. д.».
Монотонность партийных занятий, если вообще можно употребить такое выражение, чтобы передать ситуацию, в которой действовала нелегальная ППС, нарушило в феврале 1904 года начало русско-японской войны. Хотя неизвестно было, кто и когда одержит в ней победу, само вовлечение империи в военную авантюру открывало перед конспираторами из ППС новые возможности. Особенно перед Пилсудским, постоянно размышляющим о вооруженном выступлении против захватчиков и угнетателей Польши. По его инициативе состоялись тайные контакты между эмиссарами партии и японскими дипломатами в Лондоне, Вене и Париже. Императорские чиновники с недоверием, но интересом выслушали предложения революционеров о японо-польском взаимодействии. Соглашение не было достигнуто, но Пилсудского пригласили в Токио для продолжения переговоров. Он добрался туда через Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско в июле 1904 года. В привезенной им памятной записке и детальном проекте соглашения о сотрудничестве он предложил, чтобы хозяева финансировали антирусские повстанческие акции ППС, снабжали ее оружием, сформировали из военнопленных польского происхождения легион для борьбы на дальневосточном фронте. Взамен обещал мешать проведению мобилизации в Королевстве Польском, осуществлять разведку и саботаж и — при благоприятных условиях — поднять восстание вместе с другими угнетенными народами Российской империи.
Это были заманчивые предложения. Но японцы не верили в их реальность. Их укрепил в этой убежденности руководитель национальных демократов Роман Дмовский, который одновременно с эмиссаром ППС был приглашен в Токио. Он доказывал, что локальные выступления в Королевстве Польском, ибо о национальном восстании не может быть и речи, только нанесут вред как Польше, так и Японии, поскольку Россия, опасаясь волнений, держит на Висле большую армию. Она в море крови утопит любой бунт, а затем перебросит свои силы на Дальний Восток. Поэтому лучше не начинать рискованной игры.
Такие рассуждения нашли отклик у японцев, тем более что широкое втягивание в польские, и вообще в европейские, дела не входило в их намерения. Они хотели победить Россию на Тихом океане, но отнюдь не стремились поссориться с ней не на жизнь, а на смерть, до чего неизбежно дошло бы, если бы Япония разыграла польскую карту.
Итак, Пилсудский вернулся из Токио с пустыми руками, не считая обещания финансовой помощи, которое, впрочем, японцы потом лояльно выполняли.
Однако он мог быстро забыть об этой неудаче, поскольку уже вскоре вместо японской помощи появился новый фактор, позволяющий думать о вооруженном выступлении против царизма.
Война не принесла ожидаемых в Петербурге успехов. Следующие одно за другим поражения обнажали все изъяны абсолютистского режима. Множилось недовольство. Событие, которое еще недавно казалось таким отдаленным — революция в царской России, начало становиться делом ближайшего будущего.
Эта оптимистическая для революционеров перспектива обострила споры в ППС. Ибо необходимо было заранее решить, как партия будет вести себя в дни исторического перелома. Пилсудский и деятели из его окружения, которых все чаще начали называть «стариками», не имели сомнений. По их мнению, революцию следовало использовать для поднятия антирусского национального восстания. Его должна подготовить тайная вооруженная организация, которую в решающий момент поддержат рабочие массы. Для достижения победы необходимо также заключить соглашение с несоциалистическими политическими группировками в стране и сепаратистскими движениями угнетенных народов империи. Борьба будет идти независимо от общероссийской схватки с царизмом. Она должна привести к отрыву польских земель от России и образованию на этой территории суверенного польского государства.
Этих взглядов не разделяла набирающая силу партийная оппозиция. Так называемые молодые не представляли себе деятельность ППС иначе, чем в широких рамках общероссийской революции. Не делали также ставку на развал империи путем поддержки сепаратистских национальных движений. Они должным образом оценивали силу российского пролетариата. Вместе с ним они хотели реализовать парламентарную республику, демократизировать политическую и общественную жизнь. Независимость Польши они видели на втором плане, хотя, безусловно, не отказывались от нее.
Это были принципиальные, практически непреодолимые разногласия. Но пока они касались теории, а не практики, их можно было еще сгладить.
Начало революции изменило ситуацию. Это отчетливо видно по первой реакции находившегося тогда в Галиции Пилсудского. В письме к Войцеховскому от 30 января 1905 года он весьма критически оценил первые шаги варшавского руководства партии, в котором доминировали «молодые». «Письмо твое получил, — писал он, — но прости, я был так взволнован и настолько занят, что не собирался сразу ответить тебе. Что написать об этой революции. Люди всюду радуются, я каждый день получаю с десяток предложений об оказании различных услуг, и меня, стыдно признаться, злость берет. Все это выглядит по-детски и глупо».
Дело в том, что Пилсудский имел претензии к варшавским товарищам за их некритическое присоединение к общероссийскому протесту в связи с кровавой расправой над мирной демонстрацией рабочих у Зимнего дворца, и ходе которой было убито около тысячи человек и ранено в несколько раз больше. Он считал, что следовало прореагировать так, чтобы одновременно показать силу польских революционеров и собственные национальные цели деятельности.
Эта предпосылка определяла его поведение в течение ближайшего времени. Она лежала также у истоков создаваемой им, начиная с 1904 года, тайной боевой организации ППС.
Эти планы легче понять, познакомившись с написанным им с перспективы трехлетнего опыта письмом к Витольду Иодко-Наркевичу[33] от 25 мая 1908 года. «Признаюсь тебе честно, — откровенничал он перед другом, — что вести пустые разговоры у меня нет ни охоты, ни времени. С одной стороны, я чувствую повсюду отсутствие веры в будущее нашей боевой организации, с другой, когда подумаю о ее будущем и начну подсчитывать людей, то у меня руки опускаются. Одним словом, вести разговоры не хочется, и все. Я чувствую себя теперь так, как будто бы с широкой дороги, чтобы сократить путь, сошел на узкую дорожку, которая вдобавок переходит к тропинку, и здесь, на этой тропинке, меня настигла ночь. Я знаю, что эта широкая дорога, с которой я сошел, ведет к цели, но идти по ней очень и очень далеко, знаю и чувствую, что иду кратчайшим путем, только хватит ли сил, чтобы переждать ночь, не знаю. Возвращаться назад не хочу и буду пытаться и в темноте идти до конца, конца чего — меня и моих сил или тропинки — это вопрос, который стоит передо мной и который решить должно ближайшее будущее. Этим кратчайшим путем является для меня боевая организация и все, что с ней связано».
В этих сжатых фразах кроется сущность программы, реализуемой в 1904–1908 годах. Прежде всего Пилсудский заявлял о себе как социалист. Та широкая дорога, ведущая к цели, с которой он сошел, ибо шагать по ней пришлось бы очень долго, это ведь не что иное, как революционное волнение масс, во время которого народ в порыве возмущения свергает ненавистный режим. Автор письма не оспаривает обоснованности и эффективности таких действий. Его не устраивает только длительность этого процесса. Тем более что он был уверен в существовании более простого решения — многократно упоминаемого «кратчайшего пути», значительно быстрее ведущего к цели.
По мнению Пилсудского, любая революция является неорганизованным движением. Это дает преимущество современному государственному аппарату, располагающему тысячами чиновников, полицией, армией, судами, тюрьмами и т. д. Чтобы выровнять эти диспропорции, необходимо внести в революционный энтузиазм дисциплину и порядок. Насилию противопоставить организованную силу. На польских землях ею должна была стать боевая организация ППС. Страна должна покрыться густой сетью боевых ячеек, хорошо законспирированных, дисциплинированных, прекрасно обученных и вооруженных, признающих только одни авторитет. Эту силу нельзя использовать в текущих схватках с властью. Она должна выступить в решающий момент, когда, поддержанная революционным энтузиазмом, она будет в состоянии противостоять армии противника, насчитывающей даже несколько сот тысяч человек.
Нетрудно заметить, что этот сценарий больше напоминал антирусское восстание и связанное с ним создание регулярной армии, чем организацию пробужденного революцией народа. Такого рода сомнения имели и «молодые», которые к идее национально-освободительной борьбы относились без характерного для «стариков» пыла. На этой почве в партии вспыхивали все более острые столкновения и споры. Раскол был уже только вопросом времени. Он стал фактом на IX съезде ППС в ноябре 1906 года, когда сторонники Пилсудского, рекрутируемые прежде всего из боевой организации, оказавшись в меньшинстве, покинули зал заседаний и образовали Революционную фракцию ППС[34]. В это время брожение в стране постепенно угасало и мало уже кто тешил себя надеждой, что свержение царизма — вопрос ближайшего будущего.
Помимо идейных споров революция принесла коренные перемены в повседневном функционировании партии. Время как будто бы ускорилось, каждый день приносил новые сенсационные вести. Изменился и характер занятий Пилсудского. Он постепенно отходил от прежней партийной деятельности — редактирования нелегальной литературы, агитации, сбора средств, заботы чуть ли не о каждой сфере организационной работы. Он все больше вырастал в вождя, пока только боевой организации ППС. Это видно хотя бы по книгам, которые он в то время в изобилии поглощал.
Маркса он давно уже не читал. Окончательно забросил книги, имеющие какую-либо связь с социальными проблемами. Отдавал предпочтение военной литературе. Изучал походы Наполеона, штудировал труды Клаузевица[35], интересовался бурской войной[36] и последним русско-японским конфликтом.
Большую же часть времени посвящал боевой организации. Правда, долго не принимал непосредственного участия в проводимых ею операциях. Из-за этого люди, недоброжелательно относящиеся к нему, упрекали его в трусости. «Вопреки довольно распространенной легенде, — писала Ирена Панненкова, — Пилсудский лично долгое время не принимал участия в этих все же опасных акциях, ограничиваясь ролью законспирированного руководителя, отвечающего, разумеется, также и тем более за все ошибки своего руководства». И чтобы у читателя не было сомнений, сколь неблаговидным было его поведение, добавляла: «И снова разница в поведении по сравнению с руководителями русской «Народной воли» или Ирландии, таким, как ставший уже легендарным Коллинз[37], который сам лично осуществлял наиболее опасные акции, рискуя всегда больше других и находясь в первых рядах».
В отсутствии смелости руководителя боевой организации ППС вряд ли можно было упрекнуть. Тем не менее даже в кругу преданных Виктору боевиков, ряды которых таяли под ударами противника, нарастали сомнения, не слишком ли шеф иногда бережет себя. Пилсудский решил раз и навсегда покончить с такого рода подозрениями: взял на себя руководство последней крупной операцией боевой организации — нападением на почтовый поезд у Бездан под Вильно. В сентябре 1908 года с десяток боевиков не без трудностей выполнили задание, захватив более 200 тысяч рублей. Казалось, что теперь обидные для него разговоры исчезнут. Но легенда, как «белая», так и «черная», характеризуется тем, что оставляет без внимания невыгодные факты. Ведь оценки Панненковой относятся к 1922 году, то есть высказаны спустя более десяти лет после противоречащей им безданской операции. Перо, опущенное в желчь, руководствовалось своими законами.
Впрочем, то же самое происходило и с пером, погруженным в вазелин. В изложении сторонников Пилсудского безданская операция приобретала характер одного из важнейших событий революции. Ее представляли как самый крупный успех боевой организации ППС, особо подчеркивая прямо-таки гениальную подготовку, руководство и исполнение. Это лишь отдаленно напоминало подлинное развитие событий. И «добыча» была не такой уж большой, да и число участвующих в операции боевиков тоже. А в ходе ее были совершены серьезные ошибки. В частности, они сумели захватить только часть перевозимых денег. Неорганизованно проходил и отход боевиков. Сразу же после проведения операции боевой отдел, не до конца убежденный в правильном ее развитии, даже создал специальную комиссию для изучения возможных упущений. Однако обо всем этом спустя годы не хотели помнить. Поскольку это была единственная операция с личным участием вождя, биографы возвели ее на пьедестал, приукрашивая действительность в тех местах, где она чересчур отклонялась от идеала.
В годы революции имел место еще один факт, который серьезно повлиял на жизнь Пилсудского. На этот раз весьма личного характера. В мае 1906 года он познакомился в Варшаве с «товарищ Олей» — Александрой Щербиньской[38]. «Наша встреча, — вспоминала она спустя годы, — не имела никаких личных моментов; мы были двумя людьми, работающими во имя одного и того же дела, членами одной партии, и больше ничего. В моей памяти запечатлелась картина, когда в один из весенних дней пополудни мы стояли среди карабинов, между корзинами с браунингами, маузерами и боеприпасами, а я думала, что вижу человека, которого Сибирь не смогла сломить. Передо мной стоял мужчина среднего роста, широкоплечий, с тонкой талией. В его жестах было много изящества и элегантности, что, впрочем, он сохранил до конца жизни. У него была такая легкая походка, что казалось, будто он не идет, а плывет; как я позднее убедилась, он был прекрасным пехотинцем, даже самые тяжелые марш-бросоки переносил лучше тех, кто был более вынослив, чем он. Голова у него была небольшая, уши правильной формы, слегка остроконечные, прислушивающиеся, глаза глубоко посажены, умные, проницательные, серо-голубые. Живое лицо отражало чуть ли не каждую его мысль».
Потом их пути перекрещивались еще несколько раз. Более года их знакомство не выходило за рамки товарищеских отношений, хотя Пилсудский, вероятно, все больше эмоционально привязывался к ней. Он все чаще рассказывал Александре о своих планах и надеждах, преодолевая недоверие и скрытность, что имело довольно однозначный смысл.
Во второй половине 1907 года они встретились на более длительное время в Киеве. Пилсудский разрабатывал план ограбления банка, что должно было принести огромную сумму денег и тем самым решить материальные трудности партии. С изобретательностью, которой мог бы позавидовать любой взломщик, он намеревался устроить истопником в здании банка одного из конспираторов. Ибо котельная помещалась под сейфами и можно было с помощью форсунки попытаться пробраться к ним через дыру в полу. Вся операция требовала длительной подготовки, к которой была привлечена, в частности, и Александра. Теперь они встречались очень часто, прогуливаясь по приднепровским паркам. Во время одной из прогулок, как вспоминала Александра, ставшая позднее женой Маршала, «он сказал, что любит меня. Помню, что это признание удивило меня. До этого я считала его лишь идеальным товарищем, а тут вдруг произошло нечто неожиданное».
Можно понять, что это застало ее врасплох. Он был овеянным легендой руководителем партии, а она — начинающей подпольщицей. Ему было сорок лет, ей — двадцать пять. Время тоже не благоприятствовало идиллиям. В любую минуту им грозил арест с самыми суровыми последствиями. «Длительное время мы не изведали ничего такого, что считается основой счастливого супружества, — вспоминала далее Александра, — у нас не было ни дома, ни спокойствия, ни безопасности. Вместо этого — постоянная работа, нередко нужда, опасность и неуверенность в завтрашнем дне. Наша любовь выдержала все это и, что также важно, пережила позднее годы спокойствия и побед. Но пока мы должны были ждать. Первая жена не хотела давать развода».
Действительно, Мария не давала согласия на расторжение брака. Но, видимо, и Пилсудский не стремился к этому любой ценой. В письме к Александре в начале 1909 года он писал: «Моим стремлением с самого начала является, чтобы это или иное решение было принято совместно, как результат воли трех заинтересованных сторон, результат нередко весьма сложных чувств и мыслей, но единственно возможный в этих отношениях. Моя и твоя воля известны, воля третьей стороны до сих пор боролась, цепляясь за все, чтобы избежать единственно ясного и определенного результата. В этом случае я вынужден учитывать худшее положение женщины по сравнению с мужчиной. Я мечтаю о том, чтобы мы вместе могли пережить это трудное переходное время, которое, признаюсь, тоже чересчур затянулось. Повторяю, я убежден, что моя постоянная и настойчивая, хотя и не бурно выражаемая воля сделала свое, и я чувствую, что мы на правильном пути, что многое изменилось к лучшему для достижения общего согласия; свойственный этому кризис, по-моему, миновал, и дело идет теперь к более спокойной развязке».
Но для подобного оптимизма не было никаких оснований. Мария не соглашалась на развод до своей смерти в 1921 году. Поэтому поведение Пилсудского расценивается двояко: можно без всяких оговорок поверить в его аргументацию и восхищаться его джентльменским отношением к Марии, но можно позволить себе и некоторую долю критицизма. И, видимо, именно так следует поступить, поскольку объяснения любовницам, которые долго не могут стать женами, в основном плохо выдерживают тест на правдивость. Пилсудский, несомненно, хотел соединиться с Александрой, но не мог вместе с тем решиться расстаться с Марией.
Александра пыталась протестовать против сложившейся ситуации, в которой прежде всего соперница извлекала выгоды из так понимаемой лояльности. Это доказывает хотя бы одно из более поздних писем, в котором Пилсудский высказал многозначительную просьбу: «Хотя бы немного легкомысленности добавь к серьезным мыслям, хотя бы немного веселей смотри на ми, так хотелось бы видеть тебя смеющейся, искренне веселой, не с таким осунувшимся личиком, какое я недавно видел, не с такими глазками, готовыми расплакаться».
Итак, будучи сердцем с Александрой, Пилсудский по-прежнему вел семейную жизнь с Марией. Их супружество все заметнее портилось. Определенное влияние оказала на это трагедия, происшедшая летом 1908 года. От гнойного воспаления желчного пузыря умерла Ванда Юшкевич, девятнадцатилетняя дочь Марии от первого брака, к которой отчим был очень привязан. «Высокая и стройная, — вспоминал Михал Сокольннцкий[39], — чернобровая, как украинка, она была улыбкой и радостью дома». В частности, от этого удара Мария серьезно заболела, а вскоре перенесла тяжелейшую операцию. Эти обстоятельства не облегчали разговор о возможном разводе. Поэтому до самого начала войны они жили вместе, но их связывали лишь квартира и общее хозяйство.
Пилсудский мыслями был с Александрой, писал ей длинные письма, неизменно начинавшиеся словами: «Дорогая и любимая Оленька». По отношению же к Марии он становился все более сухим. «Она была, — вспоминал Леон Василевский[40], — несомненно, незаурядной личностью. Способная, быстро ориентирующаяся, красноречивая, преданная делу, умела оказывать влияние на окружение, тем более что внешние данные, большое чувство товарищества и веселый нрав облегчали ей это. В Кракове она проводила время в непрерывном водовороте общения с людьми, с исключительным гостеприимством принимала знакомых, посещающих Зюка, вечера допоздна проводила в кафе и старалась никогда не покидать мужа, если это только было возможно. Вначале Зюк ходил вместе с ней в кафе, но затем начал бунтовать. Когда она хотела остаться в «Сецесии» или «У Михалика» дольше, иногда за полночь, Зюк в определенный момент вставал и шел одни домой».
Поводом для таких афронтов было, во всяком случае, не отвращение к кафе, как пытается внушить это Василевский. Этот якобы нелюдим в письмах к Александре с умилением и тоской вспоминал «трамваи, в которых мы вместе ездили допоздна, трактиры, в которых бывали, и т. д.».
Характерно, что друзья семьи, зная «о трагическом треугольнике», как называл эту ситуацию в письмах к Александре сам Пилсудский, явно симпатизировали Марии, не видя в ее поведении ни малейших поводов, обосновывающих измену супруга.
3. Комендант стрелков
Поражение революции заставило Пилсудского изменить разработанные им планы действий. Этот процесс происходил постепенно, по мере угасания напряженности в государстве царей. Важным этапом на этом пути явилась публикация в «Роботнике» в феврале 1908 года статьи под характерным названием «Как мы должны готовиться к вооруженной борьбе».
«Мощное народное движение в русском государстве, называемое революцией, — констатировал Пилсудский, — не достигло пока своей цели. Ослабленный царизм, сделав многочисленные уступки, сумел организовать свои деморализованные силы и одержать над революцией победу, чтобы затем отказаться от многих осуществленных в минуту слабости реформ и перемен. И каждый из тех, кто жил в эпоху побед революции, невольно ищет ответ на вопрос, почему произошло так, а не иначе, почему надежды не оправдались и после ясной алой зари не засверкало на небе солнце, а наступил пасмурный, серый осенний день».
По мнению Пилсудского, ответ на этот вопрос мог быть только один: царизм победил, поскольку имел в своем распоряжении огромный аппарат насилия — чиновников, полицию, армию. Этой силе революционеры могли противопоставить только лишь свою моральную правоту. Поэтому финал конфронтации не мог быть иным. В столкновении с винтовкой и нагайкой идея, даже самая возвышенная, должна была потерпеть поражение. Из этого вытекал простой урок для людей, не желавших отказаться от мысли о свержении тирании. Они должны как можно скорее приступить к организационной работе, которая превратит их в зародыш силы, сумеющей в будущем оказать достойное сопротивление противнику
Эти взгляды были повторением аргументации, употребляемой довольно часто в дни революции, когда Пилсудский доказывал, что царизму может противостоять только революционная армия, возникшая на базе кадров, воспитанных в подполье боевой организацией ППС.
Однако в статье появились элементы, свидетельствующие о происходящей переоценке взглядов автора. «К сожалению, — делал он вывод, — прошли времена, когда партия была еще в состоянии, во всяком случае в какой-то мере, решить эту задачу самым лучшим способом — организационным, то есть формируя сразу из рабочих рядов партии организацию, способную отстоять свои цели не только словом или собственным страданием, но и десницей в открытом бою».
Отсюда вытекал только один вывод: поскольку в рамках партии стало уже трудно осуществлять военную подготовку, необходимо изменить организационные формы ее деятельности. Правда, этого Пилсудский не договаривал до конца. Не хотел доставлять себе дополнительных хлопот. Ведь этот тезис не мог быть популярным в ППС-фракции, где он вплоть до 1914 года занимал самые высокие посты.
В новом плане деятельности партию заменяла другая форма конспирации — заговор военного характера. Подготовить его на территории, входящей в состав России, Пилсудский даже не мечтал. После революционного подъема, утопленного в море репрессий, здесь царила понятная депрессия, исключающая какую-либо более широкую оппозиционную активность. Обостренной была бдительность полиции, опасающейся возобновления террористических актов против государства.
Со строгим режимом военного положения, введенного в то время на территории, входившей в состав России, контрастировали свободы, гарантированные автономией Галиции, где на протяжении десятилетий поляки имели значительные политические права. Благоприятные условия, вытекающие из этой ситуации, Пилсудский использовал и раньше, заложив в Галиции закордонную базу для антирусской деятельности ППС.
Однако вести широко задуманную военную подготовку было нельзя без разрешения компетентных властей, а конкретно без согласования с военной разведкой, которая держала под своим контролем подобного рода инициативы.
Пилсудский давно знал об этом. Уже в 1906 году он пытался договориться с австрийцами по поводу создания необходимых условий для деятельности боевой организации ППC. 29 сентября того же года он вместе с В. Иодко-Наркевичем встретился с полковником Францем Каником, начальником штаба 10-го корпуса в Пшемысле. «Они предложили нам, — писал Каник в рапорте на имя начальника Генерального штаба в Вене, — всякого рода разведывательные услуги против России взамен за определенные взаимные услуги с нашей стороны. Под этими взаимными услугами подразумевается поддержка борьбы против русского правительства следующим образом: содействие в приобретении оружия, терпимое отношение к тайным складам оружия и партийным агентам в Галиции, неприменение репрессий по отношению к австрийским резервистам, которые примут участие в борьбе против России, и к революционерам в случае возможной интервенции нашей монархии. Чтобы узнать как можно больше, я выслушал обоих до конца, не высказав при этом своего мнения».
Нетипичный это был разговор: напротив высокого офицера габсбургской монархии сидели двое руководителей-социалистов, которые предложили ему ни больше ни меньше, как участие Австрии в осуществлении переворота в соседней империи. Эта поразительная на первый взгляд ситуация опиралась, однако, на реалии тогдашней политики. Австро-русские отношения, несмотря на видимость корректности, на самом деле выглядели не лучшим образом. Обе державы остро соперничали на Балканах. Правда, никто пока не ожидал, что из-за этого вспыхнет в будущем мировая война, но не надо было обладать особой прозорливостью, чтобы предположить затяжной характер этого антагонизма. А в такой ситуации предложение вести разведку против России, как и шире — возможность доставить с помощью поляков дополнительные хлопоты русским приобретали свое значение. Даже если это влекло за собой необходимость сотрудничества с социалистами, к которым императорско-королевские офицеры, во всяком случае, не испытывали симпатии. Тем более что речь шла не о социальной революции, а о постановке польского вопроса, в отношении которого Вена тоже имела свои планы.
Поэтому многое связывало императорского полковника с его таинственными собеседниками. И хотя 11 октября 1906 года начальник Генерального штаба порекомендовал Канику не вступать в дальнейшие переговоры, первый лед был сломан, облегчая в будущем заключение соглашения.
Дело дошло до него в середине 1908 года. «Александр Малиновский[41],— утверждал потом Валеры Славек[42], — который сидел во Львове, проинформировал меня летом 1908 года, что он установил контакт с майором Генерального штаба Густавом Ишковским, начальником политико-разведывательного отдела Львовского корпуса, что Юзеф Пилсудский и Витольд Иодко-Наркевич знают об этом и что Пилсудский распорядился посвятить и меня в эти дела».
Эти контакты Пилсудский поддерживал вплоть до начала войны. Ибо они составляли одно из необходимых условий успеха концепции, которой он подчинял все свои действия.
Дело это сохраняли в строжайшей тайне. Его раскрытие грозило скандалом с нетрудно предсказуемыми последствиями. Ведь основной заповедью революционера, а таким все считали тогда Пилсудского, было не вступать ни в какие контакты с полицией, жандармерией, военной разведкой. Даже подозрение в отступлении от этого принципа было равносильно политической смерти. Достаточно напомнить разыгравшуюся как раз в это время трагедию Станислава Бжозовского[43], писателя и философа, близкого к социалистическому движению, автора нашумевшей «Легенды Молодой Польши», которого подозревали в сотрудничестве с царской охранкой. Окруженный подозрениями, он добился созыва составленного из доверенных лиц ППСД[44] и ППС-фракции суда, который, правда, не доказал его вины, но и не вынес никакого приговора. В результате значительная часть прежних товарищей и друзей отошла от него, считая такие контакты позорящими его. Эту точку зрения разделял и Пилсудский. Когда Михал Сокольницкий во время одного из своих пребываний в Закопане[45] уговаривал его вместе пойти на лекцию Бжозовского, то встретил решительный отказ. «Ответил коротко, — записал это событие в своем дневнике Сокольницкий, — что у него нет ни малейшего желания; когда же я начал настаивать, он повторил отказ уже более категорически. Когда же я спросил его о причине, ответил: «Можете идти, если хотите — этот человек уже один раз запятнал себя, и у меня никогда не будет интереса видеть его».
Пилсудский прекрасно знал, что, если общественность узнает о его контактах с австрийской разведкой, никто не захочет слушать его ссылок на высшие политические интересы. Ибо в таких делах современники глухи к обоснованиям, убедительно звучащим для потомков и историков.
Силу такого обвинения хорошо понимали враги. И хотя они не знали подлинной картины контактов Пилсудского с австрийской разведкой, они предполагали, что акция, которую он планировал, без подобных договоренностей была бы заведомо обречена на провал. Поэтому где только могли они пытались представить деятельность Пилсудского в Галиции как результат действий иностранной агентуры. Уже в мае — июне 1913 года в варшавском «Пшеглёнде народовом» один из лидеров эндеков Зигмунт Балицкий[46] опубликовал цикл статей, в которых военную инициативу Пилсудского связывал с деятельностью полковника Ределя, офицера австрийской разведки, разоблаченного как русского шпиона.
И хотя в статьях Балицкого содержался ряд абсурдных, казалось бы, для каждого утверждений, в частности, что движение стрелков инспирировано царской охранкой, Пилсудский счел необходимым выступить с ядовитой ответной статьей на страницах краковского «Напшуда». «Ключом ко всем загадкам национально-освободительного движения и стрелковых организаций является не что иное, как известное шпионское дело пресловутого Ределя. Ибо в Польше, где существует такое прекрасное воплощение «стержня национальной жизни», каким являются господа Балицкий и Дмовский, не может быть и речи о повстанческом и национально-освободительном движении, и, естественно, для объяснения такого чудовищного явления в жизни угнетенного польского народа необходимо обратиться прежде всего к чужим народам, а еще лучше — к грязным и омерзительным источникам. Ибо только из такого источника может вытекать такое мерзкое течение, как стремление к завоеванию независимости Польши…»
Обвинение в агентурности действий было прочно записано в «черную» легенду будущего Маршала. Переговоры, которые он вел с иностранной разведкой в целях реализации высших национальных целей, его противники охотно отождествляли с обычной шпионской деятельностью.
Первым сигналом, свидетельствующим о том, что планы Пилсудского начали приобретать конкретные черты, было создание в конце нюня 1908 года во Львове Союза активной борьбы, ставящего своей целью вооруженное завоевание независимости польской демократической республики[47]. Авторы, не питающие к Пилсудскому симпатии, имели в таких случаях обыкновение подчеркивать, что концепция этого шага исходила не от будущего Коменданта стрелков, а от Казимежа Соснковского[48]. Действительно, Союз активной борьбы был основан по инициативе и в квартире Соснковского. С той лишь разницей, что этот шаг родился в результате дискуссии с подлинным автором концепции «готовиться к вооруженной борьбе». Впрочем, Соснковский никогда этого не скрывал. Выдвинув идею, Пилсудский не имел времени заниматься ее реализацией, поскольку в это время он был полностью поглощен подготовкой к безданской операции.
Лишь после ее проведения и возвращения в Галицию в октябре 1908 года он смог заняться инициативой, с которой связывал столько новых надежд. Однако он не сразу приступил к работе с энергией, характеризующей его еще недавние действия в годы революции. Впрочем, этому трудно удивляться. В конфронтации с царизмом, несмотря на то что успех казался таким близким, он потерпел поражение. Должен был свыкнуться с мыслью, что надо опять начинать все сначала.
Улучшению самочувствия не способствовало также и его состояние здоровья. Он страдал неврозом сердца и общим ослаблением организма. Врачи предупреждали, что при таком сильном истощении его может погубить даже обыкновенный грипп. «Ужасно разболелся, — писал он в письме к Александре в начале 1909 года, — все предыдущие недели истощили физически мое сердце до такой степени, что когда у меня начался жар, то прицепилась инфлюэнца (тогдашнее название гриппа. — Авт.) и преподнесла мне такой фокус, что теперь не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, никакой работы, никаких волнений. На некоторое время я стал совершенным телесным и духовным инвалидом, все мои прекрасные проекты рухнули, даже когда пишу это письмо, так волнуюсь, что чувствую нервную дрожь в сердце… Теперь придется уехать на какое-то время отдохнуть. Врачи говорят, на 2–3 месяца. Ну что поделаешь».
Он всегда был немного ипохондриком, что видно даже по этому фрагменту письма. Особенно плохо переносил ухудшение состояния здоровья. Тем более, что это были не единственные его переживания. Его беспокоила также ненормальная семейная ситуация. Все больше развеивались надежды соединиться с Александрой. Мария не хотела и слушать о разводе, рассчитывая наверняка, что время будет работать в ее пользу, охлаждая пыл второй молодости мужа.
Ко всем этим переживаниям добавились финансовые хлопоты. Из-за скромных денежных поступлений приходилось считать каждый грош. «Это была пролетарская нищета, — описывал свои впечатления от посещения Пилсудских в Закопане Стефан Жеромский. — Я застал его сидящим за столом и раскладывающим пасьянс. Он сидел в кальсонах, поскольку единственную пару брюк, которую имел, отдал портному заштопать дыры».
За более чем четверть века, которые отделяют эту запись от более ранней, чуть ли не идентичной записи в дневнике Бронислава, Пилсудский немногого добился в материальной сфере. Но в мечтах он метил высоко. Когда Жеромский спросил его о причинах волнения, с которым он раскладывал пасьянс, Пилсудский ответил: «Я загадал, что если пасьянс разложится удачно, то буду диктатором Польши». В тех обстоятельствах такое признание выглядело довольно шокирующим. Так его и воспринял Жеромский. «Мечты о диктатуре, — вспоминал писатель, — в халупе и без порток поразили тогда меня».
Аналогичным образом думали и другие. Ведь мощь захватчиков оставалась непоколебленной, а силы Пилсудского были ничтожными, практически ничего не значащими. Союз активной борьбы после года существования, в июне 1909 года, насчитывал всего 147 членов. Сужалось также влияние ППС-фракции.
В этой не очень-то веселой ситуации появился и оптимистический акцент, связанный с осложняющимися международными отношениями. В октябре 1908 года император Франц Иосиф I издал манифест, по которому в состав Австро-Венгрии вошли Босния и Герцеговина, две прежние турецкие провинции, оккупированные австрийской империей с Берлинского конгресса 1878 года[49]. Сербия сочла этот шаг, впрочем, совершенно справедливо, как непосредственную угрозу своим интересам и объявила мобилизацию. В ответ Вена также привела свою армию в состояние боевой готовности. Разумеется, она боялась не маленькой Сербии, а стоящей за ней России.
В Европе запахло порохом. Казалось, что война — вопрос ближайших дней. В конечном счете решительная поддержка, оказанная Австрии ее немецким союзником, охладила Петербург, и кризис был предотвращен. Однако мир держался на все еще ненадежных опорах.
Пилсудский это понимал. Более того, с началом войны он связывал свои самые большие надежды. Новая ситуация позволяла отбросить старую идею создания польской армии в момент революционного волнения масс. Он расставался с этой концепцией довольно легко, поскольку недавний опыт показал, что пролетариат ценит социальные завоевания не меньше, чем национальные, а Пилсудский не стремился к перерастанию возможного восстания в социальную революцию. Поэтому, когда перспектива революции оказалась более отдаленной, чем возникновение войны, с последней он и связал свои планы.
Его концепции, формируемые до 1914 года, нельзя оценить однозначно. Больше всего замешательства вызвали опубликованные в 1952 году в выходящем в Нью-Йорке «Новом журнале» воспоминания одного из руководителей русских эсеров — Виктора Чернова[50]. Он рассказал о лекции Пилсудского, которая была якобы прочитана в Париже в зале Географического общества в феврале 1914 года. Чернов записал, в частности: «Анализируя далее военный потенциал всех государств — возможных участников мировой войны, которая должна вскоре вспыхнуть, Пилсудский поставил вопрос ребром: как она будет протекать и чьей победой закончится? Его ответ был следующим: победа пойдет с Запада на Восток. Что это означает? Что Россия будет разбита Австрией и Германией, а те в свою очередь — англо-французскими (либо англо-американо-французскими) силами. Восточная Европа потерпит поражение от Центральной, а Центральная — от Западной. Это показывает полякам направление их действий». По словам Чернова, эта мысль была развита в беседе, которую после лекции провел с ним один из ближайших сотрудников Пилсудского — Витольд Иодко-Наркевич, тот самый, который несколько лет до этого пытался вместе с Пилсудским установить первые контакты с австрийской разведкой.
На вопрос, действительно ли Пилсудский так гениально предвидел будущее, ответы бывают разные. Его сторонники никогда не имели даже малейших сомнений в этом. Даже в период, когда Чернов не обнародовал еще своих сенсационных признаний. Им достаточно было веры в то, что Комендант никогда не ошибался, что всегда верно угадывал знамения времени.
С не меньшей уверенностью в диаметрально противоположном духе высказывались противники. «Это — легенда, — писала И. Панненкова, — что политическая концепция Пилсудского якобы принципиально отличалась от концепции Главного национального комитета либо других активных политических организаций в стране, поддерживавших во время войны центральные государства. Это — легенда, что он якобы когда-либо что-либо предвидел вернее, чем те организации, противопоставлял им какую- то свою позитивную, лучшую и более умную, далеко идущую программу».
Воспоминания Чернова не приблизили разрешение этого спора. Правда, сторонники Пилсудского сочли их главным доводом, подтверждающим их тезис, зато противники сразу же поставили их под сомнение, объявив типичной, высосанной из пальца сенсацией.
И на самом деле, признания руководителя эсеров не могут не вызывать серьезных возражений. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что Пилсудский не обнародовал упомянутый прогноз событий во время своей публичной лекции в зале Географического общества, ибо такой шаг свидетельствовал бы о его политической наивности. Трудно иначе оценить публичное раскрытие своих самых сокровенных планов. В зале могли находиться и находились в действительности агенты заинтересованных разведок. Поэтому раскрытие временного характера союза с Австрией должно было неизбежно закончиться высылкой Пилсудского из Галиции, а этого он ни в коей мере не мог допустить. Не в пользу Чернова говорит также поразительное молчание остальных участников встречи. На ней собралось около 500 человек, в том числе видные представители парижской Полонии во главе с сыном Адама Мицкевича — Владиславом[51]. Если бы оратор действительно решился изложить нетрадиционные оценки, то кто-нибудь еще кроме Чернова должен был их записать, особенно когда развитие событий подтвердило фантастически предвосхитившие их слова. Однако этого не произошло. Наоборот. Другой пространный, насчитывающий десять страниц машинописного текста отчет об этой встрече ни словом не упоминает о военном прогнозе Пилсудского. А его автор прекрасно умел слушать, ибо им был агент царской охранки, который по горячим следам записал содержание выступления Пилсудского. Этот, к счастью, до сегодняшнего дня сохранившийся документ рассеивает последние сомнения и вынуждает признать, что Чернов не во всем был прав.
Итак, русский революционер не мог слышать оценок Пилсудского во время его публичной лекции в Париже. Следует также исключить гипотезу, что он приписал ему формулировки, которые на самом деле услышал уже после лекции в доверительной беседе от Иодко-Наркевича. Ибо, как установил профессор Анджей Гарлицкий, друга оратора вообще не было в то время во Франции.
Неужели Чернов просто солгал? В свете вышеупомянутых фактов такой ответ представляется весьма обоснованным. Впрочем, с давних пор, еще до того, как было найдено донесение агента охранки и установлено место пребывания в то время Иодко-Наркевича, такой версии придерживались люди, недоброжелательно относящиеся к Пилсудскому. Но и такое суждение имеет свои слабые стороны. Его могло бы сделать правдоподобным объяснение мотивов обмана. А они не столь уж очевидны. Честно говоря, их вообще нет. Можно, разумеется, допустить, что Чернова просто подвела память либо что его подкупили, но это все весьма сомнительные объяснения. Ибо другие утверждения дневника доказывают, что он отнюдь не страдал старческой амнезией, а версия подкупа спустя пятнадцать лет после смерти Маршала слишком уже напоминает отмычки, с помощью которых испортили не один замок, блокирующий выяснение тайн, связанных с Пилсудским.
Поэтому нельзя исключать, что Чернов в совершенно иной ситуации узнал от кого-то из окружения Пилсудского о его оценках, которые оказались настолько сенсационными, что он помнил их почти сорок лет, хотя время уже стерло воспоминания о сопутствующих этому событию обстоятельствах. Но признание такой версии достоверной отнюдь еще не доказывает, что Пилсудский гениально предвидел судьбы войны и с учетом этого строил деятельность руководимого им лагеря.
Впрочем, этому противоречат его собственные слова. В интервью, данном Юзефу Хласке[52] в начале 1913 года, он сказал: «…будущее — это уравнение со многими неизвестными, которое, следовательно, решить невозможно». Этот мотив неугаданного конца войны возвращается и в известной «исповеди вождя», произнесенной на краковском съезде легионеров в августе 1922 года. «Итак, я трезво рассчитал, — признавался он, — что конец войны, независимо от того, кто победит, означает прежде всего слабость побежденного».
Эту же мысль бывший Комендант стрелков развил в интервью, данном подполковнику Станиславу Ляуданьскому в феврале 1924 года.
«Я утверждал с самого начала, — говорил он, — вопреки всем, что война продлится значительно дольше, чем многие предполагали. В результате обе стороны, победитель и побежденный, будут истощены и ослаблены. Такая ситуация дает возможность быть в конце сильными тем, кто, будучи слабым вначале, найдет в себе достаточно моральной и материальной силы, чтобы продержаться. Тогда представится возможность влиять на судьбы Польши, если мы такими силами будем располагать. Я не делал никаких предположений, кто победит — эти или те. Я был убежден, что и те и другие ослабнут, а мы сможем воспользоваться этим…
Приведу несколько моих шуток и афоризмов на эту тему.
Я не раз повторял, но как шутку, что Россия будет вначале разбита центральными государствами, а затем они сами будут побеждены Антантой.
Ситуацию после войны я рисовал следующим образом: три огромных великана, истекая кровью, больные дизентерией, скорчились в состоянии агонии, а маленький полячок вертится вокруг них, униженно прося места для себя.
Я сравнивал нашу задачу с бегами. Кони мчатся к финишу, а мы же, как муха, уселись на ухе одного из них. В момент приближения к финишу муха улетает с обессилевшего коня и приходит первой».
Итак, Пилсудский со всей прямотой признавал, что прогноз развития военных событий, записанный, в частности, Черновым, он повторял не раз, но не очень-то серьезно.
В этом же утверждении кроется развязка спора, ведущегося десятилетиями между сторонниками и противниками Пилсудского. Ибо вопреки тому, что проповедовали начиная с 1918 года его поклонники, Пилсудский в период военных событий долго не имел ясного представления о конечном развитии ситуации. Но он был политиком и должен был искать пути поведения даже в столь сложных обстоятельствах. Он мастерски выбрался из этой ловушки. И отнюдь не благодаря тому, что гениально предвидел знамения времени, как в этом хотят нас убедить его биографы. Наоборот, он старался рассуждать и поступать так, чтобы никакое развитие событий не закрыло ему возможности для дальнейших действий..
Поэтому и сообщение Чернова, даже если мы отбросим все вышеупомянутые неточности, содержит лишь чисть правды. Пилсудский, пытаясь решить уравнение, о котором он говорил Хласке, учитывал различные комбинации. Не мог исключать и той, о которой рассказал руководитель эсеров. Действуя конфиденциально, он немногое терял, если речь идет о рассматриваемых тогда как приоритетных отношениях с австрийцами. А приобретал же несравнимо больше. В случае именно такого развития событий он имел моральное право присоединиться к победителям как их старый союзник, временно только, по тактическим причинам, находящийся во вражеском лагере. Итак, версия, изложенная Чернову, была лишь одним из нескольких возможных путей действий. К тому же даже, наверное, не той, которую Пилсудский считал наиболее вероятной. В частности, очевидно, по этой причине он и говорил позднее о ней исключительно как о «шутливом» прогнозе.
Все свои усилия Комендант стрелков подчинил созданию армии, видя в ней основной «козырь» для поляков в приближающемся европейском конфликте. А что он вспыхнет, у него не было ни малейших сомнений. Момент столкновения он считал неповторимым шансом для поляков. В вооруженной схватке силы народа, насчитывающего более 20 миллионов человек, были фактором, которым вряд ли могла пренебречь любая из воюющих сторон. Но чтобы стать объектом международного аукциона, приближающего момент осуществления мечты о независимости, поляки должны быть соответствующим образом организованы. Ведь никто не будет добиваться благосклонности рекрутов польской национальности, послушно сражающихся в рядах армий государств — поработителей Польши.
Итак, Пилсудский был глубоко убежден в том, что в момент начала войны следует бросить на чашу весов событий вооруженный вклад поляков. Поляки должны выступить как союзники одного из государств, поработивших Польшу. Выбор пал на Австрию, которая полвека назад предоставила полякам автономию, где легче всего было, еще до войны, подготовить необходимые кадры для будущей польской армии.
Свой союз с Австрией бывший Комендант стрелков представлял спустя годы как исключительно тактический вопрос. «Свой расчет я строил без всяких сантиментов, — заявил он в уже упоминавшейся «исповеди вождя», — и говорю откровенно, что если бы тогда я на минуту был уверен, что в какой-либо иной державе — угнетательнице Польши это (создание кадров для будущей армии, — Авт.) будет сделать легче, то я бы без колебаний поехал туда, не обращая внимания на то, был бы это наш восточный сосед или даже Германия».
Хотя и не прямо, но Пилсудский явно полемизировал с обвинениями в австрофильстве. Об этом писала Панненкова: «Все же эти политические тенденции и фактическая зависимость от австрийского правительства в сочетании с откровенной поддержкой антироссийского фронта, все это там, на польских землях, входящих в состав Австрии, должно было придать движению стрелков характер примирения и лояльности по отношению к австрийскому правительству, а, учитывая тесный союз, а точнее, тесную зависимость Австрии от Германии, также и по отношению к немецкому правительству».
Подобного рода обвинения вытекали из текущих политических интересов и были продиктованы желанием дискредитировать тогдашнего Начальника государства, утверждавшего, что выдвижению на этот пост он обязан прежде всего последовательной, бескомпромиссной борьбе за независимую Польшу.
Но от этого конъюнктурного давления не были свободны и заявления бывшего Коменданта стрелков. В действительности же его связи с Австрией были значительно более тесными, чем он готов был это позднее публично признать.
Многие современники, а потом и историки считали его даже сторонником так называемой триалистической концепции, базирующейся на присоединении отнятого у России Королевства Польского к габсбургской монархии, преобразованной одновременно в триединое государство Австро-Венгро-Польшу. Основным доказательством, подтверждающим этот тезис, было письмо Пилсудского видному галицийскому политику Владиславу Леопольду Яворскому[53], написанное летом 1915 года. В нем он писал: «Я хотел бы сразу подчеркнуть, что политической целью войны, которую я с самого начала ставил перед собой, было и остается до сих пор слияние Галиции и Королевства в составе австро-венгерской монархии.
И не считал и не считаю, что можно было в этой войне добиться более лучших условий для Польши».
Однако это его заявление следует рассматривать так же, как и его слова, сказанные Чернову. Исходя из различных вариантов развития ситуации, Пилсудский каждому из собеседников излагал наиболее приемлемую для него версию, не пренебрегая ни одним шансом для установления возможного союза.
Следует все же признать, что до 1914 года он подозрительно часто говорил о преимуществах, вытекающих из увязки польского вопроса с Австрией. И что характерно, высказывал такое мнение не только в беседах со сторонниками этой концепции. Трудно, например, согласиться с тем, что только конъюнктурные соображения заставляли его говорить с симпатией об Австрии во время уже упоминавшейся парижской лекции в феврале 1914 года. Ведь в зале находились не одни австрийцы. И Пилсудский прекрасно об этом знал. «Нам говорят, — записал его слова агент охранки, — что мы служим интересам Австрии. Но, помилуйте, говоря правду, Галиция является частью Австрии, свободной ее частью и равноправной… Да, Австрия — это государство, состоящее из разных частей, и одной из них является Галиция, не подвластная ей, а представляющая собой часть этого союза, и в этом случае служить Австрии — значит служить делу Польши. Присоединить Королевство Польское к Австрии — значит сражаться за независимость Польши».
В свете этих и подобных высказываний с большой степенью вероятности можно предположить, что триалистическую концепцию Пилсудский считал в то время наиболее благоприятной из остающихся в сфере реальных действий. Не исключал, разумеется, и более оптимистических вариантов развития ситуации. Ведь вооруженные силы, которые он создавал, должны были обеспечить, чтобы такие возможности не были упущены.
Само создание польской армии, с которой бы считались во время войны, он увязывал с оценкой русского плана ведения военных действий. Он считал, что русские будут обороняться лишь до линии Вислы, оставив на левом берегу этой реки лишь малочисленные силы прикрытия, обеспечивающие мобилизацию и эвакуацию. Со столь слабым противником должны были без особого труда справиться подготовленные заранее в Галиции кадровые отряды, массово поддержанные в Королевстве местным населением. Благодаря притоку добровольцев роты должны были превратиться в батальоны и полки. Комендант стрелков не исключал и возможности очередного национального восстания, направленного против России.
Естественно, появившиеся в центре военных действий значительные польские вооруженные силы стали бы объектом «обхаживания» со всех сторон. Ведь они могли склонить чашу весов в этом регионе Европы в пользу одной из воюющих сторон. С момента их появления время неизбежно начало бы работать на поляков.
Пилсудский рассчитывал именно на такое развитие событий. В своих планах он был прежде всего прагматиком. Его ближайшей и одновременно важнейшей военной целью было создание максимально многочисленных вооруженных сил. Эта мысль отчетливо просматривается в более поздней, причем недоброжелательной записи в дневнике эндека Юлиуша Здановского: «Я виделся и разговаривал с молодым офицером — пилсудчиком из легионов… То, что он говорит, является, по-видимому, отголосками теорий, с которыми он сталкивался в течение двух лет службы в I бригаде. Ему грезятся несусветные вещи. Надо иметь армию — сто, двести тысяч, миллион. Только она что-то решает. Остальное потом. К ней присоединятся галичане. Это единственный способ фактического объединения разделенных частей Польши. Вступят в нее и познанчане. Правда, это отнюдь не означает, что мы рассчитываем на победу центральных государств; впрочем, если они потерпят поражение, польская армия нужна тогда тем более. То, что она не имеет своего вооружения, — это все мелочь, ерунда».
В одном следует признать правоту ядовитого замечания Здановского. Пилсудский действительно не разрабатывал своих планов до конца. Его дальнейшее поведение зависело от развития событий.
Однако пока не только свои замыслы, но и всю практическую подготовку к созданию польской армии он связал с Австро-Венгрией. Здесь он проводил работу, направленную на воспитание кадров, которые в подходящий момент должны были стать костяком повстанческой армии.
Начало этому положило создание Союза активной борьбы. Но конспиративный характер этого союза не позволял развернуть массовую деятельность. Этот барьер был устранен, когда в 1910 году в соответствии с австрийским законом о союзах стрелков были созданы легальные военизированные организации: «Стрелок» в Кракове и Союз стрелков во Львове. Союз же активной борьбы не был распущен, он сохранился как тайный руководящий центр.
Уступки, сделанные австрийцами пилсудчикам, облегчили другим политическим организациям создание аналогичных структур. Самой серьезной из них были Польские отряды стрелков, явная эманация подпольной польской армии, руководимой национально-освободительным движением, создаваемой эндецкими сецессионистами, несогласными с ориентированной на Россию политикой Романа Дмовского. Программа Польских отрядов стрелков мало чем отличалась от программы пилсудчиков, тем не менее иное происхождение привело к тому, что родственные по существу организации долго не могли прийти к соглашению.
Военизированные союзы Пилсудский пытался подкрепить политическими структурами. Ибо он понимал, что без такой опоры ему не удастся развернуть военные дела. По его инициативе летом 1912 года возникло Польское военное казначейство, имеющее целью решение или хотя бы смягчение постоянных финансовых проблем. Осенью того же года была создана Временная комиссия объединенных в конфедерацию национально-освободительных партий, в которую вошли ирредентистские группировки Галиции и Королевства Польского. Ей подчинялись как союзы, так и отряды стрелков. В декабре 1912 года комиссия доверила Пилсудскому пост Главного Коменданта всех польских военных сил, что на практике привело к распространению его власти и на Польские отряды стрелков. Однако согласие между ними продолжалось недолго, и уже в апреле 1913 года он сложил свои полномочия, предотвратив тем самым открытые разногласия. Вторичное объединение сил произошло лишь в 1914 году, накануне первой мировой войны. Все эти решения рождались в горячей атмосфере, подогреваемой осложняющейся европейской обстановкой.
В этих условиях Пилсудский все заметнее превращался из политического деятеля в военачальника. Погрузился в изучение различных военных дисциплин, самообразованием и трудолюбием пытался заменить получаемое офицерами в академиях образование. Ибо находился в нетипичной и трудной ситуации. Готовился выполнять роль полководца, а сам никогда не служил в армии.
Изменились также и его отношения с прежними сотрудниками. Он все больше возвышался над ними. «Постепенно он как бы изолировался, — отмечал это явление Михал Сокольницкий, — как бы отошел даже от самых близких друзей. Снова стал более сдержанным к людям, углублялась дистанция, отделяющая его от других, постепенно разговоры приобретали характер рапортов и отдавания приказаний, а отношение к нему отдельных, даже близких людей стало напоминать отношения подчиненных и Коменданта. Все мы сознательно или бессознательно способствовали развитию этого нового явления. Отношение к Пилсудскому его сотрудников, близких и далеких, начало приобретать формы строгого подчинения и дисциплины. От него стала исходить какая-то магическая сила, которая диктовала такое поведение».
Поддавшись подобным настроениям, Михал Сокольницкий снабдил подаренный Пилсудскому экземпляр своей книги «О польской армии» характерной дарственной надписью: «Первому солдату новой Польши в надежде, что станет им, веря, что является им».
Мечта осуществилась в августе 1914 года.
4. Бригадир Легионов
Начало войны предоставило возможность для реализации повстанческой акции стрелков. В последние дни июля 1914 года Пилсудский мобилизовал отряды и развернул интенсивную подготовку, связанную с ожидаемым в ближайшее время вступлением на польские земли, входящие в состав России. В рамках этой акции по его распоряжению 3 августа в Кракове была оглашена прокламация нелегального Национального правительства, якобы функционирующего в Варшаве, в которой объявлялась война России и заявлялось, что на чашу весов войны будут брошены собственные польские вооруженные силы. Это была мистификация с целью вызвать энтузиазм у населения и тем самым увеличить приток добровольцев. Назначение же правительством Пилсудского Главным Комендантом Войска Польского должно было способствовать повышению его личного авторитета. Однако все это было шито такими грубыми нитками, что вызвало прямо противоположные результаты.
Впрочем, раскрытие правды не имело большого политического значения. Эта неудача как-то померкла в тени тяжелого поражения, каким явился полный провал повстанческих планов.
Довоенные надежды и иллюзии очень быстро развеялись. Ранним утром 6 августа 1914 года отряды стрелков пересекли австро-русскую границу. Уже первые часы этой акции стали предвестником ее фиаско. Королевство Польское не признало подчиненных Пилсудского «головной колонной Войска Польского, идущего сражаться за освобождение Родины», как об этом говорилось в первом, обращенном к солдатам приказе военачальника. Кадровые роты не пополнили ожидаемые добровольцы. Годами подготавливаемая акция, столкнувшись с равнодушием или даже враждебностью населения, провалилась.
Пилсудский попал в западню. Его повстанческие планы оказались нереальными. Вступление на польские земли, входившие в состав России, не умножило его силы. Не дало ему и аргументов, необходимых для дальнейшей политической игры с центральными государствами. Польская армия, с которой считались бы в боях, по-прежнему оставалась в сфере мечтаний. Более того, неудачная акция стрелков скомпрометировала Коменданта и его обещания. Поэтому необходимо было любой ценой спасти хотя бы остатки того, что из развалин рухнувшей честолюбивой концепции могло еще служить восстановлению его позиций.
Прежде чем перейти к описанию этих действий, стоит уделить немного внимания легенде б августа. Ибо это была одна из наиболее противоположно оцениваемых дат в новейшей истории Польши.
Пилсудчики считали ее переломным моментом, разделяющим две эпохи национальной истории. Уже в 1919 году Януш Енджеевич[54] писал:
«Когда 6 августа 1914 года кадровая рота стрелков Пилсудского пересекла границу Королевства Польского, она вступала в него как первый отряд польского войска, которое должно быть образовано из народа, а шло сражаться за польское, и только польское дело, не связанное ни с какими чужими государственными интересами… Неразбуженное политически, растленное враждебными силами и, к сожалению, собственным лагерем безверия, бездеятельности и примирения, общественное мнение Королевства не поняло, однако, замыслов Пилсудского. Не решилось завоевать свою свободу своими силами».
С течением времени эта мысль формулировалась все более категорически. В 30-е годы Генрик Цепник излагал ее так: «Создавая первую с 1863 года польскую воинскую часть и посылая ее 6 августа 1914 года в бой, Юзеф Пилсудский указал народу единственный в тех условиях, военных и политических, реальный путь к обретению потерянной независимости — Польское вооруженное выступление… Поэтому день 6 августа 1914 года — событие эпохального значения в истории Польши. Он является поворотным, переломным моментом в истории нашей национально-освободительной борьбы. Этим выступлением Пилсудский начертал народу путь к свободе и независимости и повел его по нему к цели, за достижение которой безуспешно сражались наши отцы и деды».
Эти хвалебные гимны превозносились в честь концепции, которая не была до конца реализована. Поэтому легко было приписать ей гениальность. Характерно, что ни один из биографов не решился попытаться описать перспективу, которую польское общество закрыло перед собой в 1914 году, оставаясь глухим к призывам стрелков.
Зато эту задачу выполнил извечный враг Коменданта — Роман Дмовский. «Не было трагедией, — писал он в 1925 году в «Польской политике и восстановлении государства», — выступление из Кракова в Кельце легиона под командованием Пилсудского, в качестве якобы назначенного «национальным правительством» в Варшаве Коменданта польских военных сил… Трагедия началась бы тогда, если бы Национальное правительство, объявившее войну России, действительно существовало в Варшаве. Если бы в ответ на появление легиона на территории Королевства здесь вспыхнуло восстание. Если бы волнения охватили всю страну, всей нашей политике пришел бы быстрый конец. Тогда бы нам наверняка не пришлось долго ждать заключения мира между Россией и Германией, мира, который урегулировал бы многие вопросы, и прежде всего польский. Причем основательно, надолго… Тогда бы мы сыграли немалую роль в истории Европы. Германия, освободившись от войны на Восточном фронте, бросила бы все свои силы на Запад и в короткое время разгромила бы оставленную в одиночестве Францию. Мы бы освободили Европу от длительной войны, а себя от хлопот, связанных с возрождением своего государства».
Это было убийственное для пилсудчиковской легенды рассуждение. По мнению Дмовского, успех повстанческой акции был бы равнозначен немедленной победе Германии. Более медвежью услугу польскому народу трудно себе представить. Ведь именно в государстве Гогенцоллернов наиболее последовательно и жестоко боролись в то время с проявлением польского духа.
Но вывод Дмовского, хотя и внешне бесстрастный и холодный, тоже не был свободен от предвзятости. Ибо только закрывая глаза на явные факты, можно было выдвинуть предположение, что использование Веной и Берлином польской карты подорвало бы волю Петербурга к продолжению войны. В действительности же все выглядело наоборот. Шантажирование России постановкой польского вопроса никогда еще не приводило к ожидаемым результатам. Об этом прекрасно было известно в Берлине, и не случайно там решились на первый серьезный шаг в этом направлении — обнародование так называемого акта от 5 ноября 1916 года — лишь тогда, когда окончательно потеряли веру в заключение с Россией сепаратного мира.
Поэтому ближе к правде был Дмовский, предполагая, что успех восстания, поднятого пилсудчиками, мог осложнить военное положение Антанты. Бои в непосредственном тылу фронта серьезно дезорганизовали бы действия русских. Они не смогли бы предпринять в августе 1914 года широкую отвлекающую операцию в Восточной Пруссии. А без этого наступления не известно, как выглядели бы шансы французов на победу на Марне. Возможно, Германия и не выиграла бы в конечном счете войны, но за победу над ней пришлось бы заплатить гораздо большую цену. Трудно сказать, как бы выглядела в этой ситуации позиция Польши и Пилсудского, даже если допустить, что он на последнем этапе войны решил бы переметнуться на другую сторону.
Слишком много появляется вопросительных знаков, чтобы окончательно решить спор о 6 августа. Однако не подлежит сомнению, что успехи стрелков сразу же привели бы к усилению позиций Германии, что в дальнейшей перспективе не сулило ничего хорошего.
Но судьба, которой, впрочем, активно способствовали эндеки, на протяжении ряда лет формирующие общественное мнение Королевства Польского в антинемецком духе, распорядилась иначе. Честолюбивые планы Пилсудского не были реализованы, а сам он оказался в незавидной ситуации. Австрийцы отменили данное ему позволение на проведение самостоятельных действий в Королевстве. Они были жестоко обмануты. Опираясь на щедрые обещания поднять восстание, они рассчитывали, что оно серьезно осложнит положение русских. Когда же эти надежды, даже частично, не сбылись, они поставили своему контрагенту весьма тяжелые условия. Их выполнение было равносильно включению стрелков в императорско-королевский ландштурм — народное ополчение. Отказ подчиниться этому самоубийственному, с точки зрения Пилсудского, распоряжению повлек бы за собой разоружение и расформирование отрядов.
В этой, казалось бы, безнадежной ситуации помощь пришла с довольно неожиданной стороны. Ее оказали краковские консерваторы. По их инициативе, в атмосфере галицийского национального согласия, был образован Главный национальный комитет. Под его патронатом началось создание польских легионов. Появился шанс спасения польских военных формирований. Но высокой ценой — полного отождествления их с интересами Австрии. Правда, горячий патриотизм солдат, мундиры, команды выделяли легионы среди других подразделений, но оказались не в состоянии изменить сущность частей, задуманных как галицийская разновидность австрийского ландштурма.
Этот факт недавние стрелки, а теперешние легионеры никогда не хотели учитывать. Они были убеждены, что сражаются исключительно за Польшу. Ненавидели союзническую монархию, презирали все, что свидетельствовало о тесном союзе с ней. Отказались надеть черно-желтые повязки, которые в соответствии с инструкцией Главного командования армии должны были носить на левом рукаве как знак принадлежности к императорско-королевскому народному ополчению. «Дело в том, — вспоминал Пилсудский, — что я даже не пытался раздавать их солдатам. Опасался, чтобы национальные цвета государства, опекавшего нас, не были осквернены».
Солдаты могли позволить себе такие жесты. Жизнь не требовала от них политических обязанностей. Моральную ответственность за неизбежный компромисс брал на себя Комендант. Ему было нелегко. Впрочем, не только потому, что развитие ситуации вынудило его принять решение, не являющееся вершиной национальных устремлений. Не менее болезненно переживал он неосуществленные личные амбиции. Переформирование отрядов стрелков в 1-й пехотный полк легионов было равносильно понижению Главного Коменданта Войска Польского до скромной должности командира одного из легионерских полков.
Но неудача не сломила его. Он не отказался от политических амбиций. Начал кропотливо собирать аргументы, которые снова могли бы сделать его партнером в ведущейся им игре с центральными государствами. Прежде всего приложил усилия к тому, чтобы 1-й полк, а затем I бригада легионов, которыми командовал, стали бастионом его личного влияния.
Еще до войны он пользовался среди подчиненных огромным авторитетом. Теперь он в еще большей степени подчинил их себе. Этому способствовала нелегкая психологическая ситуация, в которой оказались стрелки, вступив на территорию Королевства Польского. Не понятые и отвергнутые населением, испытывая безграничное доверие к командиру, они в старом, как история армии, культе командующего искали спасения от настойчиво приходящей им в голову убежденности в бессмысленности их борьбы. И они находили эту опору, но одновременно постепенно избавлялись от умения самостоятельно мыслить. После нескольких месяцев боев I бригада носила уже все черты личной дружины командующего. Это оказалось необыкновенно прочным явлением. Безграничная преданность Коменданту характеризовала большинство старых солдат до конца их жизни.
Осознавая силу, которую придавало доверие солдат, Пилсудский стремился подчинить своему влиянию как можно больше легионерских отрядов. Но прежде всего его усилия были направлены на то, чтобы занять пост Главнокомандующего всеми легионами. Однако эти его старания не принесли результатов. В первую очередь потому, что австрийское начальство не испытывало к нему особого доверия. Это видно хотя бы из негативной характеристики, которую дал ему Комендант легионов в ноябре 1915 года, отвергая предложение о награждении Бригадира орденом высокого класса.
«Офицер легионов VI ранга, Бригадир Пилсудский, — докладывал поляк, носящий мундир австрийского генерала, — имеет, правда, положительные качества и военные заслуги, которые говорили бы в пользу присуждения ему наивысшей награды, однако я должен в настоящий момент высказаться против этого предложения по следующим причинам: Пилсудский командует созданной им І бригадой легионов, которая совершенно отличается от сформированных командованием легионами II и III бригад с точки зрения духа и настроений. Он со своей бригадой представляет тот элемент, который, стремясь к совершенно свободной и независимой Польше, считает австрофильское направление лишь средством для достижения этой цели, готов в любую минуту принять иную, отвечающую ему либо считающуюся таковой ориентацию. С самого начала войны он поставил своей целью взять со временем в свои руки командование над всем Польским легионом в надежде, что, опираясь на него, сможет выдвигать требования националистического характера…»
Это исключительно точные оценки. Продвижение на австрийской службе необходимо было Бригадиру не для удовлетворения обычного тщеславия, а для повышения своих ставок в начатом им торге за восстановление независимой Польши. В этой игре придунайская монархия рассчитывать на лояльность сражающегося в составе ее армии офицера действительно не могла.
Об этом однозначно свидетельствуют политические инициативы Пилсудского вне рамок легионов. Самая серьезная из них, относящаяся к сентябрю 1914 года, заключалась в создании в Королевстве Польской национальной организации, с помощью которой Пилсудский намеревался установить тесные контакты с Германией. Он рассчитывал, что при ее поддержке ему удастся быстрее осуществить мечту о сформировании многочисленной польской армии. В конце концов осенью 1914 года он отказался от этих планов, но дорога к более позднему соглашению была проторена.
Предпринимая эти шаги, Бригадир прекрасно знал, что они принесут ожидаемые результаты лишь в том случае, если удастся обеспечить им поддержку населения. Поэтому он прилагал усилия, чтобы укрепить свое влияние как в тылу, так и по русскую сторону фронта. Этой цели, в частности, служила созданная летом 1914 года в Варшаве подпольная Польская военная организация[55], а также образованный позже, уже после отступления царской армии, в декабре 1915 года, Центральный национальный комитет, созданный партиями, симпатизирующими пилсудчикам.
С течением времени Пилсудский уделял все большее внимание политическим вопросам. Однако в первые месяцы войны его интересовали прежде всего военные действия, о которых он знал только по литературе. Теперь ему пришлось сдавать трудный экзамен на практике.
Война поглотила его без остатка. Несмотря на лишения, связанные с пребыванием в полевых условиях, несмотря на все опасности, которые несла с собой, она пробудила в нем неизвестные чувства и потребности, обнажила скрытые черты его личности. 5 мая 1915 года Бригадир писал майору Рыбаку, через которого он раньше поддерживал контакты с австрийской разведкой: «На войне многому учусь. Кажется, что я отношусь в этом отношении к весьма немногочисленной группе людей, которые, любя войну как искусство или ремесло, чувствуют в ней не только интерес, идею, но и просто наслаждение от того, что твои мысли чем-то заняты…»
В новых обстоятельствах Пилсудский изменил стиль своей жизни. На фронте каждый день приносил новые проблемы, требовал действий. Внешним проявлением этой метаморфозы явился тот факт, что он сбрил в декабре 1914 года бороду, которую носил многие годы. Поэтому можно без всякого преувеличения говорить о новом облике командующего.
Выступление в поход серьезно упростило его личное положение. Наконец он расстался с Марией. Покинув в августе 1914 года краковскую квартиру на Шляке, он уже, собственно говоря, в нее не вернулся. Нанося краткие визиты под Вавель, он старался останавливаться в гостинице. Хотя в особенно трудные моменты не мог отказать себе в удовольствии взглянуть еще раз на старое местожительство. Так было, например, в ноябре 1914 года, когда после лихого и опасного марша через Улину Малую, который мог закончиться катастрофой для него и подчиненных ему отрядов, он появился на Шляке с возгласом: «Много, очень много чая и есть, а больше всего спать».
Зато теперь он чаще видел Александру. Когда началась война, он привез ее из Львовской квартиры в Краков, планируя поручить ей важную политическую миссию. Она должна была отправиться вместе с женой Леона Василевского в Варшаву, чтобы склонить Дмовского к сотрудничеству. Так по крайней мере спустя годы писала она в своих воспоминаниях. Мысль была настолько фантастической, что невозможно отвергнуть подозрения, что, в сущности, Пилсудский был больше заинтересован в личной встрече с Александрой, чем в использовании ее в этой заранее обреченной на неуспех миссии. Трудно опровергнуть это сомнение, ибо неудачный поход стрелков привел к отказу от сопутствующих ему политических планов. Александра осталась в Кракове.
Однако долго быть вместе им не довелось. Пилсудский отправился на фронт. Она посвятила себя работе в тылу. Вначале стала заведующей канцелярией Гражданского комиссариата Келецкой земли. Когда же спустя несколько недель он был распущен, перешла в разведывательно-курьерский отдел I бригады на должность коменданта курьерской службы.
Они виделись, когда позволяли условия. Собирались, в частности, провести вместе первый военный сочельник.
Однако это оказалось невозможным. «Москали пожелали вдруг драться, и я должен мчаться обратно, ибо нас опять бросают на фронт, — писал Пилсудский в письме, которое должно было заменить встречу. — Аминь, все мечты развеялись, рухнув как карточный домик».
Это письмо стоит процитировать пошире. Написанное в сочельник, в благоприятствующий к раздумьям вечер, не предназначенное для посторонних лиц, оно показывало все колебания и сомнения, которые переживал его автор, внешне демонстрируя невозмутимое лицо.
«Боже мой, — отбрасывал он заученную позу, — сколько же моих мечтаний в течение этих нескольких месяцев рухнуло, и только, наверное, из-за моего глупого упорства я не подох и не пустил себе пулю в лоб от этого постоянного крушения моих мечтаний и иллюзий. Несмотря на славу, которую я снискал, несмотря на то, что я мог бы радоваться многими результатами, которых сумел добиться, бывает, однако, так грустно и тяжело, так невыносимо и мерзко на душе, что я, как ребенок, готов искать утешения где-нибудь на свете, чтобы хотя бы на минуту почувствовать без необходимости держать себя в напряженном состоянии воли, превозмогающей депрессию, и чтобы переложить на кого-то другого необходимость приглушения внутренней боли и адской усталости.
Естественно, тогда думаю о тебе… Дитя мое, много раз, когда я стоял под пулями, я мечтал, чтобы одна из них поразила меня и раз и навсегда освободила от этой адской тяжести, которая лежит на моих плечах…
Завтра рано утром еду в отряд куда-то за Дунаец… А пока посылаю тебе облатку. Поздравляю с именинами, о которых думал много раз, ломал голову над подарком, хотел сам тебе его привезти, а поздравления и пожелания по случаю рождества и именин тоже уже написал — только бы исполнились, чтобы после войны вместе отметить их в тихом, забытом людьми уголке… Твой невыносимый, противный, искренне тебя любящий и часто очень бедный Зюк».
Если даже с некоторой снисходительностью посмотреть на заявление в конце письма, касающееся послевоенных планов, то видно, что у него давно уже родился замысел сулеювковского уединения.
Итак, возвращаться к Марии он больше не намеревался. Принял окончательное решение и остро реагировал на любые попытки вмешиваться в семейные дела. «Тучи сгущались над его личной жизнью, — вспоминал Сокольницкий. — Мы, его близкие, знали, отдавали себе в этом отчет — Славек, я, может, еще один или двое… Как-то в то время он сказал Славеку: «Я не занимаюсь делами других и не позволю, чтобы вмешивались в мои собственные».
Впрочем, все меньше становилось людей, осмеливающихся делать ему замечания. Он отдалялся от прежних друзей, а с новыми сотрудниками не допускал близких отношений.
В старые, пэпээсовские времена он многих товарищей называл по имени, они его тоже. Среди них были: Станислав Войцеховский, Александр Дембский[56], Игнацы Мосьцицкий[57], Михал Сулькевич, Леон Василевский, Витольд Иодко-Наркевич, Валеры Славек. Ни с одним из офицеров легиона он не выпил на брудершафт. Не сделал исключения даже для Казимежа Соснковского, которого упорно называл «начальником» (по должности, занимаемой в штабе I бригады). Зато выпил на брудершафт с Игиацы Дашиньским[58] во время весело празднуемых именин 19 марта 1915 года, и это был, как считает Вацлав Енджеевич, его последний жест подобного рода.
В конце концов Пилсудский превратился в военачальника, заметно возвышающегося над подчиненными ему солдатами. Эта духовная дистанция ничем не нарушала характерного для его с первых дней борьбы патриархального отношения к подчиненным. «Главный Комендант, — вспоминал Фелициан Славой-Складковский, — был повсюду, где чувствовал, что надо ободрить парней. Был в окопах, на перевязочном пункте, в резервных подразделениях».
Делил также с рядовыми все невзгоды их солдатской жизни. «Мы видели, что Комендант, — записал один из легионеров, — жил в своей маленькой землянке в нашем лесочке той же жизнью, что и каждый из нас, солдат. Тот же черный, без сахара кофе и скудная в то время еда, ну и… те же вши в свитерах и мундирах, с которыми Комендант боролся, как каждый из нас. Я это подглядел как-то своими глазами».
Повседневный тяжелый труд и обязанности отошли на второй план летом 1915 года. Коренное изменение ситуации на Восточном фронте, начатое в мае наступление под Горлицей создавали возможность повысить ставки в политической игре. Еще в декабре 1914 года Бригадир объяснял председателю Главного национального комитета: «Наша роль в Королевстве Польском будет трудной и… для более широкой идеи мы ничего там не добьемся. До занятия Варшавы мы можем только «ковыряться». Пока Австрия нас стыдится, зато потом будем у нее в цене».
С занятием столицы Королевства Пилсудский связывал надежды на реализацию плана, казалось бы, окончательно похороненного в августе 1914 года. В самых далеко идущих предположениях — существовали и более скромные варианты действий — он намеревался создать в Варшаве Национальное правительство. Его должны были образовать его сторонники в момент между отступлением из города русских и вступлением войск центральных государств. Как и год назад, Бригадир заблуждался, что этот шаг может вызвать энтузиазм у населения и побудит его поддержать антирусскую повстанческую идею. Предусматриваемый в случае такого развития событий массовый наплыв добровольцев дал бы возможность превратить легионерские отряды в многочисленную армию. Успех этой концепции сделал бы Пилсудского партнером, с которым центральные государства, несмотря на одерживаемые на Восточном фронте победы, вынуждены были бы считаться.
Однако шансы на успех были с самого начала ничтожными. Поведение населения до сих пор не склоняло даже к весьма умеренному оптимизму. Неизвестна была, кроме того, и реакция оккупантов. Ведь они могли выступить против польской инициативы и без труда арестовать созданное правительство.
Именно на такое развитие событий, видимо, больше всего рассчитывал сам Пилсудский. Ибо из мнимой неудачи он намеревался извлечь весьма значительные политические выгоды. Прежде всего, Национальное правительство, уже самим названием обращающееся к повстанческим традициям, подтвердило бы жизненность национально-освободительной идеи. Эту демонстрацию можно было осуществить недорогой ценой, подобрав таких людей, чтобы их арест не осложнил бы продолжающуюся работу. Немалыми могли оказаться и тактические выгоды. Возможные репрессии объясняли бы враждебность населения по отношению к оккупантам и отмеченной австрийским клеймом акции по созданию легионов. Ведь до этих пор Пилсудский заверял своих контрагентов, что за линией фронта он располагает тысячами своих сторонников. Также и на этом он строил свою позицию. Теперь наступило время проверки этой карты и нельзя было признаться, что крыть ее нечем. А это грозило новой утратой с таким трудом приобретаемого значения. Западня, в которую Пилсудский намеревался заманить союзников, хотя временно и портила отношения, позволяла, однако, сохранить лицо.
Но Королевство Польское в очередной раз преподнесло неприятный сюрприз. Варшава, после занятия ее 5 августа 1915 года немецкими войсками, продолжала бездействовать. Национальное правительство так и не было создано. Люди, которые должны были сформировать его, не решались на серьезные политические действия. В этой ситуации Бригадир предпринял поспешный и рискованный шаг. Без согласия командования легионами он покинул фронт и направился в столицу. За такое непослушание он мог предстать перед военно-полевым судом. Впрочем, такая идея не была чужда его противникам по легиону.
Он поставил все на одну карту, ибо боялся, чтобы варшавские политики не выступили в поддержку легионов без конкретных уступок в национальном вопросе. Добравшись до столицы, он высказал по их адресу немало едких слов. «Я в Королевстве не чувствую себя как на родине, — говорил он на одном из заседаний. — Те, что пошли за мной, оказались пассивным песком». Явно под влиянием очередной неудачи усилилось его сдержанное отношение к обществу, не понимающему и не поддерживающему его планы. Еще год назад после провала акции стрелков он утверждал, что поляки оказались «камнем, покрытым плесенью, а не зарядом динамита». Теперь он реагировал еще резче.
Ибо его не сумели понять люди, считающиеся его сторонниками. Но и он требовал непростых вещей. Видя собственную слабость и отсутствие каких-либо уступок со стороны центральных держав, он считал необходимым перейти в оппозицию. Конкретно же предлагал, чтобы антирусско настроенные партии Королевства Польского обнародовали программу национальных требований и до их удовлетворения Берлином и Веной приостановили вербовку в легионы. Тем самым он признавал путь, на который вступил 6 августа 1914 года, ведущим в никуда. Многие не могли с этим примириться. Среди них был Владислав Сикорский[59], начальник военного департамента Главного национального комитета, который вопреки инструкциям Бригадира продолжал вербовку в отряды легионеров.
Колебались и другие. Чтобы сломить их сопротивление, Пилсудский прибег к шантажу. Во время одной из дискуссий он пригрозил: «Если не опубликуете воззвания, приостанавливающего вербовку, то я сделаю это сам, на свой страх и риск, сам подпишу его и буду за это отвечать перед военным судом». Это было равносильно открытому объявлению войны центральным государствам, а этого варшавские политики допустить не хотели. В конце концов упомянутое заявление появилось за их подписями.
Бригадир вернулся на фронт. И хотя он считал, что легионы свою задачу в основном выполнили, вынужденный обстоятельствами оставаться в их рядах, он не прекращал усилий для достижения цели, какой добивался на протяжении уже года, — взять на себя командование над всеми легионами. Выполнение этой задачи облегчила концентрация на Волыни осенью 1915 года всех самостоятельно до сих пор сражавшихся бригад. Под влиянием уговоров Пилсудского постепенно исчезали прежние предубеждения и обиды. Весной 1916 года был создан Совет полковников, что стало своеобразным вотумом недоверия к императорско-королевскому командованию легионами. Одновременно Пилсудский получил возможность выступать от имени всех легионов. Воспользовавшись этим, он 15 июля направил от имени Совета докладную записку Главному командованию армии с требованием ясного заявления по польскому вопросу и переформирования легионов в корпус, что должно было стать прологом к созданию польской армии, с которой бы считались. Он также дал недвусмысленно понять, что в переходный период на него должно быть возложено командование реорганизованными легионами. В случае несоблюдения этих условий он считал самым верным роспуск легионов. Для дополнительного давления на австрийцев спустя две недели после направления докладной записки, подписанной всеми строевыми командирами, он подал просьбу об отставке.
Этот акт имел скорее демонстративный характер. Бригадир был убежден, что императорско-королевские штабисты должны будут уступить. Внимательно следя за развитием событий, он видел нарастающую серьезность положения центральных государств и вместе с тем рост значения польского «козыря». В этом его убеждали происходящие на фронте события. В июне 1916 года началось наступление русских под командованием генерала Брусилова, которое прорвало оборону австрийцев на Волыни. В ожесточенные трехдневные бои оказались втянутыми и бригады легионеров. Их атаковали две русские пехотные и четыре кавалерийские дивизии. Солдаты-легионеры сражались геройски. Пилсудский руководил отрядами из первых линий окопов. Однако после трех дней боев не было иного выхода, как отступить. Бои под Костюхновкой вошли в историю легионов как самая крупная, но и самая кровопролитная битва. В одной I бригаде было убито и ранено тридцать офицеров и около пятисот солдат. «Мы вышли из боя сильно поредевшими, — писал Бригадир несколько дней спустя Валеры Славеку, — и страшно измотанными тремя днями непрерывных схваток, а затем очень трудным отступлением: три ночи и три дня почти никто не спал, а часто и голодали… Теперь уже неделю отдыхаем, зализывая раны».
Жертвы требовали компенсации. Ею могли стать лишь уступки в национальном вопросе. Поэтому Пилсудский нажимал на австрийцев, тем более что бои на Волыни показали ценность солдат-легионеров и полностью скомпрометировали императорско-королевскую армию. Поэтому Бригадир имел в своих руках немалые «козыри», и, безусловно, габсбургские штабисты должны были признать их весомость. Однако неожиданно вмешались немцы, добиваясь отставки строптивого офицера. В это время они имели уже свои планы военного использования поляков, но хотели реализовать их без участия творца польских вооруженных сил. Они опасались — и справедливо, — что в армии, создаваемой при его активной помощи, будет царить дух I бригады с неотъемлемым польским патриотизмом, который рано или поздно станет обузой для разрабатываемых в Берлине проектов урегулирования польских дел.
В это время немецкие пожелания были для австрийцев уже приказом. 27 сентября 1916 года Главное командование армии уволило Бригадира из легионов.
Пилсудчики представляли позднее это событие как результат сознательной политики Коменданта. Одни считали это доказательством, что Пилсудский решил порвать связи с центральными государствами, другие усматривали в этом шантаж, который через несколько недель привел к уступкам со стороны немцев и австрийцев, то есть к обнародованию Акта от 5 ноября 1916 года, возвещавшего о создании самостоятельного польского государства и польской армии, с которой бы считались в этой войне. Эти утверждения имеют до сих пор хождение в некоторых исторических трудах. Однако у них мало общего с подлинной картиной событий.
Просьба об отставке была задумана как тактическое средство давления на австрийцев, а ее удовлетворение застало Коменданта врасплох. В кругу близких ему людей он не скрывал своего беспокойства. Он ожидал, что вот-вот теперешние его союзники начнут претворять в жизнь идею, которая на протяжении ряда лет была объектом его стараний, — приступят к созданию польских вооруженных сил. Он не мог смириться с тем, что останется в такое время не у дел. «По-моему, — записывал внимательно присматривавшийся к нему В. Л. Яворский, — Пилсудский чувствует, что потерпел неудачу. Хочет как-то выбраться из этой ситуации. Принял бы любую генеральскую должность».
Но Пилсудский был слишком искушенным игроком, чтобы примириться с судьбой без борьбы. Он без колебаний вступил на единственно возможный в новой ситуации путь. Начал доказывать императорским политикам и штабистам, что без него о создании польского войска им нечего и мечтать. По его указанию в легионах началась массовая кампания ухода в отставку, грозящая ликвидацией легионов. Одновременно активизировала свою конспиративную деятельность Польская военная организация, заявившая о желании сражаться с Россией, но только под командованием того, кто первым в этой войне вложил оружие в руки поляков.
Но немцы не думали уступать. 5 ноября 1916 года они приступили к реализации своих польских планов. Создавалось впечатление, что они по-прежнему не замечают Бригадира. Но долго так продолжаться не могло. Без его участия создание польской армии застряло бы на мертвой точке.
После нескольких дней бесплодных усилий оккупанты перестали сомневаться в этом и включили Пилсудского во Временный государственный совет[60], прообраз польского правительства, возникшего в январе 1917 года.
Бригадир появился в Варшаве еще до формального образования Совета. 12 декабря 1916 года жители столицы восторженно встретили его на вокзале. Молодежь выпрягла лошадей из экипажа и на руках донесла его до гостиницы. Варшавские подчиненные Пилсудского постарались, чтоб всем было ясно, что в город прибыл долгожданный вождь народа. И от этого также зависел успех игры, которую он заново начал с Германией.
На фотографиях, запечатлевших его встречу, лицо Пилсудского сияет от радости. Исчезли беспокойства, досаждавшие ему в течение последних месяцев. И ничего удивительного. Никогда еще он не был так близок к цели, о которой мечтал. Казалось, что, руководя работой военной комиссии Временного государственного совета, ибо такой пост он должен был занять, он приобретет существенное влияние на организуемое немцами войско.
Коренным образом изменились к лучшему не только его политические интересы. Оптимистически начали складываться и личные дела, которые до недавних пор выглядели не лучшим образом. Александра вот уже почти год находилась в заключении. В ноябре 1915 года немцы арестовали ее по обвинению в вербовке людей в нелегальную Польскую военную организацию и бросили в лагерь в Любане в Силезии. Нельзя исключать, что этим оккупанты хотели доставить неприятность подлинному автору расширения Польской военной организации. Они, должно быть, знали о связывающих их отношениях. Тайная полиция работала безупречно. Пилсудский искренне переживал тяжелую судьбу Александры. В записке, пересланной за колючую проволоку, он писал: «Боже милостивый, прошу тебя, думай о здоровье, может, тебе нужны деньги, напиши!» Ее освободили 3 ноября 1916 года. Но увидеться сразу они не могли. Она вернулась в Варшаву, а он жил в Кракове, с Марией.
Занятие военной должности во Временном государственном совете положило конец расставаниям. Но, боясь людской молвы, они не могли поселиться вместе. Враги, которых у него всегда было достаточно, сразу бы разнесли по всему городу, что «вождь народа» состоит в нелегальной связи с наложницей. Поэтому хозяйство Пилсудского вел Сокольницкий, исполняющий обязанности его личного секретаря. А Александра, хотя была фактической, но неофициальной женой, вынуждена была оставаться в тени.
Бригадира полностью поглотила политика. Он не прекращал усилий по созданию армии. Старался навязать свои условия немцам. Считал необходимым, чтобы создаваемые вооруженные силы были зависимы не только от оккупантов, но и от поляков. Надежную гарантию этого он видел в личном влиянии на отряды. С этой целью он подчинил Совету насчитывающую более десятка тысяч человек и вот уже несколько недель наполовину открыто действующую Польскую военную организацию. Считал, что таким образом предрешит облик формирующихся отрядов.
Однако немцы, по существу контролировавшие все действия Временного государственного совета, отнюдь не намеревались передать решение военных вопросов в руки человека, к которому по-прежнему не имели доверия. Пилсудский был им нужен для поддержки своим авторитетом не пользующихся популярностью планов привлечения максимального числа польских рекрутов. И на этом его задача кончалась. В результате в течение первых месяцев существования Совета военные дела не выходили за рамки переговоров и торгов.
В этой ситуации, когда действия Бригадира в очередной раз зашли в тупик, до Варшавы докатились вести о революции в Петрограде.
После марта 1917 года сторонники Коменданта начали утверждать, что он предвидел развитие событий в России задолго до начала революции. «Еще в ноябре 1915 года, — писал в своих воспоминаниях Артур Сливиньский[61], — в окопах под Колками на Волыни он проявлял явное нетерпение, говоря, что не понимает, что эти москали думают себе и не делают революции». Подобные утверждения вышли и из-под пера Богуслава Медзиньского[62]: «Комендант злой, потому что революция в России опаздывает».
Однако характерно, что все эти сообщения появились уже после свершившихся событий. Более того, в источниках, записанных по горячим следам, можно найти и прямо противоположные утверждения. В. Л. Яворский записал в дневнике 14 марта 1917 года: «Пилсудский говорил мне еще, что в России царит хаос в транспортной системе. О революции не может быть и речи. Революционность может найти для себя выход в организации антинемецких сборищ, как это было, например, в Москве». Поэтому можно серьезно сомневаться в правдивости авторов, утверждающих, что Пилсудский давно ожидал революцию в государстве царей.
В то же время следует согласиться с мнением, что свержение самодержавия и перемены в России решающим образом предопределили его дальнейшее поведение. Прежняя политическая линия теряла смысл. Главным ее лозунгом была идея восстановления польской государственности в борьбе с Россией. Этому намерению была подчинена программа формирования армии. Антирусский фронт также представлял собой главную предпосылку союза с Австрией н Германией. Падение царизма разрушило фундамент этой концепции. Революционная Россия признала право поляков иметь собственное государство, а в своих обещаниях наголову побила императорские правительства Вены и Берлина.
«Начало революции в России, — вспоминал один из ближайших сотрудников Пилсудского — Леон Василевский, — Комендант оценил сразу как факт исключительной важности и поворотный пункт в нашей политике. Россия, как самая главная сила в наших политических расчетах, этот наш самый большой враг, на длительное время сходила с арены. В этот период можно было не принимать в расчет непосредственную опасность со стороны русских и теперь необходимо было повернуть всю нашу энергию против двух других оккупантов».
Однако Пилсудский не мог действовать опрометчиво, ибо немедленный разрыв с оккупантами мало что давал ему. Он неизбежно вызвал бы репрессии, которые, коснувшись неподготовленных, вышедших из подполья рядов, должны были нанести им жестокий урон. Поэтому до принятия такого решения необходимо было изменить организационные структуры, уйти глубже в подполье. Это требовало времени.
Летом 1917 года пилсудчики были уже готовы к конфронтации. Предлогом для официального разрыва отношений с центральными государствами стал вопрос о присяге, которую в июле 1917 года должны были принести бывшие отряды легионеров, преобразованные в так называемые Польские вооруженные силы. Хотя Пилсудский одобрил до этого текст присяги, он в конце концов рекомендовал своим сторонникам отказаться от ее принятия. Бунтовавшие были интернированы в лагерях в Бениаминове около Зегже и Щипёрне под Калишем.
Опасность нависла и над вождем мятежников. В это время он серьезно раздумывал о том, чтобы пробраться в Россию, где как раз открывались широкие перспективы для создания польской армии. Близкие к нему люди разрабатывали даже проекты реализации этого замысла. Рассматривалась возможность бегства на аэроплане. Предлагали, чтобы он направился в кавалерийский отряд Белины[63] и вместе с ним попытался пробиться через линию фронта. Эти замыслы были связаны с огромным риском, но были отвергнуты не из-за отсутствия смелости. Бригадир, всегда прекрасно чувствовавший настроение солдат, знал: они ждут, часто подсознательно, что он разделит их судьбу. Поэтому он решил принести себя в жертву. Долго ждать не пришлось. В ночь с 21 на 22 июля его вместе с Соснковским арестовали и после нескольких недель скитаний по различным тюрьмам поместили в военную крепость в Магдебурге.
В политическом смысле такая развязка была для него огромным благодеянием. Арест немцами делал безосновательным обвинение в сотрудничестве с центральными государствами. Значение этого трудно переоценить, учитывая растущие военные успехи Антанты. Также и в глазах польской общественности он из союзника Австрии и Германии превратился в жертву их преследований. Становился даже символом борьбы с оккупантами. Тем более что оставшиеся на свободе его сторонники делали все возможное для распространения такого мнения. Чем дольше его не было, тем больше людей с нетерпением ожидали его возвращения.
Условия изоляции не очень-то досаждали ему. Он относился к числу заключенных, которые пользовались особой благосклонностью. Жил в отдельном деревянном двухэтажном доме в Магдебургской крепости. Имел в своем распоряжении три комнаты на втором этаже. На первом находился только фельдфебель, присматривающий за хозяйством. Мог без каких-либо ограничений передвигаться по прилегающей территории.
Ежедневные занятия тоже мало чем напоминали тюремные. Как писал Александре, вставал в половине восьмого. В восемь завтракал. Потом два с половиной часа гулял по саду. Впрочем, сам определил себе эту норму, ибо никто его не заставлял. До обеда прочитывал еще доставляемую ему газету «Магдебургише Цайтунг», позволяющую сориентироваться в том, что происходило в Германии и в мире. В половине первого обед — хороший и вкусный, заказывал его в ресторане. Затем, как сам подчеркивал, «самая приятная минута» — чай собственной заварки. После полудня играл несколько часов в шахматы, читал и писал. В половине седьмого — ужин. После него любимый пасьянс. Однако раскладка его продолжалась не очень-то долго, учитывая довольно плохое электрическое освещение.
Единственный недостаток — отсутствие общества. Только в августе 1918 года власти разрешили поселить вместе с ним Соснковского.
Однако существовало одно обстоятельство, которое превращало магдебургскую изоляцию в муку. Это была забота о судьбе самых близких. Когда его арестовали, он уже знал, что Александра ждет ребенка. Он понимал, что роды в ее возрасте — ей исполнилось тридцать пять лет — грозят серьезными осложнениями. Он боялся за нее. 20 февраля, не зная еще о рождении дочери, писал, что с нетерпением ждет «открытки с сообщением о конце и результате твоей слабости. Если будет сын, то, как договорились, назовем его Юзеф Мечислав (Мечислав — его псевдоним периода стрелков. — Авт.), если же дочь, то решай сама, я бы голосовал за имя Ванда».
Александра была, видимо, не в восторге от второго предложения. Она не могла питать симпатии к Марии и не хотела называть дочь именем ребенка своей соперницы, но уступила его просьбе. Ее, пожалуй, больше всего отличало от Марин то, что она до самой смерти мужа полностью подчинялась его авторитету. Не протестовала, когда судьба подвергала ее испытаниям.
Но и теперь жизнь не баловала ее. Спустя одиннадцать дней после родов Александра вынуждена была вернуться к своей работе в контору сушильни овощей. «О том, чтобы я могла перестать работать, — писала она потом в своих воспоминаниях, — трудно было даже мечтать; питание было скудным: суп, каша и ужасно плохой хлеб, который трудно было даже проглотить. Ела в столовых, поскольку отсутствие дров исключало готовку дома. Масла или каких-нибудь других жиров не было и в помине. Муки в магазинах тоже».
Неизвестно, писала ли она о всех этих хлопотах в Магдебург, но если даже и нет, то Пилсудский и так не питал иллюзий, в каких трудных условиях она находится. Это не облегчало ему пребывания в заключении
Тем временем он радовался благополучному рождению дочери. «Самое забавное, однако, — писал он 18 марта 1918 года, — что в ночь с 7 на 8 (февраля. — Авт.) я видел тебя во сне, ты говорила мне, что должна прилечь, а в соседней комнате слышен был тихий плач ребенка… Мне очень жаль, что я теперь не с тобой, должно быть очень забавно наблюдать за тем, как «проклевывается» человек, никогда до сих пор не имел дело с этим…» Дата сна совпадала с днем рождения Ванды. Он отмечал это не без причины: всегда был уверен в своих телепатических способностях.
В тюремном одиночестве он с нетерпением ожидал вестей от самых близких. «Безмерно благодарен тебе, — писал он в одной из открыток, — за все, даже малейшие детали о тебе и дочурке. Я всегда думал, что воспитание ребенка по последнему слову науки и прогресса будет вызывать у меня смех, и хотя, к сожалению, видеть это непосредственно не могу, мне доставляет необыкновенное удовольствие знать об этом из твоего письма. Например, в последней открытке от 27 февраля я нашел деталь, над которой мучительно раздумывал два вечера. Господь бог наградил меня изрядной долей живого воображения, но я никак не мог представить себе, как эта бедная барышня занимается по утрам гимнастикой по «системе Мюллера» и у нее при этом, как ты пишешь, «веселое выражение личика». Неужели «оно» уже смеется? Как ты знаешь, у меня довольно консервативно-реакционная голова, поэтому меня охватывает боязнь, как бы во время этих экспериментов ты не вывихнула ребенку ручку или ножку…»
Как видно из этого, он живо реагировал даже на мелочи. А уж тем более, когда дело касалось основных дилемм его запутанной семейной ситуации.
Огромной должна была быть эта обеспокоенность, раз он решился на шаг, несомненно, противоречащий его гордой натуре. В июле 1918 года он написал письмо одному из регентов, князю Здзиславу Любомирскому[64] в котором просил «благосклонно заняться моим делом». Если нельзя было освободить его, то он просил хотя бы разрешить ему выехать на несколько недель на родину, «чтобы как можно больше времени посвятить урегулированию запутанных семейных отношений и накопившихся обязательств также личного характера». Ручался честным словом, что вернется в тюрьму в назначенный властями срок. Естественно, борясь за хотя бы временную свободу, Пилсудский представлял решение о своем аресте как явно необоснованное.
Это умело использовали позднее его враги. Первой опубликовала письмо князю Любомирскому И. Панненкова, снабдив его ядовитым комментарием: «Это был шаг, может, и… ловкий, но наверняка не… героический».
Однако просьба, адресованная Любомирскому, ничего не дала. Немцы не хотели дать согласие даже на краткое посещение Магдебурга кем-то из членов семьи или друзей. Об этом хлопотала и Мария, но и ее письмо, адресованное фон Безелеру[65], не принесло положительного результата. Впрочем, неизвестно, была ли это ее последняя попытка вернуть потерянного мужа или, может, результат уговоров ожидающих инструкций подчиненных, понимающих, что для немецких чиновников она является первой кандидаткой, имеющей право на посещение.
Итак, Пилсудский мог по-прежнему надеяться только на затрудняемую властями переписку. Он старался скрывать свои тревоги. Подшучивал над Александрой. «Как я и ожидал, — писал он 7 августа 1918 года, — я уже нашел в твоих письмах упоминание о том, что твоя дочь не только очень мила, но и весьма умна. Меня, дорогая Оля, не убедишь, я останусь скептиком в этом вопросе, особенно после того, как эта разумная особа в качестве доказательства своего умственного развития засовывает ножку в ротик. Когда это жонглерство я замечал у детей, я всегда был полон изумления их столь необычным вкусом. Но больше всего ты порадовала меня тем, что она уже набила себе шишку. Я всегда имел слабость к детям и людям, набившим себе шишки. Большинство людей в мире так безгранично глупы, что, вероятно, 999 из 1000 детей рождаются с задатками на глупость, поэтому всякие сотрясения мозгов в виде шишек увеличивают, по-моему, их шансы на ум. Такова моя теория, с которой матери редко соглашаются, но и я в отношении Ванды позволю себе остаться верным моим принципам».
В этот день он был явно в хорошем настроении. Расспрашивал о своей любимой кобыле, когда он служил еще в легионах: «…естественно, я не хочу, чтобы ее продали, интересно, хромает ли она еще и какой у нее жеребенок, такие ли у него, как и у ней, белые ножки».
Так проходил месяц за месяцем, пока благодаря началу революции в Германии 8 ноября 1918 года не распахнулись ворота магдебургской тюрьмы.
5. Начальник государства
Было туманное осеннее утро, когда в 7 часов 10 ноября 1918 года на главный вокзал Варшавы въезжал специальный, одновагонный, поезд из Берлина с магдебургским узником. На безлюдном перроне его ждали всего несколько человек. Немецким властям почти идеально удалось сохранить в тайне его выезд. Среди встречавших находились один из регентов, князь Здзислав Любомирский, а также Главный комендант Польской военной организации на оккупированной немцами территории Адам Коц[66]. Таким образом, без малейшего преувеличения, у дверей салон-вагона, из которого выходил Пилсудский, столкнулись два мира: один — угасающий, представленный членом послушного Германии и за это повсеместно ненавидимого Регентского совета, и другой — с давних пор провозглашавший национально-освободительную программу и поэтому глубоко убежденный, что ему будет принадлежать будущее возрождающейся республики.
Многие издания, как популярные, так и научные, снабжают информацию о приезде Пилсудского соответствующей фотографией. Она помещена также и в четвертом томе монументальной «Истории Польши», изданной под патронатом Польской академии наук. Как везде, так и в этом труде под ней стоит подпись: «Встреча Юзефа Пилсудского на главном вокзале в Варшаве 10 ноября 1918 года после возвращения из заключения в Магдебурге». В действительности же эта фотография относится к другому периоду. В этом можно убедиться, обратившись к «Тыгоднику Илюстрованому», в котором она помещена впервые (№ 51 от 16 декабря 1916 года).
Поразительно и поучительно, как очередные авторы размножали и все еще размножают эту ошибку. На первый взгляд трудно понять генезис этого явления. Ведь источник, содержащий подлинную фотографию, всем доступен. Годовые комплекты «Тыгодника Илюстрованого» за 1914–1918 годы, исключительно популярного в свое время еженедельника, можно найти в большинстве солидных библиотек. А тем временем, как будто бы насмехаясь над этим фактом, по-прежнему распространяется ложная информация. Можно, конечно, объяснить все это недобросовестностью исследователей. Однако это не лишенное правоты объяснение не затрагивает сущности проблемы. Ибо во всем виновата легенда, заслоняющая подлинные масштабы исторических событий. В данном случае силу ее воздействия дополнительно умножал тот факт, что эта неверная фотография очень уж отвечала потребностям общества.
Ну как же? В Варшаву в переломный исторический момент прибыл человек, на плечах которого лежало бремя ответственности за судьбы государства и народа, и такой момент не был запечатлен на фотопластинке для памяти потомков? Такая возможность просто не умещалась в головах сторонников магдебургского узника. Поэтому они совершили невинный обман: взяли фотографию, сделанную два года раньше. А что реалии не совпадали?! Что в 1918 году не было толпы на не ожидающем сенсации вокзале?! Что на фотографии не видно Коца?! Что Соснковский должен был быть в гражданском, а не в военной форме?! Об этом особенно не беспокоились. Был Пилсудский и был Любомирский, и это учитывалось прежде всего. А главное — нашлась фотография, которую должны были сделать. Неужели в этой ситуации следует переживать из-за деталей? Если для кого-то это очень важно, то может в конце концов принять находящегося на фотографии на первом плане Пыскора[67] за Коца, которого не хватает. Ведь оба были так преданы Пилсудскому.
При такой аргументации можно даже — если уж рассматривать ее серьезно — пойти и дальше. Ибо не будет преувеличением констатировать, что радостная атмосфера встречи, запечатленная на фотографии, больше отвечала ожиданиям общества в ноябре 1918 года, чем подлинная картина безлюдного перрона. «Тогда, — вспоминал этот момент князь Любомирский, — все партии, от крайне правых до левых, требовали от нас передать власть Пилсудскому».
В этой атмосфере, всего лишь в течение нескольких дней, в его руки была передана диктаторская власть над страной. Таких полномочий с давних пор никто в Польше не имел, включая коронованных особ, по крайней мере со времен Ягеллонов. 14 ноября свои прерогативы передал Пилсудскому Регентский совет, который сразу же после этого акта принял решение о самороспуске. То же самое сделало левое Временное народное правительство Польской Республики, созданное в ночь с 6 на 7 ноября 1918 года в Люблине[68]. Даже возглавляющие правых эндеки, отдавая себе отчет в собственной временной слабости, не подвергали сомнению необходимость передачи магдебургскому узнику власти в государстве. Против такого шага протестовали только левые революционеры, но не по персональным мотивам, а будучи убежденными в необходимости участия поляков в европейской социальной революции.
О близкой уже перспективе этого перелома свидетельствовало, казалось, настроение масс. Бурлили города и села. Понятие справедливости было на устах у всех.
Но осуществление своих ожиданий поляки связывали не с революцией. Доминировала вера, что независимость разрешит существующие проблемы. Что всякое зло и несправедливость безвозвратно исчезнут вместе с иностранным господством. «Невозможно передать упоение, — писал Енджей Морачевский[69],— той безумной радостью, которая охватила в тот момент польское население. Спустя 120 лет исчезли границы, нет «их»! Свобода! Независимость! Объединение! Собственное государство! Навсегда! Хаос? Ничего. Все будет хорошо. Все будет, поскольку мы освободились от кровопийц, воров, грабителей, от фуражки с кокардой, будем сами хозяйничать…»
Этой национально-освободительной эйфории недооценивали левые революционные партии и поэтому проиграли борьбу за власть. Тем более, что они соперничали не только с правыми силами, но и с конкурентами, находящимися по левую сторону тогдашней польской баррикады, прежде всего с ППС, являющейся политической основой люблинского правительства.
Так же и Пилсудский считал противопоставление революционным тенденциям одной из важнейших своих задач. В частности, по этой причине он оставил у власти «народное правительство[70], «Симилиа симилибус курантур» — «подобное лечится подобным» — этим римским правилом объяснял он необходимость терпеть какое-то время «красный» кабинет. Поэтому миссию формирования правительства он вновь поручил Игнацы Дашиньскому, а когда тот из-за возражений эндеков не справился с задачей, назначил премьером тоже социалиста Енджея Морачевского.
Несколько дней спустя, 22 ноября, появился подписанный Пилсудским и Морачевским Декрет о высшей представительной власти Польской Республики. Он передавал Пилсудскому как временному Начальнику государства высшую власть в стране до созыва Законодательного сейма. Правда, подписанные им акты требовали контрассигнации, то есть подтверждения соответствующими министрами, но в ситуации, когда они назначались им и перед ним были ответственны, это лишь в незначительной степени ограничивало его диктаторские полномочия.
В глубине души Пилсудский не принадлежал к сторонникам «народных» кабинетов. Он резко критиковал преданных ему людей, которые полностью включились в создание, а потом и поддержку люблинского правительства. В частности, в немилость попал главный инициатор этой акции, фактический заместитель Пилсудского, комендант Польской военной организации и министр военных дел в кабинете Дашиньского Эдвард Рыдз-Смиглы[71]. По имевшим хождение в кругах легионеров слухам Пилсудский якобы отругал его следующими словами: «Вам только кур гонять, а не политикой заниматься…» И нельзя исключать, что именно так он прокомментировал действия своего ближайшего сотрудника. Ибо в минуты возмущения он не выбирал выражений. А что он основательно разочаровался в политических способностях Смиглы, свидетельствует лучше всего факт, что в течение последующих семнадцати лет, до самой своей смерти, он держал его подальше от политики. А пока он дал почувствовать ему свое недовольство довольно ощутимым способом. Не только не оставил его в министерском кресле, но даже демонстративно не признавал генеральского звания, которое присвоило Смиглы правительство. По-прежнему величал его полковником, что тот воспринимал весьма болезненно, отказавшись на несколько недель вообще от употребления какого-либо звания.
Между этим недовольством люблинским правительством и более поздней, вполне осознанной поддержкой «народного» кабинета Енджея Морачевского существовало только видимое противоречие. Также и к последнему Пилсудский не испытывал симпатий. Но не привык обращать внимание на свершившиеся факты. Именно поэтому имел претензии к Смиглы и собравшимся вокруг него людям за то, что они влезли в мероприятие, из которого трудно выбраться. Поспешное дезавуирование идеи «народных» правительств грозило многими неблагоприятными последствиями. Отталкивало левые круги, поддержка которых являлась основным политическим козырем. Тревожило массы, которые в люблинском манифесте видели предзнаменование реализации своих национально-освободительных и социальных устремлений. Итак, чтобы не допустить разочарования в этих кругах и не плодить тем самым политическую клиентуру для коммунистов, следовало действовать не спеша и с большим чувством меры. Так и начал поступать Пилсудский, постепенно отказываясь от предпринятой в Люблине попытки управлять Польшей с помощью левых группировок.
По-разному комментировали мотивы такого его поведения. Правые сомневались в искренности намерений Начальника и утверждали, что он по-прежнему отдает предпочтение социалистам. Диаметрально противоположное мнение высказывали его противники, группирующиеся в лагере левых революционных сил. Для них он был лишь орудием в руках буржуазии, преградой, затрудняющей триумф революции. Аналогичным образом они оценивали кабинет Морачевского.
Несомненно, Пилсудский не хотел использовать свой авторитет для поддержки левого правительства. Но не потому, что ему были ближе интересы буржуазии, чем рабочих. Он вообще не думал такими категориями. Все подчинял высшим государственным интересам. Считал, что перед поляками стоит гигантская задача формирования внутренних структур собственного государства, а также завоевания соответствующих групп. Этого можно добиться только дружными усилиями всего народа. Ибо с этим не справятся ни левые, ни правые, если они будут надеяться лишь на собственные силы. Поэтому идеальным, по мнению Пилсудского, было бы правительство национального согласия, которое дало бы возможность использовать энергию общества во имя высших интересов государства.
«Народные» правительства, хотя их и можно было использовать для борьбы с коммунистическим влиянием, отдаляли осуществление этого идеала. Они подтверждали также мнение о Пилсудском как человеке левых сил. Не случайно он мечтал в это время: «Ах, как было бы хорошо, если большевики устроили какое-нибудь покушение на меня, бросили бомбу или что-то наподобие этого… Естественно, покушение не удалось бы, но какой эффект это вызвало бы за границей! Сразу же бы убедились, что все, что говорится о большевизме правительства Морачевского, — глупостью».
Мечта о покушении осуществилась быстрее, чем кто-либо мог предполагать. С той лишь разницей, что его совершили не коммунисты, а эндеки. В ночь с 4 на 5 января 1919 года группа заговорщиков предприняла попытку овладеть столицей. Арестовала премьер-министра и нескольких министров. Одна из групп боевиков хотела арестовать и самого Пилсудского. Однако мятежники проявили поразительную беспомощность, и путч был быстро подавлен. Неудачная попытка вооруженного переворота скомпрометировала обе стороны. Как правые в атаке, так и левые в обороне продемонстрировали отсутствие решимости и свою слабость. На поле боя остался победителем Пилсудский, сильный преданностью верных ему воинских частей.
Начальник не поддерживал ни одну из сторон. Правда, он обезоружил участников покушения, но не допустил до расправы властей над ними, воспрянув духом после кратковременной растерянности. Вызвал заговорщиков в Бельведер[72], обругал грубыми словами… и отпустил домой. Впрочем, вскоре они сделали карьеру на государственной службе: полковник Мариан Янушайтис[73] стал генералом, а князь Еустахы Сапега[74] был назначен послом в Лондон.
Неудачное покушение было на руку Пилсудскому. Появились даже намеки, что он сам инспирировал его. Однако в действительности влияние Начальника не было столь уж велико, чтобы он мог управлять действиями своих противников. Хотя неоднократно, и так было в этом случае, он умел использовать их ошибки с пользой для своей идеи. Он решил немедленно извлечь выгоду из своей укрепившейся позиции, передав власть беспартийному кабинету специалистов, во главе которого хотел поставить человека, пользующегося всеобщим уважением. 16 января 1919 года он назначил премьер- министром, или как тогда говорилось — президентом министров, Игнацы Падеревского[75], выдающегося пианиста, человека с большими национальными заслугами, политически связанного до сих пор с эндеками.
Главной задачей нового правительства Начальник считал проведение выборов в Законодательный сейм. Он стремился к ним с того момента, как получил диктаторские полномочия. Насколько же поразительной может показаться эволюция взглядов человека, который на пороге независимости прилагал все усилия, чтобы добровольно отказаться от власти, а восемь лет спустя решил совершить государственный переворот, чтобы захватить ее.
20 февраля 1919 года он говорил в Сейме, передавая в его руки свои чрезвычайные полномочия: «С момента, когда судьба вложила в мои руки руль возрождающегося польского государства, я поставил себе в качестве основной цели моего правления созыв Законодательного сейма в Варшаве.
В огромном хаосе и ослаблении напряженности, которые охватили после войны всю Центральную и Восточную Европу, я хотел сделать из Польши центр культуры, в котором правит и обязывает закон. Среди огромного хаоса, в котором миллионы людей решают вопросы лишь с помощью силы и насилия, я стремился к тому, чтобы именно на нашей Родине неизбежные общественные столкновения решались только демократическим путем: с помощью законов, принимаемых избранниками народа.
Я старался достичь своей цели как можно скорее, так как хотел, чтобы Польша, закладывая прочные фундаменты под свое возрождение, опередила соседей и стала, таким образом, притягательной силой, гарантирующей пусть и не очень быстрое, но спокойное и правовое развитие. Но как раз эту задачу моего правления было нелегко решить. Ибо нелегко сохранить спокойствие среди бушующей бури, среди всеобщей неуверенности и шаткости человеческих институтов и учреждений. Нелегко было сохранить равновесие, правя без достаточных материальных и технических средств, правя во время войны, которая разгорелась на всех наших границах…
Несмотря на все препятствия, мне удалось достичь главной цели моего правления и собрать в Варшаве первый польский Сейм в спокойных условиях, не мешающих его работе.
Я считаю, что после его сформирования моя роль окончилась. Я счастлив, что, оставаясь верным солдатской присяге и своим убеждениям, могу передать в распоряжение Сейма свою власть, которую до сих пор осуществлял в народе».
Нет оснований не верить в искренность этих заявлений. Действительно, его отречение от диктаторской власти предопределили в равной степени как внешние, так и внутренние интересы государства. Внешние — это прежде всего желание установить в Польше строй, привлекательный для соседних народов, которые он намеревался теснее связать с Польской Республикой. Правда, успех этой политики должны были определить военные действия, но привлекательная сила польской модели государственного строя была в этой игре фактором, имеющим определенное значение.
Начальнику был необходим Сейм и для укрепления международных позиций Польши. Он не говорил об этом в парламенте, ибо все и так знали, что хвалиться было нечем, а его персона не вызывала восторга у одержавшей победу Антанты. Там не забыли, что во время минувшей войны он сражался плечом к плечу с австрийцами и немцами.
Он пытался сгладить это впечатление. В опубликованном в то время интервью для популярного во Франции «Ле Пти Паризьен» он акцентировал тактический характер своего союза с центральными державами и представлял себя фактическим союзником Антанты. В частности, на вопрос о генезисе его ареста немцами он ответил так: «Они чувствовали, что я сражался за Польшу, а не за них, Я был слишком независимым. Не поддавался, как и мои офицеры, их нажимам вербовать солдат в Польше для поддержки войны против коалиции…»
Однако не все верили этим словам. На каждом шагу их подвергали сомнению эндеки, желая таким образом подорвать политические позиции Начальника. Выдвигаемые на протяжении нескольких лет упреки подытожила И. Панненкова: «В памятной антипольской речи 13 мая 1921 года Ллойд Джордж[76] среди многих, мягко говоря, «неточностей» бросил полякам в лицо одну правду: «Если бы мы рассчитывали на польские войска, которые сражались на стороне центральных государства, то Польша была бы сегодня немецким или австрийским краем», В. Витос[77], опровергая от имени польского правительства разные, причем немалые, ошибки и неточности, допущенные в этой речи, этого одного пункта даже не пытался опровергать. И правильно, ибо опровергнуть его было невозможно, поскольку мы знаем наверняка на основании многих имевших место фактов во время войны, а также немецких и австрийских дневников и служебных документов, опубликованных после войны, что в этом, возможно единственном, пункте речи Ллойд Джорджа содержалась суровая, но точная правда».
Спор о прошлом на протяжении ряда лет был одной из наиболее важных сфер политического соперничества между пилсудчиками и эндеками. В конце 1918 года и в начале следующего он имел, кроме того, существенный международный аспект. Также и по причине обвинения в германофильстве варшавское правительство не было признано победившими державами Антанты. Это было тем более неприятным и опасным, что они с давних пор сотрудничали с Польским национальным комитетом, где верховодили эндеки, который находился в Париже и фактически выполнял функции национального представительства.
Передача Пилсудским власти учредительному собранию, чему предшествовало создание кабинета Падеревского, представляла собой шаг, который Запад не мог оставить без внимания. Не случайно именно тогда создание польского государства получило всеобщее международное одобрение. 24 февраля 1919 года по этому поводу высказалась Франция, 25-го — Англия, 27-го — Италия. А ведь телеграмму с извещением о возрождении Польской Республики Пилсудский разослал в европейские столицы еще 16 ноября предшествующего года.
Сейм был также необходим Начальнику и для нормализации внутренних отношений. Не без причин он акцентировал в цитируемом выступлении реформаторские задачи парламента. Именно он должен был принять законы, разряжающие общественную напряженность. Определить пути перемен, отдаляющих призрак социальной революции.
Но в планах Пилсудского Сейм играл не только роль противоядия, вырабатывающего иммунитет на революционную пропаганду. Не меньшее, а, может, даже и большее значение он придавал его роли как форума кристаллизации политического облика страны. В январе 1921 года Начальник так вспоминал свои первые впечатления о ноябре 1918 года:
«Внутри было уже достаточно хаоса, я просто пришел от него в ужас. В течение первых нескольких недель я не встретил человека, группы, партии, которые не были бы охвачены исключительной мегаломанией. Утверждение: я или мы и народ — это единое целое — не сходило с уст, каждый это повторял, каждый стремился представлять на свой страх и риск Польшу внутри и вне. Мы были, по-моему, настолько пропитаны хаосом, что естественное развитие должно было привести не к законности, о чем я мечтал в Магдебурге, а к сильным внутренним столкновениям и к господству группового или партийного своеволия. Поэтому я сосредоточил все свои усилия на созыве Законодательного сейма как первого примера для установления законности в стране».
В этих воспоминаниях не было преувеличения. До 1918 года в лишенной свободы Польше не существовали функционирующие в других местах механизмы проверки достоверности популярности отдельных политических групп. Выборы в парламенты государств — участников разделов Польши выполняли эту роль в исключительной форме, и в 1918 году мало кто отваживался ссылаться на них. Ведь в течение последних лет многое изменилось. Поэтому все могли утверждать, что именно они пользуются поддержкой большинства общества.
У Пилсудского для каждого был один и тот же ответ. Он довольно бесцеремонным образом дал его 8 декабря 1918 года представителям ППС и ПСЛ «Вызволене»[78], то есть представителям правящих в то время в Польше партий. «Моим главным стремлением в нынешнее время является созыв Сейма. В Польше все кричат, что имеют большинство. Но только Сейм выяснит и установит, где это большинство и чего оно хочет».
Итак, Сейм должен был нормализовать польскую политическую жизнь. Упорядочить ее и направить по пути легализма. Там, где до сих пор правила уличная демагогия, должны были воцариться законы парламентской игры, допускавшие партийные споры, но всегда уступающие воле большинства.
Эту ожидаемую метаморфозу политической жизни Пилсудский связывал также с предвиденной им коренной переоценкой прежних разногласий, которые он приписывал прежде всего различным подходам в определении путей, ведущих к независимости. «В вытекающий отсюда спор, — говорил он Б. Медзиньскому, — вкладывалось слишком много ожесточенности, подозрительности и смешивания с грязью противоположной стороны. Но сегодня история уже сказала свое; независимо от того, кто, что и как предвидел, остается фактом, что перед нами предстали свобода и независимая жизнь с ее огромными и совершенно новыми проблемами». Поднять их и решить таким образом, чтобы укрепить обретенную государственность, должен был как раз Сейм. «Вы ни черта не понимаете моей ситуации, — кричал Начальник на своих сотрудников в середине января 1919 года. — Дело не в левых или правых, плевать мне на них. Я здесь не от левых и не для них, а для всех… Внутренние дела решит Сейм, который я для этого и созываю. Каким он будет: левым или правым — посмотрим. Все мои усилия должны идти в направлении армии. Этого я и добиваюсь»…
Если все эти заявления рассматривать дословно, то можно было бы сделать вывод, что Пилсудский считал парламент самым совершенным институтом осуществления власти. Но такое мнение не выдержало бы испытания историей. И не только из-за эволюции убеждений Начальника. В сущности, он никогда не был столь уж большим почитателем парламента, как, казалось, свидетельствовали его собственные заявления. Он делал их, ибо так велела тактика, а не стратегия его действий. В действительности же он был далек от субъективной трактовки Сейма. Сомневался, что его депутаты способны представлять подлинную волю народа. Считал, что сам лучше их понимает и реализует его интересы.
Таким образом, не Начальник должен был помочь Сейму в трудном деле строительства государства. А как раз наоборот. Парламент должен был облегчить ему выполнение этой задачи. Между тем депутаты Сейма всерьез считали себя единственными хозяевами Польской Республики, и в этом расхождении понимания политических ролей заключался главный источник позднейших конфликтов.
Однако вначале царила ничем не нарушаемая гармония. Как он и обещал, Начальник передал свои чрезвычайные полномочия Сейму, который определил новые принципы функционирования высших государственных властей.
По закону, называемому позднее «малой конституцией»[79], вся полнота власти находилась в руках Законодательного сейма. Ему были подчинены органы исполнительной власти — Начальник государства и правительство. Начальник, избираемый парламентом и ответственный перед ним, представлял Польскую Республику во внешних делах, а также был высшим исполнителем решений Сейма в гражданских и военных делах. Он назначал по согласованию с Сеймом правительство, которое было ответственно за свои действия перед парламентом. Каждый документ Начальника приобретал силу лишь после подписания его соответствующим министром. Таким образом, в крайней форме в Польше была введена система парламентских правительств, оставляющая главе государства лишь представительские функции.
Одновременно с принятием «малой конституции» Сейм специальным решением единодушно выразил Пилсудскому благодарность за «полное лишений и невзгод осуществление своих функций на благо Родины» и также единогласно доверил ему пост Начальника государства. Высказываемые по этому поводу комплименты не могли скрыть горькой правды: Пилсудский, сохранив формально тот же пост — Начальника государства, фактически превращался из диктатора в президента, почти полностью лишенного возможности политических действий. Правда, он занимал пост верховного главнокомандующего, дающий огромные возможности для действий вне рамок парламента.
Они были достаточно широки, поскольку на практике Законодательный сейм мог угрожать его сильным политическим позициям только тогда, когда он имел бы прочное правительственное большинство. А на это трудно было быстро рассчитывать, ибо правые, центр и левые располагали приблизительно одинаковым числом мандатов, нападая друг на друга и создавая тем самым широкое поле для инициатив Начальника, который, впрочем, умело пользовался этим.
Однако Пилсудский не предпринял даже малейшей попытки организовать на улице Вейской[80] преданную ему группу депутатов. Он традиционно пользовался поддержкой левых партий, но не отождествлял себя с их действиями и программами, так как к этому времени в идейном отношении окончательно порвал с левыми. Часто цитируют его слова, будто «он вышел из партийного поезда на остановке, которая называется Независимость». Это выражение настолько точно передает сущность тогдашнего поведения Начальника, что трудно даже поверить в очередную, скрывающуюся за ним мистификацию. Но в действительности это выражение придумал и пустил в оборот Адольф Новачиньский[81].
Итак, Пилсудский не искал поддержки среди существующих политических партий. Думал о более надежной опоре. Ценной еще и потому, что она не требовала идейных компромиссов. Ею должна была стать армия. Еще во время войны он убедился, насколько важна поддержка солдат в спорах с гражданскими. Теперь он хотел использовать этот опыт в более широком масштабе.
Поэтому преданные главнокомандующему вооруженные силы должны были заменить свою партию, стать опорой для политических действий, обеспечить успех в борьбе за власть. Итак, он последовательно стремился к объединению различных частей, солдаты которых начали в 1918 году службу под знаменами Польской Республики. А таких было много. Самыми многочисленными были военные бывших армий государств — участников разделов Польши: русской, австрийской и немецкой. Среди добровольных формирований выделялись легионеры трех бригад, солдаты так называемого польского вермахта, добровольцы из трех польских корпусов, сформированных на территории революционной России, из мурманских отрядов, одесской и сибирской дивизий и, наконец, недавние конспираторы из Польской военной организации. Отдельную группу составляла польская армия, созданная во Франции под командованием генерала Юзефа Халлера[82]. Большинство из этих комбатантов вообще не знало Пилсудского либо не испытывало к нему доверия. Чтобы завоевать его, необходимо было приложить немало усилий, которые, впрочем, не во всех случаях приносили ожидаемые результаты.
«Вы вышли из разных школ, — обращался он к солдатам, — с разными методами, разными способами мышления, разными привычками, разными особенностями повседневного солдатского быта, поэтому первым и главным требованием является унификация. Долой различия, да здравствует единство во всей польской армии!»
Этот призыв он повторял неоднократно. И делал это, несомненно, с добрыми намерениями. Но с другой стороны, он приобрел достаточно много опыта, чтобы свои намерения и надежды принимать за реальную действительность. В армии постоянно существовали глубокие линии разделов, и в этой ситуации действия, направленные на унификацию ее рядов, должны были сопровождаться усилиями с целью создания группы, преданной главнокомандующему, находящейся полностью в его распоряжении.
По этой причине он распорядился восстановить в рамках вооруженных сил прежние части легионеров, расширив их до численности трех дивизий. Думая о будущем, он забывал о старых обидах. В новые формирования принимали всех, то есть как тех, кто в июле 1917 года принес присягу и «изменил» Коменданту, так и тех, кто сохранил ему верность и добровольно отправился за колючую проволоку лагерей в Щипёрне и Бениаминове. Отпущение грехов получили даже наиболее заблуждавшиеся, как хотя бы Владислав Сикорский, которому его явное несогласие с Пилсудским в период легионов не помешало сделать генеральскую карьеру.
В обласканных верховным главнокомандующим дивизиях с новой силой ожили процессы, характерные для І бригады. Прежде всего ширился напоминающий времена Наполеона культ главнокомандующего. Владислав Броневский[83] записал в своем дневнике 16 ноября 1918 года:
«Комендант — это диктатор. Это во многом упрощает мои общественно-политические сомнения; можно, не опасаясь, вступить в армию и не бояться, что она станет орудием в посторонних руках». В минуты всеобщего сомнения, связанного с летней кампанией 1920 года, герой повести Анджея Струга[84], бывший легионер Марек Свида так характеризовал свое поведение. «Не хочу ничего знать. Но знаю, что есть главнокомандующий, который думает за меня, за всех нас. Ты с ним не был, — объяснял Свида товарищу, сомневающемуся в Пилсудском, — и не видел его своими глазами, а мы с ним выбирались из таких переплетов, из таких сложных ситуаций… Всегда выводил нас!» Это были слова не солдата Польской Республики, а признание воина из личной гвардии главнокомандующего.
Но армия и преданные ему люди были необходимы Пилсудскому не только как политическая опора. Войско нужно было ему также для реализации собственной концепции границ.
Западными рубежами государства он особенно не занимался. Поэтому его противники часто говорили и писали, что он недооценивал этих земель, что готов был оставить их Германии. Цитировали даже соответствующие заявления, относящиеся к периоду первой мировой войны, забывая добавить при этом, что почти каждое из тогдашних польских высказываний не выдержало испытания временем. По прошествии ряда лет это, как они называли, пренебрежение польскими интересами на Западе стало одним из наиболее устойчивых элементов «черной» легенды, которую без особых хлопот можно найти даже в издаваемых в настоящее время исторических работах.
Однако правда выглядела иначе. Действительно, демаркации западной границы Начальник не уделял слишком много внимания. Но не потому, что не мог понять важность этой проблемы. Его сердцу была более близка идея Польши ягеллонской, чем пястовской[85], но тогдашние его действия определяли другие мотивы. Как во всех делах, так и в этом он был реалистом. Знал, что за столом заседаний в Париже, где будет окончательно определена польско-германская граница, будет учитываться исключительно голос великих держав.
Более того, до формального установления польско-германской границы он рассматривал ее в качестве основного вопроса, отодвигающего на второй план восточные проблемы. «Повторяю Вам свое личное мнение, — писал он в письме Падеревскому 31 мая 1919 года, — до урегулирования вопроса наших западных границ мы на 9/10 зависимы от доброй воли Антанты. Поэтому я всегда придерживался мнения, что, пока этот важнейший вопрос не будет решен, необходимо все другие дела, из-за которых мы можем вступить в конфликт с Антантой, стараться затягивать, не решая их окончательно, не ставя нигде точки над «и». И только после урегулирования этих дел мы станем первостепенной силой на Востоке, с которой каждый, не исключая Антанты, будет считаться. Тогда будет легко, используя любые предлоги, которые всегда найдутся, решить эти дела в свою пользу, используя ту ситуацию, что мы будем более нужны другим, чем они нам».
Пока же Пилсудский вынужден был добиваться расположения коалиции. Особенно он был заинтересован в благосклонности Франции. Ибо прекрасно понимал, что без нее он не может даже мечтать получить что-нибудь от Германии. Итак, когда в мае — июне 1919 года Германия решительно отказывалась в Париже принять условия мирного договора, касающиеся польских дел, и когда нельзя было исключать возможности вооруженного выступления Берлина против Варшавы, Пилсудский невзирая на свои амбиции, а он был весьма чувствителен в этом отношении, назначил французского генерала Анри командующим польским Западным фронтом. Однако в конце концов Германия смирилась, и так называемый Версальский мирный договор[86] был 28 июня 1919 года подписан. Начальник мог теперь приступить к реализации своих восточных планов.
В этом вопросе он не желал признавать ничьего мнения, кроме своего. Ему решительно не отвечала инкорпорационная концепция, выдвигаемая Дмовским, заключающаяся в прямом, органичном включении в состав Польской Республики прежних Ковенской, Виленской и Гродненской губерний, большей части Минской губернии и Волыни, а также части Подолья. В то же время он был горячим сторонником федеративной концепции, обращающейся к старой идее ягеллонской Польши, доминирующей в Центральной и Восточной Европе и подавляющей своей мощью Россию, далеко оттесненную от Европы и в силу этого вынужденную довольствоваться завоеваниями в Азии[87]. У этих планов была старая метрика. Еще в докладной записке, представленной в 1904 году японскому министерству иностранных дел, он предлагал «разделить русское государство на основные составные части и предоставить самостоятельность насильно включенным в состав империи странам. Мы считаем это, — писал он, — не только осуществлением устремлений нашей родины к самостоятельности, но и гарантией этой самостоятельности, поскольку Россия, лишившись своих завоеваний, будет настолько ослабленной, что перестанет быть грозным и опасным соседом».
Спустя пятнадцать лет Пилсудский приступил к реализации этой концепции, не учитывая больших перемен, происшедших в России. Он как будто бы не замечал, что рухнул царизм, а новая революционная республика первой признала право Польши на полный суверенитет в государственно-международном отношении. Он даже не пытался вступить на путь переговоров с целью урегулирования спорных вопросов и заключения мира. Ибо отдавал себе отчет в том, что только с помощью силы он может заставить Советскую Россию признать его планы. Потому что, будучи перед угрозой контрреволюции, готовой согласиться даже на значительное продвижение на восток своей границы с Польшей, она не хотела и слышать о подрывающей ее жизненные интересы федерации, возглавляемой Польшей, а особенно о вынашиваемых в Варшаве планах поддержки стремления украинцев к независимости.
Нередко пишут, что Пилсудского толкала на восток его мания антикоммунизма. Но в этом утверждении заключена лишь часть правды. Действительно, к коммунизму и осуществленным большевиками общественным переменам он относился враждебно. Говорил об этом неоднократно, чаще всего, впрочем, в контактах с представителями Запада, жаждущими услышать подобного рода заявления. Однако, в сущности, хотя он коммунизм отвергал и осуждал, ему было безразлично, какой строй утвердится в России. Он был даже готов, хотя и с характерной для антикоммуниста гримасой неудовольствия, признать правительство большевиков, так как ошибочно оценивал его характер и поэтому был убежден, что оно погрузит Россию в хаос, лишив ее великодержавности. А это считал исключительно благоприятным для Польши явлением.
Никогда не объявленная ни одной из сторон польско-советская война велась — впрочем, не очень в широких масштабах — с середины февраля 1919 года. Ибо до этого времени территории, которые как польская, так и советская сторона считали своими, были оккупированы оставшимися здесь по распоряжению коалиции немецкими частями. По мере их эвакуации вспыхивали польско-советские стычки, которые постепенно превращались в регулярную линию фронта.
Но в течение нескольких месяцев это был не главный военный театр. Большинство польских сил было вовлечено в борьбу с украинцами за Восточную Галицию. До подписания мирного договора в Версале на своих позициях оставалась также великопольская армия, защищавшая страну от немцев. В других местах борьбой с белыми генералами Деникиным, Колчаком, Юденичем были всецело поглощены советские части.
В это время Пилсудский провел только одну крупную операцию: в апреле 1919 года занял Вильно. Сразу же после этого по Варшаве начали распространяться фантастические слухи. Одни утверждали, что Начальник захватил град Гедимина, чтобы провозгласить себя великим литовским князем. Другие, что великокняжескую корону он хочет надеть на голову своей дочери, которую, по мнению обывателей-эндеков, якобы имел от связи с еврейкой Перловой. Это последнее утверждение появилось в связи с тем, что Александра в самый трудный, магдебургский период пользовалась помощью находящейся с ней в дружеских отношениях, отличающейся благородством Терезы Перловой.
Усматривание в поведении Пилсудского монархических склонностей являлось в то время одной из главных навязчивых идей эндеков. Получила широкую огласку история с королевскими регалиями, которые Начальник якобы присвоил себе с мыслью о скорой коронации. Как в каждой «черной» легенде, так и в этом случае она фактически не имела ничего общего с правдой.
Так вот, весной 1920 года к военному министру генералу Лесьневскому[88] явился один из офицеров с информацией, что по имеющим хождение в окрестностях слухам в костеле во Владимире-Волынском спрятаны давние королевские регалии. Министр поручил изучить этот вопрос специальной комиссии во главе с известным военным историком полковником Брониславом Гембажевским. Комиссия отправилась во Владимир в июне 1920 года и тщательно обследовала костел. Ничего не нашла, но чтобы положить конец слухам и возможным дальнейшим поискам, которые вели на свой страх и риск любители сокровищ, решено было создать видимость успешного завершения акции: имитировали вынос драгоценной находки из храма. Но поскольку она потом не достигла места назначения, получили широкое распространение всевозможные слухи. Особенно упорно Пилсудскому приписывали то, что он якобы похитил национальные святыни, причем с намерением использовать их для возвеличивания своей особы. Дело приобрело настолько нашумевший характер, что Сейм в марте 1921 года по предложению эндеков образовал даже специальную комиссию для его изучения. Однако правда оказалась прозаичной.
Так же было и с занятием Вильно. И в этом случае выяснилось, что Пилсудский не руководствовался личными мотивами, а учитывал прежде всего политические интересы, питая иллюзии, что вытеснение с этой территории советских сил облегчит достижение польско-литовского взаимодействия. Может, даже станет прологом к восстановлению унии, придававшей несколько веков назад силу Польше. Поэтому он не ввел на занятой территории польской администрации. Наоборот, его обращение, названное весьма примечательно «К жителям бывшего Великого княжества Литовского», возвещало, что Польша готова поддерживать свободолюбивые устремления местного населения. Однако эти планы были нереальными. Возникающее в то время литовское государство своего главного врага видело именно в Польше и даже слышать не хотело о соглашении, не говоря уже об унии, в которой, учитывая силы обеих сторон, доминирующим фактором была бы Варшава.
Решение о походе на Вильно Пилсудский принял тайком от Сейма. Ибо большинство в парламенте не одобряли наступления в этом направлении, считая главными действия в Восточной Галиции. Не желая вступать в открытый конфликт с парламентом, верховный главнокомандующий провел эту операцию во время пасхальных каникул, исходя из правильной предпосылки, что чем позже начнутся дебаты в Сейме, тем меньшими будут масштабы протеста, особенно в случае, если военные действия увенчаются успехом. Это его предвидение в принципе сбылось, но все равно на улице Вейской было высказано по его адресу немало горьких и критических слов. Стоит вспомнить этот инцидент, поскольку он прекрасно иллюстрирует разработанную еще раньше политику Начальника по отношению к Сейму, в соответствии с которой он считался с волей парламента прежде всего в тех случаях, когда это ему было выгодно.
После завершения виленской операции на советском фронте вновь воцарилось относительное спокойствие. Его не нарушило ни скрепленное победой поляков окончание боев в Галиции, ни получение гарантий на западе. Фронт дремал и осенью, когда в решающую фазу вступила борьба за будущее России. Советская власть оказалась тогда в смертельной опасности. Белогвардейские генералы одерживали крупные победы. На Москву шел Деникин, который для окончательной победы над большевиками хотел использовать польские войска. При посредничестве Англии и Франции он потребовал от Пилсудского начать наступление и прежде всего нанести удар по Мозырю. Реализация этого плана могла действительно стать исключительно опасной для Советской России. Но польский главнокомандующий не сыграл отведенной ему роли. Не имеют значения предлоги, которыми он обосновал свой отказ. В сущности, он не желал успеха Деникину. Ибо его абсолютно не удовлетворяла программа аннексий белого генерала, замыкающая Польшу в узких этнографических границах. Поэтому он не ограничился тем, что не поддержал наступления, которое могло привести к падению Москвы, но дал, кроме того, доверительно понять советской стороне, какова его позиция. Командование Красной Армии поняло это заявление. Стянутые с польского фронта части были брошены против продвигающихся вперед войск Деникина.
Сам Деникин в своих воспоминаниях оценивал эти большевистские силы примерно в 40 тысяч человек и утверждал, что они отняли у него победу. Он прямо обвинял Пилсудского в том, что тот помог спасти Советскую власть.
В этом отношении он мало чем отличался от других побежденных полководцев, которые ответственность за допущенные ошибки и поражения привыкли возлагать на всех, кроме себя. Бесспорно, бездействие польских войск облегчило советской армии разгром Деникина. Но не Пилсудский предопределил поражение контрреволюционного наступления. Советское командование, подчеркивал Мариан Кукель[89], генерал и историк, которого трудно подозревать во враждебности к Коменданту и симпатии к большевикам, «имело здесь достаточно территории, которую могло отдать, а разгром Деникина явился в значительной степени результатом слабости базы, на которую опиралась его армия, лишенная поддержки крестьянских масс, рабочих и нерусских национальностей».
Перелом в длившейся больше года войне наступил в 1920 году[90]. 25 апреля Пилсудский начал наступление с целью нанести решающий удар по противнику: напал на Украину, стремясь поскорее захватить Киев. В его планы входил не только разгром советских сил в этом регионе. Помимо военной еще большее значение для него имела политическая цель, а именно поддержка союзника Польши атамана Сиона Петлюры в создании украинского государства антисоветской ориентации. Таким образом должен был быть заложен фундамент под будущую федерацию.
Независимо от внешне блестящих, но, по существу мнимых успехов, включая занятие Киева, эта концепция не оправдала надежд. С одной стороны, Красной Армии удалось сохранить боеспособность, а с другой — сами украинцы не проявили особого желания поддерживать вступившие в Киев войска. Как в случае с Литвой, так и здесь мечты о федерации оказались пустыми.
Тем временем Красная Армия перешла в контрнаступление, которое удалось остановить лишь на подступах к Варшаве. Решающая для судеб войны битва разгорелась в середине августа и со временем приобрела название «чудо на Висле».
Это определение придумали политические противники Начальника, а конкретно его непримиримый оппонент Станислав Строньский, который 14 августа 1920 года поместил на страницах «Жечпосполитой» статью под названием «О, чудо Вислы», где однозначно проводилась мысль, что при таком фатальном верховном главнокомандующем только провидение и чудо могут спасти Польшу. Этого выпада окружение Пилсудского старалось не замечать. Но легенда оказалась сильнее, и придуманное Строньским название повсеместно укоренилось. Поэтому у пилсудчиков не было иного выхода, как признать его. Что они и сделали, диаметрально изменив его смысл. В новой интерпретации «чудо на Висле» свидетельствовало о внеземной поддержке, оказанной главнокомандующему, которая, понятно, не могла его оскорбить, а наоборот, возвышала его над простыми смертными.
Спорили не только из-за названия битвы. Не менее противоречиво оценивались заслуги. Ставки в игре были очень высокими. Варшавскую баталию, по всеобщему мнению, относили к самым крупным польским победам. В школьных учебниках ее сравнивали даже с победами под Грюнвальдом и Веной[91]. Приписать ее кому-то означало огромный политический успех.
У пилсудчиков в этом споре были более выгодные позиции. Ибо они проповедовали точку зрения старую, как история войн. Победу в этом сражении они приписывали верховному главнокомандующему. Это было тем более убедительно, поскольку он лично руководил наступлением из-за Вепша[92], которое предопределило успех битвы. Казалось, что такую аргументацию трудно опровергнуть.
Но противники Пилсудского не привыкли легко сдаваться.
«Это чудо, — писал 21 августа 1920 года в «Жечпосполитой» Строньский, — явилось результатом усилий воли народа, который понял, что легкомыслие в намерениях и небрежность в организации привели его на край пропасти». В этой фразе не хватало пресловутой точки над «и», но поставить ее было не так уж трудно. Разумеется, это Пилсудский подверг родину смертельной опасности, призрак которой отдалили лишь усилия всего народа. Эта аргументация, неоднократно позднее повторяемая, имела, однако, и свои слабые стороны. Даже не занимающийся военными делами профан знал, что усилия народа тогда приносят эффект, когда кто-то надлежащим образом использует их. А это неизбежно направляло взгляд в сторону главнокомандующего.
Правда, эндеки пытались найти его вне рамок официальной структуры Главного командования. Начали раздувать ранее созданную ими легенду о «голубом генерале» — Юзефе Халлере, бывшем командующем польской армией во Франции. Во время варшавской битвы он командовал добровольческой армией, что облегчало создание портрета Гетмана, стоящего во главе национального ополчения и громящего неприятелей, невзирая на бездарность высшего командования.
Замысел был хорошим. Правда, он имел мало общего с действительностью, но такие недостатки не мешают легендам. Однако миф Халлера никогда не представлял угрозы позиции Пилсудского по другой причине. Ее лучше всего раскрывает мемуарная запись, рассказывающая о первой встрече двух заклятых врагов: Владислава Леопольда Яворского и Романа Дмовского.
«Мы разговаривали с Дмовским обо всем, — вспоминал Яворский, — и единодушно и дружески констатировали, что наши позиции ни по одному вопросу не совпадают, ни по внешней, ни по внутренней политике, ни в оценке людей: только в одном вопросе мы оба отметили полное совпадение взглядов, а именно, что ни я в Главном национальном комитете, ни он в Парижском комитете[93] никогда не имели дело с таким глупым человеком, как Ю. Халлер». Такого типа личность отодвинуть на второй план Пилсудского была не в состоянии.
Это замечали и певцы славы «голубого генерала», предпринявшие атаку на легенду о роли верховного главнокомандующего с другого направления. Не будучи в состоянии оспорить факт, что именно он осуществлял командование, они пытались лишить его заслуги в разработке плана победной битвы. Отнимая у него лавры, они приспосабливали их на голову видного французского генерала М. Вейгана, который находился в Польше как советник начальника Генерального штаба генерала Т. Розвадовского[94].
Длившейся несколько лет шумной кампании на эту тему подвела итоги И. Панненкова: «Будущее на основании источников, для нас еще недоступных, оценит, как следует разделить заслуги в разработке плана победоносной битвы под Варшавой между генералом Вейганом и генералом Розвадовским. Но уже сегодня одно представляется очевидным: тот, вокруг которого больше всего поднято шума по этому поводу, — Юзеф Пилсудский не принимал никакого участия в разработке этого плана».
Но это предсказание не сбылось. Проблема авторства плана до настоящего времени окончательно не разрешена. И можно сомневаться, что это когда-либо произойдет. Однако независимо от того, родилась ли концепция боя в уме верховного главнокомандующего или была ему предложена, не кто иной, как он, из разных вариантов выбрал и одобрил именно этот. Также нельзя отрицать и его роль в победе, как и в поражении, если бы события развивались иначе.
Кроме оценок, претендующих на добросовестность, имеющих целью лишить верховного главнокомандующего хотя бы части славы в варшавской виктории, противники распространяли различные сплетни, представляющие его в исключительно неблагоприятном свете. Сам он так позже вспоминал их:
«12 августа я выехал из Варшавы в Пулавы. Несколько дней спустя узнал — не с удивлением, поскольку к этому уже привык, а как бы в подтверждение своей точки зрения в отношении силы слухов у нас, — что я покинул Варшаву, потому что… струсил… Уже после победы прокуратура одного из великопольских городов обратилась ко мне, как Начальнику государства, с вопросом, должна ли она возбудить по моему полномочию судебное дело против нескольких лиц, которые публично высказывались о том, что я якобы сбежал с миллиардами, полученными, вероятно, от большевиков».
В формировании неприязненного по отношению к Пилсудскому мнения был использован также аргумент, легко в Польше признаваемый, то есть исключительно якобы компетентные зарубежные оценки. «Как могут представляться события двухлетней давности, — писалось в 1922 году в «Мысли народовой», — людям, которые, оценивая их, не руководствуются каким-нибудь смыслом, можно судить хотя бы по статье, помещенной в свое время в журнале «Нью стейтсмен», представляющем мнение так называемых прогрессивных английских кругов. Поход на Киев получил там следующую оценку: «С чисто военной точки зрения это была весьма необычная оборонительная кампания, которую когда-либо знала история. Помчались, чтобы сломать себе шею, в глубь Южной России, ворвались в Киев и устремились дальше на юго-восток в сторону Черного моря. Остановились на линии, в два раза длиннее прежнего фронта, образуя большой выступ, который в любом случае трудно было удержать, даже если бы польские силы были в несколько раз многочисленнее, чем в действительности. Если так выглядела оборонительная операция генерала Пилсудского, то он является самым бездарным генералом, какого только можно найти за пределами Китая».
Таких цитат можно было бы привести и больше, ибо оценки летней кампании 1920 года представляли собой один из основных козырей как «черной», так и «белой» легенды главнокомандующего.
Однако все были едины во мнении, что варшавская битва изменила судьбы войны. И действительно, инициатива перешла в польские руки и оставалась в них вплоть до 12 октября 1920 года, когда в Риге был подписан договор о предварительных мирных условиях, ставший прологом к заключенному в этом городе пять месяцев спустя мирному договору[95], означавшему на практике реализацию инкорпорационной концепции Дмовского, хотя и в более скромных, чем он требовал, территориальных масштабах. Сны о федерации, которая обеспечила бы Польше великодержавность по образцу времен Ягеллонов, оказались нереальными.
Однако об этом сторонники Пилсудского, казалось, не помнили. Радовались военным успехам, не задавая себе вопроса об их политических последствиях. Впрочем, этому трудно было удивляться. Ведь осуществилась уверенность легионеров, что их «взяла уже на свои огромные крылья История». Более того, не надо было опасаться, как в 1914 году, «на вершины каких заслуг вознесет их». Они считали, что завоевали и отстояли независимость. Наступало время воспользоваться плодами победы.
Вначале был награжден главнокомандующий. В первый после окончания войны праздник независимости, отмечавшийся 14 ноября 1920 года, ему вручили маршальский жезл. Эту торжественную церемонию организовал специальный комитет, состоящий из военных, входящих в состав комиссии, проверявшей соответствие офицерских званий. Город приобрел праздничный наряд, а вдоль королевского тракта, от Бельведера до Замка[96], выстроились шпалеры солдат. В полдень под восторженные возгласы населения Пилсудский прибыл на Замковую площадь. Армейский епископ Галь отслужил молебен, во время которого кардинал Каковский[97] освятил жезл. Принять его от имени войска попросил самый старый по возрасту генерал Кароль Тшаска-Дурский, а вручил его с соответствующим адресом рядовой солдат Ян Венжик, кавалер ордена Виртути милитари[98]. Этот акт проходил под залпы артиллерийского салюта. Церемония завершилась военным парадом.
Все это торжество имело однозначный смысл, а именно армия чествовала своего главнокомандующего, не обращая особого внимания на то, как реагируют гражданские. На это были свои причины. Ибо до этого Сейм без восторга отнесся к проекту присвоения Пилсудскому маршальского звания.
Проблема званий и повышений по службе относилась к числу наиболее сложных. В формирующейся армии десятки тысяч офицеров должны были пройти через длительную процедуру аттестации. Эти вопросы регулировал закон от 2 августа 1919 года и декрет главнокомандующего от 18 февраля 1920 года. В соответствии с этими актами предложения о сохранении или изменении воинского звания вносились специальными комиссиями, а утверждал их верховный главнокомандующий.
Однако повышение в звании Пилсудского требовало особой деликатности. Формально он закончил службу в легионах бригадиром. Такого звания не было в польской армии, но даже если бы его приравнять к первому генеральскому званию, то и так в формирующихся вооруженных силах нашлось бы много офицеров, более высоких по званию, чем верховный главнокомандующий. В этой ситуации Пилсудский стал носить и в будни, и в праздники серую куртку стрелков без каких-либо знаков различия. Окружение обращалось к нему по-старому, как во времена легионов, — Комендант. Он долгое время довольствовался этим титулом, щедро повышая в званиях других.
Для большинства было очевидным, что его может ожидать только одно отличие — самое высокое звание в армии. Понимали также, что всю процедуру следует провести так, чтобы избежать ситуации, в которой главнокомандующий сам возвысил бы себя на вершину славы. Поэтому летом 1919 года военный министр генерал Лесьневский обратился от имени генералитета к Сейму, чтобы тот произвел «самого достойного солдата Польской Республики» в первые маршалы Польши. Решение этой проблемы с помощью принятого Сеймом закона действительно представляло собой умелый выход из затруднительной ситуации. Ибо только представляющий народ парламент подходил для воздания почестей главнокомандующему.
Но противникам Начальника была неприятна идея возвышения конкурента, причем их же руками. Поэтому на заседании конвента старейшин[99] представители клубов правых партий сочли предложение генералитета преждевременным. Эта пощечина привела к тому, что армия решила проблему собственными силами.
19 марта 1920 года, то есть в день именин, к Пилсудскому явились делегаты Общей аттестационной комиссии с просьбой принять самое высокое в армии звание Первого Маршала Польши. Именинник дал на это согласие. В тот же день был издан его декрет, как верховного главнокомандующего, исключительно короткого содержания: «Звание Первого Маршала Польши принимаю и утверждаю».
Сторонники Пилсудского торжествовали. Противники демонстративно проявляли свое возмущение. «Серый солдатский мундир, — писала И. Панненкова, — который он носил, пока имел звание равное или более низкое, чем другие окружающие его офицеры, пока только им он мог выделяться в своем окружении, он сбросил лишь тогда, когда смог заменить его на мундир самого высокого, единственного в Польше и мире звания, которое сам себе выхлопотал. Тем самым совершил неприличный поступок, от которого воздержался даже русский самодержец Николай II, который, вступив на трон полковником, предпочел им и остаться, чем самого себя повысить, назначить или «утвердить».
Его антагонисты не ограничивались, впрочем, колкостями. Доказывали, что присвоение ему маршальского звания сопровождалось неоднократными нарушениями закона. Указывали прежде всего на тот факт, что Сейм никогда не учреждал звания «Первый Маршал Польши». В соответствующих его актах говорилось лишь о маршале Польши. Такая аргументация была правильной. Слово «Первый» было не простым порядковым числительным, а интегральной частью звания. Таким образом, за спиной парламента появился заменитель звания генералиссимуса, возвышавший Пилсудского над другими возможными маршалами Польши.
Резко критиковалась и церемония вручения жезла. «На Замковой площади, — писал один из противников Первого Маршала Польши, — при демонстративном отсутствии маршала Сейма и председателя Совета министров вручили маршальский жезл Юзефу Пилсудскому генерал и солдат. Не знаю, отдавали ли организаторы себе отчет в более глубоком значении способа, с которым было обставлено это вручение. Но апологеты писали ясно и восторженно, что это армия, минуя Сейм, присваивает Юзефу Пилсудскому звание маршала. Так вот, признание права объявить кого-то сегодня «Первым Маршалом» ведет к признанию впоследствии права объявить кого-то другого императором». Май 1926 года показал, что эти слова оказались пророческими, хотя голову выразителя интересов армии не украсила корона.
Обстоятельства присвоения Пилсудскому звания маршала представляли собой всего лишь один из сигналов, свидетельствующих о том, что гармоничные вначале отношения Начальника с Сеймом начали явно портиться. Связанное с этим разочарование очень быстро проявилось в частной, доверительной переписке. В направленном 21 августа 1919 года письме генералу Шептыцкому[100] Пилсудский писал: «Берегу сильнее всего армию, ее организации и ее использование от вмешательства в эти дела нынешнего Сейма, с его не установленным большинством, вытекающими отсюда интригами и мелкой борьбой партий, с их часто личными интересами». А ведь с момента, когда он появился на улице Вейской и заявил, что с этих пор Сейм «будет единственным хозяином своего отчего дома», прошло всего шесть месяцев.
С течением времени тон антипарламентских высказываний обострился. Ибо депутаты все активнее домогались власти над страной, тем самым значительно ограничивая сферу деятельности Начальника. Она дополнительно сократилась с момента, как он после окончания войны перестал выполнять функции верховного главнокомандующего.
Мирная стабилизация еще больше ускорила этот процесс. Смелее подняли голову противники, особенно эндек и, которые до этого терпели власть Начальника, считая, что их время еще не настало. «Если бы мы создали правительство, — писал в феврале 1920 года Роман Дмовский, — допустим, во главе со мной, мы бы Польшу могли погубить.
1) Не забывайте, что мы живем в революционную эпоху, которая какое-то время еще продлится. А мы не революционеры… 2) Нас ненавидят все революционные течения, которые против нас отмобилизовались бы сильнее и вели бы более яростную борьбу, чем против правительств, созданных Пилсудским…»
Однако по мере нормализации обстановки в стране компромисс, а вместе с ним и его выразитель становились ненужными. Атаки правых усиливались. Впрочем, не только в печатной и устной пропаганде, а прежде всего в Сейме, являющемся в то время основной политической ареной конкуренции. Конфликт, хотя его еще маскировали каноны учтивости и вежливости, стал секретом полишинеля. Каждый знал, что страх перед Пилсудским склонил недружески настроенное к нему большинство парламента к дальнейшему ограничению компетенций главы государства в принятой 17 марта 1921 года конституции[101]. И настоящей пощечиной Маршалу стала содержащаяся в основном законе оговорка, что президент не может осуществлять верховное командование во время войны.
В этих баталиях Пилсудский не только получал удары, но и наносил их сам. Это он вызвал в июне 1922 года правительственный кризис и сделал все, чтобы показать, что парламент в его нынешнем виде не в состоянии нести на своих плечах ответственность за судьбы государства. Для достижения этой цели он даже нарушил свой прежний принцип — не критиковать Сейм публично.
Во время одной из встреч, 12 июня, он бросил в лицо депутатам слова, тут же подхваченные поддерживающей его печатью: «Господа, вы стали двойственным существом, правительством и источником законов. Такое состояние ненормально и длится оно, к сожалению, слишком долго, но из этой двойственности должны вытекать и последствия. Пока эта двойственность существует, мы не придем к нормальному состоянию». Намек, что его может восстановить только усиление исполнительной власти, был сформулирован чересчур прозрачно.
За недоброжелательными для парламента словами последовали дела. Начальник отказался поручить сформировать кабинет Войцеху Корфанты[102], выдвинутому на пост премьер-министра правоцентристским большинством парламента. В ответ противники Пилсудского решили отстранить его от занимаемой должности и 26 июля внесли предложение о вотуме недоверия, констатировавшее, что «Начальник государства Юзеф Пилсудский своим неуважением прав Законодательного сейма, пренебрежением жизненными государственными интересами и углублением противоречий и межпартийной борьбы причинил государству невосполнимый моральный и материальный ущерб».
Это была уже не партизанская война, имеющая целью призвать к порядку строптивого, но в целом нужного партнера. Конфликт приближался к черте, за которой не было возможности отступления. Об этом свидетельствовала острота обвинений правых. «Пан Юзеф Пилсудский, — писала 29 июля 1922 года «Мысль народова», — забастовал на посту Начальника государства. Вначале это была итальянская забастовка. Пан Пилсудский позволял, чтобы жизнь государства шла своим чередом, и лишь отказывался участвовать в ней, хотя и был обязан действовать. «Не мешал» пану Пшановскому[103] в создании правительства, дал письменное обязательство «не мешать» в этом и пану Корфанты.
Но своего обещания он не сдержал, ибо отказался поставить свою подпись, то есть помешал созданию правительства пана Корфанты. Итальянская забастовка превратилась в полную в сочетании с саботажем. Саботировав правительство пана Корфанты, пан Пилсудский обратился к последнему оружию социалистов — черной забастовке. Губит Польшу, чтобы вынудить большинство нации пойти на уступки. Сам не исполняет обязанностей Начальника государства и никого к их исполнению допустить не желает. Так батраки во время черной забастовки не доят, не чистят и не кормят живую скотину, а одновременно не позволяют никому этого делать. Пусть скот болеет и погибает, либо пусть хозяин фольварка[104] уступит… Ни пан Пилсудский, ни его приспешники не хотят чувствовать себя хозяевами этого фольварка, заинтересованными в его развитии. Они являются лишь одураченными социалистической доктриной батраками этого фольварка и поэтому объявили черную забастовку, радуясь нищете людей, их голоду и беспомощности, банкротству казны, ибо такое состояние, ухудшающееся со дня на день, может принести им временную пользу…»
Вывод напрашивался сам собой. Такое огромное зло должно быть безусловно искоренено. Но часть депутатов, занимавших центральные места в парламенте, испугалась решительной конфронтации, и в конечном счете предложение об отставке Пилсудского провалилось. За него проголосовало 187 депутатов, против — 205, четыре бюллетеня оказались чистыми. А ведь еще менее двух недель назад Корфанты, униженный теперь отказом Начальника подписать его назначение, пользовался поддержкой 219 депутатов. Большинство парламента не проявило последовательности в действиях и тем самым не прибавило Сейму авторитета в глазах общественности.
Впрочем, это было главной целью Маршала. Ибо он не видел для себя места в системе парламентского правления, которую окончательно узаконила мартовская конституция. Он приступил к борьбе с чрезмерными, по его мнению, правами Сейма. Он прекрасно знал, что финал этой баталии будет зависеть также от поддержки общества. Поэтому он распрощался с учредительным собранием, которое несколько недель спустя прекратило свое существование, доказав, что в гуще партийных и личных интриг оно было не в состоянии видеть высшую ценность — польские государственные интересы.
Продемонстрированные во время летнего правительственного кризиса методы борьбы с парламентом навсегда вошли в арсенал действий Маршала. Он долго не представлял никакой программы реформирования законодательной власти, кроме указания на необходимость усиления исполнительных органов. Вместо того чтобы выдвигать свои оздоровительные идеи, он ограничивался компрометацией депутатов.
В соответствии с этой концепцией Маршал даже не пытался ввести в Сейм большое число своих людей, хотя назначенные на ноябрь 1922 года выборы предоставляли такую возможность. Главным образом, наверное, потому, что не верил в успех.
С завоеванием независимости его сторонники не создали отдельной, подчиненной своему вождю политической партии. Некоторые из них действовали в левых партиях, что давало определенную возможность влиять в нужном духе на ход рассмотрения дел в Сейме, хотя не такую уж большую, ибо каждая из группировок преследовала свои цели, не всегда согласовывая их с Бельведером.
Отказ от этой тактики и самостоятельное выступление в предвыборной кампании были связаны с большим риском. Неудача грозила резким сужением влияния на левых, с которыми следовало расстаться еще раньше. Тем самым Комендант терял бы всякую способность воздействовать на Сейм, что было бы для него особенно болезненным, учитывая, что там решались важнейшие государственные дела.
В конце концов он так и не отозвал своих людей с занимаемых ими до сих пор мест. Только некоторые, мечтая о политической самостоятельности, связали себя с образованной еще до голосования либеральной Национально-государственной унией. Ее полное поражение на выборах показало, насколько иллюзорными были надежды на преодоление доминирующих позиций уже окрепших традиционных политических группировок.
Сам Пилсудский не выразил по поводу этого поражения ни одного слова сожаления. Ибо в это время он уже обдумал путь к организации своих сторонников вне партийных структур. Объединительным фактором должно было стать комбатантское сообщество.
Не случайно именно с лета 1922 года были предприняты усилия сцементировать политически прежнюю группу легионеров и членов Польской военной организации. В июле 1922 года возникла Польская организация свободы, объединившая бывших членов Польской военной организации. В августе в Кракове был созван первый съезд легионеров, на котором был образован Союз легионеров. Ряды сторонников Коменданта приобретали организационную структуру. Совместные действия предпринимали люди, считающие, что именно им Польша обязана восстановлением своей независимости, в которой им теперь так трудно было найти для себя место. Ибо комбатанты-легионеры находились в целом в довольно сложной жизненной ситуации. После почти семи лет, проведенных в окопах, с незаконченным высшим или даже средним образованием, они с трудом приспосабливались к гражданской жизни. Непроизвольно искали какого-нибудь авторитета и вновь находили его в Пилсудском. С ним связывали также надежды на осуществление жизненных устремлений.
Но легионеров надо было вначале организовать. А это требовало времени. Как иначе упорядочить ряды, как подготовить их к действиям.
В этой ситуации Пилсудский прибег к новому методу борьбы с противниками: без малейшего сопротивления оставил поле боя, ожидая, что они не справятся с нарастающими в стране конфликтами и противоречиями. Новый парламент, избранный в ноябре 1922 года, мало чем отличался от предыдущего, хотя правые заметно укрепили свои позиции. На улице Вейской появился также новый фактор — представители национальных меньшинств. Однако по-прежнему ни одна из партий не имела большинства, позволяющего ей надолго взять власть в государстве, а без этого ведь невозможно было решить основные его проблемы.
Эта довольно редко применяемая в политике тактика застала врасплох соперников. Еще недавно с большой самоуверенностью они утверждали, что «пилсудчики захотят держать жизненный экзамен, делая карьеру. Поляки, вся Польша должны выдержать жизненный экзамен путем освобождения от нашествия кондотьеров». Теперь эти обвинения оборачивались против авторов этих слов, тем более что в глубине души они уже давно примирились с мыслью, что Пилсудский станет президентом.
Большинство парламента, уже двухпалатного в соответствии с положениями конституции, было готово на предстоящих выборах голосовать за теперешнего Начальника государства. Но 4 декабря 1922 года на специально организованной в Президиуме Совета министров встрече депутатов Сейма и сенаторов Пилсудский попросил не выдвигать его кандидатуры. Обосновывая этот шаг, он говорил:
«Я был щитом для всякого рода снарядов. Были там и цветы, выражавшие искреннее уважение, восхищение и любовь… Но были и другие снаряды, менее пахнущие, снаряды, к которым должен быть готов будущий президент Польской Республики, у которого могут быть менее спокойные нервы, чем у меня. Я эти снаряды называл по-солдатски «штинкгранатами» («stinken» — по-немецки «вонять». — Авт.), пытающимися задушить меня… своею вонью. Будучи солдатом, я легко переношу такие гранаты, и они почти не производят на меня никакого впечатления…»
Пилсудский не договаривал своего обвинения до конца, но все знали, что он адресовал его правым, которые прочно обосновались теперь в Сейме. Минутой раньше он высказал, впрочем, характерную оговорку: «Об отношении к Сейму вообще не хочу говорить… Объяснять отказываюсь».
Подобную любезность он не допускал в частных разговорах. Например, Владиславу Барановскому он так говорил о своей борьбе с Сеймом: «Я по-прежнему, как зверь в клетке, в которого каждое дерьмо может выстрелить… но это неважно. Наиболее неприятное я уже прошел, это уже позади, пусть теперь другие этим занимаются. Четыре года!»
Итак, период исполнения наивысших государственных функций он считал самым трудным, наиболее неприятным в своей жизни. Однако у него были и свои светлые стороны. Наиболее приятной из них была семейная жизнь.
Различные обязанности и весьма двусмысленный характер его связи с Александрой приводили к тому, что он не мог уделить своим близким слишком много времени. Однако старался бывать у них как можно чаще. Так он поступил, в частности, 10 ноября 1918 года, когда, вырвавшись от политиков, поехал на Прагу, чтобы увидеть дочь, которую знал до этого только по фотографии…
Учитывая неурегулированные семейные дела, поселиться вместе они не могли. Поэтому он находился в Бельведере, а она в скромной двухкомнатной квартире на улице Котиковой. Он навещал ее, как правило, каждый день по вечерам, если только позволяли текущие государственные обязанности.
Дочка полностью покорила его. Он был по отношению к ней исключительно нежным, обаятельным и влюбленным отцом. Если бы не множество выполняемых одновременно дел, можно было бы сказать, что она затмила для него весь белый свет. Не расставался с ее фотографией. «Всякий раз, как муж собирался в поездку или в поход, — вспоминала Александра, — всегда брал с собой медальон с изображением Матери Божьей Остробрамской, «Потоп» Сенкевича[105] и «Хронику» Стрыйковского[106]. К этому добавилась фотография Ванды».
Сам он так писал 1 мая 1920 года с фронта на служебном бланке Генеральной адъюнктатуры верховного главнокомандующего польских войск: «Пишу, не зачеркивая названия бланка, не потому, что делаю это по обязанности, а для того, чтобы подчеркнуть определенную зависимость от вас, мои дорогие, которые остались так далеко от меня, что, хотя я и невесть как занят и хотя у изголовья кровати в вагоне стоит фотография моей «наследницы», все же очень тоскую по вас…»
Случайно ли он назвал дочь «наследницей», феминизируя титул, традиционно принадлежащий мужским потомкам рода? А может, он выражал таким образом тоску по сыну? Ои отрекался от таких мыслей даже перед близкими ему людьми: «Ты знаешь, что нет, — отвечал он летом 1919 года на вопрос Василевского, хотел бы он иметь сына. — И какой бы была судьба моего сына… Ведь больше, чем я, он совершить бы не смог. Польское государство уже существует. А быть всю жизнь таким «Владиславом Мицкевичем» — сыном Адама, всегда выделяющимся и привлекающим к себе внимание только тем, что он «сын великого отца», — незавидная судьба». Наверняка, говоря это, он был искренен. Ведь он любил Ванду и, несомненно, не представлял себе другого, более прелестного ребенка. Но так ли он думал, когда ждал в Магдебурге известий о рождении потомка? Он подбирал наиболее любимые им имена с мыслью о сыне. Да и аргументация, изложенная Василевскому, родилась в атмосфере успехов в жизни, а не тюремной неуверенности. Роль продолжателя дела заключенного в тюрьму отца, судьба которого вовсе еще не была предрешена, лучше ведь мог выполнить потомок мужского пола.
Однако хорошо, что он исповедовал такой взгляд, потому что и второй ребенок, родившийся 28 февраля 1920 года, оказался девочкой. Ее нарекли Ядвигой.
Сложное положение в семье, которое давало повод для многих грубых сплетен, ускорило смерть Марии. Она умерла в Кракове в ночь с 16 на 17 августа 1921 года. До самой кончины Мария жила в старой квартире на улице Шляк, ведя очень скромный образ жизни.
Глубоко переживала расставание с мужем, но не предпринимала ничего, что могло бы повредить его репутации или поставить в трудное, двусмысленное положение. К примеру, соблюдая такт, неизменно отвечала отказом, когда ее как законную супругу Начальника государства приглашали на торжественные мероприятия или военные балы. Однако продолжала категорически не соглашаться на развод. Пилсудский уже даже перестал ее просить об этом, но его друзья предпринимали безуспешные попытки.
Марию похоронили на кладбище Россе в Вильно. Траурное богослужение отправлял епископ Бандурский. Из семьи Пилсудских на похоронах присутствовал его младший брат — Ян[107].
Демонстративное отсутствие Маршала на похоронах жены наверняка было продиктовано обидой из-за нежелания супруги дать согласие на развод. При сопоставлении с величием смерти это был определенно постыдный шаг. Чем не преминули воспользоваться противники. Газеты, воевавшие с Маршалом, поместили статьи, осуждавшие «бесчеловечный» поступок. Эндековская «Мысль народова» поместила письмо некоего бывшего легионера, скорее всего сфабрикованное, в котором автор рвал все узы с Комендантом за проявленную в связи с похоронами жены «низость».
Бестактна и поспешность, с которой свежеиспеченный вдовец заключил новый брачный союз. Уже 25 октября ксендз прелат Мариан Токажевский, капеллан Начальника государства, обвенчал его в Бельведере с Александрой. Торжества имели весьма скромный характер, а свидетелями врачующихся были врач Маршала — доктор Эугениуш Пестшиньский и адъютант подполковник Болеслав Венява-Длугошовский[108], человек столь популярный в Варшаве, что послужило предметом не слишком лестного для Маршала анекдота. Одна институтка спрашивает другую: «Ты случайно не знаешь, кто этот пожилой господин, который постоянно сопровождает Веняву?»
Свадьба завершила период долгой, вынужденной жизни порознь. С этого времени Александра с дочерьми поселилась в правом крыле Бельведерского дворца. Начала также появляться рядом с мужем во время официальных торжеств. Отпала необходимость проводить праздники и отпуск в нанятых квартирах или виллах. В их распоряжении теперь был дворец в Спале, в котором когда-то размещался российский царь, приезжавший сюда поохотиться, а потом передававшийся в пользование очередным главам польского государства.
Исполнились мечты о семейной идиллии, выраженные в письмах трудного для обоих краковского периода, хотя ее пришлось ждать более десяти лет. Пилсудский возвращался к еще одному замыслу того периода — зарыться подальше от людей и политики и посвятить себя сугубо семейным делам. Мысль эта была для него тем более приятной, что с ее реализацией он связывал надежды на получение нового, изрядного политического капитала.
Судьба распорядилась так, что это намерение Маршал осуществил в исключительных обстоятельствах, которые, наряду с сильным разочарованием Пилсудского в имевших место партийных укладах в Сейме, стали причиной сильной и необычайно стойкой психической травмы. Ведь смена главы государства произошла при драматических событиях.
9 декабря 1922 года Национальное собрание в составе депутатов Сейма и сенаторов избрало преемника Начальника государства — первого президента Речи Посполитой. Им стал Габриель Нарутович[109], ученый с мировой славой, до этого занимавший пост министра иностранных дел Польши. Его выбор предрешили голоса левых и центристских депутатов, а также представителей национальных меньшинств. И хотя процедура избрания была соблюдена с самого начала до конца в полном согласии с законом, правые в Сейме поставили под сомнение результаты выборов. Национальная демократия целиком оказалась в плену партийного фанатизма. Ее печать в утренних выпусках 10 декабря опубликовала официальное заявление руководителей депутатских клубов правых партий, в котором говорилось, что Нарутович «навязан на пост президента голосами инородцев» и что польский народ «должен почувствовать и почувствует» такой выбор «как тяжелое оскорбление», «как насилие над польской политической мыслью». Одновременно в многочисленных газетных материалах и на организованных массовых уличных митингах избранника поносили грубой бранью и оскорблениями.
Проиграв в парламенте, когда закон, легализм и конституция были на стороне президента-избранника, правые силы решили перенести борьбу на улицу. Они пошли на демонстрацию силы, чтобы запугать противника. Пренебрегая тем, что такой шаг целит в авторитет Сейма и установленные им законы.
С помощью насилия эндеки решили не допустить прихода к власти законного избранника на пост президента. Эту цель они намеревались достичь, сорвав процедуру его присяги. 11 декабря, когда президентский экипаж направлялся на улицу Вейскую, дорогу ему преградила баррикада из уличных скамеек, которые были перетащены на Аллеи Уяздовские из близлежащего парка. По адресу Нарутовича посыпались оскорбления, его стали забрасывать тугими снежками из грязного снега. Один из них угодил ему в лицо. Несколько наглецов с дубинками вскочили на приступки экипажа. Полиция взирала на все это с удивительным равнодушием.
Несмотря ни на что, президент был приведен к присяге. Но вступить в должность он мог только после формальной передачи ему власти Начальником государства. Эта торжественная процедура была назначена на 14 декабря. Тем временем в Бельведере во второй половине дня 11 декабря состоялось конфиденциальное заседание правительства с участием Пилсудского, на котором он заявил: «Я не могу передать власть в тот момент, когда банда говнюков нарушает спокойствие, оскорбляет президента, а правительство бездействует; дайте мне полномочия — и я успокою улицу; если не дадите, я пойду один и успокою — в этих условиях я не могу уступить».
Однако Совет министров явно не желал, чтобы Маршал покинул Бельведер в ореоле усмирителя столицы, опасаясь, что это могло возвысить его слишком высоко. Полномочий Пилсудский не получил.
В такой ситуации Начальнику государства пришлось завершать свои обязанности. Проведя прощальные встречи, он 13 декабря вечером вместе с семьей покинул Бельведер, переехав на улицу Кошикову в квартиру, которую прежде занимала его жена.
На следующий день, согласно ранее установленному сроку, состоялась церемония официальной передачи должности Нарутовичу, после которой семья Пилсудских дала в честь высоких гостей прощальный завтрак. После его окончания, наняв пролетку, Пилсудские отправились домой.
6. Отшельник
Утром 16 декабря 1922 года Пилсудский, как и миллионы граждан, отправился на работу. Сложив полномочия Начальника государства, он не остался без занятия. Маршал возглавлял руководство Узкого военного совета и капитула ордена Виртути милитари. Первая из этих функций имела существенное значение. В момент возникновения войны она автоматически превращалась в пост главнокомандующего вооруженными силами. Казалось, что жизнь в стране входит в норму. Для Маршала это означало перспективу отхода от активной политической деятельности и погружения в семейную идиллию.
Но буря ненависти, поднятая правыми силами, принесла свои плоды. В тот же день пополудни президент погиб от рук террориста. Пилсудский узнал об этом спустя несколько минут после трагедии. Он якобы приказал всем покинуть его кабинет, хотел остаться наедине с собой. Нелегко было свыкнуться ему с преступлением. Но несомненно и то, что он лихорадочно решал, как повести себя в новой ситуации.
О кровавой мести эндекам, сопряженной с совершением политического переворота, он скорее всего не думал. Зато такая мысль зародилась в головах некоторых его подчиненных. К наиболее энергичным ее сторонникам принадлежали бывшие командиры Польской военной организации, которые руководили ею после ареста немцами Пилсудского и уже приобрели навык политической деятельности, не пасовали перед принятием смелых решений. Среди них были Адам Коц, Игнацы Матушевский[110], Конрад Либицкий, Казимеж Стамировский. Используя негодование масс, вызванное убийством президента, они намеревались, договорившись с варшавскими деятелями ППС, расправиться с эндековскими вождями, а также попытаться овладеть ситуацией в городе. Спустя двадцать четыре часа после начала операции в город во главе войск должен был войти Пилсудский, становясь, таким образом, безусловным хозяином положения.
Однако этот план расстроили энергичные возражения лидера ППС Игнацы Дашиньского. Да и сам Маршал отнесся к нему явно сдержанно. Окончательно похоронило грезы о перевороте назначение вечером 16 декабря премьер-министром генерала Владислава Сикорского, считавшегося тогда одним из членов сообщества легионеров. Против его кабинета выступать не следовало, даже если не все из окружения Маршала были убеждены, что этот выбор был наилучшим. Конфронтация оказалась отложенной на некоторое время.
Декабрьский опыт повелевал, однако, серьезно считаться с возможностью столкновения, причем в недалеком будущем. Такое мнение разделял и Пилсудский.
2 января 1923 года у него состоялась беседа с главой английской военной миссии в Польше Эндрю Кэртэн де Вертом, в которой на вопрос, думал ли он в 1920 году установить в Польше диктаторскую власть, в чем его многие тогда подозревали, он ответил, что это было бы нелояльно на том посту, на котором он тогда находился. Теперь ситуация кардинально изменилась. «J’ai la main droite libre» («Моя правая рука свободна»), — информировал он англичанина, оставляя тому возможность строить догадки.
Это заявление не могло не вызвать удивления. Ведь Маршалу тогда далеко было до декларируемой свободы. С вечера 16 декабря он занимал один из главных военных постов — начальника Генерального штаба и должен был повиноваться высшей власти Речи Посполитой. В то время он еще не собирался бунтовать против нее. Эта «свободная правая рука» означала прежде всего предзнаменование новой, острием направленной против эндеков политики, вызревавшей давно, но принятие которой в конце концов предрешил анализ событий последних недель.
Ошибаются те биографы, которые недооценивают глубину потрясения, преобразившего психику Маршала в мрачные декабрьские дни. Именно тогда он окончательно утвердился в убеждении, что разногласия и эгоистичные интересы отдельных политических партий угрожают основам существования государства.
Эти общие соображения еще больше укрепили его личные ощущения. Убийца президента показал на процессе, что прежде намеревался убить Начальника государства. «На предварительном следствии, — поведал суду и удивленной публике Элигиуш Невядомский 30 декабря 1922 года, — я умолчал об одном обстоятельстве, которое обязан прояснить здесь. Выстрел, жертвой которого пал президент Нарутович, поначалу предназначался не ему. От него должен был погибнуть Юзеф Пилсудский». Убийца раскрыл даже детали планировавшегося покушения, от которого он отказался в последний момент, узнав, что Начальник государства не выставил свою кандидатуру на выборах президента. Никто не сомневался, особенно после того, что случилось 16 декабря, что он добился бы своей цели. И хотя Маршалу нельзя отказать в смелости, которую он продемонстрировал во время покушения на него во Львове 25 сентября 1921 года, дыхание смерти, которой удалось избежать только благодаря случайности, должно было оказать отрицательное воздействие на его психику.
Именно в это время, в конце декабря 1922 года, несомненно считаясь с возможностью, что угроза убийцы президента Нарутовнча может быть осуществлена другим безумцем, Маршал подготовил предложения о генералах действительной службы. Рукописный документ был вложен в запечатанный конверт, на котором была отметка, что он подлежит вскрытию исключительно президентом Речи Посполитой или будущим главнокомандующим только в случае смерти Пилсудского или его отказа от занимаемых в армии должностей.
Маршал в документе, не стесняясь в выражениях, расправился с генералами, которых его противники считали достойными самых высоких должностей. О Юзефе Халлере написал, что он может командовать «максимум полком». Тадеуша Розвадовского признал очень способным человеком, с широким профессиональным кругозором и прирожденной интеллигентностью, но одновременно целиком лишенным организаторского таланта. Станислава Шептыцкого рекомендовал командующим одной из армий с той оговоркой, что «верховным главнокомандующим быть не способен из-за слабохарактерности. На начальника Генерального штаба не годится, не рекомендовал бы его на этот пост даже своему врагу».
Зато дал высокую оценку командирам из числа бывших легионеров: Эдварду Рыдз-Смиглому, Казимежу Соснковскому и Владиславу Сикорскому. Первых двоих считал достойными поста главнокомандующего, отдавая предпочтение, однако, Рыдзу. Но и в его характере видел недостатки: «В отношении собственного окружения и штаба — капризный и любящий удобства, подбирающий таких людей, с которыми не было бы необходимости вступать в какие бы то ли было споры и бороться… В отношении него опасаюсь двух вещей, — добавлял Пилсудский, — во-первых, он не смог бы совладать в нынешнее время с раскапризничавшимися генералами и их гипертрофированными амбициями, во-вторых, я не уверен в его оперативных способностях как главнокомандующего и умении соизмерять не только чисто военные силы, но и силы всего государства — своего и вражеского». Вторая из этих оценок в значительной мере подтвердилась спустя шестнадцать лет[111].
Характеристики генералов показывают, насколько глубоко Маршал был уверен, что весь генеральский корпус, вместе взятый, в подметки ему не годится. Тем более его донимали грязные оскорбления, раздававшиеся по его адресу в дни эндековского шабаша. Для ксендза Казимежа Лютославского он был «кошмаром», десятилетиями преследовавшим Польшу. В середине декабря 1922 года ксендз-депутат Сейма писал на страницах «Мысли народовой»:
«Пилсудский — орудие международного сионизма в борьбе с польским народом не с сегодняшнего дня. Нельзя допускать его к власти в независимой Польше. Еще в 1905 году, когда после японской войны начали рушиться оковы, соединявшие Польшу с Россией, Интернационал использовал Пилсудского в Польше, чтобы он насаждал здесь российскую революцию, препятствуя консолидации польского народа в борьбе и использованию революции для укрепления позиций польского народа на польской земле. <…> Этот пункт программы еврейской политики против Польши он выполнил с достойной сожаления смелостью. <…>
Во второй раз в 1914 году, а точнее, в годы, предшествовавшие началу войны и в течение первых ее лет, Интернационал использовал Пилсудского, на сей раз ряженного не в революционера, а в Бартека Победителя[112], который повстанческим пафосом должен был зажечь сердца молодежи и народных масс на героическое самопожертвование во имя победы немцев. Что неминуемо должно было бы привести к краху всех надежд, которые польский народ связывал с великой освободительной войной народов. <…> Этот пункт еврейской программы, направленной на то, чтобы парализовать народ во время великой войны и вырвать у него из рук плоды страданий и безымянных жертв, Пилсудский выполнил частично, потому что народные массы, здравый инстинкт народа, разум и несгибаемая воля национальных вождей во главе с Дмовским дали ему столь достойный отпор, что пришлось все же в конце концов порвать с лояльным выполнением плана немецких штабов и Интернационала и пойти в Магдебург поговеть.
Вопреки всем расчетам врагов, вопреки преждевременным триумфам и наглым издевательствам евреев Польша изгнала оккупанта, сбросила оковы, возродила свою государственную независимость. И тогда Интернационал в третий раз направляет Пилсудского в Польшу, чтобы отравить первые годы ее существования и не допустить ее внутренней независимости. <…> Вот уже четыре года польский народ борется с последним делом рук Пилсудского: Львов, федерализм, Вильно, Киев, Пса[113] — это поля тех великих политических битв, которые Польше пришлось провести с еврейской политикой на мировой арене, и всюду народ имел против себя на стороне еврейства Пилсудского как самое грозное орудие Интернационала. <…>
Народ победил, меч врага сломался в его руках, кандидат накануне выборов покинул арену, повергнув в ужас своих сторонников».
Эти слова можно было бы отнести к проявлениям психического заболевания, если бы не некоторые обстоятельства. Этот текст вышел из-под пера ценимого в своем лагере публициста, одного из эндековских лидеров только что избранного нового состава Сейма. Он появился на страницах газеты, считавшейся главным органом теоретической мысли эндеков. Он являлся не чем иным, как публично сформулированными убеждениями, разделявшимися многими поляками. Под воздействием именно такой аргументации зародилась мысль убийства президента.
Неудивительно, что такая атмосфера повлекла за собой существенные изменения в образе мышления Маршала. Он начал презирать противников, а это вело к мысли, допускающей грубое насилие над ними. Уже в интервью, данном 6 января 1923 года Игнацы Роснеру, редактору «Курьера польского», он говорил, что в Польше господствует «глубоко безнравственная политическая мысль», опирающаяся на «легкость принятия лжи как основы политической мысли и политических суждений, с которой вести честный спор чрезвычайно трудно…».
Явно стало меняться отношение Пилсудского к окружению. Он перестал доверять даже самым близким людям. Стал резким, требовательным, часто неприветливым в беседах. Именно в это время явная метаморфоза произошла с языком его высказываний. «В речи молодого Пилсудского, — писал Адам Кшижановский[114],— деликатного и изысканного в обхождении, отсутствовала грубая брань и оскорбления. Только после отхода от политической жизни он начал осыпать ругательствами своих противников. Изменил привычки вопреки просьбам и мольбам своих друзей и семьи в надежде, что, применяя это оружие, он предотвратит использование физического принуждения своими политическими противниками и им самим».
Это объяснение, достойное пилсудчика, идеализировало мотивы поведения Маршала. Тезис о дидактическом понимании грубости в отношениях с людьми уязвим. Он разговаривал тем же языком с противником, что и с друзьями, хотя в отношении последних мог быть милым и обходительным, если был в настроении или имел какой-то интерес.
«Мне рассказывал майор из тогдашнего генштаба Тадеуш Шотцель, — вспоминал Вацлав Енджеевич эпизод, относившийся скорее всего к весне 1923 года, — что в один из дней он должен был протоколировать совещание высших военных чинов, на котором председательствовал Пилсудский. В тот день он был в прекрасном расположении духа и язык, с помощью которого он громил людей и дела, был как нельзя более непарламентский для уха застенчивого Шотцеля, известного среди нас тем, что он никогда не употреблял вульгарных слов, которыми мы часто пользовались в непринужденных беседах. Шотцель написал протокол, скрупулезно избегая крепких словечек Маршала, но четко сохраняя суть содержания конференции, и представил его для одобрения. Пилсудский прочитал, рассвирепел и порвал бумагу. «Это совсем не то, что я говорил. Напишите еще раз, точно придерживаясь того, что было сказано». И бедный Шотцель, которого Маршал любил и ценил, наверное, покрывшись румянцем, вынужден был сдобрить протокол незатейливыми эпитетами Пилсудского».
Ясно и публично провозглашенная борьба с правыми вступила в новый этап в мае 1923 года, когда эндеки заключили соглашение с Польской крестьянской партией (ПСЛ) «Пяст»[115], создав тем самым правоцентристское большинство, необходимое для сформирования правительства. Реакция Пилсудского была необычайно скорой и резкой. В тот самый день, 28 мая, когда возник кабинет Винценты Витоса, он демонстративно съехал вместе с семьей со служебной квартиры в здании Генерального штаба и отправился в Сулеювек.
С 1921 года он стал здесь владельцем небольшого земельного участка, где поначалу находился скромный деревянный домишко, пригодный для проживания исключительно летом. На этом участке в 1923 году из фондов Комитета польского воина был построен солидный каменный дом, полностью отвечавший потребностям всей семьи. Когда прибыли хозяева, он еще сохранял запах свежей штукатурки и краски, а сама торжественная процедура передачи представителями армии ключей владельцам произошла только спустя две недели. Политические обстоятельства подпортили, к сожалению, сценарий давно запланированного мероприятия.
Спустя два дня после демонстративного уединения в Сулеювеке Маршал подал в отставку с поста начальника Генерального штаба, которая 9 июня была принята президентом Войцеховским. Пилсудский, правда, сохранил за собой руководство Узким военным советом, но все понимали, что этот шаг был продиктован протокольно-государственными обстоятельствами: подходил срок визита румынской королевской четы, у которой он гостил в сентябре 1922 года. Поэтому Маршал не мог выступать в данном случае как частное лицо, к тому же находящееся в оппозиции. Во внутренней борьбе он уже совсем не скрывал своих позиций. Так, к примеру, приветствуя членов правительства на торжествах по случаю вручения королю Фердинанду ордена Виртути милитари, Пилсудский не подал руки министру иностранных дел Мариану Сейде[116], одному из лидеров национальных демократов. Среди присутствовавших этот афронт вызвал, понятно, сенсацию.
Еще грубее Маршал поступил с военным министром в кабинете Витоса генералом Шептыцким. 28 июня, грубо оборвав его на заседании Узкого военного совета, Пилсудский якобы, как сообщает один из мемуаристов, сказал: «Вы как потаскуха, которая подставляет задницу то одному, то другому». В результате оскорбленный Шептыцкий послал секундантов, требуя сатисфакции. Пилсудский отказал ему, аргументируя это тем, что не может стреляться с подчиненным. Спор разрешил президент, запретив обращаться к оружию.
2 июля Маршал направил Войцеховскому очередное прошение, на этот раз с просьбой освободить его с поста председателя Узкого военного совета, которая была удовлетворена на следующий день. Таким образом, он превратился в частное лицо, если не считать сохранившейся за ним должности канцлера капитула ордена Виртути милитари, которая имела практически только почетное значение.
Не теряя времени, Пилсудский воспользовался полученной после многих лет свободой политической деятельности. Спустя несколько часов после принятия его отставки, во время прощального банкета, устроенного в кругу друзей в малиновом зале гостиницы «Бристоль», он подверг резкой критике господствующие в Польше порядки. Прежде всего нанес удар по правительству Витоса, но и не пощадил также стоящего за его спиной Сейма. В присущей ему манере Пилсудский объяснил причину, побудившую его покинуть ряды армии: «Эта шайка, эта банда, которая порочила мою честь, тогда (после избрания Нарутовича президентом. — Авт.) искала повода для кровопролития. Наш президент был убит после уличных дебошей, обесценивающих представительскую деятельность, теми самыми людьми, которые некогда в отношении первого народного представителя, избранного свободным волеизъявлением, продемонстрировали столько грязи и пещерной ненависти. Теперь они совершили преступление. Убийство, наказуемое законом. Мои дорогие, я солдат. Ратный труд — тяжелое призвание, когда порой вступаешь в противоречия со своей совестью, со своими мыслями, дорогими чувствами. Как только подумаю, что, как солдат, я должен буду защищать этих панов, все протестует внутри меня. Заколебавшись, я принял решение, что не могу быть солдатом. Поэтому подал в отставку…»
Это было объявление открытой войны эндеко-пястовскому кабинету Витоса и поддерживающему его Сейму. Маршал вел ее на два фронта. С одной стороны, яростно сражался против партий и политиков, которых обвинял во все разрастающемся зле. С другой же — подчеркивал свое умение и заслуги.
Три года, проведенные в сулеювековском «уединении», — это было прежде всего время создания мифа о самом себе. Он издавна старательно трудился над ним. С мыслью о нем он написал в начале века «Нелегальщину». Будучи в легионах, умело гримировался под национального героя. Он внес большой личный вклад в то, чтобы фуражка — «мацеювка» и серая куртка стрелка превратились в неотъемлемую частицу легенды вождя, который «предпочитал мундир стрелка лампасам». Он отлично понимал, что именно такие мелочи прибавляют больше популярности, чем многие политические шаги. Но и их умело эксплуатировал для склонения на свою сторону общественного мнения. Необычайно точное наблюдение принадлежит Яну Хупке, когда тот, объясняя в своем дневнике мотивы прекращения вербовки в легионы, записал: «Пилсудский не хочет идти наперекор общественности Королевства Польского, потому что заботится о популярности и умеет ее завоевывать». Это суждение утратило актуальность в 1930 году.
С этого времени Пилсудский начал безудержно и беспардонно восхвалять сам себя. Несомненно, Маршал был человеком с большими заслугами, но в описании их он не знал меры. Представлял себя как самого выдающегося поляка, с которым не только никто из живущих не выдерживал сравнения, но и в тысячелетней истории таких гениев можно было буквально пересчитать по пальцам. Он записывал почти исключительно в свой актив возрождение государства, то, что сумел уберечь его от многих опасностей, приукрасить лаврами побед, которые в течение столетий не имели места над Вислой. А сделать это было тем труднее потому, что его поддерживала только горстка ближайших соратников, многие годы вместе с ним преодолевавших оцепенение и беспомощность общества.
Фраз, в которых он приписывал себе величайшие заслуги, питал к себе наибольшие симпатии, восхищался собственной значимостью, совершенством, несравненностью с другими, можно было бы привести множество. По прошествии лет, с исторической дистанции они звучат просто неправдоподобно, вызывая подозрения, если их пересказывают, а не цитируют, что они были тенденциозно подобраны, чтобы осмеять их автора. Поэтому необходимо дать слово ему самому.
Вот что он говорил в интервью 10 февраля 1926 года газете «Курьер поранны»: «Я человек, заставляющий своим трудом вызывать к себе уважение, независимо от вытекающего по тем или иным соображениям отношения ко мне. Я был Начальником государства и сумел в 1918 году обеспечить спокойствие и развитие государства, несмотря на всеобщие блуждания в водовороте событий, перед лицом которых одичавшее в трусости и опустившееся в неволе общество выглядело так, что впадало в дрожь от самой мысли о существовании Польши как независимого государства. Я сумел прославить наши знамена столь великими победами, которых не знали даже наши прадеды, и добился их тогда, когда трусость делала нашего белого орла желтым от страха. Достаточно вспомнить Спа, которое я перечеркнул победами, и ночную атаку на ставку противника во время угрозы столице. Наконец, вопреки польской традиции, я сумел, уходя по политическим мотивам с государственной деятельности, ничего не потребовать от нищего государства, а обеспечить жизнь себе и своей семье собственным трудом. И хорошо понимаю, что такого человека трудно оставить без внимания, пока он дышит и живет…»
С еще большей уверенностью в себе он говорил 28 октября 1925 года на заседании комиссии, изучавшей состояние оперативных планов в 1920 году: «Моя система соответствовала нуждам и состоянию Польши. Наша армия спешно формировалась в ходе войны — это был ее первый минус. Второй же заключался в том, что генералы грызлись между собой, отсутствовало доверие. Третий — мы мало знали друг друга. Четвертый — это постоянный нажим государств-победителей; все, кроме меня, поддавались этому нажиму; я же постоянно вынужден был следить за тем, чтобы не произошло предательства. Такая угроза существовала и в Генеральном штабе, и среди генералов, и в Сейме, и в Министерстве иностранных дел. <…> Я победил вопреки полякам — с такими полячишками я вынужден был постоянно бороться.
Еще одной помехой было верховное командование Я его создал сам. Ввиду царившего в армии финансового разложения и воровства я вынужден был отказаться от ведения финансовых дел, будучи не в состоянии контролировать их. На верховное командование было возложено ведение военного хозяйства. Контроль за ним наладить не удавалось, хотя в эти органы я подбирал гражданских лиц. Правительству я доверять не мог, потому что оно крало еще беззастенчивее. У меня не было никакого доверия к Сейму и правительству. <…>
В Генеральном штабе каждый иностранец мог читать все, что хотел, военные тайны проникали к немцам и большевикам. Никаких секретов, по существу, не было. <…>
В верховном командовании творились огромные злоупотребления. Вероятно, и многие депутаты Сейма были в них замешаны: не одно депутатское состояние было сколочено в результате злоупотреблений в военном хозяйстве, особенно грязным было дело о разворованных трофеях, взятых у немцев. <…>
Я одерживал победы тогда, когда бросал к черту другие дела, брался за главное — командование и побеждал. Победы одерживались с помощью моего кнута».
Он не всегда говорил так спонтанно и столь грубо. Если желал, становился искусным оратором, целиком приковывавшим внимание слушателя или читателя, очаровывая его убедительностью и художественной красотой тонко построенной фабулы. Но никогда не забывал создавать миф о себе. Эту роль был призван также сыграть главный труд периода «отшельничества» — «1920 год». «Скажу прямо, — писал он в пространных выводах, — что за всю двухлетнюю войну я не потерпел ни одного поражения. Всякий раз, когда я сам лично руководил военными действиями, то одерживал победы, которые в истории этой войны были эпохальными». Поражения же, которых в этой войне было предостаточно, всегда оказывались делом рук подчиненных. Поистине не преувеличенным был вывод генерала Сикорского, зафиксированный в мемуарах Ратая[117], согласно которому «Пилсудский всех генералов (за исключением Ромера) в грош не ставит, а над Шептыцким просто измывается…».
Это развившееся с силой урагана пропагандистское наступление не могло остаться без отклика. Ратай закончил свою запись примечанием, что «Шептыцкий готовится дать ответ, он хочет показать, что распоряжения, которые в наибольшей степени критикует Пилсудский, отдавались в явном соответствии с его приказами, несмотря на возражения Шептыцкого». И в самом деле, спустя год появился труд Шептыцкого, в котором автор настойчиво доказывал эту мысль.
Миф, который создавал о себе бывший Начальник государства и главнокомандующий, решительно опровергала также книга «Юзеф Пилсудский как командующий и историк», принадлежавшая перу Кароля Поморского. Под этим псевдонимом скрывался один из наиболее ненавистных в Сулеювеке после 1924 года генералов — Владислав Сикорский. «Пан Маршал Пилсудский, — писал Поморский, — перестав быть главнокомандующим, а потом и начальником штаба, добровольно покинув ряды армии, занялся литературой не столько художественной или научной, сколько сочной. Любимая его тема — собственные деяния на фоне минувшей войны. Воспевая себе как главнокомандующему, государственному мужу и человеку похвальные гимны, грязью оскорблений и презрительными словами он одаривает всех и вся, что не связано с ним или его свитой: генералов, армию, народ, а в последнее время не пощадил даже символ национальной славы — Белого Орла. <…>
В своем полемическом запале он сам, впрочем, себя разоблачил и показал сущность своей игры. Она, несомненно, исходит из страха перед исторической правдой, которой в своем эгоцентризме он панически боится.
Ему недостаточно ореола первого Начальника государства, организатора и создателя армии, наконец, командующего, победоносно завершившего войну. Он хочет выглядеть в глазах народа каким-то полубогом, всегда правым, сильным непреклонной волей, одаренным военным гением.
Такая фигура, несомненно, обладает притягательной силой и поэтому такую роль легко играть. Что и делают актеры, играющие роль Наполеона или Цезаря или хотя бы язвительного Мефистофеля в «Фаусте». Но ни один из актеров не пытается убедить своих зрителей, что он является такой фигурой после ухода со сцены, в реальной жизни. Иначе его бы постиг полный провал. Таким образом, миф, который сам о себе хочет создать Маршал Пилсудский, обречен при первом же столкновении с исторической правдой, почерпнутой хотя бы из его же собственного источника, которым является «1920 год».
Свой тезис Сикорский иллюстрировал десятками примеров, подвергал выводы Пилсудского всесторонней критике, сопоставлял их с документами. Его аргументация в самом деле должна была сильно воздействовать на читателя, если тот не утратил самостоятельности мышления и не оказался в плену обаяния, издавна расточавшегося Комендантом.
Понятно, что книга Сикорского отнюдь не состояла из «чистой правды». По существу, она была подчинена вовсе не научной цели, а укреплению «черного» мифа о конкуренте. Нужно, впрочем, признать, что в ней отсутствовала примитивная демагогия, заполонившая страницы эндековской прессы.
«Пилсудский, — отчитывалась пером Новачиньского о торжествах по случаю именин Маршала в 1924 году «Мысль народова», — три или четыре дня был объектом оваций, манифестаций, демонстраций, а краснокожая пресса пестрела сообщениями об этом непристойном, нудном, ординарном, раздражающем паясничанье. Поражает то, что у этого человека хватает выдержки вынести продолжающиеся уже многие годы почести и овации, и более того, он, так же как стареющая примадонна, все в большей степени и болезненно становится податливым на этот шум, аплодисменты, выкрики, туши, оркестры, овации, приветствия, речи, тосты, вставания публики, почетные построения, размахивания шляпами и т. д. В этом славолюбии и страсти к блеску и почестям есть что-то исключительно низкое, плебейское, ограниченное. Любая подлинная историческая величина, любой более масштабный человек, обладающий хорошим вкусом, каждый даже национальный или партийный полугерой с «лучшим вкусом» уже бы давным-давно пристыдил и выпроводил эти демонстрации, это бы его раздражало, злило, наводило бы тоску…»
Аналогичные нападки, хотя и под другими предлогами, случались очень часто. Собственно, не было недели, чтобы на Маршала не выплескивали очередной дозы оскорблений. Со второстепенными писаками он в полемику не вступал. Но с момента выезда в Сулеювек он раз за разом доказывал, что, говоря его словами, «язык у него подвешен по-легионерски». Безжалостно нападал на противников, с течением времени все реже сохраняя джентльменство, в чем убедились его антагонисты в нашумевшем споре осенью 1925 года, касающемся оценки Военного исторического бюро.
Но борьбу за власть нельзя было выиграть полемикой и лекциями, хотя они способствовали росту популярности, которая могла существенно повлиять на результат приближающейся развязки. Терзать противника могли только конкретные политические действия, a r них в течение первых двух лет отшельничества Маршал предпочитал не особенно ввязываться. Ведь не для того он ушел в тишь домашней обстановки, чтобы попусту растрачивать политический капитал при каждом правительственном кризисе, при малейшем шансе дестабилизации с трудом склеиваемого парламентского большинства.
Пилсудский официально предпочитал оставаться наблюдателем, с высоты своего величия смотревшим на каждодневные распри и интриги. Однако отнюдь не имел намерения облегчать жизни противникам, полностью оставляя им поле боя. Правда, сам он покинул его, но там продолжали оставаться его сторонники. Не случайно в переломный момент в июне 1923 года пилсудчиковская «Дрога» писала: «Мы должны немедленно включиться в работу и начать борьбу со злом, которое стало господствовать в Польше». Впрочем, к такому выступлению бывших легионеров и «пеовяков»[118] особенно подталкивать и не требовалось. К этому побуждали и отставки, которые они получали от новых правителей страны. Легионерская молва считала это прелюдией к генеральной чистке, направленной против всех бывших подчиненных Коменданта.
«Сегодня, — заявлялось в ноябре 1923 года в обращении Главного правления Союза польских легионеров, — на фабрику, в мастерскую, на государственную службу тебя не принимают именно потому, что ты легионер, что отвоеванная тобой Отчизна снова со всех сторон окружена опасностями, сегодня за твоим вождем устанавливают тайную слежку, сегодня твоя семья в результате гонений живет впроголодь. <…>
Давайте крикнем громко и со всей серьезностью: «Завтра должно стать лучше, чем сейчас», потому что завтрашний день мы будем создавать сами. Кто с этим не может или не хочет согласиться, для того дверь открыта, пусть возвращается туда, откуда пришел. Здесь хозяином может быть только тот, кто это право приобрел не за деньги, оплатил жертвенной кровью! Будьте бдительными, граждане! Шашки к бою!»
Этот клич, казалось, предвещал последний бой. А о том, что слова не бросались на ветер, свидетельствует хотя и не до конца выясненное, но бесспорное участие пилсудчиков в краковских событиях ноября 1923 года, которые явились кульминационным подъемом волны общественного протеста против правительства Хьено[119] — Пяста. Но до решающей схватки не дошло. В декабре 1923 года кабинет Витоса пал, раздавленный внутренними спорами и гнетом нараставшего в стране социально-экономического кризиса. Но поражение Хьено — Пяста не открыло путь пилсудчикам к власти, чего многие ожидали. В их положении не произошло существенных изменений, реальным подтверждением чего явилось то, что Маршал продолжал оставаться в стороне.
Обуздание валютного хаоса и явные признаки экономической стабилизации, достигнутые преемником Витоса в кресле премьера — Владиславом Грабским[120], склоняли к раздумьям о целесообразности прежних форм борьбы. Среди сторонников Коменданта все шире утверждалось убеждение о необходимости протянуть руку к власти через головы депутатов Сейма. Скорее всего тогда, в середине 1924 года, — хотя абсолютно точно этого, по-видимому, никогда не удастся установить — были предприняты первые, более конкретные, опиравшиеся на давние легионерские узы шаги по организации заговора.
Когда переворот стал фактом, противники начали утверждать, что его замысел родился в Сулеювеке. При этом ссылались на большой конспиративный стаж Пилсудского, на характерные для его деятельности и в независимой Польше таинственность и конфиденциальность. Это обвинение выдвигалось не беспочвенно. Оно обогащало «черную» легенду Маршала такой чертой, как вероломство. Превращало его в человека, лишенного принципов и чести, безо всяких колебаний преступающего воинскую присягу и принуждавшего других к тому же.
Сегодня историки сходятся в том, что тайный заговор не был следствием приказа Маршала. Его инициаторами явились его энергичные подчиненные и соратники. Он же сам поначалу без энтузиазма выражался по поводу таких замыслов. «Я этого ни в малейшей мере не одобряю, — реагировал Пилсудский, когда в октябре 1923 года Владислав Барановский представил ему проект создания тайной организации, — не поддерживаю и не разрешаю делать, если вы спрашиваете моего мнения и считаетесь с ним. Как политики <…> вы вольны делать так, как вам подсказывает убеждение. <…> К армии, однако, с такого рода предложениями обращаться нельзя; она должна быть вне политики, даже вопреки своим желаниям и чувствам ко мне».
Нельзя анализировать эти слова, забыв о моменте, когда они были сказаны. Со времени ухода из политической жизни прошло всего несколько месяцев. Правительство Витоса переживало нараставшие трудности, которые, как казалось, окончательно раздавят его. Все свидетельствовало о том, что время явно заработало в пользу Маршала. Зачем было сколачивать заговор, который в любой момент мог быть раскрыт и вызвать в таком случае непредвиденные осложнения, коль скоро плод победы зреет и скоро сам упадет в руки?
И еще одно обстоятельство отбивало охоту броситься в мир политики. В конце концов Маршал мог прельститься прелестями семейной жизни. «Я отдыхаю, — говорил он Барановскому, — впервые за добрый десяток лет, отдыхаю по-настоящему, отдыхаю от государственной власти, от политики, дышу прозрачным, чистым воздухом, радуюсь в этом маленьком саду подаренному мне уголку природы, радуюсь моей награде. <…> Я журналист, публицист или историк, как вы желаете, и получаю высокие, почти на европейском уровне гонорары. Это мне импонирует. <…> И поэтому я должен быть благодарен пану Витосу и компании за то, что, сделав невозможной мою службу в армии, они дали возможность работать здесь, в Сулеювеке…»
Нет повода, из-за которого можно было бы поставить под сомнение искренность этих слов. Пребывание в Сулеювеке ведь означало реализацию его старых мечтаний. И тех, родом из Сибири, — о карьере известного писателя. И тех, довоенных, краковских, об идиллии вдвоем. Факт увеличения семьи для безгранично любящего детей отца только прибавлял прелести этим минутам.
День за днем проходили спокойно и беззаботно. Как вспоминала Александра Пилсудская, «муж обычно спал до десяти часов утра, после чего, прочитав «Курьер поранны» и «Экспресс», часто почивал еще до полудня. Встав, он отправлялся в сад, где проверял состояние деревцев. Наблюдал также за ульями, рассматривал цветы. Он не умел заниматься хозяйством, но почти с детской увлеченностью и восхищением открывал красоты природы, чему весьма способствовало общество дочерей — в 1923 году пятилетней Ванды и трехлетней Ягоды. Обед съедал ровно в три, после чего играл с детьми или читал на веранде. «Лишь вечером он приступал к своим писательским трудам, которые заканчивал поздней ночью, в два или три часа».
В такой атмосфере он не слишком спешил вернуться к политической деятельности, тем более что не имел ни малейших сомнений в том, что Польша не сможет слишком долго обходиться без него.
7. Совершивший переворот
Время шло, а час Маршала все не пробивал. Враги даже начали поговаривать, что написанная его рукой страница истории завершена. Он сам, хотя такие суждения считал бессмысленными, тоже начал проявлять нетерпение, не слишком ли долго застоялся на обочине. Правда, дорожил семейной атмосферой Сулеювека, но слишком любил власть, чтобы надолго забыть о ней. А к тому же был уверен, что сменявшие друг друга правительства не в состоянии в должной мере обеспечивать высшие государственные интересы.
Подытоживая относительно спокойный 1924 год, он не мог не заметить, что его возвращение в армию и к активной политической деятельности по-прежнему остается под вопросом. Необходимо было решиться на энергичные шаги, и уже не на мемуарно-историческом поприще, а на ниве политики. Судя по росту его активности в новом, 1925 году такое решение должно было быть нм принято.
Наверное, Маршал не был до конца убежден, каков самый короткий путь к цели. Следы терзавших его сомнений можно обнаружить хотя бы в помеченной датой 4 января 1925 года записи в дневнике Ратая, излагающей две беседы автора: «Пан Скшиньский[121] (министр иностранных дел. — Авт.) рассказал мне о визите, который несколько дней назад нанес ему Пилсудский. Пилсудский грозился вернуться к политической деятельности и провести в следующий Сейм 300 своих депутатов, выдвинув на выборах «негативную программу». В чем заключается эта программа? «Бить шлюх и воров!» Пан Скшиньскин ручался за подлинность этих слов.
Как мне сообщил Колодзейский[122] (директор библиотеки Сейма, хорошо информированная и влиятельная личность. — Авт.), в окружении Пилсудского заметно некоторое отрезвление. Уже не только Медзиньский, но и Свитальский[123], Славек не стремятся к окончательной развязке. Пилсудскнй разъярен и кипит желанием отомстить шлюхам и ворам».
Маловероятно, чтобы Маршал был искренен, когда говорил о намерениях подмять под себя парламент. Ведь чем кончаются такие иллюзии, он имел возможность убедиться в ноябре 1922 года. Кроме того, до новых выборов оставалось еще три года, и не похоже, что он намеревался так долго ждать. Впрочем, в том направлении он не сделал ни малейшего шага. Но характерным для обеих информаций было явное нетерпение. Такие мысли могли породить только действия, а приняв во внимание то, что парламентский путь возврата к власти был закрыт, он мог обрести единственную форму — государственного переворота.
Однако в то время Пилсудский еще не принял окончательного решения. К сожалению, нам немногое известно о его тогдашних действиях в кругу наиболее доверенных лиц. Фелициан Славой-Складковский в «Выдержках из приказов» так вспоминал тайные инструктажи того времени: «Эти приказы время от времени Комендант отдавал в узком кругу товарищей в ходе редко созывавшихся политических собраний. Они, как правило, проходили в квартире Свитальского или Кшемяньского. В этих собраниях иногда участвовало до сорока человек. Порой мы ждали прибытия Коменданта по нескольку часов, потому что не всегда удавалось добыть для него хороший автомобиль, чтобы он мог добраться из Сулеювека в Варшаву. Во время этих собраний не было никаких дискуссий. Комендант отдавал четкие, деловые распоряжения и приказы, которым мы беспрекословно подчинялись».
Одну из таких директив, относящуюся к концу апреля или началу мая 1925 года, Складковский спустя много лет описал подробнее. Ему можно доверять, потому как он имел обыкновение записывать изречения вождя сразу и, восстанавливая воспоминания, пользовался этими записями. В тот день Пилсудский говорил около часа. Заявил, что независимость Польши отнюдь не опирается на столь прочное, как считает общество, основание и для ее укрепления необходима сильная армия, свободная от партийно-политических торгов. Будущий верховный главнокомандующий должен иметь свободу действий.
«Поэтому, — вспоминал Складковский, — Комендант упорно борется за то, чтобы верховный главнокомандующий обладал достаточными правами, потому что первостепенная вещь — это сохранение независимости, угроза которой может возникнуть в любой момент. Эта борьба будет тяжелой, но ее поведет сам Комендант. Мы должны, если нас не выгонят, оставаться в армии и служить как можно лучше, потому что речь идет о служении Польше. Никакой агитации в армии не вести! Комендант сам определит темпы борьбы по мере развития потребности. Мы должны не мешать ему в этом».
Эта запись окрашена стремлением идеализировать поступки вождя. Отсюда столь много внимания Польше, служению ей. А ведь эти слова были брошены во время тайного офицерского собрания, которое не служило ни укреплению дисциплины, ни умножению силы армии. Но как следует из информации Складковского, Маршал продолжал запрещать проведение агитации в рядах армии, явно придерживаясь оценок, высказанных Барановскому полтора года назад.
Эти взгляды радикально переменились осенью 1925 года. 13 ноября рухнул находившийся у власти в течение двух лет кабинет Грабского. Это создавало абсолютно новую политическую ситуацию. Воспользовавшись ей, Маршал предпринял широкомасштабное наступление. Уже 14 ноября он появился в Бельведере, где вручил президенту письменное заявление, предостерегавшее от «возвращения отношений, которые господствовали в армии при панах Шептыцком и Сикорском». Это была неприкрытая попытка оказать нажим на главу государства, естественно, не сообразующаяся ни с конституцией, ни даже с хорошими политическими традициями. Таким образом, «отшельник из Сулеювека» присвоил себе право диктовать волю верховным представителям власти Речи Посполитой. Впрочем, ему повезло, ведь Войцеховский мало того что не выразил протест по поводу такого прецедента, а завел разговор о возможных кандидатах на пост военного министра.
На следующий день после бельведерской демонстрации силы состоялась впечатляющая демонстрация офицеров, имевшая цель показать, кому же в действительности верна армия. Бесспорно то, что утратила силу директива полугодовой давности, запрещавшая вести агитацию в рядах армии. В Сулеювек под уже потерявшим актуальность предлогом отметить седьмую годовщину — она была пятью днями раньше — возвращения Пилсудского из Магдебурга и «воздания почестей создателю армии» прибыло около тысячи офицеров, в том числе более десяти генералов. Преобладали бывшие легионеры, хотя значительный процент составляли также военные, в прошлом служившие в царской армии. С приветственной речью выступил генерал Орлич-Дрешер[124]. «Мы хотим, чтобы Ты верил, — заверял он Коменданта, — что наши горячие пожелания <…> не являются только обычными комплиментами в связи с годовщиной, что мы несем Тебе кроме благодарных сердец и отточенные в боях сабли». От имени офицеров действительной службы такие заявления делал генерал, занимавший высокую должность в армии. Его же адресатом был человек, не облеченный никакой властью, более того, не скрывавший уже давно своих оппозиционных позиций. Это уже пахло бунтом, было его проявлением.
В ответ на короткий, как бы уставной доклад Дрешера Пилсудский не ответил приказом, ставившим боевые задачи. Он выступил с пространной политической речью, в которую, правда, была вкраплена знаменательная фраза: «Я считаю, что бессилие государству несет тот, кто сдерживает карающий меч справедливости, и таким образом честный и достойный труд на благо государства по крайней мере ослабляет, если не деморализует» — но это заявление утонуло в половодье других слов.
Демонстрировавшие офицеры обманулись в своих ожиданиях. Один из них так прокомментировал в воспоминаниях выступление вождя: «Оно расходилось с речью Крешера, несмотря на информацию, которую сообщил мне Казик Свитальский, что он ее предварительно, именно через Казика, согласовал с Комендантом. Видно, своего ответа Маршал с Казиком не согласовывал, так как не отвечал на слова Дрешера».
Неужели уже тогда существовал план выступления верных Маршалу отрядов, от которого он сам в последний момент отказался? Похоже, что такая гипотеза находит подтверждение в информации, содержавшейся в секретном донесении полковника Пашкевича начальнику Генерального штаба, датированном 23 ноября 1925 года: Докладываю, что 13 ноября с. г. (за два дня до демонстрации в Сулеювеке. — Авт.) у меня был полковник Генерального штаба Венява-Длугошовский и в беседе со мной начал крайне резко критиковать всю деятельность военного министра генерала Сикорского. Хотя полковник Венява-Д. не оговорил доверительность беседы, я считаю ее частной. Но так как с аналогичной критикой полковник В. обращался и к другим офицерам и в прессе появились почти идентичные нападки на пана министра Сикорского, считаю эту акцию полковника В. спланированной ради устрашения и дезориентации ряда офицеров, тем более что это происходило в тот момент, когда эмоциональное возбуждение было сильным, — во время кризиса кабинета министров. Поэтому я считаю своим долгом доложить об этом пану генералу. <…>
Спустя несколько дней, в 3 часа в ночь с 15 на 16 ноября (я спал в своей квартире) (сразу же после демонстрации. — Авт.) ко мне прибыл полковник С. Г. Абрахам и, говоря о том, что с паном генералом Сикорским «покончено» раз и навсегда, потребовал от меня ясного ответа: перехожу ли я на «их» сторону. Я спросил, что сие означает? Полковник Абрахам ответил: 1) пан Маршал Пилсудский завтра-послезавтра возьмет власть в свои руки. 2) Весь варшавский гарнизон перешел на сторону пана Маршала Пилсудского. 3) С президентом они считаться не будут. Я на это ответил кратко: я солдат и всегда останусь верен присяге и прикажу поступить так своим подчиненным. Должен отметить, что после ночного визита ко мне полковник Абрахам нанес такие же визиты другим офицерам».
Неизвестно, какова же причина того, что Маршал в последний момент остановил операцию. Может, его застала врасплох та поспешность, с которой Сейм сформировал новый коалиционный кабинет во главе с Александром Скшиньским?
А может, слишком много ночных бесед закончилось с тем же результатом, что и с полковником Пашкевичем, и он не решился идти на риск конфронтации, не будучи до конца уверен в лояльности варшавского гарнизона? Ноябрьские события должны были открыть ему глаза на то, сколь необходима интенсивная заговорщицкая подготовка в армии. Раз уже он решился вести дело к перевороту, а в этом исходя из процитированных документов сомневаться не приходится, то элементарным ходом становился расчет соотношения сил своих и противника. О том, что такие действия должны предшествовать схватке, знает каждый командир любого уровня.
Поэтому ошибаются те авторы, которые утверждают, что к моменту переворота в армии не было конспиративной пилсудчиковской организации. Иначе поведение Маршала должно было соответствовать образу дилетанта, создававшемуся в эндековских пасквилях. Ведь не случайно то длинное и мало «боевое» выступление в Сулеювеке закончилось призывом: «Благодарю вас, господа, за память обо мне, и я прошу о том, чтобы вы никогда не теряли связи между собой (подчеркнуто нами. — Авт.), чтобы защитить наше служение на благо Родины». Публично он большего сказать не мог. Какие же инструкции выдал тайно, неизвестно.
В целом трудно отыскать более точные данные о заговоре, потому что в таких ситуациях всегда стараются тщательно затереть следы. Это было также тесно связано с шагами по созданию очередного мифа о Маршале. После мая 1926 года утверждалось, что выступление Маршала и верных ему войск стало спонтанной реакцией на негативные явления, все шире распространявшиеся тогда в Речи Посполитой. Признаваться же в том, что подготовка к выведению войск на улицу велась давно, пилсудчики вовсе не собирались. Даже в воспоминаниях, когда обнародование правды не имело уже большого политического значения.
Итак, заговор существовал, причем при этом специфические черты легионерской среды придавали ему исключительный характер. Подчиненные Коменданта еще со времен службы в I бригаде по-своему понимали принципы послушания. Доверяли исключительно своим командирам. К австрийским офицерам, как правило, стоявшим выше в служебной иерархии, относились просто с презрением. Не относились также серьезно к присяге, если она не была санкционирована Пилсудским. В результате I бригада все более приобретала черты личной гвардии вождя.
Это «своеобразие» в отношениях подчинения по службе, признание только собственных авторитетов при имитации послушания командирам, которые не принадлежали к пилсудчиковской группировке, была перенесена легионерами и в собственно польскую армию. Многие из них в возрожденном войске очутились под командованием офицеров, которые пришли из вооруженных сил государств — захватчиков Польши. Имели место и такие случаи, когда они служили под командованием тех, кто во время первой мировой войны не скрывал враждебного отношения к легионам, а позже и неприязни к бывшим легионерам. Подпитывавшаяся силой давней привычки к нынешними антипатиями, разделившими армию, продолжала жить старая схема мышления, повелевающая со всей серьезностью слушаться только лиц, с которыми поддерживались доверительные связи. Чувство опасности, вызванное отстранением Маршала из армии, только упрочило этот процесс. А факт перехода вождя в оппозицию придавал этой психологической зависимости сходство с настроениями I бригады повиноваться исключительно Пилсудскому.
При таком положении не было необходимости создавать формальную конспиративную структуру с четко определенным членством в ней, приведением к присяге новых членов, со ступенями организационного подчинения. Так понимаемый заговор скорее всего создан не был, хотя нельзя забывать, что некоторые мемуаристы, причем пилсудчики, указывают, что до майского переворота просуществовали такие старые конспиративные структуры военных лет, как организованный в 1916 году В. Славеком «Союз W» и сформировавшаяся уже после ареста Бригадира «Организация А»[125].
В среде легионеров чаще всего было достаточно краткого разговора, чтобы сориентироваться, как данный офицер поведет себя в момент испытаний. Однако такой разговор означал также информацию о намерении Маршала покуситься на власть, а это было не чем иным, как первой ступенью посвящения в конспиративную деятельность. Людей, не связанных с легионами, необходимо было убеждать дольше и связывать затем словом о сохранении доверительности. В таких случаях посвящение в заговор наверняка приобретало более формализованный характер.
Наступили месяцы подготовки переворота. В этом аспекте следует рассматривать борьбу самого Маршала за назначение на должность военного министра преданного ему человека. Одновременно с укреплением своих позиций в армии он стремился сколотить коалицию, которая должна была расширить политическую и социальную базу переворота. Его люди готовили почву в левых партиях, что, впрочем, особого труда не представляло, принимая во внимание давние связи этих группировок с Начальником государства. Они предприняли также переговоры и по другую сторону общественной баррикады, с недоверием относившимся к Пилсудскому консервативными кругами. Характерно, что к этим переговорам подключился сам вождь. Как следует из одной из записей в дневнике Юлиуша Здановского, Маршал пригласил видного консерватора Александра Мейштовича[126] и предложил ему «программу, которая предусматривала прекращение аграрной реформы, разгон Сейма и т. п., спросив, может ли он рассчитывать на поддержку помещиков. Мейштович воспринял это как зондаж».
Таким образом, Маршал давал явные обещания правым кругам. По адресу же левых он делал жесты, рассчитанные на пропагандистский успех, изображал из себя демократа. Он демонстративно отказался в 1923 году от маршальского жалованья, предназначив его на благотворительные цели, содержа семью за счет гонораров от писательского труда. Как правило, появлялся на публике в старой куртке стрелка. По железной дороге путешествовал вторым классом. Это приносило необходимый эффект. «В нынешней Польше, — писала орган Польской социалистической партии газета «Роботник», — где люди идут на крупные сделки с совестью, судорожно вцепившись за уплывающее министерское кресло, этот гордый, но столь же скромный, простой человек, равнодушный к титулам и почестям, должен импонировать, должен пробуждать симпатию и доверие».
Выступление против легального порядка Речи Посполитой требовало также соответствующего пропагандистского обеспечения. В последние месяцы, предшествовавшие перевороту, Маршал уделил этой задаче повышенное внимание. Как отмечал в мемуарах Ратай, он выдвигал исключительно «негативную программу». Бичевал язвы, разъедающие политическую жизнь. Не жалел критических слов, особенно по адресу Сейма и его депутатов.
«Вообще, — говорил он в последнем перед переворотом интервью, — пренебрежение своими прямыми обязанностями, неуважительное отношение к служению государству — характерная черта подходов, демонстрируемых господами депутатами и сенаторами. Ведь их представления сводятся к тому, что каждый человек, находящийся на службе государства, должен меняться только в зависимости от того, с кем он, скажем, пил водку или кофе в буфете Сейма. <…>
Я поднимаюсь на борьбу, — заканчивал он интервью, — как и прежде, с главным злом: господством разнузданных партий над Польшей, забвением всего, что не касается денег и благ».
Решение о совершении переворота стало одним из наиболее важных элементов создания мифа — как в «белой», так и «черной» версии. Противники изображали его как свидетельство нравственного падения и симптом окончательного триумфа своекорыстия над чувством гражданской ответственности и воинским долгом. Заговорщику приписывались прямо-таки преступные инстинкты. «И зачем все это? — ставился вопрос в одной из нелегально изданных после переворота брошюр. — В награду за братоубийственную войну пан Пилсудский потребовал и получил для себя пост военного министра. Но он ведь мог его получить и без кровопролития. За пять дней до бунта социалисты через депутата Марека предлагали ему пост премьера, то есть председателя Совета министров. И тогда он по-доброму мог стать и военным министром, и премьером и проявить свое умение управлять армией и всем государством. Но он издевательски отверг предложение социалистов, потому что не желал власти по закону: он жаждал насилия, бунта, бесправия, чтобы пролилась братская кровь. Впрочем, это характерный для него ход…»
В этом и похожих на него заявлениях факты были далеки от действительности. Не в них заключался расчет, а в выводах, сделанных на их основании, и бросаемых эпитетах.
«Белая» легенда развивалась по пути, начертанному самим Маршалом. Она убеждала, что государство зависло над пропастью, а его погибель можно было предотвратить только смелыми и решительными действиями, предпринятыми именно тем человеком, который всей своей биографией доказал, что имеет право даже на самую болезненную операцию. «Из Сейма на страну разливалась волна грязи и нравственной гнили, — писал в популярной биографии Маршала Владислав Побуг-Малиновский. — Депутаты, трактуя свое избрание не как обязанность добросовестно и самоотверженно трудиться на благо государства, а как плацдарм для развития своей партии или, что еще хуже, для сколачивания капитала и личной карьеры, создавали настоящую клику, которая словно огромный отвратительный паук охватывала своей паутиной всю страну. В государственных органах всегда было полно «нахалов из Сейма», которые являлись сюда с категорическими требованиями решить их личные вопросы или же с настояниями, советами, указаниями в соответствии с партийными интересами и устремлениями; затерроризированные чиновники часто не знали, кого им слушать, министра или пана, размахивавшего депутатским удостоверением. Одновременно старались сохранить близкие и сердечные отношения с избирателями; в результате нарастала волна коррупции, толпы аферистов и спекулянтов овладевали государственным аппаратом и его учреждениями. Все шире произрастали аферы и злоупотребления…»
Это была аргументация, полностью соответствовавшая записанной Ратаем директиве Маршала, которая сводилась к «битью шлюх и воров». Ее венчал простой вывод: «Спасти государство от упадка, отстоять честь народа, сохранить его нравственное здоровье теперь уже можно было только с оружием в руках, пройдя через кровопролитие. Эту тяжелейшую ответственность взвалил на себя Пилсудский».
В самом деле, деятельность парламента в канун мая 1926 года могла вызвать протесты. Однако обвинение его во всех грехах, творившихся в государстве, как это делал Маршал и его сторонники, было явным преувеличением, не говоря уже о, как правило, высосанных из пальца обвинениях в коррупции. Пилсудский безо всяких на то оснований корил Сейм, что он погряз в оргии интриг, не в состоянии сформировать прочного правящего большинства и, таким образом, втянул страну в мир партийного соперничества. Это было обычным для Маршала приемом, когда местами менялись следствия и причины. Общество все более поляризовалось в своих политических взглядах не потому, что на улице Венской не было согласия. Наоборот, именно расстановка сил в Сейме отражала политическое лицо тогдашней Польши, ее политическую, социальную, национальную дифференциацию. В этих условиях демократическое управление страной формировалось с трудом. Это требовало времени и терпения, необходимых для выработки соответствующей модели осуществления власти. Ведь та, которую санкционировала мартовская конституция, функционировала не лучшим образом и требовала корректировок. Пилсудский о таких намерениях заявил, но примененное им лекарство вместо выздоровления пациента привело к его смерти. И не в результате невольно допущенной ошибки, а вследствие сознательной политики, с самого начала сориентированной на внедрение в Польше системы правления, имеющей мало общего с демократией.
Спор между историками об оценке предвоенного парламента все еще продолжается и, похоже, решен будет не скоро. Как считает наиболее видный знаток этого вопроса профессор Анджей Айненкель, «Сейм сохранял свою самостоятельность весьма недолго, утратил свои полномочия при слишком драматических обстоятельствах, чтобы можно было бы дать ему максимально объективную оценку. Можно, однако, рискнуть утверждать, что он являлся органом, функционирующим довольно неплохо, несмотря на разного рода сбои».
Момент для проведения переворота был избран исключительно верно. Очередной правительственный кризис, начавшийся 5 мая 1926 года отставкой кабинета Скшиньского, затягивался. Сторонники «отшельника из Сулеювека» не предпринимали ничего такого, чтобы способствовать его завершению. Образ безвольного Сейма, который не в состоянии осуществлять управление страной, был им исключительно на руку. И надо признать, что его депутаты вели себя так, словно хотели облегчить задачу Маршалу.
«Кризис, вызванный отставкой правительства Скшиньского, продолжался очень долго, — вспоминал настроение тех дней Винценты Витое. — Ему сопутствовали хаос, суматоха, усиливавшиеся с каждым днем. <…> Тянувшиеся почти без перерыва заседания парламентских клубов партий ни на шаг не продвигали дело вперед. Общество кипело от гнева на Сейм и политиков. Повсеместно говорилось, что власть унижена и выброшена на улицу именно теми, кто должен был стоять на ее страже. <…> Депутаты, а в особенности руководители депутатских клубов, блуждали по Сейму как тени. В кулуарах царило мрачное и одновременно странное настроение. Журналисты насмехались над Сеймом, над депутатами и даже над президентом. В отдельных депутатских клубах царила полная апатия. Люди, проходя мимо друг друга, даже не заговаривали. Президент Войцеховский ходил удрученный, заявляя о намерении сложить свои полномочия».
В такой атмосфере Маршал пошел ва-банк. Он поднял преданные ему воинские части, рассчитывая, что демонстрация силы убедит президента, испугает противников и в результате принесет ему победу и власть. Возможность боев на улицах Варшавы он скорее всего исключал, хотя, будучи военным человеком, должен был отдавать себе отчет в том, что выход армии из казарм даже против непопулярной, но легальной власти может закончиться стрельбой. Задумав вооруженную демонстрацию, он подбил преданного ему военного министра генерала Желиговского[127] провести сбор соответствующим образом отобранных частей в районе Рембертува[128]. Они якобы должны были провести маневры под личным командованием Маршала. Приказ об этом появился уже 18 апреля 1926 года, что свидетельствовало, что вся операция была тщательно подготовлена значительно раньше. Рембертувская группировка должна была быть готова выступить 10 мая.
В этот день выявился новый фактор в развитии ситуации. Парламент сумел решить проблему большинства, способного сформировать правительственный кабинет. Его основой стала аналогичная скомпрометировавшей себя двумя годами раньше коалиция Хьено — Пяста под руководством Витоса. При таких обстоятельствах Маршалу отступать было некуда. Тем более что днем раньше свежеиспеченный премьер дал интервью, чуть ли не подталкивающее того к выступлению. Витос, в частности, сказал: «Пусть наконец Маршал Пилсудский выйдет из укрытия, пусть создаст правительство, пусть возьмет в свою коалицию все творческие силы, которые душой болеют за государственные интересы. Если этого не будет сделано, создастся впечатление, что он не заинтересован на деле навести порядок в государстве. <…> Если бы мне были присущи некоторые его объективные данные, на которых сейчас не хочу останавливаться, то я сформировал бы правительство даже в том случае, если бы у меня выбыла из игры и половина министров». Из воспоминаний Ратая мы узнаем, что в первом варианте интервью Витос выразился еще сочнее: «Говорят, что за Пилсудским армия, если так, то пусть берет власть силой… я бы поступил так без колебаний; если Пилсудский этого не сделает, то, похоже, за ним все же этой силы нет…» Эти слова прозвучали как вызов.
Впрочем, новый премьер провоцировал не только высказываниями. Своими первыми делами он давал понять, что намерен взять крутой курс, не собираясь миндальничать с Маршалом, если тот будет продолжать «разжигать страсти». Только так можно было объяснить изъятие цензурой тиража «Курьера пораннего» от 11 мая с интервью Ю. Пилсудского, в котором грубым нападкам подвергалось правительство.
Отдавая себе отчет, что дальнейшее промедление означало бы поражение, Маршал приступил к действиям. К этому его также подталкивала непопулярность нового правительства, скомпрометировавшего себя в 1923 году, особенно в глазах левых сил, которые и сейчас объявили о решительной борьбе с коалицией центристов и правых. 12 мая 1926 года верные Маршалу отряды выступили из Рембертува и двинулись на столицу. Бунт стал фактом. Заговорщики, воспользовавшись внезапностью, получили довольно весомое преимущество.
Во второй половине дня, когда верным Пилсудскому войскам удалось захватить мосты на Висле, противники очутились на расстоянии ружейного выстрела. С военной точки зрения заговорщики вели себя достаточно неумело, не воспользовавшись многими возможностями захватить более выгодные позиции. Они явно не рассчитывали на серьезную борьбу, ожидая, что правительство откажется от сопротивления. Ведь пока еще не раздалось ни одного выстрела, который бы помешал сценарию предпринятой Маршалом вооруженной демонстрации.
В 17 часов на мосту Понятовского состоялся разговор Пилсудского с президентом Войцеховским, который должен был предопределить дальнейший ход событий. Если бы глава государства стал на сторону протестующих армейских частей, то положение кабинета Витоса стало бы очень трудным, прямо-таки безнадежным. А такая возможность не исключалась. Собеседники знали друг друга и поддерживали дружеские отношения издавна. Вместе печатали «Роботника», когда Витос еще не имел представления о своей будущей политической карьере. Впрочем, было секретом полишинеля, что президент не питал симпатии к новому правительству и мыслями своими был ближе Сулеювеку.
Все расчеты оказались тщетными. Войцеховский стал на сторону закона. Лопнула надежда на бескровный переворот. Позиции правительства укрепились. Увереннее почувствовали себя преданные ему войска. Конфликт приобретал неблагоприятный для Маршала поворот. Он стал меньше напоминать стихийный протест, вызванный приходом к власти не пользовавшихся популярностью в обществе партий, а больше походить на обыкновенный мятеж, в котором политики в военных мундирах, позабыв слова присяги, пытаются с оружием в руках диктовать свою волю конституционным органам государственной власти.
Маршалу осталось только надеяться на то, что победителей не судят. Впрочем, в его руках было больше козырей, чем у противника. Его поддерживали левые партии, а это означало, в частности, возможность парализовать забастовками движение воинских эшелонов, естественно, противника, а не своих. На его стороне были и симпатии варшавской улицы.
Учитывая все эти аргументы, Пилсудский был ближе к победе. Он же в эти минуты пал духом и фактически отдал командование генералу Орличу-Дрешеру. Только ли потому, что обладал слабой психикой, на что обращают внимание некоторые биографы? Наверное, нет.
«Я была поражена тем, как он выглядел, — вспоминала Александра Пилсудская. — В течение последних трех дней он постарел на десять лет. Он словно иссох наполовину, кожа лица была пергаментно-бледной и странно прозрачной, словно освещенная изнутри. Глаза от усталости ввалились. Только раз еще я видела мужа в подобном состоянии — это было за несколько часов до его смерти. <…> Те три дня оставили на нем безжалостный отпечаток до конца жизни. Он не смог уже обрести своего прежнего спокойствия, умения владеть собой. Казалось, что какой-то непомерно большой груз лег на его плечи…»
Было бы неверно этот глубокий внутренний надлом объяснять исключительно строением психики. Он был также следствием драматической внутренней борьбы, которая в конечном счете еще сильнее должна была укрепить в нем абсолютистские поползновения. Ведь коль скоро преодолел сомнения и шел дальше, высоко подняв голову, он должен был признать достойным каждый свой поступок. Поставить себя выше конституции, закона, президента, правительства, долга, обусловленного воинской присягой. Без преувеличения можно сказать, что именно в майские дни он стал диктатором не только в политическом смысле, но и преодолел своего рода психологический барьер.
После трех дней борьбы противник был сломлен. Вечером 14 мая президент и правительство решили подать в отставку. В Вилянув[129], где на последнем этапе боев нашли укрытие высшие власти Речи Посполитой, прибыл маршал Сейма Мачей Ратай, который в соответствии с конституцией временно исполнял функции главы государства. Утром следующего дня он заявил прессе: «Я решил принять отставку правительства. В ближайшие часы будет назначен новый кабинет министров. Теперь я жду прибытия Маршала Пилсудского».
Вроде бы все возвращалось в норму, и в жизни государства вновь воцарился конституционный порядок. Это и должно было засвидетельствовать сделанное Ратаем заявление. Но в нем просматривалась и другая реальность: формально стоявший во главе государства Ратай не в состоянии принять правомочных решений, не выяснив волю Маршала. В истории Польши начиналась новая эпоха — эпоха диктатуры Юзефа Пилсудского.
8. Диктатор
Один из наиболее часто эксплуатировавшихся элементов «белой» легенды Пилсудского заключался в утверждении, что он якобы никогда не имел диктаторских поползновений. «После переворота, — писал Владислав Побуг-Малиновский, — Маршал не думал о диктатуре. Наоборот, он втиснул польскую жизнь в рамки действующего до тех пор формального права, вернее, сохранил ее в этих рамках». Внешне, по крайней мере во второй своей части, это заявление соответствовало истине. Пилсудский, в самом деле, старался, чтобы жизнь страны как можно скорее вернулась на рельсы легализма. Но это он делал отнюдь не из-за отвращения к диктатуре и симпатий к правопорядку, а четко следуя политическим интересам.
То, что он придерживался буквы закона, выбивало оружие из рук противников. Ведь большинство офицеров правительственных войск приняли бой с Маршалом, защищая легальную власть, а не потому, что им был политически близок кабинет Витова. Уход в отставку прежних властей и в соответствии с конституцией передача полномочий новой правящей элите были для этих людей равнозначны возвращению в казармы и лояльному подчинению приказам нового военного министра, которым стал Пилсудский. Тем самым почва уходила из-под ног тех, кто призывал к дальнейшему сопротивлению, даже к гражданской войне. А такие тенденции, причем сильные, имели место в рядах национальной демократии и особенно были заметны в бастионе ее влияния — Великопольше.
Исполнение обязанностей президента Ратаем и назначение им правительства Бартеля[130] необычайно затрудняли дальнейшую борьбу с Пилсудским. Ведь роли поменялись. За заговорщиками теперь были конституция и закон. Печать бунта могла в данном случае лечь на каждый шаг его противников.
Молниеносный возврат к легализму позволил быстро умиротворить армию. Кроме неотложной задачи окончательного пресечения столкновений это было важно вот еще почему. Маршал возвращался к прежней своей концепции превращения армии в опору своего влияния и положения в государстве. Для этого ему необходима была вся армия, а точнее, ее офицерский корпус; потому что с политическими убеждениями солдат почти не считались. Такой подход привел к тому, что Маршал не преследовал офицеров, которые вели бои с его войсками. В одном из первых приказов после переворота он писал: «В одну и ту же землю впиталась наша кровь, землю, которая столь дорога и тем и другим, любима обеими сторонами. Так пусть же эта горячая кровь, самая ценная в Польше кровь солдата, будет под нашими ногами новым посевом братства. <…> Пусть Бог смилуется и отпустит наши грехи и отведет карающий перст, а мы возьмемся за работу, которая укрепит и возродит нашу землю».
Эти слова были совсем не похожи на слова победителя, обращавшегося к побежденным. Потому что должны были служить примирению, а не размежеванию противников, которых извилистые пути политики поставили друг против друга. И таких жестов Маршал сделал много. Символическое значение приобрело решение об общей торжественной траурной церемонии похорон жертв боев с обеих сторон. Руководствуясь желанием привлечь на свою сторону всю армию, Маршал не провел чистки офицерского корпуса, которую ожидали многие. Кадровые перестановки, сделанные им, не соответствовали масштабу победы. Он избавился только от тех генералов, антагонизм которых к нему был непреодолимым. Некоторые из них не помышляли о компромиссе. В знак протеста против переворота ряды армии покинули Станислав Шептыцкий и Юзеф Халлер.
Нескольких генералов Маршал репрессировал. Были арестованы и посажены в виленскую тюрьму Юлиуш Мальчевский, Тадеуш Розвадовский, Болеслав Язьвиньский[131] и Влодзимеж Загурский[132]. Официально им было предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, фактически речь шла о мести и выведении их из дальнейшей политической игры.
Со временем самым нашумевшим стало дело генерала Загурского, который в августе 1927 года во время перевозки из тюрьмы в Вильно в варшавскую тюрьму пропал без вести. Последовало даже объявление о его розыске, но это была только дымовая завеса, чтобы замаскировать убийство. В действительности Загурский был убит, а убийство совершили подчиненные Пилсудского. Возможно, что столь жестокое решение было продиктовано желанием защитить миф о вожде. Загурский, бывший офицер австрийской разведки, мог во время предстоявшего процесса по своему делу сообщить об известных ему со времен войны доверительных контактах Пилсудского с австрийцами, которые Маршал и его сторонники предпочитали сохранять в тайне. Ясно одно: независимо от того, кто и при каких обстоятельствах убил Загурского, а на эту тему существуют самые разные свидетельства, включая и то, что это произошло в Бельведере и в присутствии самого Маршала, тот не сделал ничего, чтобы виновников преступления постигла кара. Более того, лица, замешанные в этом деле, получили повышения по службе, причем, порой, весьма стремительно. Поэтому нравственная оценка может быть только одна.
Присущее Маршалу стремление консолидировать армию стало причиной того, что он на какое-то время отказался от мести Владиславу Сикорскому — генералу, на которого он наиболее остро нападал накануне мая 1926 года. До 19 марта 1928 года он оставил его на прежнем посту командующего Львовским военным округом. Потом поступил с ним довольно оригинально: не отправил генерала в отставку, потому что это открыло бы для того возможность оппозиционной политической деятельности, а даровал ему статус генерала, находящегося в распоряжении военного министерства, но не занимающего командного поста в армии. Для Сикорского, полного темперамента и жизненной активности, это вынужденное бездействие было хуже, чем полная отставка.
В отношении офицеров низшего уровня Маршал отказался практически от всех репрессивных шагов.
И хотя явно покровительствовал людям, связанным с ним многие годы, примеры дальнейшей карьеры майора Мариана Порвита, полковников Густава Пашкевича и Владислава Андерса[133], которые наиболее отличились в боях на стороне правительства, свидетельствовали, что в целом он решил не подвергать остракизму тех, кто занимал враждебную по отношению к нему позицию в мае.
Пилсудский отнесся к майским событиям как к экзамену командирского умения. «С точки зрения технической, — говорил он в интервью от 23 мая 1926 года, — эта печальная битва была замечательной. Наши перед лицом своих противников дрались на совесть. Сегодня я обратился с просьбой к Генеральному штабу, чтобы он внимательно изучил методы варшавской битвы и использовал их в процессе обучения…» Вероятно, подытоживая вооруженные столкновения в Варшаве, он в первую очередь обращал внимание на решительность командиров, боролся с колебавшимися и нерешительными, даже если во время боев их позиция облегчала его действия. К примеру, он наказал, отправив на пенсию, командира гарнизона варшавской Цитадели полковника Модельского, который не проявил должной энергии при выполнении приказа оказать поддержку правительственным войскам и легко дал себя разоружить. Зато не сказал плохого слова по адресу полковника Гжмот-Скотницкого за то, что тот, выполняя приказ, без колебаний двинулся во главе своего полка к Варшаве на помощь правительственной стороне.
Политика протянутой к примирению руки принесла ожидаемые результаты. В армии быстро зажили недавние раны. Несомненно, достижению всеобщего согласия способствовала явная фаворизация вооруженных сил, одним из проявлений чего стало значительное повышение офицерского жалованья. Маршал достиг желанной цели. Армия стала сферой его исключительного влияния.
Политика «национального согласия», направленная на привлечение на свою сторону армии, вовсе не распространялась на гражданскую администрацию. Ее достаточно быстро и серьезно обновили, назначив на должности людей, признающих только авторитет Бельведера. Чистка была проведена в министерствах и центральных ведомствах, а также в местных органах власти. В течение всего нескольких месяцев были заменены одиннадцать из семнадцати воевод и около одной трети старост. «Позже, — отмечал в дневнике Ратай, — чистка администрации приобрела вовсе грубые и циничные формы. Смешениям и перемещениям не пытались даже придать хотя бы видимость обоснованности. Таким положением воспользовались разного рода мерзавцы. Подчиненный, обиженный своим начальником, писал на него просто-напросто донос, что тот эндек или пястовец, порой присовокупив, что и «вор», которого давно пора гнать с работы. Недавние неисправимые эндеки и пястовцы демонстративно выходили из своих организаций и подобно разного рода новообращенным выступали за «майские порядки» ретивее самого Пилсудского…»
Такой решительный расчет с прежним административным аппаратом в определенном роде был понятен. Ведь на ее старые кадры, так же как и на поддержку политиков, Пилсудский мог рассчитывать в весьма ограниченном масштабе. По крайней мере в первый период своего правления, когда он только начал предпринимать усилия по организации своих сторонников.
Он, правда, пользовался поддержкой левых партий, но это отнюдь не облегчало ему жизнь. Более того, с момента достижения победы этот союз, столь важный в дни борьбы, стал его явно обременять. Он ведь не собирался реализовывать левую программу. Поэтому начал охлаждать разбуженные в этих кругах надежды и амбиции. «Я совершил единственный в своем роде исторический акт, — говорил он в интервью от 25 мая 1926 года, — сделал нечто похожее на государственный переворот и сумел тут же его легализовать, то есть сделал нечто вроде революции безо всяких революционных последствий».
Это был холодный душ для его сторонников из числа левых. Впрочем, не единственный. Терапию, охлаждающую неуместный запал, он повторял в очередных заявлениях. Говорил, в частности: «Если понятия «левые» — «правые» связаны с социальными движениями, то я лично никогда не был в новой Польше сторонником предоставления явного преимущества той или другой стороне… <…> Лично я никогда не хотел бы принадлежать ни к правым, ни к левым. Я никогда не хотел быть членом ни одной из партий, не одобрял господства партий над Польшей». Для человека, который в течение двадцати лет руководил работой ППС, такое заявление было шокирующим. Однако это был не первый и не последний случай взгляда на собственное прошлое сквозь призму текущих интересов. А они повелевали Маршалу сохранять равную дистанцию от обоих крупных политических лагерей.
«Польша должна быть осторожна, — обосновывал он свои взгляды, — потому что она молода и бедна. Ей следует избегать рискованных экспериментов. Любовь к риску у левых и правых у нас уравновешена, доказательством чему служит то неустойчивое парламентское большинство, на основе которого принимаются законы». Такие заявления будоражили общественное мнение. Ведь их делал политик, который, не остановившись перед кровопролитием, сверг правое правительство, воспользовавшись при этом полной поддержкой левых сил. А тем временем выяснялось, что на самом деле он одинаково оценивал и врага, и союзника.
У союзника такая ситуация должна была вызвать разочарование. Тем более что Маршал уже вскоре начал явно заигрывать с правыми, причем в их консервативно-помещичьем издании. Главными доказательствами этого стало включение двух консерваторов в сформированное 2 октября Пилсудским правительство: Короля Незабитовского и Александра Мейштовича, а также его визит в родовое поместье князей Радзивиллов в Несвиж, где по этому случаю состоялся большой съезд польской аристократии. В не совсем отдаленном прошлом как хозяева, так и гости на предложение о такой встрече ответили бы иронической ухмылкой. Стефан Бадени так записал беседу с одним из членов семейства Радзивиллов, которая состоялась во Львове весной 1915 года.
«Я встрял в беседу:
— А знает ли князь, что мне довелось в Вене познакомиться с интересным человеком — Пилсудским?
Радзивилл буквально вскипел и закричал:
— То, что вы, поляки, в Австрии этого негодяя не повесили на первом столбе, будет для вас вечным укором!
Я пытался защищать Пилсудского, но князь даже слушать меня не хотел».
Теперь же Радзивиллы принимали «этого негодяя» с поистине монаршьим церемониалом. Но и он сильно изменился. Ничем не напоминал «социала», признающего аристократию за вредный реликт давно минувшего прошлого. Впрочем, он сам замечал эту метаморфозу, выразив ее в сочиненном им и продекламированном в Несвиже четверостишии:
В стишках намек на стремительную карьеру Пилсудского:
Не в том ловкость, чтобы подстрелить утку Или попасть сове в голову, А в том, чтобы Попасть из Бездан в Несвиж[134].«Маршал Пилсудский поднял забрало», — с восторгом писал известный польский монархист редактор виленской газеты «Слово» Станислав Цат-Мацкевич[135].
В новом свете еще более отчетливо проявился смысл его предыдущих шагов. Выяснялось, что победитель не бросал слов на ветер в первых после переворота интервью прессе. Уже 25 мая 1926 года, отмежевавшись и от левых, и от правых, он сделал знаменательное замечание: «Временно все должно остаться так, как есть, безо всяких экспериментов будь то левых, будь то правых». Если так выглядела политика победителя, то нельзя не задать вопрос: зачем вообще нужен был переворот? Не для того ли только, как утверждали противники, чтобы потешить свое тщеславие?
И этот фактор следует принять во внимание, но не он вовсе объясняет главные мотивы поведения Маршала. Его прежде всего тревожило состояние государства. У него был весьма общий подход к общественным реформам, который в принципе сводился к явному усилению исполнительной власти в ущерб законодательной. В уже цитировавшемся интервью от 25 мая он говорил: «Мы живем в законодательном хаосе. <…> Это надо поправить, передав полноту власти президенту. Я не утверждаю, что необходимо прямо копировать Соединенные Штаты, где большая сила центральной власти уравновешивается широкой автономией штатов, но необходимы поиски в этой материи чего-то, что годилось бы для использования в Польше».
Заявление о необходимости поисков свидетельствовало о том, что представление о новой форме правления пока окончательно у Пилсудского не сложилось. Октроирование, то есть навязывание конституции, не считаясь с парламентом, в расчет не принималось. Это встретило бы очень сильное сопротивление, в том числе со стороны прежних союзников слева. Маршал избрал иной путь. Позволил действовать противникам, будучи уверенным, в том, что они сами себя еще больше скомпрометируют. «Все это… большой бордель… клоака… — говорил он еще в Сулеювеке. — Я оставил в покое это свинство, пусть задохнется от собственной вони…»
Переворот и новый приход к власти поколебали основы этой концепции, но Маршал — в особенности в контактах с парламентом — вел себя так, словно все оставалось по-старому. Продолжал утверждать, что депутаты Сейма и «партийная распущенность» — источники зла в Речи Посполитой. Борьба с Сеймом в течение очередных четырех лет поглотила его почти без остатка. И все же он боролся не только с государственным органом, который возненавидел давно. Одновременно вел бой с определенной системой правления, гарантированной мартовской конституцией, согласно которой представлявший волю избирателей парламент занимал верховное положение в государстве.
Одним из «железных» пунктов «белой» легенды Пилсудского было и остается опровержение этого тезиса. Апологеты упорно повторяли, что он боролся не со свободами и демократическими атрибутами системы правления, а лишь с деформирующими отношения в государстве притязаниями депутатов. Более того, якобы вынужден был поверх голов не соответствовавших своим постам «суверенов» успешнее реализовывать цели всего общества. Ведь благодаря своему гению он лучше должен был проникать в душу народа, чем подверженные партийной демагогии парламентарии.
Такую аргументацию, которую, впрочем, инспирирует любая диктатура, опровергает знаменательный факт. Пилсудский как мог противодействовал изменению прежнего состава палаты депутатов. Не распустил в 1926 году Сейм, хотя острие переворота нацелил именно в него. Это непонятный шаг, если исходить из той точки зрения, что он желал действительного оздоровления отношений в государстве. Зато такое поведение отлично сообразовывалось с концепцией, предполагавшей и в дальнейшем унижение парламента. Ведь Маршал в собственных интересах намеревался использовать запятнанную в глазах общественного мнения репутацию депутатов Сейма и сенаторов. Вместе с тем считал, что майская манифестация силы успешно парализовала их волю к борьбе. К тому же Пилсудский был убежден, что немедленные выборы принесут успех не ему, а левым партиям. Мачей Ратай записал в дневнике слова премьер-министра Казимежа Бартеля: «Правительство не пойдет на немедленный роспуск Сейма, на чем настаивают левые, потому что выборы дали бы в этих условиях перевес радикально настроенной толпе. Необходимо оттянуть и продлить полномочия нынешнего созыва Сейма до марта — апреля 1927 года, пока страна не успокоится».
Однако сам Сейм, смирившись с переворотом и вступив в контакты с победителем, облегчил Маршалу реализацию сценария, направленного против самого же парламента. Словно желая откупиться за прошлые провинности, парламент выбрал Пилсудского на освободившийся в связи с отставкой Войцеховского пост президента Речи Посполитой. Маршал получил 292 голоса — от левых партий и партий национальных меньшинств, частично от центристских. Его соперник, выдвинутый правыми, граф Адольф Бнинский набрал 193 голоса.
Эта победа далась легко, причем сам избранник особых усилий не прилагал. 29 мая 1926 года, за два дня до заседания Национального собрания[136], представителям политических партий, выдвигавших его кандидатуру, он говорил: «В теперешней ситуации я мог бы не впустить вас в зал Национального собрания, насмехаясь над всеми вами, но я проверяю, можно ли пока еще в Польше править без кнута. <…> Я объявил войну негодяям, мерзавцам и ворам и в этой борьбе не отступлю. <…> С моей кандидатурой делайте что хотите. Я ничего не стыжусь, раз чист перед своей совестью. Мне все равно, сколько я получу голосов. Два, сто или двести. Я ни на кого не давлю. Выбирайте того, кого пожелаете, но ищите кандидатуру, стоящую выше партийных склок и достойную высокой должности. Если вы так не поступите, то ваше будущее представляется мне мрачным, о чем я буду сожалеть, поскольку мне не хотелось бы править с помощью кнута…»
Со столь необычной предвыборной речью Пилсудский выступал к тому же перед своими сторонниками, которым угрожать не имело никакого смысла. Выступавший тем самым обращался с этими словами к значительно более широкой аудитории, ко всем депутатам Сейма, ко всему обществу, и прежде всего именно оно должно было убедиться в том, как он пренебрежительно относится к парламентариям. Образ шайки-лейки, которая боится только кнута, должен был дойти до каждого гражданина и внушить ему, что болезненные удары — единственный аргумент в борьбе с партийной «разнузданностью».
После такого выступления избрание Маршала президентом равнозначно было пощечине, которую Сейм сам себе отвесил. Именно на это будущий избранник и рассчитывал. Однако этого оказалось ему мало. Последовал еще удар и с другой стороны — он не принял президентского кресла и к тому же мотивировал свой поступок оскорбительным для Сейма образом. Среди объясняющих его отказ аргументов нашелся и такой: В моей памяти слишком хорошо сохранился образ убитого президента Нарутовича». Иными словами, он не пожелал почестей из рук парламента, правую сторону которого он обвинял как источник событий декабря 1922 года.
Эту партию Маршал разыграл мастерски. Само избрание означало узаконивание переворота, что было ему на руку, и он себе не отказал в удовольствии публично высказаться по этому поводу. Свой отказ от президентской должности он начал со слов: «Тем самым второй раз в моей жизни официальное признание находят мои усилия на благо истории». Отказываясь от президентских полномочий, он тем самым как бы отмежевывался от Сейма, словно сама связь с ним была для него позором, поскольку он публично признал, что с «этими господами» может иметь дело только при помощи кнута
Грубость не сразила, однако, послов и сенаторов. Чуть ли не тем же числом голосов президентом стал указанный Пилсудским профессор Львовского политехнического института Игнацы Мосьцицкий. Желание избежать репрессий было бы слишком простым объяснением такой уступчивости, к тому же обидным для людей, среди которых, как показало будущее, были и способные на большие жертвы сильные личности. По существу, податливость диктовал не страх, а вера, что Маршал не предполагает введение в Польше диктаторского режима, не оставляющего места для подлинного парламентаризма. Эти заблуждения сам он, кстати, и поддерживал, не желая оттеснять противника на унизительные оборонительные позиции, что могло вызвать в Сейме всеобщий отпор, преодоление которого, вопреки надменным декларациям, далось бы с трудом.
Депутат коммунист Якуб Вонтюк говорил в Сейме 25 июня 1926 года: «Пушки Пилсудского сразили не только правительство Витоса — в обломках лежит и парламентская демократия. Независимо от того, останется ли на бумаге прежняя конституция, или она будет изменена в духе правительства, действующего после мая, Сейм в действительности уже не тот, каким был прежде». Теперь мы видим, что этот анализ оказался точным, но в 1926 году большинство членов палаты считали его преувеличенным и малореальным.
Поэтому без значительного сопротивления правительство добилось поддержки депутатов, хотя в своей программе отходило от реализации их партийных программ. Без неожиданностей прошло 2 августа 1926 года голосование о поправках к конституции. Они давали президенту право на роспуск Сейма и Сената, лишая тем самым парламент права самороспуска. Глава государства получал также право издания распоряжений, имеющих силу закона, с тем условием, что эти акты получат подтверждение Сейма[137]. Укреплению исполнительной власти за счет законодательной служило также и постановление, предусматривавшее, что если проект бюджета не принимается в строго установленный срок, то без дальнейших действий со стороны Сейма, сразу после провозглашения его президентом, проект приобретает силу закона, что означало явное ограничение контрольных функций парламента, а также ставило под сомнение его право определять доходы и расходы государства.
Вместе с конституционной новеллой, более объемлющей, чем приведенные примеры, Сейм принял закон о полномочиях президента. До конца срока созыва палаты глава правительства получал право издавать декреты в целях «укрепления основ законопорядка» в стране. Сформулирование этого положения в общих чертах открывало широкое поле деятельности для стоящего за президентом правительства. Этот шанс новый состав правительства услужливо поспешил использовать.
Воистину нельзя было обвинять Сейм в недостатке доброй воли в контактах с Пилсудским, тем более если учесть, что августовская новелла прошла 246 голосами и только 95 послов проголосовали против. Однако Маршал, вопреки декларациям, не хотел сотрудничать с парламентом. Ему был нужен не партнер, а послушный исполнитель собственных решений. В то время он придерживался линии поведения, которую в разговоре с Владиславом Барановским определил следующим образом: «В данный момент постановят то, что я захочу, ратифицируют, что прикажу, поскольку трусят <…>, а если нет, то я буду нарушать, нарушать…»
В такой атмосфере рано или поздно должно было дойти до конфликта. Сейм не намеревался быть цветком на полушубке диктатуры. О своей независимости он заявил в сентябре 1926 года, дав большинством голосов отставку министру внутренних дел Казимежу Млодзяновскому и министру по делам религии и народного просвещения Антонио Суйковскому. Размах кризису придал и сам премьер-министр Бартель, объявивший из солидарности со своими сотрудниками отставку кабинета. Согласно конституции, она в тот же день была принята президентом.
На следующий день, 25 сентября, Бартель отправился в Друскининкай, где отдыхал Пилсудский. Вся Польша могла убедиться, что хотя под государственными решениями подписывается Мосьцицкий, но принимает их совсем другой человек. Распоряжения, которые получил премьер-министр, удивили даже наиболее искушенных юристов. Через два дня, 27 сентября, президент вновь поручил Бартелю сформировать правительство и одновременно утвердил предложенный им состав в неизменном виде, то есть включая и тех двух министров, которые два дня назад получили на Вейской вотум недоверия.
«Это был первый случай, — пишет профессор Анджей Айнзикель, — из серии так называемых конституционных прецедентов, то есть действий, направленных на нарушение конституции посредством оговорок и разного рода противоречащих ей интерпретаций отдельных положений или механическим их применением на практике, что вело к ущемлению прав парламента. Пилсудский и те, кто ему подсказал такой ход, хотели заставить Сейм молчать или же выражать вотум недоверия всему кабинету, что вело бы к досрочному роспуску палат».
В условиях попрания правительством конституции у парламента не было иного выхода, как принять решение о вотуме недоверия, и он пошел на этот шаг, несмотря на угрозы, содержавшиеся в распространяемых из Бельведера слухах. Значительным большинством голосов Сейм принял предварительный проект бюджета в ином, чем предлагало правительство, виде, что в свете принятых в парламенте правил имело однозначное звучание. За такое решение голосовали 204 депутата от правых, центра, национальных меньшинств и революционных левых партийных фракций. Защищало кабинет только 96 представителей левых и мелких группировок пилсудчиков. Теперь президент, а в действительности Пилсудский, мог отправить в отставку правительство или распустить парламент. Он выбрал первый вариант, что депутаты восприняли как отступление перед их решительностью. Однако такой диагноз был неверным. Маршал только оттягивал развязку, а вовсе не отказывался от нее.
Об этом свидетельствовало то, что Маршал лично возглавил правительство, что можно было расценить как готовность обратиться к упомянутому в его выступлении при выборах президента «кнуту». Он был использован весьма специфично, напоминая скорее сведение счетов между гангстерами, а не деятельность по пресечению «партийной анархии». Иначе нельзя назвать действия неизвестных злоумышленников в офицерских мундирах, ворвавшихся ночью в квартиру депутата Здзеховского, жестоко избивших хозяина, приговаривавших при этом, что сие наказание за вмешательство в военный бюджет. Биографы утверждают, что Пилсудский ничего не знал о подготовке акции. Возможно, это и правда, однако позже он защитил бандитов от справедливого возмездия. «Пусть Здзеховский сам ищет виновников, — заявил он просившему о вмешательстве Ратаю, — я не буду его охранником (здесь он употребил крепкое словцо. — Авт.). Ради какого-то мерзавца я должен пойти на то, чтобы все офицеры попали под подозрение».
Но угрожая депутатам кнутом в одной руке, в другой Маршал держал пресловутый пряник. Как премьер-министр он проявил уважение к волеизъявлению Сейма и отказал в участии в своем кабинете двум плохо встреченным на Венской министрам. Млодзяновского заменил генерал Фелициан Славой-Складковский. В нашумевших «Обрывках донесений» он подробно описал подоплеку своего назначения, и стоит этот текст привести, поскольку он дает яркое представление о действительных механизмах власти после мая.
«Неожиданно 1 октября пополудни я был вызван в Бельведер. <…> Пан Маршал принял меня в угловом зальчике, расположенном со стороны террасы за большим салоном, который был мне знаком еще по прежним посещениям Коменданта. Пан Маршал выглядел хорошо. Был одет в куртку стрелка без знаков различия и сидел за овальным столом в углу комнаты, раскладывая пасьянс. <…> Пан Маршал протянул мне руку над столом, жестом указал на стул и безо всякого вступления сказал:
— Итак, станете министром внутренних дел, поскольку Млодзяновский не хочет больше работать с этим… Сеймом.
Я тихо сидел, ожидая, что Комендант скажет дальше. Он, однако, молчал, изучая меня, смотрел прямо и глаза, и я робко заметил, что до этого не сталкивался с политикой, что есть другие коллеги, разбирающиеся в этом лучше меня. На что пан Маршал с улыбкой, словно признавая мою правоту, сказал:
— Политик здесь не нужен. Все кричат, что вы администратор, поэтому и будете министром. Доложитесь пану Бартелю (он исполнял функции заместителя премьер-министра. — Авт.). Ну, до свидания!
Здесь Комендант, словно устав от разговора, опустил голову и начал раскладывать пасьянс, не подав мне на прощание руки. Я откозырял и вышел из Бельведера удивленный и тем, что стал министром, и также тем, как все это произошло. Признаюсь, что когда раньше я читал в газетах, что кто-то стал министром, то я это представлял себе совсем по-другому».
Новоиспеченный министр теперь не сомневался, кому обязан доверием и как надо обращаться с депутатами, которых Маршал презирал. Складковский продемонстрировал это не один раз.
Между тем конфликт Пилсудского с Сеймом разразился вновь и по достаточно пустяковому поводу. Обговаривая с Ратаем открытие новой сессии, только что назначенный премьер-министр предложил, чтобы депутаты выслушали речь президента стоя. Ратай согласился, но с условием, что Мосьцицкий лично прибудет на Вейскую. Он считал унизительной для палаты ситуацию, когда депутаты стояли бы только из-за того, что зачитывалось обращение главы государства. В этом его поддержало большинство партийных клубов в Сейме. Спор затянулся, поскольку Пилсудский заявил, что сталкивается с трудностями в подготовке возможного приезда президента на Вейскую, что было очевидной отговоркой, и все это понимали. Наконец 13 ноября, видимо, не случайно, поскольку Маршал имел слабость к этому числу, президент сам лично открыл Сейм. Однако это произошло не на Венской, а в Замке, причем депутаты стояли еще и потому, что все кресла были вынесены из зала.
Вскоре оказалось, что эта затея явилась лишь дымовой завесой для проведения акции, имевшей для Сейма более существенные последствия. Конституция предусматривала, что парламент должен созываться ежегодно до конца октября, чтобы обсудить бюджет. Пилсудский дискуссию на тему «сидеть или стоять» начал за три дня до истечения этого срока. Отсутствие постановления грозило срывом этого положения основного закона. В этой ситуации Ратай и конвент старейшин приняли предложение начальника гражданской канцелярии президента Станислава Цара[138] о том, чтобы Мосьцицкий отдельным актом до 31 октября распорядился созвать Сейм, после чего особым указом, уже после этого срока, объявил бы его открытие.
Так и произошло, но это была западня, подготавливающая очередной конституционный прецедент[139]. Располагая уже один раз полученным согласием Сейма, правительство сочло, что конституции соответствует, если президент распорядится созвать сессию без ее открытия в дальнейшем. Таким образом, формально парламент был созван, но в действительности он не мог провести заседание и принять постановление. Со временем такую интерпретацию «усовершенствовали» до такой степени, что президент созывал сессию, открывал ее на несколько минут, но еще до принятия повестки дня откладывал ее на тридцать дней, имея на это конституционное право. За попрание конституции главный автор этого проекта Станислав Цар получил ироничное прозвище — «Его Интерпретаторское Величество».
С помощью такой ловушки, которая действовала почти безотказно, Маршал хотел унизить депутатов. И в значительной мере это ему удавалось. С исторической перспективы видна как на ладони действительная цель такой политики. В то время она тонула в гуще противоречивых заявлений и взаимных нападок. Дезориентированное общество, помня о черепашьем темпе работы парламента до майского переворота и сейчас, склонно было верить пилсудчиковской пропаганде, утверждающей, что депутаты по собственной воле идут по пути в никуда, а правительству не остается ничего другого, как взвалить на свои плечи всю тяжесть ответственности за судьбы государства.
Даже если и не все верили таким доказательствам, то и без этого «юридические чудеса» приносили большую пользу Маршалу, поскольку парализовывали текущую работу парламента. Так, летом 1927 года мгновенное закрытие сессии помешало депутатам вторично отменить указ президента о печати. В связи с этим в августе 1927 года большинство клубов вышло с предложением, требовавшим созыва чрезвычайной сессии Сейма. Президент не нарушил положения конституции, но, вновь использовав имеющийся прецедент, сессии не открыл. Лишь после острых протестов Ратая он сделал это И) сентября. В первый день заседаний Сейм принял указ об отмене Закона о печати, но на следующий день, еще до принятия повестки дня, сессия была отложена на тридцать дней, а после указанного срока закрыта. При этом Пилсудский заявил, что его кабинет по-прежнему считает Закон о печати действующим, исходя из того, что по этому вопросу не высказался Сенат. Протесты Ратая ничего не дали. Таким образом, в очередной раз Маршал, не нарушая буквы конституции, попрал ее дух.
Не получив отпора, Пилсудский продолжил прежнюю линию. 31 октября, согласно основному закону, была открыта осенняя бюджетная сессия. Еще до начала заседания заместитель премьер-министра Бартель взял слово и прочитал распоряжение президента, откладывающее сессию до 28 ноября. «Гомон. Различные выкрики, стук, — записано в стенограмме Сейма. — Голоса: «Скандал, стыд, позор». Маршал (Сейма): «Призываю депутата Жулавского к порядку». Стоит гомон. Депутат Диаманд, обращаясь к министру внутренних дел: «Пригласите полицию!» Депутат Марек: «Превратили государство в посмешище!», «Комедианты». Голос: «Банда негодяев». Маршал: «Повторно призываю депутата Жулавского к порядку…» Однако возмущение депутатов никак не могло изменить того, что была парализована деятельность парламента. Вскоре в связи с окончанием срока созыва он был распущен.
Дальнейшее отношение Маршала к Сейму было обусловлено тем, насколько широко в нем будут представлены пилсудчики. Тем временем на полных парах разворачивалась предвыборная кампания. В начале 1928 года был создан Беспартийный блок сотрудничества с правительством Пилсудского — по начальным буквам — «ББ». Невзирая на заглавное слово в самом названии, блок был не чем иным, как организованной пилсудчиками политической партией для достижения успеха на выборах. «Едынка», поскольку первый номер в избирательном списке оставил за собой «ББ», обещала разрешение всех конфликтов, преодоление всех трудностей.
В ходе предвыборной кампании в полной мере использовалась легенда Пилсудского: раздутые до недосягаемых масштабов его исторические заслуги для Польши, достижения правительства в области экономики, наступившие после мая, действительно значительные достижения, которые, однако, объяснялись экономической конъюнктурой на мировом рынке[140].
«Правительство Маршала Пилсудского, — говорилось в Декларации «ББ», — проделало за 19 месяцев большую работу, позитивные результаты которой видит и ощущает каждый гражданин. Этот факт должен вызывать у широких слоев общества больше веры и доверия, чем пустое резонерство и демагогия партийных программ». У поляка есть единственный выбор, заявлял «ББ», он должен поддержать Пилсудского. Любое иное решение государству во вред.
Сам Пилсудский, думая об успехе на выборах, преодолел свое предубеждение против парламента и согласился выставить свою кандидатуру в Сейм по списку «ББ», что, по мнению соратников, должно было придать блоку еще больше блеска. Однако все усилия сошли на нет. Не помогла проводившаяся с большим размахом и огромными финансовыми затратами пропагандистская кампания. Подвели даже кое-где имевшие место фокусы с урной. 4 марта 1928 года в выборах в Сейм санация[141] получила лишь ¼ голосов, благодаря чему, имея 122 мандата из 444 мест в парламенте, клуб «ББ» становился самым сильным, но не мог и мечтать об абсолютном большинстве. Больше повезло пилсудчикам при выборах в Сенат, но и здесь им не хватило для достижения желанного успеха нескольких процентов голосов. Учитывая узкие полномочия верхней палаты парламента, говорить о большом политическом значении выборов не приходилось. Таким образом, выборы закончились поражением. Прежде всего это был пропагандистский проигрыш, поскольку еще до выборов мало кто сомневался, что при любом их исходе санация не отдаст захваченную силой оружия власть.
Вместе с тем болезненный удар был нанесен авторитету Маршала. Поскольку выборы фактически превратились в плебисцит, который должен был засвидетельствовать популярность его личности, результаты голосования навевали грустные мысли. Забыли пилсудчики, что миф плохо переносит проверку методом статистики, и судьба их за это покарала. Они слишком поздно это поняли, но достаточно ловко попытались выйти из создавшегося положения. Тут же они стали заявлять, что капитал на популярности Маршала нажили себе также и другие группировки.
«В любом случае, — писал Славой Складковский, — результат этих выборов не отвечал огромной популярности Маршала Пилсудского в Польше. А что еще хуже — ряд оппозиционных партий использовали сверх всякой меры самое популярное в Польше имя Коменданта при голосовании за свои списки, утверждая, что именно они лучше всего понимают идею Коменданта, а не правительство и Блок беспартийных».
Однако никакие объяснения не были в состоянии изменить того, что парламент остался, как и в прошлом созыве, оплотом оппозиции. Не изменилось и враждебное отношение к нему Пилсудского, которому теперь приходилось действовать в значительно более трудных условиях, тогда как Сейм ощущал прилив сил благодаря только что оказанной поддержке избирателей.
Маршал это понимал и поэтому теперь был готов скорее, чем раньше, применить силу. Он говорил на конфиденциальном заседании руководителей «ББ» 13 марта 1928 года: «Сейм существует не для того, чтобы он мучил правительство. И если Сейм не захочет сотрудничать с правительством, он будет распущен». Ничего хорошего не предвещали слова, отрицающие основной принцип парламентаризма, согласно которому правительство сотрудничает с представительным органом, а не наоборот, как этого хотел бы диктатор, презирающий депутатов.
Первый урок Сейм получил сразу же в момент открытия. «За несколько дней до начала заседаний Сейма, — вспоминал Складковский, — меня вызвал пан Маршал, который заявил следующее: «Я лично открою новый Сейм от имени пана президента. Они должны только принять присягу и выбрать председателя (Пилсудский давно уже не употреблял определение маршал Сейма», считая, что оно позорит его воинское звание. — Авт.). И более ничего. Если мне попробуют помешать, то я введу в Сейм полицию…» Конечно, во время торжественных заседаний могли произойти какие-то инциденты, но единственным органом, который имел полномочия наводить здесь порядок, была стража маршала Сейма. Использование полиции означало неуважение к Сейму. А именно этого желал Пилсудский.
Унижающий парламент сценарий был реализован со всей последовательностью 27 марта 1928 года. Когда Маршал появился в зале, чтобы зачитать обращение президента, то депутаты-коммунисты встретили его криками: «Нет фашистскому правительству Пилсудского!» За дело взялся генерал Складковский. Появилась полиция, пытавшаяся силой выпроводить протестующих. Использование полиции вместо стражи маршала Сейма возмутило и других депутатов, которые поддержали оборонявшихся. Началась суматоха, и утихомирить зал удалось только с помощью очередного отряда на сей раз уже вооруженных полицейских.
Сейм на собственном примере смог убедиться, что вооруженный полицейский значит больше, чем депутат. Однако в тот раз он не сделал из урока надлежащих выводов. Депутаты кипели от возмущения, их не успокоили слова из зачитанного Пилсудским обращения о том, чтобы с «наилучшими пожеланиями, считаясь с существующими жизненными реалиями, они искали разрешения великой проблемы гармоничного сотрудничества государственных властей <…> посредством здравой морали каждодневной жизни (подчеркнуто нами. — Авт.)». После того, что произошло в зале, это прозвучало как издевка.
Вскоре депутаты продемонстрировали, что угрозами их не склонить к уступкам. На этом же заседании, вопреки явно выраженной воле Пилсудского, они выбрали маршалом Сейма руководителя ППС Игнацы Дашиньского. Кандидат Бельведера Казимеж Бартель провалился с треском. В рядах «ББ» произошло замешательство, которое не было долгим, поскольку сенаторы тут же демонстративно покинули зал. Возможно, они рассчитывали, что Пилсудский распустит строптивый парламент.
Однако диктатор не решился на такой шаг. «Результаты выборов, — пишет профессор Анджей Гарлицкий, — продемонстрировав слабую поддержку польским обществом санации, вынуждали Пилсудского действовать осторожно, считаться с необходимостью сохранения видимости демократической системы, хотя бы даже и существенно ограниченной. Разгон парламента — в тот момент трудно объяснимый для общественного мнения акт — неизбежно привел бы к новым выборам, а было совсем не ясно, окажутся ли их результаты более выгодными для правительственного лагеря. Могло произойти и наоборот». Таким образом, Маршал вновь оттягивал развязку с Сеймом, ожидая более подходящего момента.
В ближайшее время решительные действия были невозможны и из-за серьезного ухудшения состояния его здоровья. В ночь с 17 на 18 апреля у него произошел инсульт. На два дня он даже был помещен в больницу. Правда, симптомы болезни, в том числе и паралич правой стороны тела, быстро прошли, но полностью рука уже так и не восстановилась. Имелись опасения, что в любой момент удар может повториться, причем с трагическим для пациента финалом. Ближайшие соратники были полны тревоги. «При склерозе, которым страдает Комендант, — записал в начале 1934 года Складковский, — мы очень боимся повторения апоплексического удара, который был уже два года тому назад, по счастью в очень легкой форме». Общественность, как обычно бывает в таких ситуациях, была оповещена о неопасной болезни. Действительный диагноз держали в строгом секрете.
Обеспокоенный состоянием собственного здоровья и внемля предписаниям врачей не волноваться, Маршал отказался от функций премьер-министра и проделал это в свойственной ему манере. «Поприветствовав пана президента, — вспоминал заседание Совета министров от 25 июня 1928 года Складковский, — мы сели вокруг стола, и Комендант взял слово, после чего, как глава кабинета, он, обращаясь к пану президенту, подал в отставку от имени всех присутствующих министров. Справедливости ради надо сказать, что никто из нас, министров, и знать не знал о намерениях пана Маршала подать в отставку, но мы, конечно, с достоинством промолчали. Пан Маршал мотивировал отставку состоянием своего здоровья…»
Выступая после этого, Пилсудский позволил себе грубые нападки на Сейм. «Я не в состоянии (Складковский опускает ругательства. — Авт.) долго сносить подлость Сейма, что физически невыносимо для меня». «Радуйтесь, — продолжает изложение речи Маршала тот же автор, — что я был болен, когда Сейм утверждал бюджет, иначе «переломал бы им все кости». «Президент видит, что я взбешен, а мне нельзя волноваться», — он в очередной раз напомнил о предостережении врачей».
Спустя два дня после отставки кабинета Маршал дал интервью, в котором сверх всякой меры набросился на Сейм. По его мнению, от парламента в возродившейся Польше никогда не было никакого проку. Уже будучи Начальником государства, он намеревался ликвидировать то зло, каким было Учредительное собрание — «Сейм политических проституток», как он его называл. Не с большей симпатией отзывался он и о парламенте первого созыва, оставляя за ним эпитет «коррумпированный Сейм» и характеризуя его шуточками в таком роде: «Атмосфера в зале все сильнее пропитывается скукой, настолько, что становится удушающей. Даже шустрые мухи не выдерживают вашей, уважаемые депутаты, болтовни, настолько, что ни одна из них уже не вскочит на другую, а если которая из них лениво это и проделает, то та, другая, крылышек уже не поднимает и, умирая от тоски, падает на пол». Эти же обвинения адресовывались действующему парламенту. А поскольку ему не улыбалась перспектива стать полудохлой мухой — Маршал закончил интервью так: «Я решил, что у меня еще раз есть выбор: не желая никакого сотрудничества с Сеймом, оказаться в распоряжении пана президента, чтобы ввести новое устройство в Польше, или отказаться от должности главы польского кабинета министров, который вынужден сотрудничать с Сеймом. Я выбрал второе и посему перестал быть главой польского кабинета. <…> С другой стороны, добавлю, что в любой кризисный момент я в распоряжении пана президента и в качестве главы кабинета смело буду принимать решения и также смело делать выводы из своих решений». Тем самым Маршал скрывал от общественного мнения истинные причины отставки и, не желая, чтобы она была воспринята как уступка Сейму, угрожал этому последнему активными действиями против него. Однако должны были пройти два года, прежде чем осуществилась его угроза.
Тем временем обе стороны действовали все более решительно. Большинство парламентских клубов не испугалось «войны нервов» и набросилось на интервью- пасквиль, вставляя при случае шпильки в идеализированный сторонниками Коменданта образ «отца народа». «Серьезные намерения, выраженные в интервью бывшего председателя Совета министров, нынешнего военного министра Маршала Пилсудского, — говорилось в заявлении клуба ППС, — намерения, говорящие о возможности введения нового устройства в Польше, содержат в себе угрозу государственного переворота, попирающего конституцию, на верность которой Маршал Пилсудский присягал два дня назад вместе с правительством в полном его составе в качестве военного министра. <…> ППС до конца будет защищать демократию и народное представительство, выбранное на всеобщих выборах».
В атмосфере угроз шел процесс консолидации разделенных до этого внутренними спорами левых и центристских партий. В ноябре 1928 года была создана Согласительная комиссия левых партий в защиту республики, в состав которой вошли клубы ППС, ПСЛ — «Вызволение» и Крестьянской партии[142] в Сейме. В феврале 1929 года парламент решил призвать к ответственности министра финансов Чеховича, обвиняя его в растрате многих миллионов злотых сверх бюджета. Речь шла о 8 миллионах, предназначенных в 1928 году из фонда премьер-министра на предвыборную кампанию «ББ». Депутаты ударили по Маршалу его же собственным оружием — обвинением в расходовании государственных средств на партикулярные нужды. Обосновывая необходимость выяснения этой аферы в парламенте, представитель ППС Герман Либерман говорил: «Ничего больше нынешнему Сейму не осталось, как единственное его право <…> контроля за расходованием народных средств, и этого единственного права мы из рук не выпустим, до конца будем за него бороться».
Противники Маршала, ставя под сомнение его честность, причем используя при этом его собственные пропагандистские приемы, наносили ему тем самым точный и болезненный удар, тем более что общественное мнение уже не в первый раз за последнее время будоражили финансовые скандалы, в том числе и наиболее громкий из них, ставший до этого причиной ухода с поста министра почты и телеграфа близкого соратника Пилсудского Богуслава Медзиньского. А теперь снова страну взбудоражил крик: «А ведь они крадут!» — с той лишь разницей, что он раздался на Вейской и относился к «Геркулесу из Бельведера», в воображении его сторонников расчищавшему «коррумпированные конюшни» Сейма.
Пилсудский принял вызов. Более того, всю вину он взял на себя, утверждая, что Чехович действовал по его, как премьер-министра, указаниям. 23 июня он лично явился в Государственный трибунал, судивший уже бывшего министра, и набросился с нападками на сам этот трибунал, Сейм и — что было совсем в новинку — на конституцию. Противники под таким решительным напором отступили, не рискуя вступать в последний бой.
Трибунал уклонился от вынесения вердикта, который, принимая во внимание очевидные нарушения основного закона, мог быть только суровым приговором. Это подтолкнуло Маршала к продолжению политики угроз. По его указанию 31 октября 1929 года, когда должна была открыться бюджетная сессия, в здании Сейма появились несколько вооруженных офицеров. Вмешавшимся служащим Сейма они заявили, что пришли поприветствовать вождя. В чем в действительности заключалась цель этого визита, сказать трудно, поскольку ранее запланированный сценарий нарушило решение Дашиньского не открывать заседания «под винтовками и саблями». Нельзя, однако, не заподозрить Маршала в намерении запугать депутатов, а может быть, даже воспользоваться услугами военных для совершения актов насилия.
Сейм понял, что противник хочет совсем его скомпрометировать, и пошел на решительные действия. Как только запланированная сессия открылась 5 декабря 1929 года, он проголосовал за отставку кабинета Казимежа Свитальского, правившего в течение нескольких месяцев и считавшегося властью «сильной руки». Маршал еще раз уступил. Свитальский сложил полномочия, а премьер-министром стал прослывший «либералом» Казимеж Бартель. Но решающий бой оказался отложенным уже в последний раз.
Конфликт вступал в новую фазу. До этого времени он скорее напоминал партизанскую войну с засадами, боями местного значения, причем обе стороны старательно избегали генерального сражения, в которое было бы втянуто все общество. В результате значительная его часть не ориентировалась в том, что происходит на Вейской. Многие помнили конфликты, раздиравшие парламент до мая 1926 года, и верили официальной пропаганде, что постоянно идет борьба с заскорузлой коростой «сеймократии». Эти аргументы убеждали, тем более что им сопутствовали успехи в экономике, которые, правда, были результатом объективных перемен в конъюнктуре на мировом рынке, хотя в обыденной жизни их приписывали исключительно гению Пилсудского и руководимому им правительству. В такой ситуации демагогия Пилсудского, направленная против парламента, воспринималась многими слишком несерьезно, без понимания того, что идет утонченная борьба диктатора с Сеймом, являющимся последней преградой на пути к абсолютной власти.
1930 год нарушил, однако, достаточно стабильную в течение четырех лет расстановку сил. Все более заметными становились симптомы экономического кризиса[143]. Сократилось производство, и вместе с ним уменьшилось число занятых. Полиция жестоко расправлялась с нараставшими демонстрациями безработных. Лопнул миф об «экономическом чуде» санации. В обществе росло разочарование. Набиравшая силу оппозиция все смелее нападала на правительство.
В начале мая 1930 года благодаря уже известным своим «проделкам» с конституцией Маршал не допустил открытия требуемой депутатами чрезвычайной сессии Сейма, на которой должно было подвергнуться резкой критике очередное правительство «сильной руки», на сей раз Валеры Славека. В такой ситуации партии, входившие в созданный несколько месяцев назад Центролев (ППС, Крестьянская партия, ПСЛ «Вызволене», ПСЛ «Пяст», Национальная рабочая партия[144] и Партия христианской демократии), заявили, что власти мешают избранникам общества предпринять шаги по преодолению кризиса, и объявили о готовности перенести борьбу на улицу. По правде говоря, у них не было иного выхода, ведь путь парламентской деятельности был закрыт.
В июне 1930 года в Кракове состоялся большой Конгресс по охране прав и свобод народа, который принял резолюцию, осуждающую «диктатуру Пилсудского», и провозгласил последовательную борьбу за возвращение режима парламентской демократии. На 14 сентября Центролев запланировал организовать двадцать один митинг в крупнейших городах Польши, с тем чтобы призвать общество к борьбе с диктатурой.
Когда в условиях кризиса с каждым днем росло число недовольных, оскорбления и издевки по адресу депутатов уже не спасали. Близился момент осуществления угроз Маршала, высказанных два месяца назад одним из его ближайших соратников: «Лучше поломать кости одному депутату, чем пустить в дело пулеметы». Дело было не только в том, чтобы напугать парламентариев. Все общество должно было усвоить урок покорности, видя пренебрежительное отношение к тем, кого конституция признавала единственной властью в стране.
25 августа 1930 года Пилсудский снова занял пост премьер-министра. Двумя днями позже в полуофициальной «Газете Польской» появилось первое его интервью из серии посвященных Сейму, которое своей грубостью должно было удивить даже тех, кто привык к политической брани. Действующий основной закон председатель Совета министров назвал «конституткой», добавив: «Я выдумал это слово, поскольку оно ближе всего к проститутке». После такого намека 29 августа президент распустил Сейм и Сенат, назначив на ноябрь 1930 года новые выборы.
В ночь с 9 на 10 сентября на основе решения министра внутренних дел Складковского были арестованы — с нарушением судебной процедуры — 18 бывших депутатов от оппозиции. Как признает Складковский, список был составлен лично Маршалом. Задержанных поместили в военную тюрьму в Бресте, где они подверглись издевательствам, пыткам и преследованиям.
«В ночь с 9 на 10 октября, — пишет на основе депутатского запроса в Сейме Адам Прухник[145], — ввели Попеля (один из руководителей Национальной рабочей партии. — Авт.) в темную комнату; один из жандармов схватил его за голову, другой за ноги, после чего повалили его на стол, положили на копчик мокрое полотнище и отмерили 30 ударов каким-то железным предметом. <…> Во время экзекуции Попель потерял сознание. В конце заправлявший всем капитан заявил, что побитый должен «радоваться, что так легко отделался, в следующий раз Маршал Пилсудский распорядится пустить пулю в лоб».
Полностью укомплектовали не только брестскую тюрьму. Всего было арестовано около 50 бывших депутатов и сенаторов из оппозиционных парламентских клубов. Несколько тысяч деятелей, не обладающих депутатскими полномочиями, тоже оказались в тюрьме. Террор сопровождал всю предвыборную кампанию. Особенно жестоко обошлись с украинским населением, заселявшим восточную часть Малопольши[146]. В ответ на акты насилия со стороны тайных украинских организаций, выступавших против польской государственности, власти приступили к задуманной с широким размахом карательной операции. Отряды из полицейских и военных провели несколько сот карательных экспедиций, в ходе которых применялся принцип коллективной ответственности. Уничтожалось имущество людей, они публично подвергались побоям, ликвидировались общественные, культурные и кооперативные украинские организации.
Насилие со стороны администрации сопутствовало и проведению самих выборов. Именно к этому периоду относятся гротесковые манифестации сельских жителей окраин, шествовавших к избирательным урнам с «едынкой» «ББ» в руках. Шествие возглавляли попы, а замыкали полицейские.
В такой атмосфере «ББ» заполучил желаемое большинство. В насчитывающем 444 места Сейме он получил 219 мандатов, а в Сенате из 111 — 75. Официальная пропаганда окрестила такие итоги огромным успехом. Оценивая эту акцию, профессор Зелиньский писал, что «прошедшие при таких обстоятельствах 16 и 23 ноября 1930 года пресловутые «брестские выборы» не могли отражать действительных настроений общества». Об этом свидетельствовали многочисленные протесты, раздававшиеся преимущественно в кругах интеллектуальной элиты. К наиболее громким из них относилось письмо 15 профессоров Ягеллонского университета от декабря 1930 года, поддержанное другими академическими центрами. Широкий общественный резонанс получили протесты Анджея Струга, Марии Домбровской[147], Тадеуша Бойа-Желенского[148], Антония Слонимского[149], Юлиана Тувима[150]. Сомнения обуревали и некоторых пилсудчиков, которые, однако, открыто не протестовали. Привыкли уже к послушанию и уверенности в том, что Комендант знает, что делает, хотя на этот раз их лояльность подверглась испытанию и, кто знает, не более ли тяжелому, чем в мае 1926 года.
Официальная пропаганда правящего лагеря посчитала такое отношение Маршала к оппозиции еще одной его заслугой перед историей. Это было первым четким сигналом, говорившим о том, что распространяемая по всем доступным каналам «белая» легенда начала расходиться с общественным восприятием. Немногие без зазрения совести могли подписаться под следующей оценкой официального биографа: «Широкие слои общества, не отравленные смертельным ядом лжи, восприняли арест депутатов Сейма с чувством облегчения и глубокого внутреннего удовлетворения, как акт справедливости, как понятную, необходимую, ожидавшуюся реакцию на антиправительственные выступления, как акт, ставящий в равное положение перед законом демагогов, узурпировавших себе право на безнаказанность и неприкосновенность, и остальных граждан».
Сам Пилсудский высказывался о Бресте без энтузиазма. Спустя год в разговоре с Артуром Сливиньским он так вспоминал причины своего решения: «Необходима была победа на выборах… только победа. Иначе я должен бы был пойти ва-банк и страшные вещи творились бы в стране… Я знал, что не пережил бы такого… Польша была в опасности… Я должен был пойти на крайние меры, даже на такие, как Брест». «Все это, — объяснял Сливиньский, — Маршал произнес прерывающимся голосом, делая частые паузы между предложениями. Было видно, что для него разговор на эту тему очень мучителен. <…> Вдруг Маршал изрек: «Не знаю, почему Бог указал мне жить в Польше…»
Таким образом, репрессии против Сейма он расценивал как меньшее зло, а не повод для восхваления, как это официально заявили некоторые из его соратников. Однако Маршал не испытывал угрызений совести за Брест. Выходит, что именно осенью 1930 года в нем окончательно утвердилась уверенность в том, что Польша — его собственность и он может делать с ней что хочет, если только сочтет это нужным.
С общественным мнением Пилсудский не очень считался. Со временем о соотечественниках у него выработалось совершенно ужасное представление. Уже на съезде легионеров в Калише в 1927 году он говорил: «Я выдумал множество красивых слов и определений, которые будут жить и после моей смерти и которые заносят польский народ в разряд идиотов». В брестские дни он жаловался главе кабинета министров: «Есть вещи, которые вы, поляки, не в состоянии понять! <…> Сколь много мне удалось бы сделать, правь я другим народом». Это подчеркнутое отмежевание — «вы, поляки», я, как нетрудно догадаться — «я, Пилсудский» напоминало образ мышления монарха-самодержца и явно противоречило утверждениям авторов «белой» легенды, которые исписывали целые страницы доказательствами того, что истинный демократизм был и будет всегда свойствен Маршалу.
Неприязнь к соотечественникам мы находим и в уже цитировавшемся разговоре со Сливиньским. «Я не раз думал о том, — говорил он, — что, умирая, я прокляну Польшу. Сегодня я осознал, что так не поступлю. Когда я после смерти предстану перед Богом, я буду его просить, чтобы он не посылал Польше великих людей. <…> Что польский народ дает великим людям и как к ним относится! Еще неизвестно, была ли бы создана без меня Польша! А если бы была, то сохранилось ли бы это государство? Я знаю, что я сделал для Польши!»
Вот из таких суждений в мозгу Маршала рождались мысли о неблагодарности поляков — мелких и подлых людишек и возникало чувство вседозволенности, собственной непогрешимости.
После разгрома оппозиции Пилсудский 4 декабря 1930 года отказался от поста премьер-министра, мотивируя свое решение состоянием здоровья. Говорил даже о близкой смерти. Все более заметно было состояние тревоги, не отпускавшей его со дня инсульта. Он решился даже на самый длительный в своей жизни отдых — на три с половиной месяца пребывания на Мадейре, португальском острове в Атлантике, расположенном к северу от Канарских островов. Провести зиму в теплых краях посоветовали доктора, а Мадейру выбрали дочери — двенадцатилетняя Ванда и десятилетняя Ягода. Маршала в этом путешествии сопровождало всего несколько человек: адъютант — капитан Мечислав Лепецкий и доктора — подполковник Мартин Войчиньский[151] и Евгения Левицкая. Последняя заслуживает того, чтобы ей уделить больше места. Судя по всему, ее связывало с Маршалом нечто большее, чем просто контакты врача и пациента. Авторы мемуаров, любители сенсаций, пишут даже о большом романе, о чем достоверно утверждать, конечно, нельзя. Эта связь, по понятным причинам, была покрыта тайной. Но даже те крупицы, которые известны, внушают мысль, что под конец жизни у Пилсудского родилось чувство.
Евгения Левицкая была незаурядной женщиной. Она была родом, как пишет один из мемуаристов, с украинских земель, с окраин давних границ Речи Посполитой. «Это был тип «степной девы» из глуши с сильным характером, гражданским мужеством в отстаивании своих взглядов и с врожденным чувством юмора». Ее молодость прошла на Украине. В 1915 году она поступила в Женский медицинский институт в Киеве и прожила в этом городе до 1923 года. Похоже, была одной из лучших студенток, что подтверждалось двухлетней практикой у известного в те годы профессора медицины Ф. Яворского. В 1923 году приехала в Варшаву и продолжила учебу на медицинском факультете Варшавского университета, который закончила спустя два года. Еще будучи студенткой, летом 1924 года она временно работала врачом в курортном центре Друскининкай.
Тогда, скорее всего, она и познакомилась с Пилсудским. Хотя прямых свидетельств об этом не сохранилось, но иначе и не могло быть, поскольку Маршал вместе с семьей две недели провел в Друскининкае и трудно представить, чтобы на таком маленьком курорте их дороги не пересеклись. Подтверждение этому мы можем найти и в письме Пилсудского к жене, относящемся к очередному пребыванию его на курорте уже в следующем году: «Мнение высокой медицины я не знаю. Сам же я собой не очень доволен, так как сердце никак не приходит в норму. <…> Совещаются, исследуют меня и решают пан Талхейм и пани Левицкая. <…> Здесь мне сказали, что пани Левицкая в этом году выходит замуж, за кого, не знаю…» Так можно писать только об общих знакомых, а поскольку Александры в 1925 году в Друскининкае не было, то они могли познакомиться с Левицкой только годом раньше. Интересно звучит в письме сообщение о предстоящем браке. Как показало время, не подтвердившееся, но наводящее на размышления. Возможно, ему надо было дать понять, что сердце общей знакомой занято другим мужчиной, успокоить жену, убедить ее, что у него с Евгенией чисто приятельские отношения. Во всяком случае, наводит на мысли тот факт, что летом Пилсудский неоднократно и в общей сложности надолго приезжал в Друскининкай. И что характерно, всегда один, без семьи, не как годом раньше. Ему было в то время пятьдесят восемь лет, а Евгении — двадцать девять, Александре — сорок три. Судьба словно мстила за Марию, которой в 1906 году был сорок один год, а ее сопернице — двадцать четыре.
Не очень ясно, как дальше развивалось курортное знакомство. Левицкая много сил и энергии посвятила Друскининкаю, где создала современный оздоровительный центр лечения солнцем, воздухом и движением. Для того времени это были революционные идеи, воспринимаемые с подозрением рьяными моралистами. Она также очень активно занималась спортом, подавая тем самым пример пациентам. Соорудила в Друскининкае пляж, бассейн, площадку для волейбола, корты, отвела место для гимнастики.
Маршал в это время боролся за власть. Но что показательно — насыщенный политическими событиями сентябрь 1926 года он провел не в столице, а в курортном городке у Немана. Как и годом раньше, он приехал сюда без жены и детей. Под влиянием спортивного энтузиазма Евгении Левицкой Пилсудский задумал создание государственных заведений, которые занимались бы физическим воспитанием молодежи. В результате в январе 1927 года было создано Управление по физическому воспитанию и военной подготовке (УФВиВП), а в феврале 1927 года — Государственный научный совет по физическому воспитанию. Пилсудский лично возглавил совет, а среди его членов оказалась и доктор Левицкая, которая одновременно руководила секретариатом УФВиВП. С этого времени они могли встречаться уже не только на лечении или отдыхе. Было заметно, что Пилсудскому нравились все эти мероприятия. Вот что отметил присутствовавший на первом заседании совета Складковский: «Пан Маршал находился в хорошем настроении, что бывает редко». Не случайно он появился и вечером на специально данном по этому случаю приеме, хотя всегда старался избегать такого рода торжеств.
Сентябрь 1927 года он снова провел в Друскининкае. «Отдохнул он очень хорошо, — пишет в хронике Вацлав Енджеевич. — Прогулки у Немана, часы размышлений на скамейке в парке, беседы с симпатичными ему людьми…» Автор этих слов знал не одну тайну, хотя вместе с тем был абсолютно лоялен к обожаемому Коменданту. Поэтому, как нам кажется, эту его информацию можно понимать достаточно определенно, тем более что автор тематику разговоров не конкретизирует. А ведь должен же был Енджеевич поразмышлять о «дискуссиях», о которых, будучи лояльным, он лишь вскользь упомянул в «Хронике».
Совместное путешествие на Мадейру было переломным в развитии знакомства. С разных точек зрения. Решение взять с собой молодого доктора в определенном смысле обнародовало факт знакомства с ней. Хотя, конечно, официально она и могла заботиться о его здоровье, но все же то, что она оказалась в сопровождавшей его свите в числе всего лишь трех человек, должно было быть однозначно понято общественным мнением, которое уже будоражили досужие сплетни на эту тему.
Это был медовый период двухлетнего знакомства и вместе с тем начало трагического конца. Должно было, конечно, произойти нечто драматическое в вилле на Мадейре, раз уж Левицкая решила покинуть остров раньше времени и одна вернуться домой.
А спустя два месяца, 27 июня 1931 года, ее нашли в Центральном институте физического воспитания в Варшаве без сознания, с признаками химического отравления. В тяжелом состоянии ее привезли в больницу, где через два дня она скончалась, не приходя в сознание. Похороны состоялись 2 июля на центральном варшавском кладбище Повонзки. Перед началом траурной церемонии в костеле появился Маршал в сопровождении полковника Венявы-Длугошовского и генерала Складковского. Посидел в сторонке, в последних рядах, и быстро уехал. В самих похоронах он участия не принимал. Однако на кладбище присутствовало много военных и высоких чиновников во главе с премьер-министром Александром Прыстором[152], что не было обычным явлением, тем более что хоронили рядового врача, не имевшего никаких официальных званий.
Неудивительно, что падкая на сенсации столица прямо бурлила от сплетен. Обращало, однако, на себя внимание молчание прессы вплоть до той, слывшей самой большой любительницей грязных дел. То ли работала цензура, то ли распространены были опасения, что за «покушение на святая святых» можно нарваться на ответ со стороны «неизвестных исполнителей». Даже неустанно нападавшая на санацию эндековская «Газета Варшавска» ограничилась лишь сообщением, что «умершая была известна как очень близкая знакомая семьи (подчеркнуто нами. — Авт.) военного министра».
Обстоятельства этой смерти так никогда и не были выяснены. Имевшийся материал мог свидетельствовать и о самоубийстве, и о случайном отравлении, и об убийстве. В ходивших по Варшаве сплетнях звучала уверенность в политическом подтексте трагедии. «Все более упорно начали распространяться слухи, — вспоминал Мариан Ромейко, — говорившие не о «самоубийстве», а о странной смерти доктора Левицкой. Постепенно складывалось мнение, все чаще высказываемое вслух, что эта жизнерадостная, молодая и интеллигентная докторша стала «опасна» для определенных кругов. Она была вхожа к Маршалу и как врач, и как знакомая. В этих кругах говорилось, что таким путем до Маршала могла доходить не контролируемая «мафией» информация, что Маршал мог попасть под «чуждое» влияние…» Такая версия выглядит слишком маловероятной, если учесть, что с того момента, как они расстались на Мадейре, такая угроза вообще отсутствовала. И нам уже не узнать тайны доктора Левицкой. Какую удивительную шутку сыграла судьба, трагически оборвав жизнь как первой, так и последней избранницы Пилсудского.
Мы можем только предположить, что это драматическое событие Маршал глубоко переживал. Во всяком случае, тем летом он поехал в Пикелишки, усадьбу в районе Вильно, ставшую к тому времени его собственностью.
Проблемы со здоровьем, наводившие на мысли о смерти, «брестский кризис» и расправа с оппозицией, а возможно, и кончина Левицкой — все это охладило рвение Пилсудского к государственным делам.
Спустя два дня после возвращения с Мадейры, 31 марта 1931 года, он нанес визит Мосьцицкому, во время которого проинформировал его, что дела отнимают у него все больше сил и он не хочет брать на себя в такой ситуации новые обязанности. Предупредил, что в дальнейшем в кругу его интересов останутся только армия и иностранные дела. Остальные вопросы он передал своим сотрудникам. Этот вопрос он вновь поднял 29 апреля 1931 года на совещании в Бельведере с участием Мосьцицкого, Свитальского, Славека, Прыстора и Бека[153]. «Комендант считает, — записал в дневнике К. Свитальский, — что он отбрасывает слишком большую тень на все дела в Польше. Все на нем концентрируется, и он все решает, что ненормально. После такого вывода Маршал, обращаясь к президенту, заявил, что должен довести до сведения президента, что уже с данного момента нельзя рассчитывать, что Комендант будет в любое время и при любых обстоятельствах, как это было прежде, в распоряжении президента».
Пилсудский проинформировал, что отныне он хочет посвятить себя прежде всего службе в армии. Не упомянул о традиционно остававшейся в его поле деятельности внешней политике, чем удивил присутствующих. «Я спросил Коменданта, — записал Свитальский, — касается ли его решение заниматься почти исключительно военными делами также и внешней политики, в связи с чем я, как и все общество, начиная с определенного времени, испытываю беспокойство. Комендант ответил, что вопросами внешней политики он сейчас почти не занимается».
Эти слова предвещали настоящую революцию в системе осуществления власти. Присутствовавшие хотели удостовериться, правильно ли поняли Маршала. «Я спросил Коменданта, — продолжал Свитальский, — будет ли он высказывать мнение по вопросам общественного устройства. Комендант ответил, что будет делать это с большим удовольствием». Видя отход от еще совсем недавней жесткой практики, слово решил взять ближайший сподвижник, бывший в то время премьер-министром Валеры Славек. «На вопрос Славека, — записал Свитальский, — захочет ли Комендант, сохранить принятый ранее порядок работы, когда по мелким вопросам мы сами принимаем решения, а по любым более важным проблемам запрашивали его мнения, Комендант ответил, что такой порядок работы остается, после чего тут же назначил аудиенцию Славеку на 17 часов».
После таких разъяснений многозначительное первоначальное заявление отойти от управления страной теряло свою категоричность. «У всех нас сложилось впечатление, — подытожил Свитальский, — что Комендант, несмотря на сделанное президенту торжественное заявление, методы своей работы менять совсем не собирается и как и прежде будет заниматься тем, что считает важным, что ничего здесь он принципиально менять не намерен. В то же время со стороны Коменданта все совещание было задумано в воспитательных целях, с тем чтобы заставить своих сподвижников брать ответственность за все больший объем государственной работы, проще говоря, обещание пускать нас все дальше в глубоководье, не беспокоясь, выплывем мы или нет».
Учитывая дальнейшие действия Пилсудского, мы можем сказать, что Свитальский правильно понял его намерения. Маршал, действительно, все больше дел стал доверять своим подчиненным, хотя по-прежнему и оставлял за собой наиболее существенные вопросы. Решал их он все реже, вообще без обсуждения с заинтересованными лицами, что не облегчало, мягко говоря, им жизнь. Суждения, которые выходили из Бельведера, имели определяющее значение, даже если обширные вопросы решались одним предложением. Часто говорят, что Пилсудский вообще не интересовался экономическими вопросами. В то же время из записей Свитальского следует, что даже в этой области он отдавал распоряжения. К примеру, подобные тому, как данное Игнацы Матушевскому перед отъездом Маршала на Мадейру, чтобы каждый новый иностранный заем был «лучше и выгоднее» предыдущего. Сие краткое замечание в условиях экономического кризиса в значительной степени предопределяло экономическую политику государства.
С течением времени Маршал все больше замыкался в себе. Причина этого была более серьезна, чем громкие разговоры о разочаровании в своих соотечественниках и во всем мире. «Состояние его здоровья, — записал в ноябре 1932 года Барановский, — которым он, к сожалению, всегда пренебрегал, временами парализовывало его волю, и тут же на его лице проявлялась усталость, голос слаб, а темп речи замедлялся. Все недомогания Коменданта, как он обычно говорил, шли от простуды, но, глядя в его глаза, порой застывшие и угасающие, на пожелтевшее и нахмуренное лицо, можно было догадаться, что кроме плохого самочувствия и морального утомления существуют причины более глубокие и тревожные. Какой-то невидимый и глубокий недуг, казалось, подтачивает его организм. В последние годы он проявлялся все явственнее…»
Уже заметная, хотя и не установленная еще врачами, которых он терпеть не мог и не подпускал к себе, болезнь четко отразилась на его психике. Он стал еще более замкнутым, подозрительным даже по отношению к тем людям, которые еще недавно пользовались его доверием. С такой метаморфозой личности была связана немилость, в которую впал в 1933 году его старый друг, с 1931 года премьер-министр Александр Прыстор. Сигналом об утрате доверия стало резкое ограничение личных контактов. «Прыстор очень страдал из-за перемены отношения к нему Коменданта, — записал 26 апреля 1933 года Свитальский. — Уже давно Комендант не общается с Прыстором, решая дела через своих офицеров». Так было за несколько дней до этого с назначением подполковника Калиньского министром почты и телеграфа. Об этой перемене в своем как-никак правительстве Прыстор узнал от руководителя канцелярии Маршала, что воспринял как неуважение. Однако даже не осмелился выяснить причины немилости. Давно так уже повелось, что Маршал высказывался тогда, когда считал это подходящим.
Так случилось и на сей раз, хотя и не Прыстор удостоился разговора, а Свитальский и Славек, которые неожиданно для них самих были втянуты в это дело. «Как нам показалось, целью нашего вызова, — записывал 2 мая 1933 года свое впечатление от посещения Бельведера Свитальский, — было сообщение нам об отношении Коменданта к Прыстору. Давая свою оценку, Комендант считает положительным в деятельности Прыстора проявленное им поначалу отношение к чиновникам и работу по снижению цен, а отрицательным — его методы, основанные на желании все знать обо всем, с тем чтобы влезать во все дела. Это неразумные методы, которых можно придерживаться, только прилагая очень большие усилия. А как только наступает утомление, обнаруживаются все отрицательные стороны такой системы работы и все заканчивается отсутствием контроля. <…> Чаще других повторялось следующее обвинение. Прыстор использует «своих» людей, которым он доверяет, и расплачивается с ними деньгами или должностями. Эти собачонки — настоящие прохвосты и в любой момент могут морально скомпрометировать Прыстора. <…> Комендант хочет спасти Прыстора, и поэтому будет лучше, если по случаю выборов президента тот подаст в отставку. Президент выступит в защиту Прыстора, но Комендант, если Прыстор останется, будет придерживаться недоброжелательного нейтралитета. Потом пошли какие-то упоминания о нелояльности, о предупреждениях Прыстором Коменданта, что он намеревается быть снисходительным по отношению к не совсем чистым на руку людям, что Комендант сам себе сказал в 1926 году, что его самым большим недостатком было всепрощение и с того момента он приемлет только жесткость, что Прыстора он слишком хорошо знает, чтобы позволить себе не подать ему руку или что-то в этом роде, но по всему было видно, что Комендант за что-то обижен на Прыстора и обид своих на него быстро не забудет».
В этой цитате — а она столь обширна именно потому, что содержит почти целиком весь монолог Пилсудского, — мы не находим действительной причины той немилости, в которую попал Прыстор. Можно лишь строить догадки, исходя из сказанного им, что премьер-министр оказался жертвой интриги или безосновательных подозрений. В любом случае можно удивляться той легкости с которой Пилсудский поверил клеветникам.
«Все мы были очень взволнованы тем делом, — вспоминал Вацлав Енджеевич, вскоре занявший пост министра в новом кабинете. — Мы допускали, что определенную роль в этом сыграли сплетни, особенно бабские наговоры, которые доходили до Пилсудского, и он им верил. Все более уединявшийся в Бельведере и инспекторате, больной, замкнувшийся сам в себе, он становился подозрительным часто безо всяких на то оснований в отношении самых близких и преданных ему людей. Переубедить его в чем-то стало невозможно».
В этих условиях самые важные государственные дела решались весьма необычно. Так было, например, с президентскими выборами в 1933 году. В начале июня заканчивался семилетиий срок полномочий Мосьцицкого. Прыстор по согласованию с президентом назначил созыв Национального собрания на 1 июня. В то же время Пилсудский неожиданно заявил 25 апреля Мосьцицкому, что выборы следует провести на месяц раньше. Пожелание это было, естественно, равнозначно приказу. Была развернута соответствующая деятельность, хотя ее значительно затрудняло то, что Маршал никому не сообщил, кого он имеет в виду посадить в президентское кресло. В разговоре с Мосьцицким Маршал ни словом не обмолвился, рассчитывает ли он на его перевыборы, или у него есть иная кандидатура. В такой ситуации президент предусмотрительно начал намекать на завершение своих полномочий. Только в конце апреля Пилсудский велел Славеку предложить Мосьцицкому вновь баллотироваться на пост президента. Исход дела завершил разговор со Славеком и Свитальским 2 мая 1933 года. «В начале разговора, — записал Свитальский, — Комендант спросил Славека, согласен ли президент баллотироваться на новый срок. <…> Когда Славек доложил, что президент выразил согласие и был польщен сим проявлением расположения Коменданта к нему и несколько раз переспрашивал, действительно ли такова воля Коменданта, Комендант проявил как бы неудовольствие тем, что президент столь полагается на волю Коменданта, добавив при этом: как же люди «податливы» (то есть дают себя склонить к тому или иному выбору). К разговору на эту тему больше Комендант не возвращался».
Видно, что Маршал без особых симпатий относился к своему ближайшему окружению, не утруждал себя вежливостью, изъявлял им свою волю, а они подчинялись ей беспрекословно.
Функционирование всей системы замечательно просматривается в другой записи Свитальского, касающейся обстоятельств назначения Януша Енджеевича премьер- министром, относящейся к 10 мая 1933 года: «Славек докладывал мне, как произошел последний кризис. Президент 4 мая, то есть на следующий день после нашего совещания у Прыстора, после которого тот пришел к убеждению, что необходимо как можно скорее уйти в отставку, вызвал Славека и размышлял с ним над списком кандидатов на пост премьера. Он предложил фамилии Бека, Енджеевича и вспомнил о своем прошлом намерении, чтобы Славек сам заменил Прыстора. 9 мая президент был у Коменданта. Из того, что Славек знает, выходит, что президент предложил несколько фамилий, но какие именно, Славек не знал. Комендант остановил свой выбор на Енджеевиче».
Записи Свитальского, одного из наиболее близких Маршалу людей, просто бесценны, если речь идет о показе реальных действий, реакций и решений Пилсудского. На основе разбросанных по разным местам замечаний, однако, может создаться впечатление, что автор не был до конца искренен, предпочитал промолчать, не касаться наиболее деликатных проблем.
Это замечание неправомерно в отношении другого документа, более личного характера, совсем не предназначенного для посторонних глаз, — календарика генерала Юзефа Кордиана Заморского[154], относящегося к 1932 году. Только благодаря стечению обстоятельств спустя годы в руках историков оказался этот необычный документ. Его фрагменты стоит привести доподлинно, это хотя и затруднит чтение, но вместе с тем представит нам со всей достоверностью наблюдения и размышления автора, исполнявшего тогда функции заместителя начальника Генерального штаба польской армии.
«7 мая <…> совещание у премьера. Комендант им недоволен. Приказал, чтобы его соображения в отношении правящего органа во время войны уточнил Славек, «поскольку это для меня самый сильный человек в Польше». Одряхлевший старец не желал решать с Гонсеровским[155] никаких сложнейших вопросов, поскольку на него действовала весна. Харак{терно}, что уже года два он не принимал никаких решений, в то же время угрозы, причем прямо-таки садистские, с жаждой крови (сожгу, керосином оболью и сожгу и т. п.) сыпались как из рога изобилия…»
«11 июля <…>. Вечер у Смиглы. По его мнению, это ненормальный человек (это о Маршале. — Авт.), что нельзя не заметить, и вскоре, я думаю, нас сочтут за стадо глупцов, поскольку мы этого не замечали»…
А ведь Кордиан Заморский и информировавшие его Гонсеровский и Рыдз-Смиглы — близкие и верные Маршалу люди, с ужасом констатировавшие признаки его болезни и неприятные изменения в его психике, о существовании которых раньше они даже не подозревали. «Парад принимал Комендант, — записал генерал Кордиан Заморский свои впечатления от 11 ноября 1932 года. — Сколько обожания, столько и сожалений, что он не осознает, какой творится бардак в государстве и армии»…
И хотя каждый из них в разной степени был посвящен в тайну состояния здоровья Маршала, одно было четко определено: в контактах за пределами своего круга они тщательно скрывали известные им факты чудачеств Маршала. Представляли его сильным, проявляющим заботу обо всех сторонах государственной жизни отцом народа. Этого требовала легенда. Это было основой власти, в осуществлении которой в большей или меньшей степени они сами участвовали. Большинство даже высокотитулованных пилсудчиков, делавших выводы из крох им доступной информации, склонны были преувеличивать подлинные размеры страдания Маршала. Наверное, отчасти по этой причине так реагировал и цитируемый Кордианом Заморским генерал Рыдз-Смиглы. В действительности ведь трудно было признать Пилсудского «человеком ненормальным» в полном значении этого слова.
Нет сомнений, что в последние годы жизни Пилсудский все чаще моментами терял сознание и испытывал усиливающиеся приступы ярости. Это было связано с болезнью, но отчасти являлось и результатом нездорового образа жизни. Работал он почти исключительно по ночам, под конец жизни спал не более двух часов в сутки. Поэтому его подчиненных могли вызвать в Бельведер в любое время суток. Тогда появился анекдот об известном своими безупречными манерами князе Януше Радзивилле[156], который, будучи вызван к Маршалу в середине ночи, долго терзался сомнениями, не зная, что одеть, — то ли вечерний наряд, то ли утренний.
Однако, с другой стороны, этот прогрессирующе больной и все более сумасбродный человек решался на поступки, которые высоко оценивали опытные политики и государственные мужи. Прежде всего это касалось международных отношений, которым с началом 30-х годов он уделял все больше и больше внимания. Нет необходимости здесь подробно излагать польскую внешнюю политику того периода. Однако заслуживают внимания взгляды Маршала в те годы на положение Польши в Европе, тем более что на эту тему сохранилось ценное и известное только профессионалам интересное свидетельство. Речь идет о записи в дневнике Свитальского о состоявшемся в Бельведере 7 марта 1934 года, то есть спустя несколько недель после подписания польско-германского пакта о ненападении[157], совещании, в котором участвовали Мосьцицкий, Бартель, Бек, Прыстор, Славек, Януш Енджеевич и сам автор.
«Польша, — излагал свои взгляды Маршал, — на протяжении всей своей истории со времен Екатерины и прусского Фридриха[158] испытывала на собственной шкуре, что бывает, когда два ее самых могущественных соседа смогут договориться между собой. Польшу тогда рвут на куски» [159].
Эта угроза существует постоянно. После первой мировой войны она несколько ослабла, поскольку немцы оказались побиты Антантой, а Россию побил Комендант. А это значит, что эти государства стали менее сильными. Однако они заключили между собой договор в Рапалло[160], который скорее был направлен не против Польши, а против всего мира, но он представлял опасность для Польши, являющейся очагом вечного противоборства и потенциальным источником споров. Союз с Францией не давал достаточно сил. Потребовались многочисленные жертвы. Эту постоянную угрозу Польше использовал каждый, кто мог, включая, в шутку говоря, и негров. С польской стороны был найден только один выход: влезать в задницу всем, даже неграм…
Россия пошла на мирные отношения. Комендант лишь вскользь упомянул об этой части своих достижений. (Имеется в виду польско-советский договор о ненападении, подписанный в Москве 25 июля 1932 года[161].—Авт.) Со стороны немцев сохранялось враждебное, а порой агрессивное отношение. Комендант воспользовался моментом выхода немцев из Лиги Наций и поставил вопрос следующим образом: раз немцев в настоящий момент не сдерживают гарантии Лиги Наций, то они сами должны предоставить Польше гарантии безопасности. Иначе Комендант вынужден будет построить оборонительную систему, обращенную исключительно против немцев.
Вопреки ожиданиям Гитлер тотчас же ухватился за эту мысль, и спустя четыре дня Мольтке[162] вручил Коменданту проект принципов будущих отношений. Гитлер решительно пошел против пруссаков, официально признав Польшу как государство. Для Коменданта меньшую ценность являют подписанные документы, а больше то, что позиция Гитлера способствует переменам в психологии немецкого народа в его отношении к Польше. Поэтому даже в том случае, если бы к власти пришли пруссаки, что было бы для нас наихудшим вариантом, эти перемены в психологии немецкого народа будут сдерживать их на пути возобновления аитипольской политики. В этом месте Комендант отдал должное немцам, что они умеют идти к цели последовательно, опираясь на здравый смысл.
Пакты о ненападении весьма сильно преобразили международные отношения, а Комендант отвоевал для Польши такое положение, которого у нее никогда не было. Наиболее сложным для Коменданта было добиться того, чтобы оба пакта не были обусловлены какими-то дополнительными обязательствами. Учитывая, что в настоящее время немецко-русские отношения напряженные, очень трудно было провести линию на то, чтобы Польша сохранила свободу рук, не поддерживая ни одну из сторон. Такие союзы следует использовать как противовес, причем в данный момент от Польши не требуется никаких жертв для их оплаты. Понимая, что отсутствие международных гарантий безопасности делает Польшу объектом манипуляций, все государства старались помешать заключению пактов о ненападении, что лишало их такой возможности.
Однако Комендант призывает сохранять бдительность: не предаваться иллюзиям, что мирные отношения между Польшей и ее двумя соседями будут продолжаться вечно; Комендант считает, что хорошие отношения между Польшей и Германией могут продлиться не больше четырех лет, с учетом психологических перемен, которые происходят у немецкого народа. За более длительный период, однако, Комендант не ручается.
После смерти Коменданта такое положение будет трудно сохранять, поскольку Комендант обладает даром находчивости и гибкостью и умеет вовремя вносить коррективы. «Такой уж я сообразительный», — пошутил Комендант.
Эта обширная цитата заслуживает быть приведенной по двум причинам. Во-первых, она объясняет каноны внешней политики Маршала, позволяет лучше понять корни договоров о ненападении — с СССР от 1932 года и с Германией от 1934 года, а также явное после 1926 года ослабление союза с Францией. Во-вторых, эти выводы не оставляют сомнений в интеллектуальной полноценности их автора. С перспективы прошедших пятидесяти лет ясно видно, что он исключительно верно оценивал развитие польско-германских отношений. Почти пророчески предвидел момент, когда Гитлер пошел на решительное обострение отношений с Польшей. Ошибался, правда, в деталях, как, например, в случае прогноза относительно эволюции настроений к полякам в рейхе, но если брать в целом, события развивались согласно нарисованному им сценарию. И, к сожалению, он также не ошибся в том, что его наследникам «трудно будет сохранять статус-кво 1934 года, что им будет не хватать «умения анализировать и находить новые подходы».
Он был невысокого мнения о своих преемниках. Енджеевич отмечал в воспоминаниях, что за два дня до его ухода с поста премьер-министра, следовательно, в мае 1934 года, он навестил Маршала и в конце визита пережил момент, который никогда не мог забыть. «Я встал, желая проститься. Но он задержал меня, указав на стул. Я сел. Лицо Маршала, до этого спокойное и приветливое, вмиг изменилось. Черты осунулись, густая сеть морщин стала более выразительной, из-под кустистых насупленных бровей смотрели на меня глаза, уставшие от тревоги и забот, глаза страдающего от болезни человека. Это не горечь, не жалость, а неуверенность и опасение глядело из-под бровей. До конца жизни буду помнить выражение этого страдальческого и усталого лица, которое было в тот момент предо мной. После долгого молчания я услышал шепот: «Ах, уж эти мои генералы. Что они сделают с Польшей после моей смерти?» Он повторил эти слова во второй и в третий раз. <…> Дальнейших слов Маршала не могу повторить. Я сидел ошеломленный и подавленный…»
Это было не единственное доказательство того, что Пилсудский не верил в умение и таланты своих соратников и последователей. Но вместе с тем он не стремился, что было бы в тех условиях вполне разумным, к конституционному обеспечению преемственности власти. Он почти не интересовался разработкой новой конституции, за которую еще совсем недавно боролся со всей решимостью. Свои замечания он высказал в 1930 году в интервью для печати и позднее уже не возвращался к этому вопросу. Полностью отдал их на откуп председателю «ББ» Валеры Славеку. Отчасти это было связано с уверенностью, что тогдашний состав Сейма, срок полномочий которого истекал только в 1935 году, новой конституции не утвердит. Чтобы этого добиться, необходимо было заручиться поддержкой двух третей от общего числа депутатов («ББ» принадлежало 56 процентов депутатских мест в Сейме). Таким образом, оппозиция, которую можно было легко победить, когда требовалось обычное большинство голосов, в этом важнейшем вопросе могла успешно противодействовать правящему лагерю.
В такой ситуации «ББ» не спешил с разработкой проекта нового основного закона. В конце концов проект был готов в 1933 году. Летом Славек вынес его на публичное обсуждение. Наряду с усилением роли и ответственности президента обращало на себя внимание создание привилегированного института выборщиков, которые должны были избирать Сенат со значительно более широкими полномочиями, чем прежде. 26 января 1934 года, в тот самый день, когда в Берлине подписывался пакт о ненападении, Станислав Цар, главный создатель новых подходов к общественному устройству, предложил на рассмотрение Сейма так называемые конституционные тезисы. Это не был формальный проект конституции, который должен был быть представлен, согласно положениям конституции 1921 года, пятнадцатью днями раньше. В связи с чем оппозиция, оставив только двух наблюдателей, покинула зал заседаний, выполняя тем самым свое решение бойкотировать подготовительные работы по новой конституции. Это было ошибкой, поскольку Цар заявил, что раз оппозицию этот вопрос не интересует, то тезисы следует признать проектом конституции и утвердить. Маршал Сейма Свитальский поддержал это решение, не обращая никакого внимания на представителя оппозиции, заявлявшего, что такие действия противоречат конституции и регламенту Сейма. Голосование было проведено спешно. В стенограмме Сейма записано: «Маршал Свитальский: «Подтверждаю, что Закон о конституции во втором и третьем чтениях был Сеймом принят». (Длительные аплодисменты на скамьях клуба «ББ». Депутаты клуба «ББ» поют «Первую Бригаду». Возгласы: «Да здравствует полковник Славек!», «Да здравствует маршал Свитальский!») Спешно вернувшимся в зал депутатам от оппозиции осталось лишь наблюдать манифестацию победителей.
Основные созидатели этой победы ожидали похвал из Бельведера. «Мы советовали Свитальскому, — вспоминает Вацлав Енджеевич, — чтобы, не мешкая, он позвонил в Бельведер, информировал о принятии конституции и просил встречи с Пилсудским. Адъютант немного погодя перезвонил, сообщая, что Маршал примет Свитальского и Славека в среду, 31 января, то есть только через пять дней. Я помню, что от такого известия мы все оцепенели».
В ходе аудиенции Свитальский и Славек совсем не заметили удовлетворения Маршала. Даже наоборот, они столкнулись с прохладным отношением, остужавшим непомерные амбиции. «Я доложил Коменданту, что произошло 26 января, — записал Свитальский. — Отношение Коменданта к этому факту в принципе не было негативным, в то же время он сразу признал, что, учитывая важность Закона о конституции, принятие его хитростью и при помощи процедурных уловок ненормально и поэтому следует эти моменты приглушить и нейтрализовать путем подробной дискуссии и внесения поправок в Сенате. <…> После их следовало бы рассмотреть в Сейме. Комендант согласился со мной в том, что необходимо тут же завязать бой за решение вопроса о процедуре голосования: необходимо ли для этих поправок большинство 2/3 или обычное 11/20. (Мартовская конституция устанавливала порядок, что поправки к законам принимаются Сенатом большинством голосов 11/20; порядок же поправок к тексту конституции в основном законе 1921 года не обговаривался. Но из его духа следовало, что в этом случае Сейм должен принимать большинством 2/3 голосов. — Авт.). Комендант добавил, что наши уловки оправдывает только то, что в истории обычно конституции не принимались с соблюдением всех установленных формальностей. Что же касалось содержания конституции, то Комендант признался, что конституционных тезисов не читал, что он бережет себя только для определенной работы: в армии он занят почти исключительно расстановкой кадров, с тем чтобы по возможности оставить после себя на командных постах лучших, а также внешней политикой. <…> В принципе Комендант не хочет вникать в существо конституции».
Несмотря на это заявление, Свитальский все же высказал Маршалу свои сомнения о целесообразности предложения Славека создать привилегированную категорию выборщиков. Пилсудский разделил эти сомнения, в результате чего Славек, публично провозгласивший эту идею, оказался в чрезвычайно трудном положении. В своих позднейших спорах со Свитальским, Царом и Прыстором Славек даже предлагал поставить на повестку дня обсуждение этого решения Маршала. «На это я ответил ему, — писал Свитальский, — что такой шаг был бы совсем нелояльным по отношению к Коменданту. Комендант может деликатно формулировать свои советы, но может и весьма решительно и молниеносно делать выводы, когда его советам не внемлют».
Об этом деле стоило упомянуть еще и потому, что оно показывает, насколько важной и трудной была задача выслушивать и проводить в жизнь мнения и рекомендации Маршала. Со временем этот механизм стал разлаживаться прежде всего по двум причинам. Во-первых, Пилсудский высказывал свои соображения все реже и облекал их во все более загадочную форму. Во-вторых, подлинным несчастьем было то, когда к нему становился вхож тот, кто не всегда мог его понять или же в его словах охотно усматривал свои мысли. Так случилось в 1934 году, когда на пост премьер-министра был назначен Леон Козловский[163].
Приводя споры, которые велись среди «осведомленных пилсудчиков» о дальнейшей судьбе лагеря в Березе Картуской[164], Свитальский пишет, что «Козловский ссылался на то, что якобы Комендант одобрял идею лагерей-изоляторов. У меня были на этот счет сомнения. Однако уж если Козловский основывался тогда на подозрениях, что покушение на Перацкого[165] было инспирировано эндековскими кругами, то такой аргумент в сравнении с ошибкой власти терял свою актуальность». Лагерь в Березе просуществовал, однако, до 1939 года, и не только из-за ошибки, касавшейся того, кто совершил убийство министра внутренних дел Бронислава Перацкого. Были и другие причины.
Когда в марте 1935 года Козловский оставил кресло премьер-министра, Свитальский вздохнул с облегчением: «Я особенно удовлетворен отставкой Козловского и прежде всего потому, что я никогда не был уверен, точно ли повторяет Козловский слова Коменданта, и подозревал его в том, что он, сам того не желая, вкладывает в уста Коменданта свои собственные мысли».
Когда после Козловского кабинет министров возглавил Валеры Славек, Маршал уже переживал последнюю драматическую стадию своей болезни. Таял на глазах. В начале 1935 года доктора установили увеличение печени. Назначили специальные исследования, но Пилсудский, который уже давно испытывал неприязнь к такого рода процедурам, и на этот раз отложил их на потом. В феврале 1935 года умерла его сестра Зофья[166], которую он, вероятно, любил больше остальных братьев и сестер. Несмотря на крайне плохое самочувствие, он все же участвовал в похоронах в Вильно.
«Все мы были просто перепуганы ужасным состоянием Коменданта и его слабостью, — отмечал Складковский. — На его лице застыло мучительное страдание». Сохранилась фотография, запечатлевшая возвращение с кладбища. Маршала поддерживает один из железнодорожников. От него осталась одна тень.
Болезнь прогрессировала. Пилсудский был не в состоянии даже удержать карты в руках, чтобы разложить любимый пасьянс. 21 апреля он согласился наконец на приезд из Вены профессора Венкенбаха, известного онколога. Спустя четыре дня было проведено обследование. Диагноз звучал как приговор: рак печени, операция бессмысленна.
Последние дни Маршал провел в инвалидной коляске. Тогда он начертал от руки свою последнюю волю. Она начиналась словами: «Не знаю, захотят ли меня похоронить на Вавеле[167]. Пусть!» Далее он пожелал себе, чтобы его сердце осталось в Вильно, среди солдатских могил. Просил также, чтобы на это же кладбище перевезли гроб матери, похороненной на территории тогдашней Литвы в Сугнитах.
11 мая началось кровотечение, и Маршал угасал на глазах. Последние минуты известны из отчета Складковского, не забывавшего даже тогда вести дневник. «Супруга Маршала с дочерьми — на коленях у кровати, держа за руку умирающего мужа. В ногах стоит молящийся ксендз Корниллович. Справа над кроватью склонился доктор Мозоловский и наблюдает за лицом Коменданта. У Коменданта глаза все время закрыты. За время болезни его лицо совсем исхудало. Оно прекрасно и спокойно.
Тянутся долгие минуты, сопровождающиеся лишь свистом дыхания Коменданта и молитвами ксендза, совершающего последнее помазание. Все мысли наши останавливают свой бег. Остается та одна, страшная, что ничем уже мы не можем помочь Коменданту. (Складковский по профессии был врачом. — Авт.)
В какой-то момент Комендант захлебывается и дыхание его прерывается. Доктор Мозоловский делает движение, как бы еще пытаясь спасти Коменданта, но тут же руки его бессильно опускаются. Это уже смерть.
Все мы встаем на колени. Только адъютант несет службу стоя. 8 часов 45 минут вечера (12 мая 1935 г.)».
В стране был объявлен траур — официальный шестинедельный траур, а вместе с ним и личный, наполнивший печалью сердца многих людей.
«О смерти Пилсудского я узнал вечером, — вспоминал Казимеж Вежиньский[168]. <…> Была уже поздняя ночь, когда я направился к Бельведеру. <…> Ворота были закрыты. Около них в молчании стояло несколько десятков людей. В какой-то момент я ощутил, что кто-то протискивается ко мне и касается меня плечом. Это был Войцех Ястшембовский[169]. Долго так стояли мы рядом друг с другом. Когда мы собрались уходить, Ястшембовский кивнул на толпу и сказал: «Все это сироты, уже не будет этих бровей, под которыми мы могли найти защиту».
Так думали тогда в Польше многие. И не только пилсудчики. Смерть Маршала придала еще больше силы его легенде. Враги, конечно, не превратились в друзей, но и они замолкли, понимая, что это неподходящий момент плохо говорить об умершем.
Траурные торжества прошли поистине с королевским размахом. Три дня гроб с телом Маршала был выставлен в Бельведере. Около него прошли тысячи людей. Почести Маршалу отдали и за границей. Во Франции, Германии и СССР даже был объявлен официальный траур.
Вечером 15 мая гроб на пушечном лафете доставили к варшавскому собору. Перед ним люди толпились два последующих дня. Семнадцатого, после епископского богослужения, совершенного кардиналом Каковским, процессия направилась на Мокотовское поле, где перед гробом умершего вождя состоялся военный парад. Когда церемония близилась к завершению, неожиданно началась сильная гроза. Небо пронзали молнии, разносились раскаты грома, так, словно природа присоединилась к людской скорби. На собравшихся это произвело огромное впечатление.
Затем специальным поездом в свете прожекторов саркофаг был доставлен в Краков. Переезд длился всю ночь, а с умершим прощались полыхавшие на всем пути следования священные костры.
В Кракове после краткой торжественной церемонии на вокзале катафалк двинулся к Вавелю. Под бой «Зыгмунта»[170] генералы внесли саркофаг в собор. Архиепископ Сапега[171] совершил очередное епископское богослужение, после чего генералы вновь подняли на плечи саркофаг и поставили его в склепе святого Леонарда.
Вновь отозвался бой «Зыгмунта», и сто один раз отгромыхали пушки. Вся Польша замерла на три минуты молчания.
Согласно последней воле Маршала, его сердце осталось в Вильне, а мозг он завещал для исследования Университету Стефана Батория.
* * *
Пилсудский ушел из жизни в тот момент, когда стране ничто не угрожало. Более того, призрачные сны о великодержавии казались реальными. «История взяла его на свои крылья» прежде, чем народу и политикам пришлось пережить тяжелейшие испытания.
Для легенды этот факт имел капитальное значение, которое трудно переоценить. Он позволял ей жить дальше, хотя она все больше переплеталась с вечно менявшимися тенденциями современности, в «белой» версии необходимая для идейных наследников, в «черной» — противникам для разыгрывания уже собственных партий, с жизнью Маршала, по существу, имевших мало общего.
9. В глазах сторонников и врагов
«По отношению к Юзефу Пилсудскому польское общество делится на два лагеря. В одном к нему относятся критически, с более или менее сильным оттенком пессимизма, в другом — одаривают неизменной поддержкой, постоянным одобрением или даже непреходящим энтузиазмом.
В первом лагере находится все растущая, в особенности после последнего правительственного кризиса, группа решительных противников Пилсудского, которые считают его не только совершенно несоответствующим занимаемой должности, но и человеком мизерных личных способностей, нанесшим большой вред Польше.
Во втором — выделяется группа не только сторонников, но беззаветных приверженцев, которые слепо верят в Коменданта и обожают его, видя в нем творца независимости Польши, моральный идеал, «знамя», «символ», «самого выдающегося в современности, одного из наиболее выдающихся, а может быть, и впрямь наиболее выдающегося поляка в истории».
Эта оценка возникла более шестидесяти лет назад, в 1922 году. Она открывала одну из самых интересных, а вместе с тем и самых спорных книг о Коменданте — «Легенда Пилсудского» Ирены Панненковой. И хотя сегодня эмоции, связанные с личностью Первого Маршала Польши, в значительной степени уже угасли, подобные суждения не до конца утратили свою актуальность.
В высказываниях о Юзефе Пилсудском десятилетиями «белая» легенда тесно переплетается с «черной». Вслед за панегириками как тени следуют пасквили. Такое нагромождение эмоций говорит о нежелании придерживаться объективных взвешенных оценок. Это, несомненно, исключительное, но все-таки объяснимое явление. Его причины следует с уверенностью усматривать в чертах характера самого героя. В его незаурядности, в его величии. Ведь посредственность, как правило, тонет в молчании, не провоцируя ни обожания, ни ненависти.
Заговорщик
Легенда Пилсудского начала создаваться очень рано, сопровождала его уже на первых этапах политической карьеры. «Таинственный литовец» поражал своей неординарной личностью, привлекал внимание своим прошлым, сибирской ссылкой, огромным трудом, связанным с нелегальным изданием «Роботника», тюремным заключением в 1900 году, смелым побегом из царской тюрьмы. Но наряду с событиями самого начала политической биографии, непосредственно предшествовавшими рождению легенды, невозможно не упомянуть господствовавших в начале XX века младопольских настроений[172], возбуждавших потребности общества в великой личности. Марта Выка так писала о тех временах: «Когда мы говорим о модернизме, то думаем об эпохе, которая индивидуализм и культ творческой личности поставила в центр своей программы. <…> Одним из важнейших и более того, многозначных способов отражения в литературе этого индивидуализма станет создание образа героя, великого человека, выдающейся и неповторимой личности».
Лелея миф героя, легче было переносить неволю. «Для одних, — подчеркивал Влодзимеж Вуйчик, — смирившихся с неволей, с разложением народной, общественной идеи, лишенных стремления участвовать в общественной жизни, литературный и художественный символ героя сам по себе был эквивалентом потерянных ценностей. Ни к чему не обязывал, ни к чему не призывал. Просто был. Придавал силы, грел, оправдывал бездеятельность. Для других вождь, герой, рыцарь олицетворяли, персонифицировали живые ценности, которые, когда наступит время, нужно будет претворить в дела, выразить в общей национально-освободительной борьбе».
Первоначально миф героя не идентифицировался с какой-либо личностью. Он жил собственной абстрактной жизнью, не обретая индивидуальных форм. Тот климат ожидания прекрасно передан в стихотворении Яна Петшицкого, написанном во Флоренции в 1914 году и носящем символическое название «Неназванному вождю».
А когда ты придешь, чтоб призвать нас к борьбе, Все отряды пусть будут послушны тебе. И в окопах сражений — в кромешном аду Каждый щит, каждый меч пред тобою падут!Поэт, пишущий эти строки, не думал о Пилсудском. Ведь тот в те годы еще не был известен широким массам. Впрочем, популярен он уже был, но лишь в кругу близких соратников, прежде всего деятелей, связанных с Польской социалистической партией и создаваемыми в Галиции союзами стрелков.
Но и в этой среде Пилсудский не сразу занял место руководителя, пользующегося непререкаемым авторитетом. Правда, в более поздних биографических изданиях сторонники Маршала замазывали эту правду, хотя и в чисто конъюнктурных интересах.
Владислав Побуг-Малиновский писал в 1937 году: «В рядах ППС с самого начала его считали незаменимым. В организации, в которой наряду с товарищеским отношением господствовал принцип неукоснительного равенства всех, он считался вождем — каждый чувствовал его величие и инстинктивно поддавался этому величию. Его окружили глубоким уважением; наряду с очень хорошими, нередко сердечными и близкими отношениями, господствовавшими в партии, никто не мог позволить себе какой-либо фамильярный жест или же вольное словечко по отношению к нему».
Оценка Побуг-Малиновского не отражала правды. Ведь в ППС были деятели с большим, чем у Пилсудского, революционным стажем, с устоявшимся авторитетом. Они были самостоятельны в мышлении и не так легко поддавались личному обаянию коллег, в том числе Пилсудского, выступавшего тогда под кличкой Виктор. Но биографы умудрялись не замечать даже того, что такое крупное событие, как раскол в партии в 1906 году, произошло именно из-за отсутствия поддержки политической и пропагандистской линии Пилсудского большинством деятелей ППС.
Уже тогда Пилсудский имел и противников, и сторонников. Последних он впечатлял все больше и больше, делая из них постепенно фанатичных поклонников. Об этом вспоминал Юзеф Домбровский[173], деятель ППС конца XIX — начала XX века: «При первой встрече Виктор производил необыкновенно симпатичное впечатление. Прежде всего поражали его глаза. Умные и спокойные, глубоко посаженные и изучающие мир как бы из укрытия, они смотрели из-под густых, сросшихся, сегодня уже исторических бровей. Говорил Виктор категорическим тоном, будучи твердо уверенным в себе и в своих словах. Стрелял при этом набором «выражений», очень образных и крепких. Стиль имел хороший, часто изысканный; в личных же беседах сердечный смех, которым он взрывался ежеминутно, шутки, их особый, часто напичканный характерными русскими выражениями язык и при этом простой подход к каждому делу вызывали к нему очень доброе расположение. В своей сказочной политической карьере он во все времена, а значит, уже и тогда, имел фанатичных поклонников, которые готовы были за него быть изрубленными на куски, мыслили его мыслями, шли за ним везде, верили в него слепо и слушали только его».
Среди безгранично преданных сторонников были не только молодые люди, лишь начинавшие связывать свои судьбы с партией, легко поддававшиеся очарованию авторитета руководителя. Его психологическое влияние испытывали на себе и более опытные деятели, выделявшиеся широким интеллектуальным горизонтом. Не случайно Густав Даниловский[174] сделал его прототипом главного героя романа «Из минувших дней». Роман был написан в 1901 году и сразу же начал частями печататься на страницах «Газеты Польской». Отдельной книгой роман вышел в 1902 году. В нем рассказывалось о судьбе революционера, деятеля национально-освободительного движения Виктора Гинтовта. Для посвященных камуфляж этот был слишком прозрачным. Ведь имя героя совпадало с кличкой Пилсудского, которой он пользовался в организации, а фамилия была схожа с фамилией его легендарных предков Гинетов, называемых также Гинвилдами. В этой аналогии убеждал также портрет на обложке книги: «При своем росте Виктор действительно выглядел излишне худым, а лицо его было чрезмерно старым и как бы истощенным. Длинные усы, ниспадающие к сильно выступающей щетинистой бороде, придавали его энергичным чертам выражение доброты и более того — утомления. Широкая, сросшаяся прямая линия бровей отсекала мрачный, низко заросший лоб от чапавших глаз, сильно затуманенных и из-за этого казавшихся еще большими, бездонными и немного угрюмыми».
Каждый, кто был знаком с прототипом Виктора Гинтовта, без труда находил его в этом описании. Но для лиц непосвященных прообраз героя повести Даниловского оставался глубокой тайной.
Поэтому можно утверждать, что в период рождения легенды ей поддавались лишь люди, имевшие непосредственные контакты с Пилсудским.
А их было немного. Правда, постепенно авторитет ППС в обществе возрастал и достиг пика популярности в период революции 1905 года, однако в силу конспиративного характера движения личность его руководителя систематически отодвигалась в тень.
Примечательны трудности, с которыми столкнулся в 1917 году комиссар полевой полиции и шеф немецкой контрразведки варшавского генерал-губернаторства Эрих Шульц, пожелавший ознакомиться с прошлым Пилсудского. Этот видный специалист своего дела в секретном, а следовательно, откровенном рапорте о деятельности Пилсудского в ППС беспомощно утверждал: «Уже в деятельности боевого отделения ППС он принимал активное участие, поэтому вокруг его личности возник ряд скандальных легенд. Несмотря на то что все это происходило совсем недавно, сейчас трудно с уверенностью утверждать, что в них соответствует фактам».
Итак, еще до начала Великой войны, как называли тогда мировую войну, не предполагая, что когда-то придется назвать ее первой, Пилсудский вырос в овеянного легендой политического деятеля. Его популярность не выходила, однако, за конспиративно-товарищескую изгородь.
Свидетельствовали об этом также скромные, просто юмористические масштабы деятельности противников, пытающихся осмеять новоявленного командующего. Так, в конце 1913 года в возглавляемом Пилсудским движении стрелков в Галиции разгорелся конфликт. В острой оппозиции по отношению к руководству организации оказался одни из ее активных деятелей, впоследствии генерал Войска Польского — Генрик Минкевич. С мыслью о мести он начал издавать «Идейные ведомости» — газетенку, печатавшуюся на машинке в нескольких, не более двух десятков, экземплярах. Отдельные номера он рассылал по почте лицам из наиболее близкого окружения Коменданта. Страницы газеты заполняли сатирические стихи и рисунки, впрочем, не представляющие творчества высокого полета. Автором иллюстраций был сам Минкевич — студент Краковской школы изящных искусств, автором стихов его жена — поэтесса Мария Марковская.
Рисуемый «Идейными ведомостями» портрет Пилсудского не выглядел особо лестным:
Вздыхает Гетман: он уже не в поле И белого коня не оседлает боле. Хотя и рыцарь, но погряз в заботах, На кляче тащится, что пес среди болота. И каждый резонно воскликнуть готов: Что, снова овации? Море цветов? Заранее отработано, проблема ясна: Такие овации аранжирует жена. Значит, этот вождь — не тот, что надо, Для разговора лишь. И для парада. Кукла из шопки[175] — смешной и грустной, Что утешит вас, кривляясь искусно… Втиснуть в мундир свое тело — Для командующего — еще не дело. Гетман, что и пороха не нюхал! Который читал там что-то порой И с лекцией выступил раз-другой. Это — не заслуга.Болезненными должны были быть для Пилсудского эти насмешки. Особенно уколы по его наиболее уязвимому месту — военному дилетантизму. Хорошо еще, что они были известны только узкому кругу — не более чем нескольким десяткам лиц — и не имели широкого общественного резонанса. Впрочем, форма и содержание пасквилей скорее напоминали мальчишеское сведение счетов, чем действия политиков, пытавшихся завоевать на свою сторону часть общества.
Вождь
Ореол вождя окружал Коменданта стрелков лишь во время мировой войны, когда абстрактный, ранее не связанный с какой-то конкретной личностью, но популярный в обществе миф героя и вождя был перенесен на Пилсудского. Существовало много факторов, благодаря которым он вознесся на вершины народной славы.
Прежде всего, этот аванс стал возможным из-за особой атмосферы, вызванной началом войны. Как каждая борьба, она несла смерть и уничтожение. Но для поляков война имела и другое значение, создавая надежду на улучшение положения народа. Ведь в вооруженном конфликте столкнулись захватчики, солидарные совместные действия которых на протяжении более ста лет означали застой в польском вопросе. Теперь заговор молчания лопнул. Правда, никто не мог предвидеть конца разгоравшегося катаклизма, но над Вислой, порой вопреки фактам, повсеместно ожидали перемен к лучшему, мечтали о независимости.
В огне иллюзий и надежд даже у самых отъявленных противников идеи взаимосвязи национальных устремлений с европейским конфликтом исчезали сомнения. Лозунг вооруженной борьбы неожиданно приобретал последователей среди деятелей революционных партий. Рождались решения, которых еще недавно никто не ожидал.
«У поляков, — вспоминал несколько лет спустя Болеслав Дробнер, — возродилось желание мести за восстание Костюшко, за 1830 год, за 1863 год — у нас, польских социалистов, за 1886 год, за казнь на виселицах варшавской Цитадели Станислава Куницкого, Бардовского, Петрушиньского и Оссовского, за смерть в Шлиссельбургской крепости Людвика Варыньского, за поражение революционного движения 1905 года[176].
В Польше молились за то, чтобы началась война, ожидали благоприятного исхода революции в глубине царской России и освобождения от захватчиков, а затем — создания свободной, независимой Польши».
Так мыслящие люди все свои надежды связывали с выступлением отрядов стрелков, а после их подавления — с созданными Главным национальным комитетом польскими легионами, которые Пилсудский признал собственными.
Как следует из записи Дробнера, за вступление в ряды стрелков агитировал не кто-нибудь, а соратник Людвика Варыньского, один из столпов «Великого Пролетариата», тогдашний деятель левого крыла ППС Феликс Кон[177]. В таком же духе действовал Ян Хемпель[178], непримиримый до тех пор противник войны. «В Мехове, — писал автор воспоминаний, — спустя несколько дней я встретил в мундире стрелка известного потом польского коммуниста Яна Хемпеля. И он преломил в себе антимилитаризм…»
Так выглядела реакция опытных политиков, которые еще недавно нынешнее свое поведение сочли бы диверсией против приоритетной программы социальной революции. Следовательно, легко представить себе, как глубоко поверили в войну как путь к независимости люди, чье сознание ничем не было «обременено». С течением времени они все больше олицетворяли свои надежды и чувства с вождем, который уже давно ратовал за подготовку к действиям, а ныне встал в первых рядах борющихся.
Станислав Виткевич, известный художник, критик и писатель, славу которого позднее затмил талант тезки-сына, писал тогда: «Стрелки возвращают в историю силу, которую люди привыкли считать уничтоженной.<…> Люди должны любить идею и действие и в самом действии ощущать счастье жизни. Сводить жизнь к достижению конкретной цели — это значит отбирать у нее самое существенное содержание. Легионы — суть польской жизни, и какими бы ни были в дальнейшем итоги их деятельности, сама жизнь, такая, как их, это — наиболее совершенная польская жизнь. Это — высшее мгновение, о котором мечтал Мицкевич».
Хвалебным словам в честь легионов сопутствовало признание: «Фигура Пилсудского — чистая эманация современности. Она появилась на фоне жизни, готовая, со своими целями и средствами действия, со своей идеей и поэзией. Это, собственно, человек, который был необходим, поэтому то, что Он делает, осуществляется чудесным образом». Позднее кто-то написал: «Польская армия борется, и во главе ее — Пилсудский. Такие люди, как Пилсудский, действуют на людские души, как линза на рассеянные солнечные лучи, собирая их в один огонь и вызывая взрыв огня. Так и Пилсудский собрал, организовал взрыв действия — стрелков! Он оказался во главе их по простой необходимости, как их создатель. Стал командующим благодаря своей собственной силе. Его власть — результат того, что Он — воплощение духа, ведущего этих новых польских солдат к борьбе. Действительность и легенда определили Ему в польской истории место, с которого Его не могут сместить ни власть, ни какие-либо нормы воинской иерархии».
Эти слова писал художник, то есть человек, легко поддающийся настроениям момента. Но подобной экзальтации были подвержены также люди, кого ни в коем случае нельзя обвинить в отсутствии политического опыта, привыкшие смотреть на жизнь холодным и отстраненным взглядом. К таким лицам, несомненно, относился Ян Хупка, краковский консерватор, который потратил годы на изучение тонкостей политической игры. И именно он после первой встречи с Пилсудским во время войны записал в дневнике:
«Он покорил всех нас. Твердая, искренняя, солдатская натура, из которой бьет и энергия, и ум. Типичный литовец, с кустистыми бровями и обвислым усом, в сером скромном мундире. Гетман наших войск, вокруг которого уже нагромождаются легенды! При этом обеде и потом, во время беседы, мы пережили с ним самые высокие минуты. Перед нами ожила давняя Польша, рыцарская и уланская. Казалось, что это Домбровский или князь Юзеф поднялись из могилы»[179].
Хупка сделал эти заметки в декабре 1914 года по возвращении с банкета, который дал в честь Коменданта Главный национальный комитет. На этом же приеме подобное мнение, но уже публично выразил лидер краковских консерваторов, председатель ГНК Владислав Леопольд Яворский.
«Пан Бригадир, — обращался он к главному герою торжества, поднимая тост. — Вокруг Тебя и легиона, который Ты возглавляешь, уже создается легенда, озаряющая Тебя славой. Я не могу с ней соперничать. Я только, как и все, взволнован ею. Я также счастлив, что живу в то время, когда могу видеть, как она возникает и растет. Расскажет она современникам и будет рассказывать потомкам о Твоих достоинствах».
Председатель Яворский был, однако, не до конца искренен. Ибо в его счастливо уцелевшем дневнике сохранились и другие записи, касавшиеся Пилсудского. В них уже не было описания банкетной «взволнованности». Этот искушенный государственный деятель задумывался о возможностях дополнительной популяризации личности Бригадира. Рассуждал о политических дивидендах, вытекающих из этого явления. А спустя десяток с лишним месяцев, когда дороги ГНК и Коменданта I бригады определенно разошлись, Яворский сожалел, что он и его сотрудники с такой самоотверженностью восхваляли «вождя». Задумывался, кого теперь лучше назвать новым «гетманом» — Юзефа Халлера, Мариана Янушайтиса, Владислава Сикорского?
Рождение мифа Пилсудского было явлением необычайно сложным, притом только частично — стихийным и самопроизвольным, а в большой степени сознательным творчеством, ценой огромных усилий и средств, затраченных громадным пропагандистским аппаратом.
А арсенал агитационных приемов был богатым. Использовались брошюры, пресса, листовки, афиши, почтовые открытки, выступления на бесчисленном множестве собраний. Щедро пользовались помощью представителей мира литературы и искусства. Начиная от репортажа через роман, стихотворение, песню, картину, иллюстрацию вплоть до оперетты, часто привлекая талант видных писателей, публицистов и художников, превозносились заслуги легионов и командующего. Количество этих работ и публикаций нарастало лавинообразно — без сомнения, в игру входили сотни и тысячи изданий.
Наиболее ранней опубликованной работой о жизни и деятельности Коменданта была брошюра известного писателя, в то время солдата I бригады Вацлава Серошевского[180] под названием «Юзеф Пилсудский». Она была издана в Пиотркове, в первую годовщину выступления легионов. Это своего рода попытка перебросить мостик между давней легендой конспиратора и формировавшимся в то время образом командующего. Много места Серошевский посвятил деятельности Пилсудского в ППС, очищая ее почти полностью от каких-либо общественных оттенков и акцентируя прежде всего внимание на целях партии в борьбе за независимость.
«Он не имел крыши над головой, — шлифовал Серошевский возвышенный образ «человека подполья», — и почти никогда не имел денег, так как каждый грош, полученный от друзей или добытый другим путем, нужно было сразу же вкладывать во все расширяющуюся и вечно нуждающуюся в помощи партийную работу. Отсыпался в вагонах во время переездов из города в город, на скамейках в рано открывавшихся костелах, ночевал в загородных садах, в заброшенных домах, на кирпичных заводах и в других подобных пристанищах…»
Самые значимые страницы были заполнены описанием достоинств гениального, идеального командующего. «Доверие солдат Пилсудского к своему вождю, — подытоживал писатель и улан в одном лице, — вера в его воинский талант, в его предусмотрительность и заботу о судьбах подчиненных, вера в непоколебимость и правоту его характера, в его горячую любовь к Родине были так велики, что не существовало трудных воинских дел, на которые бы они не пошли, если бы он приказал. Может ли быть более высокой похвала и награда для командующего?
Если добавить к этому необыкновенную обаятельность обхождения, любезность, вежливость, доступность Пилсудского, милую шутливость его речи и прежде всего большую простоту в поведении, то мы поймем очарование, которому поддаются почти все, кто приближается к этому современному рыцарю.
Его сила таится не только в солдатчине и даже не в том, что он создал легионы и что умеет ими руководить, а в том, что он имеет великий, неповторимый идеал. <…> Я мог бы говорить так без конца, — делал вывод Серошевский, — черпая примеры из деятельности этого человека, жизнь которого была фантастической сказкой, а личность постепенно становится народной легендой. Но считаю, что образ его и так достаточно выразителен, а окончательно завершат его будущие деяния».
Стоит добавить, что это эссе, дополняемое и уточняемое, позднее издавалось многократно: в 1916, 1917, 1920, 1921, 1926, 1933, 1934-м и последующих годах. Оно также переведено на многие иностранные языки. Со временем в нем зашлифовывалось все то, что в первом издании было наиболее существенным: идеализированный портрет конспиратора трансформировался в миф первого солдата Речи Посполитой.
Потому что проблема была достаточно щепетильной. Сторонники Пилсудского, относящиеся к другой, чем Серошевский, группе, то есть проповедовавшие более правые взгляды, с неохотой вспоминали о партийном, социалистическом прошлом Коменданта. В этих сферах было просто бестактным напоминать о том, что почитаемый ныне вождь лишь пару лет назад нападал с браунингом на почтовые поезда. Не имело значения, что такие поступки диктовались ему любовью к Родине. Для лиц из так называемого общества ссылки на это лишь в незначительной степени служили сглаживанию впечатления о «гангстерских» его акциях.
Следовательно, об этих делах писали фразами, полными недомолвок, нередко граничащими с неодобрением. В биографическом очерке, помещенном в «Календаре Главного национального комитета на 1916 год», в частности, была такая запись: «Он ничего не понимал в жизни, кроме одного — кроме того, что родился, чтобы быть с мечом. К этой центральной своей идее он сразу пошел напролом. Политиканствовал. Издавал газету. Обмакивал в своих снах перо и писал слишком просто и слишком прямолинейно…»
В сетях политических ловушек запуталась также легенда о Пилсудском, созданная в среде левых партий. Понятно, здесь не скрывалось его революционное прошлое. Неудобство доставляло нечто иное — все более заметный отход от партии, которой он посвятил более десяти лет своей жизни. Однако и с этой проблемой справились, пропагандируя версию о переходе вождя к деятельности на благо всего народа.
«Пилсудский, — писал весной 1916 года «Роботник», — рожден быть вождем и с молодых лет, с момента создания ППС, был вождем. <…> В обычные времена вождь партии, с которой история так тесно связала его имя, партии, которая в течение многих лет столь славно работала во имя независимости; ныне Пилсудский стоит над партиями, на выдающемся, орлином месте, окидывая очами весь кругозор польских дел; вождь всей борющейся Польши, к которому устремлены преданные взгляды всех нас, солдат и политиков».
Таким образом, идеализированный образ Пилсудского благодаря другой расстановке акцентов могли одновременно создавать люди различных политических взглядов. Этот подход оказался чрезвычайно удобным и в результате обеспечил Коменданту исключительную популярность. С этой минуты, вплоть до смерти и долгое время после нее, Пилсудский представал иным почти в каждом слое общества. Каждый из его поклонников почитал специфический, отличавшийся от других образ.
Конечно, в этих картинах были определенные общие черты. Правда, постепенно они подвергались трансформации, но в конкретные периоды синтезировали стереотипное и легендарное представление личности. В годы Великой войны таким доминирующим элементом были личные достоинства вождя. Акцентировала их, собственно, уже цитировавшаяся брошюра Серошевского. Широко представляли их и другие издания. Невозможно перечислить все названия, однако стоит привести два наиболее знаменательных примера.
Автор анонимной брошюры, носящей красноречивое название «Вождь борющейся Польши», писал в 1916 году: «В столь переломное для Польши время, в минуту, когда судьба наша может решиться на столетие вперед, каждый поляк испытывает потребность порядка в народе, ищет вокруг себя руководителей, которые бы взяли в крепкие руки штурвал наших дел, а усилия индивидуумов и групп объединили в одно, избавительное для Отчизны целое.
Временами слышны жалобы, что среди нас таких людей нет. Если бы так было на самом деле, если бы из нашего народа не выросли мужи, достойные тех великих задач, которые встали перед нами, можно было бы усомниться в Польше и поляках. Но это не так.
Об одном из тех, кто должен пользоваться всеобщим доверием, мы хотим сказать несколько слов. Это — Юзеф Пилсудский.
О Пилсудском недавно знали лишь борющиеся с захватчиками члены тайных, заговорщических организаций; там знали и любили его с давнего времени. Весь народ заметил его только во время войны уже как зрелого мужа, который в течение десятков лет труда готовил себя, чтобы стать на высоте задач в решительную, решающую для Польши годину».
И еще один пример, почерпнутый из изданной в 1917 году работы «Вождь и народ» некоего Акста. Под этим псевдонимом скрывался Станислав Бачиньский, тогдашний сторонник Пилсудского, позднее — в межвоенный период — его противник и критик с левых позиций (сегодня известный уже только как отец выдающегося поэта Кшиштофа Камиля). Строчками, выдержанными в младопольском стиле, автор доказывал: «Пилсудский повернул карты нашей истории и, становясь собственностью народа, наложил свой отпечаток на повседневный бег нашей жизни». Это — человек, видящий будущее за всех, сознательно ведущий — на фоне общего бессилия — войну. Никто не сравнится с ним. Противники, «выросшие из польской нищеты, соорудившие на ее болотистой почве теплицы для своих болезненных амбиций и жившие в этой нищете до войны, личности полупризрачные, без явно выраженного пола, символические личности бессилия, пытаясь соревноваться с Пилсудским, не понимали, что он уже стал человеком, который либо вознесется до вершин, не доступных для их близоруких зениц, либо рухнет, но на их вызов не ответит — по праву подвига своего, которого никто не вычеркнет из истории и никто не повторит».
Это уже не было обычным отданием почестей руководителю. Обожание достигло редко встречавшихся ранее в Польше масштабов.
Намного эффективнее, чем книжные и брошюрные панегирики, популяризировала Бригадира художественная литература. Десятки, сотни произведений, часто небольших, недолго живущих, на каждом шагу подчерки вали исключительность его личности. Необычной в каждом жесте, поведении, движении. Как, например, Юлиуш Каден-Бандровский[181], в будущем «неофициальный министр пропаганды пилсудчиков», обрисовывал, правда, мало романтическую сцену пробуждения Командующего в одной из популярных в то время брошюрок:
«Уснул в Енджеевском комиссариате, не доев даже супа. Мы не смели будить его. Это мог сделать только Жулиньский[182]. Он ждал до последней минуты. Затем наклонился и легко взял Пилсудского за руку. Если бы я не боялся преувеличения, сказал бы: как будто ангел будил льва. Столько силы, и кротости, и веры было между этими двумя людьми».
Эти и подобные ему описания успешно формировали стереотип вождя. Но более всего западали в умы переписываемые украдкой куплеты песен, уже давно популярных, таких, как хотя бы исполняемая на мотив «Мазурки Домбровского» многострофная пилсудчиковская версия песни «Еще Польска не згинела»:
Еще Польша не погибла. Раз стрелки живут, Что враги забрали силой. То они вернут. Марш, марш, Пилсудский, с тобой милость божья, Мы построим Польшу от моря до моря.Если чисто человеческих достоинств не хватало, авторы обеспечивали Бригадира поддержкой сверхъестественных сил. Он становится уже не только исполнителем национальных надежд и устремлений, а просто инструментом провидения.
Бороться с так создаваемой легендой было неслыханно трудно. Политические аргументы давали мало результатов. Апологеты Коменданта почти не вникали в текущую программу его деятельности, отличавшуюся многочисленными компромиссами. Пытаясь подняться над серостью повседневности, они формировали бронзовый образ вождя, ведущего народ к независимости. Угнетенное и униженное вековой неволей общество жаждало такого видения. Оно хотело верить, что наконец-то исполняется вымоленный поколениями польский «сон о шпаге»[183].
Противники прекрасно понимали огромное воздействие этого мифа, не решались открыто использовать тот факт, что легионы щедро приносили в жертву солдатскую кровь. Сражавшимся на поле боя сочувствовали, обращая слова осуждения политикам, плохо руководившим молодежью легионов. Чаще всего обвиняли Главный национальный комитет. Осуждая противников, превозносили собственную политическую линию.
В опубликованной 28 августа 1914 года декларации Национально-демократическая партия и Партия реальной политики, возглавлявшие прорусскую, а следовательно, антинемецкую и антиавстрийскую ориентацию, утверждали: «Только победа русско-франко-английской коалиции предоставляет польскому народу шансы на объединение всех польских земель с открытием выхода на Балтику, в то время как победа немецко-австрийского союза должна привести к новому разделу Польши, диктуемому прежде всего Пруссией. <…>
Сегодняшняя война — не локальная война между Австрией и Россией, в которой позиция поляков на стороне Австрии; хотя и нерациональная в политическом отношении, эта позиция могла бы быть психологически объяснимой. Но ведь идет повсеместная война народов против господства пруссаков, пользующихся услугами Австрии, следовательно, роль поляков как защитников самого большого врага собственного народного будущего попросту чудовищна».
Оценки были однозначными. Но одновременно, говоря о легионах, авторы декларации находили оправдания для «несознательной, обманутой национальными лозунгами молодежи». Без сомнения, это не относилось к Пилсудскому, которого нельзя же было подозревать в политической несознательности. Но раз уж проведено разделение на глупых политиков, сторонников «преступной» концепции, и благородных, но введенных в заблуждение солдат, то таким разделением должен был воспользоваться и Комендант I бригады. Ведь он сражался на поле боя и не нес ответственности за грехи гражданских политиков, совершаемые в тиши краковских и венских кабинетов.
Тем не менее более критический взгляд показывал, что убежденное антилегионовской агитацией эндеков большинство общества, находившегося на принадлежавших России польских землях, вообще не очень-то много знало о Пилсудском. И поэтому летом 1915 года, после отхода русских, когда Королевство Польское залила поднявшаяся в Галиции волна пропаганды, многие были очарованы популяризируемой легендой вождя. На новой почве она воспринималась легче, ибо с течением времени политическая программа самого Бригадира подверглась выразительной эволюции. Отдавая себе отчет о настроениях людей, отрицательно относящихся к немецким и австрийским оккупантам, он все заметнее отмежевывался от тесных до того времени контактов, связывающих его с центральными государствами. С этой целью, в частности, принял решение воздержаться от вербовки в легионы.
«Будучи на фронте в Королевстве Польском, — отмечал в дневнике уже цитировавшийся Ян Хупка, — я быстро убедился, что огромное большинство тогдашних поляков, парализованных страхом перед возвращением москалей, не хочет наниматься и противится вербовке в легионы. Следовательно, Пилсудский не хочет идти против общественности Королевства, потому что очень заботится о популярности и умеет ее завоевывать».
Итак, Комендант вырастал в государственного мужа, ценимого и уважаемого даже политическими клиентами своих решительных оппонентов. Более того, они сами — люди, осознававшие сложные арканы политики, — начали колебаться в оценках его личности. Понятно, они не убедились в исторической правильности действий легионов, сохранили по отношению к ним давнишнюю дистанцию и критицизм. Но одновременно они все больше замечали, что популярность самого вождя может быть важным аргументом в продвижении дела национального освобождения.
Владислав Конопчиньский, профессор университета, человек устоявшихся эндецких взглядов, непоколебимый враг пилсудчиковских политических концепций, вспоминал: «Я видел дня 8 ноября 1916 года манифестацию, движущуюся на Вавель улицей Гроздкой. В ней, как обычно, хоругви, транспаранты, флагштоки, ремесленники, члены муниципалитета, молодежь, делегации; но в стороне от этих, до невозможности поблеклых реквизитов каждого краковского торжества была особенность, которая не ежегодно повторяется — портрет человека в серо-голубой мацеювке[184], который несли учащиеся и подчиненные. Происходило нечто такое, будто по узкой улице повеяло величием; я почувствовал на себе его веяние, и показалось мне, что для Польши будет лучше, если все мы примем участие в чествовании смельчака, который восстал с истоптанной земли против России».
В конце концов не извечные политические враги из лагеря эндеции, используя все силы и средства, первыми атаковали легенду Пилсудского. Удар, нанесенный с другой стороны, был направлен против недавних идейных побратимов из лагеря активистов[185].
После двух лет войны лагерь легионов, некогда согласованно действовавший, разделили споры, которые невозможно было уладить. Наиболее важный из них касался вопроса формирования польской армии. Некоторые из активистов, в том числе шеф военного департамента ГНК подполковник Владислав Сикорский, считали, что ее следует создавать как можно быстрее, любой ценой, излишне не торгуясь с центральными государствами, чтобы, таким образом, не упустить благоприятный шанс, предоставившийся после объявления так называемого Акта от 5 ноября 1916 года, в котором говорилось о восстановлении в будущем польской государственности вместе с ее неотъемлемым атрибутом — собственной армией. С таким подходом решительно боролся Пилсудский[186]. Да, признавая царские указы от 5 ноября, он хотел создать польскую армию под боком у центральных держав, но торговался за максимально возможную ее самостоятельность. И по этим же причинам, ожидая уступок, торпедировал немецкие инициативы, направленные на как можно более быстрое освобождение из Королевства польского рекрута.
Между недавними политическими приятелями разгорелась пропагандистская битва, в которой ни одна из сторон не гнушалась использованием грубой аргументации. Сторонники Сикорского прежде всего нанесли удар по легенде вождя. Для многочисленных изданий того времени типичной была формула, приведенная в статье «Культ Пилсудского», помещенной в марте 1917 года в специализировавшейся на очернении Бригадира газетенке «Бачность».
Легенду вождя автор обвинял прежде всего в фальшивой родословной. Он писал, что «Галиция уважала в Пилсудском символ мартирологии и бунта Королевства Польского, позволив внушить себе, что его личность является пророческой для соседнего региона. В то же время Королевство увидело в Пилсудском уже освященную галицийской популярностью величину и приняло его с интересом, как каждую экзотическую славу, которая на варшавской брусчатке опережает многоголосую рекламу».
Автор статьи обращал также внимание на трагические итоги культа Бригадира. «Это — распространение определенного типа идолопоклонничества, — возмущался он. — Сегодня культ Пилсудского уже не имеет никакого содержания, с ним не связано ни одной идеи, ни одной программы. Фамилия и имя стали оправданием безыдейности, даже чем-то худшим, потому что должны же быть политический разум, гражданская совесть, патриотизм и чувство ответственности. Комендант приказал — и вот: польский солдат, легионер, герой сбрасывает мундир, становится дезертиром, принимает чужую фамилию и готовит заговор против собственного общества… Поистине нет ныне явления, более вредного для польского дела…» Раньше бывало иначе. «Было время, когда казалось, что Пилсудский будет в этом деле движителем и мотором. Поэтому даже политические противники его партии — консерваторы преодолели свое отвращение к социализму и согласились, чтобы бывшего ППС-овца, лидера боевиков, террориста признать национальным героем. <…> Не кто иной, как Главный национальный комитет наиболее активно работал над тем, чтобы прославлять, освещать блеском заслуг имя Пилсудского, сделать его популярным в стране и за границей. Побуждением той первой рекламы было чистое, бескорыстное стремление служить делу, за которое боролись легионы. Галиция начала борьбу, использовала все возможности, чтобы показать миру, что это борьба закабаленной Польши против своего поработителя — России. Был в том резон, что месть москалям нес тот, кто больше всего от москаля страдал. И поэтому из числа борцов движения наиболее охотно во главу выдвигали человека, биография которого могла уже сама по себе быть агитатором. Готовая тема для легенды, а ничто так легко и быстро не проникает в сознание, как популярная легенда…»
Трудно не поддаться впечатлению, что эти слова должны быть написаны человеком, который еще недавно пел хвалу «гетману». Ибо так хорошо выявить механизмы создания мифа мог только тот, кто досконально информирован и к тому же задет в чувствах. И как перед этим преувеличенно выпячивал свою любовь, так и сейчас он не знал меры в использовании дегтя.
О результатах этой кампании мы можем только догадываться. Наверняка, она не произвела более глубокого впечатления на пилсудчиков, которые, единожды уверовав в авторитет Коменданта, доверились ему без остатка. Офицеры І бригады, призванные противниками к уточнению своей политической позиции, писали тогда:
«Мы — солдаты, не политики. Мы не имели правительства, но имели главнокомандующего. Мы безгранично доверяем ему. Для нас он — олицетворение дела польского. Человек из стали. Без пороков и страха. Одержимый одной целью — восстановление независимости Польши, стремящийся к ней с неукротимым упорством и ожесточением. Ради нее он пробуждал в нас дух вооруженной борьбы. Ради нее создавал из нас, не имея материальных средств, войско польское. Ради нее возглавил войско. Ради нее раскрыл в себе особые воинские таланты. Свой непримиримый дух привносил в каждого из нас, кто с ним сталкивался. Тот из нас, кто пал в бою, пал с верой, что его кровь не утрачена для Польши, пока главнокомандующий возглавляет войско. <…> Комендант знает, что делает…»
Это были слова плебеев, смотревших на мир глазами царя, целиком теряющих самостоятельность мышления. Так чувствовали и так действовали все самые верные пилсудчики.
Но люди, симпатизировавшие только Бригадиру, ранее замороченные словами о его огромных заслугах, в новой ситуации, несомненно, должны были быть дезориентированы. Задавали себе вопрос: реальную или вымышленную величину они почитали? Однако эти колебания не были долгими. Множились, правда, публикации, такие, как эта, появившаяся 17 июля 1917 года в Варшавском национальном центре «Глос», настроенном враждебно к Бригадиру:
«Ни одно подлинное, сознающее свои обязанности польское правительство уже не решится возложить на себя такую ответственность, чтобы доверить Юзефу Пилсудскому возглавлять войско. Потому что сегодня уже нельзя сомневаться в том, что Пилсудский хочет, чтобы Польша служила ему, что от армии он единственно требует слепого повиновения, что не сохранит лояльности по отношению ни к какой польской власти, а каждую будет свергать и бороться с ней…»
Вскоре, однако, произошло событие, в свете которого такие высказывания выглядели уже как обычный донос. 22 июля 1917 года Пилсудский был арестован немцами в связи с обвинением в проведении враждебной им деятельности. Так люди, которые хотели скомпрометировать Бригадира в глазах общественности, оказались ранены собственным оружием.
Мученик
В истории легенды Пилсудского начался новый период. Образ вождя народа, борющегося на передовой линии, был заменен образом мученика, страдающего в тюремной изоляции. В этой ситуации новый элемент мифа имел просто невиданные пропагандистские преимущества. Ведь все общество сгибалось под бременем оккупации, все более ощутимой с бегом времени. Следовательно, популярности придавало не участие в текущих, малозначительных политических стычках, а, собственно, обрастание ореолом страдания, вызванного твердым отстаиванием интересов народа в отношениях с чужеземцами. Этот механизм должен был функционировать достаточно повсеместно, его замечали даже сторонние наблюдатели, присматривавшиеся к польским делам со значительной дистанции, как, например, имевший свою резиденцию в Вене министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Чернин. В одном из писем он заметил, что арест Пилсудского сотворил из него «мученика как раз тогда, когда его звезда начала тускнеть», и это стало источником «большой популярности».
Благодаря таким обстоятельствам легенда магдебургского заключенного завоевывала все новые сердца и головы. Силу ее воздействия дополнительно укрепляли остававшиеся на свободе пилсудчики. Они прилагали всяческие старания, чтобы убедить массы в том, что немцы арестовали самого опасного для них, а значит, самого выдающегося из поляков. Пилсудчики не призывали к интеллектуально облагороженным точкам зрения, предпочитали играть на эмоциях.
Примечательную оказию для таких действий представили именины Коменданта. Организовали их в 1918 году с огромным размахом, стремясь к дальнейшей популяризации командующего. Возникла мысль о массовом направлении в Магдебург поздравлений в связи с этой датой, о показном демонстрировании 19 марта связей народа с «самым мужественным борцом сражающейся Польши». И хотя враги язвительно замечали, что те несколько десятков тысяч почтовых открыток, направленных в Германию, те десятки демонстративно прерванных театральных представлений, все проявления почестей и преданности ничем не ослабили мощи оккупантов, такие оценки были в своей основе ложными. Прежде всего брался во внимание факт, что в горниле этих акций умножились ряды поклонников Бригадира. А ему самому, несмотря на заключение и полное ограничение свободы передвижения, удалось сделать очередной шаг, приближавший его к маршальскому жезлу в уже независимой Польше.
В этой баталии важным был каждый жест. И в этом случае ореол величия формировался в равной степени как из выдающихся и символических, так и из, казалось бы, мало существенных действий, таких, как хотя бы распространение в популярной «Сказочке» лихой с художественной точки зрения сатиры, высмеивающей противников:
Как-то в отсутствии льва Мартышка зверей созвала: Послушайте, надо ж когда-то решиться — Политика льва никуда не годится. Зубы оскаливать — это ль красиво? Или когтями играть для острастки? А не поклоны бить, не прыгать игриво, Вилять хвостом и строить глазки? Все время бороться — это ведь плохо. Я предпочитаю ждать и не охать — А вдруг что свалится прямо с древа? И беззаботно прыгать — направо, налево, Вверх, вниз, по траве, по земле. А если опасность, то спрячусь в дупле. Нельзя быть тогда на мартышку в обиде. Вести с ней политику — толк очевиден. В политике храбрость совсем не важна, Здесь прежде всего моя ловкость нужна. Поэтому вашим вождем стать хочу — Мне львиную внешность принять по плечу. Зверюшек спасли от забот те слова. Решили: дождемся-ка лучше льва.Начальник государства
Ожидания закончились 10 ноября 1918 года. Туманным, серым утром Пилсудский возвратился в Варшаву и в течение нескольких дней занял должности главы создаваемого государства и главнокомандующего. Стал диктатором. Пропагандистские представления, которые еще недавно казались столь отдаленными, приобрели живые, реальные очертания. В прошлом заговорщик, позднее командующий легионами и магдебургский мученик, он реально взял в свои руки судьбы возрождающейся Польши.
Стал во главе государства. В глазах сторонников вырос до ранга вождя народа. Однако не все разделяли это убеждение. В значительной части общественного мнения, исповедовавшего национал-демократические взгляды, он считался узурпатором, вынесенным на вершину государственной власти лишь благодаря стечению обстоятельств. Между крайними оценками оказалось большинство граждан, плохо ориентированных, не горящих ни ненавистью, ни энтузиазмом по отношению к Пилсудскому. За завоевание симпатий этой части начался очередной пропагандистский бой, еще более ожесточенный и бескомпромиссный, чем все предыдущие. Ибо сейчас привлекательность легенды и подпитываемые ею политические симпатии означали вещь более желанную и привлекательную — власть.
Сторонники Коменданта — тогда уже Начальника государства — действовали по старому рецепту: свои воображения и надежды представляли как единственно правильную, бросающуюся в глаза действительность. Механизм этого явления приоткрыл Юлиуш Каден-Бандровский в «Генерале Барче». Интересен этот источник, ведь в нем политика победил писатель, без прикрас рисующий картину того, что никогда не появилось бы в пропагандистских изданиях лагеря. А Каден многое мог сказать. Ведь в то время он был шефом пресс-бюро Главного командования. Выполнял функции, которые в романе доверил своему литературному воображению — создателю легенды генерала Барча — Расиньскому. «Расиньский, — откровенничал он в одном из эпизодов, — придавил своих гостей всем тем, что делает… Делает все. Слава — популярность — слово, которое опережает поступок, и расторопно заметает свои остывающие следы…» Откровенной была эта правда. Слава Пилсудскому всегда выкраивалась на вырост. Как правило, сопутствовавшее ей слово летело впереди поступка. Хотя надо отдать должное писателю, что оное расторопное заметание уже остывающих следов также имело немаловажное значение. Только сопоставление обоих факторов давало образ необычайных свершений, выносящих на вершины национальной заслуги.
«Серым, дождливым ноябрьским утром прибыл в Варшаву Юзеф Пилсудский, — сообщала изданная в то время «Правда о Коменданте» Анджея Свентославского, — освобожденный из тюрьмы в Магдебурге немецким народом, немецкой революцией. <…> И спустя несколько часов по всей Варшаве разошлась весть: «Пилсудский приехал!» Перед домом, где жил Комендант, собрались тысячные толпы, а в квартиру начали сходиться делегации. Приходили представители всех партий, всех сословий и профессий — с почестями или же для получения указаний.
Когда через улицу прошествовала колонна рабочих-социалистов и Пилсудский вышел на балкон, перед ним склонились знамена и снова взорвались возгласы: «Да здравствует!»
Крестьяне, собравшиеся на свой съезд в Варшаве, узнав о приезде Пилсудского, приветствовали это сообщение громкими здравицами и направили к Коменданту почетную делегацию. А три крестьянина и ксендз из ее состава встретились на квартире Пилсудского с делегацией ремесленников и рабочих варшавских цехов, с рабочими-социалистами, делегациями студентов и высшими офицерами, воротники которых были почти полностью обшиты серебряными шнурками, и даже с господами польскими — князем Сапегой и генералом Розвадовским.
Все пришли к Пилсудскому, у всей Варшавы было на устах его имя, газеты вышли со специальными приложениями о его приезде; все ожидали, что он будет делать…»
Образ мужа, ниспосланного самой судьбой, описывал также Януш Енджеевич в изданной в 1919 году книге «Юзеф Пилсудский». «Магдебургский узник, — писал автор, который в будущем должен был дойти на руководящей службе до поста премьера Речи Посполитой, — появился как символ возможности принятия самостоятельных решений. Это поняла Варшава, поняла это вся страна. Все взоры устремились на этого человека, который уже столько раз доказывал, что умеет свои желания и волю воплощать в действие. В руках Пилсудского оказалась вся судьба народа. Все группировки и все партии подчинились ему беспрекословно, ожидая его предложений. <…>
Пилсудский сегодня — человек не какой-то партии или какого-то лагеря. Он происходит из самых благородных корней народа и всем существом своим является продолжением того ряда героев, которыми гордится наша история и которым каждый поляк обязан своей национальной структурой души. Он один из инспираторов польского духа, который в упорном труде, в огромной деятельности развивается, растет, укрепляется, наполняется все более глубоким содержанием, чтобы когда-то реализовать свое общечеловеческое призвание. <…>
Встают перед ним организованные отряды, сплоченные массы народа. Они признают в нем того, кто завоевал право на послушание ему трудом и страданием всей жизни. Поверили ему крестьянин и рабочий польский, тому, в ком нет предательства. Его слову!
На его слово падает короткий солдатский ответ: «Есть, гражданин Комендант!»
В тех и во многих других публикациях Пилсудский становился солью народа, его самым совершенным воплощением. Наиболее обобщенно выразил это в очередном издании уже цитировавшейся книги «Юзеф Пилсудский» Вацлав Серошевский: «В рыцарской, благородной и доброй, а одновременно прозорливой и непоколебимой в своих наиболее важных решениях личности Юзефа Пилсудского славит народ польский свою самую лучшую частицу».
На этот раз книга Серошевского, изданная в 1915 году Главным национальным комитетом, была опубликована Бюро внутренней пропаганды — одним из многочисленных в то время институтов, целью которых было прославление личности главы государства. На службу легенде был поставлен сложный и все более расширяющийся государственный аппарат. О том, сколь большие, действительно труднопредставимые возможности это давало, свидетельствовал хотя бы размах, с которым праздновались в Варшаве в 1920 году именины Начальника государства.
«По случаю именин Начальника государства, — сообщал 19 марта 1920 года «Роботник», — Управление города постановило празднично оформить здания ратуши и Большого театра, в котором состоится торжественное представление, и призывает все население Варшавы украсить флагами дома.
Комитет по национальным дарам Юзефу Пилсудскому при Братской помощи студентов университета сообщает, что 19 марта в час дня в университетском зале состоится торжественное собрание по случаю именин Коменданта и Начальника государства.
В ознаменование этого дня Комитет по празднованию именин Начальника государства организует следующие мероприятия:
Утром оркестры: милиции, пожарной команды, работников местных трамваев, газового завода, расставленные начиная от Бельведера на улицах, по которым будет проезжать Начальник государства, направляясь на Сасскую площадь на полевое богослужение и парад войск, будут приветствовать его исполнением национального гимна. После эти оркестры дадут часовые концерты на площадях: Збавителя, Трех Крестов, Театральной, у памятника Мицкевичу, у Венского вокзала.
Начиная с полтретьего воинские оркестры будут играть в следующих местах: на площади Старого Мяста, Дворцовой площади, у памятника Мицкевичу, а также перед костелом Святого Флориана. Во второй половине дня состоятся бесплатные представления для солдат в Театре польском и Летнем театре. Союз артистов польских сцен выделил для этих представлений 1000 марок, пан председатель Станишевский 4000 марок; билеты будут распределять соответствующие воинские власти.
Вечером в Большом театре состоится торжественное представление, которому будут предшествовать соответствующие выступления. Кинематографисты должны показать сцены из деятельности Начальника государства.
Школьная молодежь соберется в зале Гигиенического общества (ул. Карлова, 31) в 7 часов 30 минут вечера. Перед ними выступят пан Анджей Струг и пан Тадеуш Шпотаньский, а также представители молодежи. Кроме того, планируется ряд выступлений в различных пунктах города.
Делегация 200 объединений и институтов, которые заявили о своем участии, будет принята в 4 часа 30 минут дня, поскольку в первой половине Начальник государства будет занят на торжествах, которые готовят для него воинские части.
Для более торжественного ознаменования этого дня Комитет обращается ко всем гражданам города с призывом украсить, по мере возможности, дома, балконы, окна».
Так отмечала столица именины главы государства и главнокомандующего. Этот образчик в сотнях, тысячах копий размножался по всей Речи Посполитой. И так происходило несколько лет, пока Пилсудский занимал самые высокие государственные должности.
Можно сказать, что это построенное по образцу столь ненавистных в Польше царских приемов помпезное представление могло восхитить только самые убогие умы. Но это только половина правды. В такой праздничной атмосфере, несомненно, росла популярность Маршала. Та личная, связанная исключительно с его особой, хотя торжества проводились с целью отдания почестей занимаемой им должности.
Политические противники также ясно отдавали себе отчет в этом. Понимали, сколь опасным может быть втягивание разросшегося государственного аппарата в дело служения легенде. Следовательно, в борьбе с этой угрозой они прибегали к нередкому в таких ситуациях аргументу — обвиняли сторонников Маршала и его самого в расходовании общественных денег на эгоистические, личные цели. Более того, бросали упрек, что тенденциозное восхваление Начальника нередко сопровождалось очернением Польши. Содержащуюся в многочисленных подобного типа публикациях аргументацию в наиболее крайней форме представлял очерк непримиримого врага Бельведера — Адольфа Новачиньского, помещенный в 1923 году в «Мысли народовой».
«Первым французским журналистом, который был щедро оплачен и спешно прибыл в Польшу уже в декабре 1918 года, после чего поочередно опубликовал статьи в «Тан» 5 и 15 сентября 1919 года, восхваляющие Ю. Пилсудского и его мафию, деликатно щелкающие по носу национальный лагерь, был пресловутый Шарль Риве {по мнению Новачиньского, писака, прислуживавший до этого царю}. Риве восхвалял Пилсудского, как ранее восхвалял его еврей Михельштейн в «Журналь де Деба» (декабрь 1918 г.), как восхвалял Розенталь в «Тан», как восхвалял в мае в «Тан» Израэль Коэн. Только таких зарубежных журналистов пустил в Варшаву Импостор[187] {Новачиньский очень любил неологизмы и каламбуры} Пилсудский и его «взломщики, стоящие у власти».
Этот упрек относился к популяризации Пилсудского за границей. Но не менее ожесточенно эндеки боролись с пропагандистской акцией, направленной на внутренние потребности страны. Новачиньский, имя которого придется еще не раз упомянуть, поскольку никто не превзошел его в антибельведерских выпадах, гремел на страницах «Мысли народовой» по случаю опубликования в ежедневной газете военного министерства «Польска збройна» программы бесед о Пилсудском, которыми собирались отметить именины вождя в 1923 году:
«Это — злоупотребление и копирование московщины. <…> Это — навязывание легенды, делающей услужливыми и субсидированными литераторами из неспособного регента, никуда не годного стратега величину и знаменитость, раздуваемую до неслыханных размеров. <…> Хватит восхвалять некомпетентность. Хватит культа невежества и интриг».
Противники были способны на еще более отравленные стрелы. Когда недоставало аргументов, они использовали инсинуации, как это сделал неутомимый в находках Новачиньский в другом своем очерке, помещенном в «Мысли народовой». Эндековский мастер памфлета защищал своего политического приятеля Игнацы Шебеку, на которого тоже не очень-то по-джентльменски набросились пилсудчиковские журналисты в связи с прошлым дяди, якобы царского жандарма.
«Был ли дядя многоуважаемого депутата и одного из немногих наших дипломатов европейской величины русским «жандармом» — об этом мы не знаем и не вникаем в это, как не вникаем в то, например, в каком родственном отношении к нынешнему Начальнику государства находился в 1862 году полковник жандармерии Пилсудский, который после объявления графом Ламбертом[188] военного положения благодаря своей жестокости сразу был назначен обер-полицмейстером Варшавы… <…> Как не вникаем и в то, был ли обер-полицмейстер, а потом «усмиритель мятежа» в 1863 году дядей или дедом нынешнего Начальника государства и не есть ли весь антирусский склад ума Ю. Пилсудского оправдание и реабилитация имени, вызвавшего в 1863 году отвращение жандарма, так и безразлична такая деталь, был ли «царским жандармом» дядя депутата Шебеки».
Вся проблема была насквозь надуманной. Но Новачиньский, как каждый обливающий грязью, не терял надежды, что хотя бы часть нечистот попадет на атакуемого.
Тот же автор яростно атаковал также другой существенный элемент мифа Пилсудского — постоянно выпячиваемый талант командующего. «Юзеф Пилсудский, — писал он в очередном памфлете, помещенном в «Мысли народовой», — вершит дела таким образом, что постоянно акцентирует внимание на своем «солдатстве», внушая, что якобы его специальностью были военные дела, в которых он будто бы является компетентным специалистом. В этой иллюзии он поддерживался прессой и теми 300 тысячами карьеристов, которые всплыли при нем на поверхность. Однако же как «солдат» он без нужды напоминает о своих «победах», на которые, как и на себя, по-прежнему смотрит сквозь увеличительные стекла, до сих пор не наученный даже тем, что остальная Европа на его роль и участие в этих победах поглядывает или попросту с насмешкой, или с большим скептицизмом».
Чувствительно ударили противники и по распространяемому вокруг Маршала ореолу личной честности и бескорыстности. На страницах держащей первенство в нападках «Мысли народовой» так комментировались некоторые подробности визита Начальника в возвращаемую Польше Силезию: «Вдруг оказывается, что во всех Катовицах нет спальни, которая могла бы достойно принять на ночлег пана Пилсудского. Были разные великолепные апартаменты, но ни один не годился для столь высокой особы. Какой выход? Ничего не поделаешь — и вот направляют пана вице-воеводу Журовского в Краков, чтобы купил гданьский спальный гарнитур специально для пана Пилсудского. Гарнитур стоил 360 000 немецких марок. Пилсудский пользовался им только одну ночь. Поистине царские и императорские манеры! Ни один из простых смертных недостоин отдыхать в той постели, в которой спал я…» А вся эта экстравагантность, добавляла редакция, происходила тогда, когда голодающая Силезия тщетно добивалась от Варшавы кредитов на продовольствие.
Оппоненты не довольствовались упреками, свидетельствовавшими о расточительстве, выходящем за все допустимые границы. Они обвинили Начальника в воровстве, и не чего-нибудь, а королевских коронационных регалий. Сделали это, правда, в завуалированной форме, но у варшавского мещанина не вызывало сомнения, что вождь народа — заурядный жулик.
В поле атак эндеков оказалась также кажущаяся безвредной пилсудчиковская святыня — знаменитая, отделанная галунами даже лучше, чем генеральская, серая куртка стрелка Коменданта. «Пан Пилсудский, покидая Бельведер, заявил, — писал в «Мысли народовой» Ян Заморский, — что сбрасывает мундир Первого Маршала Польши и снова одевает «серую блузу стрелка». Мания переодевания и примеривания различных костюмов безобидна. Юмористичным же является убеждение, что изменение покроя чьих-то панталон будет означать поворотные этапы в истории государства…»
Еще более едкой и грубой, чем упреки, формулируемые на газетной бумаге, была молва, которая не сдерживалась никакими ограничениями. Доказательств такого «творчества» сохранилось немного. Однако силу его воздействия, по крайней мере, нельзя было игнорировать. Ведь нередко сплетня бывает более сильным оружием, чем десятки книг, брошюр и плакатов.
«Не щадят «родственники» и личной жизни своего «правителя», — писал в панегирике «Великий человек в Польше» Игнацы Дашиньский. — Варшава, более полувека живущая сплетней только о правителях — этой потехой рабов, Варшава с товарищеским автократизмом женщин, мастериц сплетен, «театральный город», потому что, к сожалению, ничем другим до последнего времени быть не могла, эта Варшава сплетничает, развлекается и морально оскорбляет Начальника именами его мнимых любовниц, якобы заполняющих маленький и тихий Бельведер! Аристократия, клир, мелкое мещанство, потому что большого мещанства Польша не имеет, большие и меньшие служащие оскорбляют Начальника, не стесняясь ни в чем. <…>
На собрании христианских демократов известный в Варшаве каноник выступает перед несколькими десятками собравшихся, называет Пилсудского подлым трусом и предателем». К этому следует добавить «пикантную» информацию: «Всю Варшаву обошло последнее сообщение, что адъютант Начальника майор Венява-Длугошовский общается с большевиками по проводу, протянутому из Бельведера в подземелье собора на Сасской площади»…
Сам Пилсудский позже вспоминал эти дни: «Была тень, которая бежала около меня, то опережая, то отставая. Таких теней было множество, эти тени окружали меня всегда, тени недоступные, ступающие шаг в шаг, следящие за мной и передразнивающие меня. На поле брани или в мирном труде в Бельведере, или же в ласке ребенка эта неотступная тень достигала и преследовала меня. Заплеванный, гадкий карлик на кривых ножках, изрыгающий свою грязную душу, оплевывающий меня отовсюду, не щадящий ничего, что нужно щадить: семьи, отношений, близких мне людей, следящий за моими шагами, делающий обезьяньи гримасы, выворачивающий наизнанку каждую мысль; этот гадкий карлик ползает за мной как неотступный спутник, убранный флажками различных типов и цветов — то своей, то чужой страны, выкрикивающий фразы, ужасно кривящий губу, выдумывающий какие-то немыслимые истории, этот карлик был моим неразлучным другом, неотступным спутником удачи и беды, счастья и несчастья, победы и поражения…»
В то время когда волна пропагандистских домыслов нарастала, была опубликована работа, явившаяся первой и единственной в межвоенном двадцатилетии попыткой развенчать личность Коменданта, сопоставить миф с историческими реалиями эпохи. Это была «Легенда Пнлсудского» Яна Липецкого. Под этим псевдонимом скрывалась Ирена Панненкова. Связанная со средой львовской интеллигенции, участвовавшая в деятельности организации стрелков, она столкнулась с Комендантом в 1913 году и была покорена его обаянием. Ее муж был членом союза стрелков, а позже солдатом I бригады. Сама она писала статьи, восхвалявшие действия легионов, хотя со временем ей становился все ближе тогдашний соперник Бригадира — подполковник Владислав Сикорский. В 1920 году Панненкова переехала в Варшаву, изменив одновременно политическую ориентацию. Именно тогда она связалась с созданной правыми газетой «Речь Посполита», редактируемой Станиславом Строньским, который, если иметь в виду его отношение к Пилсудскому, макал перо в ту же, что и Новачиньский, чернильницу. Вероятно, что по инспирации Строньского и возникла «Легенда Пилсудского».
Книга, изданная в 1922 году, стала бестселлером. Первый ее тираж в несколько тысяч экземпляров разошелся за шесть недель — в рекордные по тем временам сроки. Не дольше пролежало на книжных полках издание, появившееся в 1923 году. Бесспорно, читатели жаждали такой сенсации. Вероятно, она успокаивала переполненные враждебностью к Пилсудскому сердца. Несомненно, «Легендой» интересовались и люди, доброжелательно настроенные к Начальнику, разве только заинтересованные сенсацией сезона.
Работа, свидетельствовавшая об огромном знании биографии и деятельности Пилсудского, поражала как логичностью аргументации, так и богатством приводимых, в большинстве своем впервые, доверительных документов.
По мнению Панненковой, Пилсудский был личностью, ослепленной эгоистическими партийными интересами: На должности Начальника государства Пилсудский не сумел подняться над уровнем партийных различий и длительное время, начиная от выдвижения правительства Морачевского в интересах своей партии и заканчивая отстранением правительства Пониковского[189] в интересах своего левого блока[190], всегда скорее раздражал и вел себя вызывающе, чем успокаивал и сглаживал ненависть и борьбу в партии».
По мнению Панненковой, он всегда был нечестным, ему чужды были чувства достоинства и лояльности. «В своей политической деятельности Пилсудский выработал для себя как бы определенный характерный шаблон поведения, который стереотипно повторяется. Именно: входит в данную организацию с торжественным обещанием исключительной лояльности по отношению к ее руководству, затем создает в ее кругу или же вне его законспирированную группу своих поклонников; наконец, в соответствующий момент с помощью этих поклонников организует «государственный переворот» с целью подчинить всех исключительно себе, после чего наступает фронда и разгром организаций».
«Туманность и бесплодность его концепции, а также нелояльность и неискренность его политических методов, соединенные с просто неслыханной манией величия, оттолкнули Польшу от Пилсудского и, к сожалению, главным образом через него оттолкнули от Польши заграницу. «Ein Konfusionskopf», — говорил о нем Безелер. «Un génie de l’intrigue», — говорят о нем в Париже. «Nobody knows Polands policy», — говорят, пожимая плечами, англичане, и эта язвительная фраза касается именно политики Пилсудского». Его безответственные начинания {здесь приводились многочисленные примеры} подорвали за границей личный кредит Пилсудского, а вместе с ним, к сожалению, и кредит Польши. Весь капитал симпатии и уважения, который завоевал для нас в целом мире Костюшко — несчастливый вождь Польши, шедшей к упадку, благодаря Пилсудскому — «счастливому» вождю возрожденной Польши, был разорен и растрачен, если говорить о его личной политике, почти до последнего шеляга»[191].
Пресса, выступавшая против Начальника, зароилась от хвалебных рецензий. «Это политическая брошюра, — писал «Курьер Варшавский», — но написана лаконично, на уровне научного труда. <…> Она, несомненно, станет главной сенсацией в политическом мире». Ей вторила «Мысль народова»: «Обстоятельная, деловая, спокойная, тактичная, мужская, отважная, документальная демаскировка рекламной оргии» вокруг Пилсудского. «Пшеглёнд Вшехпольски» же заканчивал свой дифирамб по адресу Яна Липецкого предсказанием: «Своей глубокой, со взвешенными оценками книгой, опирающейся на анализ фактов и документов, автор нанес смертельный удар по легенде Пилсудского».
Однако этот вывод был неверным. «Легенда Пилсудского» действительно стала сенсацией сезона, но не оставила заметного следа в общественном сознании. Хотя надо признать, что позже из нее обильно черпали аргументы очередные противники, старавшиеся подорвать популярность Маршала.
Сравнительно скромное общественное восприятие этой книги было сигналом о том, насколько сильно укрепились в сознании людей стереотипные портреты Пилсудского. Труд Панненковой не был ведь откровением как для врагов, так и для почитателей Начальника. Первым он не давал ничего нового. По их убеждению, у «бельведерского шкодника» были на совести еще худшие поступки. Его же поклонники рассматривали выводы автора как свалку высосанных из пальца вздоров и обвинений. «От начала до конца — фальшь, фальшь бесстыдная и бесцеремонная», — метал громы и молнии осуждения Владислав Побуг-Малиновский. Это убеждение разделял каждый благонамеренный пилсудчик.
В связи с этим в бельведерском лагере даже не пытались поднимать серьезную полемику с «неким паном Липецким». Дан ответ иронией и насмешкой — сатирическим стишком, опубликованным в варшавском «Курьере поранным», а за ним в других изданиях лагеря:
Некий пан Липецкий (кто и что слышал о нем в Польше?), спрятав голову под юбку, то есть взяв псевдоним (достойный рыцарь!), хотел пером покончить как-то с призраком понурым. Хотел разделаться с героем, который потрошит воющих гиен, отбирая у них сон и аппетит, как одинокий лев, король пустыни! — С мужем без страха и порока, со славой польского оружия…В этом творчестве авторы обратились к любимому пилсудчиками сравнению вождя со львом — царем зверей. В цитировавшемся стишке оно приобретало новое значение. Не случайно лев лишал гиен сна и аппетита. Это было прозрачным намеком на «Chjen» [192], как популярно называлось Христианское национальное единство[193], а, следовательно, помимо этого злостного выпада шпор стихотворной реплики не очень-то беспокоился о точности политических аргументов. Упрекая Липецкого в анонимности, автор сам предпочитал подписаться тоже мало говорящим криптонимом «R». Однако он не терял задора и предрекал полное фиаско намерений соперника:
Хотя благородным дискантом, стараешься петь неустанно, Останется он Комендантом, ты же… Липецким Яном! Легендой живою он будет всегда, а от тебя — не найдешь и следа!Не сраженная этой атакой, Ирена Панненкова выступила с репликой: «С Парнаса, «гордо возвышающегося» среди мглы и туч поэтических, необходимо сойти на серую юдоль земную. На этой юдоли вершатся дела, о которых говорится в этой книге, и ни одна licentia poetica[194] здесь недопустима. Поэтому, если можно, прозой…» Однако она не дождалась ответа. Коснулась ведь многих слишком деликатных вопросов, чтобы с ней полемизировать.
В это время подавляющее большинство пилсудчиков уже привыкли говорить о Коменданте исключительно на коленях. Болезненно убедился в этом сам «неофициальный миинстр пропаганды» лагеря Юлиуш Каден-Бандровский после обнародования в 1922 году уже цитировавшегося «Генерала Барча».
Книга была задумана как апофеоз вождю. Заглавный герой, прообразом которого был, несомненно, Пилсудский, показан в ней как главный организатор возрождающегося государства, человек, в одиночку несущий на плечах бремя ответственности за судьбы страны. Но слишком кровожадным писателем был Каден, чтобы ограничиться образом мемориальной куклы, изваянной из брошюрных фраз. Итак, он наделил Барча всеми достоинствами живого человека. Открыл уголки души политика, вынужденного во имя высших государственных интересов в равной мере делать добро и зло.
Такое видение не умещалось в стереотипных представлениях о вожде. Возмущенный рецензент «Дроги» — теоретического печатного органа пилсудчнков писал, что Каден «не впервые использует живые примеры. Делал это и раньше. Но иногда портачит <…>, в «Генерале Барче» — в связи с отсутствием художественных и иных деталей». В итоге «Дрога» признавала роман в равной степени «как аморальный, так и большого таланта».
Рецензент «Пшеглёнда повшехнего», ужасаясь, добавлял: «Как это случилось, что у легионера, боровшегося за независимость, рука не дрогнула при создании образа, в котором общественное мнение может увидеть руководителей нашей освободительной борьбы? Народу необходима легенда. И разве это задача творцов давать ему камень вместо хлеба?»
Не скрывал возмущения и Станислав Цат-Мацкевич, виленский консерватор, все больше симпатизировавший Пилсудскому: «Генерал Барч» производит впечатление романа, который писали, засунув голову в туалетную раковину».
Отшельник
Труд Кадена, публикуемый в 1922 году частями в газетах, в виде книги увидел свет в следующем году, когда легенда Пилсудского в очередной раз принимала новое измерение. Летом того же года, не желая сотрудничать с созданным правоцентристским правительством[195], Маршал отказался от последних официальных должностей. Отошел добровольно. Это решение лишило актуальности так заботливо опекаемого приверженцами мифа о рулевом государства. Его место занял образ отшельника из Сулеювека.
Понятно, что в глазах поклонников эта метаморфоза ни в чем не умаляла прежней величины Коменданта. Он продолжал оставаться самым совершенным из поляков. В то время пилсудчиковский «Глос» писал о нем:
«Под взрывами гранат, в пыли, дыму и порохе, в нечеловеческом кровавом труде солдата и гражданина родилось имя, закаленное, как сталь, горячее, как пламень, ясное и лучистое, как солнце, — Юзеф Пилсудский. <…> В периоды великих исторических потрясений, во время становления независимой Польши, когда не дипломатические торги, а большие громогласные дела говорили о величине человека, в Польше на страже вольности народа мог стать только тот, кто сам возбудил и направил его волю к Независимости. Ведь когда Независимость народа перестала быть химерой, материализовалась, Юзеф Пилсудский был уже в сердцах всех поляков, и к этой самой возвышенной категории польского характера, к этой самой высокой добродетели национальной жизни все мы протянем руки.
Однако же, — изменял тон рассуждений публицист «Глоса», — демократия, дающая неограниченную свободу всем, дала в руки оружие, направленное против себя же, и своим непримиримым врагам.
Лучезарность великого поступка и большого сердца угасла в глазах тех, ничтожество которых не выносит чересчур яркого блеска. Прошло время жертвы жизни, ушел в тень серый польский солдат. Началась подрывная, трудная работа склочника и смутьяна, горлопана и демагога. <…>
И вскорости забыто, кто такой Пилсудский.
Забыто об украшенной героизмом, бессмертной жертве легионов. <…> Забыто, что этот страж независимости со дня ее зарождения не знал ни минуты покоя, неся день за днем на своих плечах весь груз бесчисленных сражений со всеми врагами Речи Посполитой. <…>
Забыто, что уже в первый день своей доблестной службы он умел силой своего духа подавить угрожающий молодой государственности хаос и гражданскую войну, примиряя своим благородным авторитетом находившиеся в раздоре помыслы. (…)
Забыто, что он — создатель армии, ее организатор и воспитатель, ее вождь и опекун, что он день и ночь работает над ее обучением, обеспечением и воспитанием, глубоко понимая то, что мало кто оценивает, что армия — это оборонительный вал Независимости.
Все это забыто…»
Портрет слишком прозрачный. Просто также вытекающее из него понимание: Пилсудский должен был отойти, ибо его величие не давало покоя противникам.
Этот мотив повторялся в десятках высказываний, в том числе в уже цитировавшемся «Великом человеке в Польше». «Величие, — писал Игнацы Дашиньский, — посрамляет малых, раздражает их скрытостью души. Когда видят или слышат великого человека, пожимают плечами, рассчитывают на то, что он наконец уменьшится и станет для них более понятен. В конце тихонько проклинают и протестуют, и протест этот с течением времени переходит во всеобщее осуждение. <…> Для огромного большинства люден добродетель — своего рода упрек и вообще немилая карикатура на их повседневную жизнь».
Именно такие люди, доказывал Дашиньский, вынудили Пилсудского удалиться в домашнюю тишину. Но ошибаются те, которые считают себя победителями. «Душевное одиночество может привести человека к отуплению, но может и развить его дух до самой прекрасной силы. Одиночество сильной души вынуждает искать другие, нетрадиционные измерения явлений, позволяет забыть о текущей волне событий, опережать ее, завершить ее бег и пророчествовать. Пророк должен обособиться, должен заткнуть уши и глаза на повседневный шум и видеть бесконечно дальше…»
Дашиньский сумел доказать, что Пилсудский не отказался от борьбы. Отошел, чтобы в одиночестве, вдали от повседневного шума готовиться к очередной битве за Польшу.
«Мы знаем, — писалось в уже цитировавшемся «Глосе», — что имя Юзефа Пилсудского еще многократно засияет в полном блеске, еще многократно пробудится в душах поляков. Мы услышим его там, где будет решаться судьба государства, увидим его в полноте славы в любую годину опасности, в то время как его унизители поспешно займутся упаковкой своего барахла».
Сравнение политических противников с обложенными барахлом спекулянтами недвузначно припоминало библейскую картину, представляющую Иерусалимский храм, который вместо верных молящихся заполнили торговцы, ни на что не обращающие внимания. Читатель уже сам должен был продолжить главную мысль. Так же как Сын Божий кнутом изгнал торговцев из храма, Комендант должен будет побеспокоиться о возвращении Польше соответствующей позиции.
В другой раз, черпая вдохновение в греческой мифологии, отшельника из Сулеювека сравнивали с Геркулесом, чистящим авгиевы конюшни[196]. Бенедикт Герц писал в стихотворении «Авгиева конюшня»:
Правительство без министров, Сейм без конституции, Польша без границ, разве только кто-то их навяжет, Дороги без машин, а богатство без наличности, В армии группировки и какие-то посты… В посольствах правление теть и покровительниц, В снабжении еженедельные заторы. В конторах ослы, трусоватые собачки… На каждом шагу — давние взяточники… В очереди мерзнет тихий старичок, Ведь городская продавщица — это графиня… Когда расширяются авгиевы конюшни, В Бельведер ветер вздохи приносит: Польский Геркулес, берись за метлу!Эти строки были направлены против недостатков Речи Посполитой и часто неправильных действий ее руководителей. Поэтому миф отшельника, собирающегося с силами для борьбы с царящим злом, призван был способствовать росту популярности.
Это понимали враги бельведерского лагеря. А значит, не уставали в своих атаках. Метили в Пилсудского более остро и решительно, чем тогда, когда он занимал самые высокие государственные должности.
«Этот царь-социалист, — сообщала брошюра Максимилиана Леварт-Скварча, носящая символическое название «Враги возрождения Польши», — в течение четырех лет деспотически правил Речью Посполитой Польской. <…> Под влиянием этого деспотизма, а именно крайнего упрямства он оставался в постоянных конфликтах с Сеймом, а также с большой частью общества. <…> Из-за своего «бешеного лихачества» он становился сеятелем путаницы, суматохи и экономического хаоса, автором постоянных встрясок, неожиданностей и экспериментов, которые понизили уровень нашей политической и общественной культуры. В результате уже само его имя стало в Польше синонимом внутреннего раздора, огромным препятствием для спокойного, целенаправленного труда…»
Подобные эпитеты заполняли более десятка следующих страниц брошюры. Венчал ее вывод: «Юзеф Пилсудский, сыграв не очень удачно свою роль, совершенно ушел из политической жизни. <…> Было попросту сумасшествием беспокоить покусанного зубами времени человека, который вопреки логике и пренебрегая фактами сделал сказочную карьеру, и доверять ему, неспециалисту, воинскую должность».
Такая пропаганда проводилась с мыслью привлечь на свою сторону самые недалекие умы. Ее авторы отлично понимали, что демагогия не убеждает людей, критически анализирующих представляемую им аргументацию. Тем подбрасывали литературу на соответствующем, более высоком уровне.
Несомненного успеха добился Адольф Новачиньский. Ему удалось очень больно поразить противника, не направляя по его адресу ни одного эпитета, ни одного уничижительного определения. Он дал слово самому Маршалу, компонуя текст «Золотых мыслей Юзефа Пилсудского». На почти пятидесяти страницах собрал его высказывания в различные периоды деятельности. И хотя не снабдил антологию ни словом комментария, уже сам выбор показывал героя в малопривлекательном свете.
Вырывая из контекста предложения, Новачиньский предлагал вот такие цитаты: «Поэтому я избрал другую, имея в виду ее сопряженность с правом, карьеру, которую, однако, боюсь вам приоткрыть. Ибо я стал профессиональным уголовником».
Трудно услышать более невыгодное признание. А ведь то, о чем официально информировал издатель, Пилсудский произнес 29 апреля 1921 года в Сасской гостинице в Кракове. Надо учитывать то, чего уже «совестливый» редактор не добавлял: эта цитата взята из шуточного тоста Начальника государства, произнесенного в честь профессоров юридического факультета Ягеллонского университета после присвоения ему титула почетного доктора. Маршал, благодаря за оказанную честь, покорно рассказал о своей биографии, действительно содержащей, если за исходный пункт взять законодательство государств, участвовавших в разделах, поступки «профессионального уголовника».
Этот прием, хотя и вызывающий досаду, не был, однако, слишком колким. Однозначная открытость признания должна была родить подозрения в каком-то обмане. Тем не менее недоброжелатели Пилсудского получали повод для радости, что вот, может быть, неумышленно, но высказал он о себе несколько слов правды.
Намного неприятнее было сопоставление высказываний по тому же вопросу, приходившихся на различные периоды жизни Маршала.
«Я написал письмо Безелеру, — приводил Новачиньский объяснение Коменданта, говорящее о причинах его ареста немцами в 1917 году, — что хочу разделить судьбу моих интернированных солдат; после этого письма меня арестовали и моя активная роль в легионах закончилась».
Эти слова были высказаны в 1918 году. А шесть лет спустя под присягой он давал такие показания перед судом Речи Посполитой:
«Пасхальский. Помните ли вы день своего ареста до Магдебурга?
Пилсудский. Да, это произошло в ночь на 22 июля.
Пасхальский. Видели ли вы накануне ген. Шептыцкого и куда он ехал?
Пилсудский. Несомненно, вы слышали мой рассказ. Я действительно встречал ген. Шептыцкого, едущего в направлении Бельведера.
Пасхальский. В Бельведере в то время жил Безелер?
Пилсудский. Точно».
Следовательно, заблуждающийся читатель не знал действительных причин ареста Бригадира. Или желание разделить судьбу подчиненных, как свидетельствовала информация от 1918 года, или же донос Шептыцкого Безелеру, как это свидетельствует из второго ответа. Но по сути вопроса не могло быть сомнений. В одном из ответов Пилсудский должен был соврать. А значит, этот, как кричали сторонники, муж без изъянов, олицетворение всех добродетелей оказывался простым лжецом, официально утверждающим лишь то, что в данный момент для него выгодно.
Этот тезис, проходящий красной нитью через всю антологию, Новачиньский иллюстрировал многими примерами. Едва ли не самый ценный из них касался противоречивых мнений о генерале Шептыцком. В приказе от 27 марта 1919 года Пилсудский утверждал:
«Доверяя генералу дивизии Станиславу Шептыцком у командование войсками в Литве и Белоруссии, выражаю ему за его службу на должности начальника Генерального Штаба мои самые горячие благодарность и признание. Его мудрый, полный инициативы и энергии труд заложил фундамент польской армии в условиях, в которых не формировалась ни одна армия, потому что она создавалась на пустом месте, во время разгара войны почти на всех фронтах. В молодые ряды польской армии он умел внедрить чувство несгибаемой субординации и чести, так как сам был выражением тех солдатских добродетелей, служа в соответствии с теми главными принципам», даже в ущерб своим личным интересам».
Непосредственно под этим поздравлением Новачиньский приводил диаметрально противоположное заявление в феврале 1926: года: «Все же мы свидетели явления, которое я охарактеризовал в предыдущем интервью, когда в заключение сказал, что нынешняя работа правительства — это выравнивание пути к возвращению двух генералов, от которых я предостерегал пана президента, — пана Шептыцкого и пана Сикорского».
А суть вопроса, и так уж достаточно красноречивого, издатель завершал одним выражением «первого солдата Речи Посполитой»: «Известная моя лояльность приказывала мне воздержаться от некоторых четко сформулированных и совершенно официальных заявлений».
Таким образом, уже никто не мог сомневаться, в чем заключалась «известная лояльность» «самого честного» из поляков.
В борьбу с возносившимся над страной призраком отшельника из Сулеювека включились самые большие авторитеты. Среди них оказался и выдающийся историк, профессор Ягеллонского университета Владислав Конопчиньский[197]; который в многократно читаемой в то время лекции «Наши великие люди» подвергал беспощадной критике культ вождя. Приводя много исторических аналогий, автор подытоживал выводы фразой, непосредственно относившейся к Пилсудскому и его окружению:
«Ежели кто-то считает, что выдающегося человека можно провозгласить великим при помощи искусственной рекламы, тот глубоко ошибается. <…> Мы искренне смеемся, наблюдая грубую работу панегиристов того или другого божка: эти готовящиеся по заказу журналистские интервью, эти приемы, парады, флагштоки, дюжины брошюр, напичканных пусто звенящим восхвалением. <…> Уважение и любовь сограждан возвышают дух, который уже своими делами этого заслужил. Идолопоклонничество его принижает и, что хуже, принижает самих идолопоклонников, а через, них — всех».
Но сторонники Маршала уже давно не воспринимали аргументов такого рода. Для них каждая атака, направленная на вождя, была равнозначна покушению на национальную святыню» Даже не изволили бросать реплики. Отвечали молчанием, враждебностью и пренебрежением.
Итак, образы Пилсудского — «белый» и «черный» застыли друг напротив друга в ожидании решительной схватки. Ведь только она могла решить, кто из них завоюет пальму первенства.
В преддверии такой схватки поклонники Маршала снабдили миф «великого отшельника» новыми чертами. Они вновь выдвинули руководителя, размышлявшего до сих пор в изоляции о величии Польши, на первую линию политической борьбы.
«Этот отшельник, — писал в ноябре 1925 года «Глос правды», — остался тем, кем был, — властелином душ. Он единственный в Польше умеет владеть ими. Только по его рукам тоскуют солдатские души и души серых миллионов народа. Маршал отвечает на честь и призыв своих солдат, — сообщала газета о ноябрьских торжествах в Сулеювеке, связанных с годовщиной возвращения из магдебургской тюрьмы, — говорит о возрождении польской души, о моральных ценностях народа, о чести. Эта речь, прекрасная и возвышенная, так разительно отличающаяся от того, что мы слышим в Сейме из уст представителей народа, министров и других «спасителей», быстро доходит до общественного сознания и вызывает повсеместный энтузиазм и чувство облегчения: наконец Пилсудский действует!»
Апофеозом таких действий стал майский переворот 1926 года. Гражданской войне, ведущейся на улицах Варшавы, сопутствовало не менее грубое столкновение представлений о вожде, который для восставших означал гораздо больше, чем честь и солдатская присяга, а для их противников вырос в мятежника, выступившего против законного порядка Речи Посполитой.
Изданная в то время пилсудчиковским Комитетом морального возрождения листовка патетически утверждала: «Деятельность Маршала Пилсудского вырвала Польшу из морального безвластия, на котором будто размножились частнособственничество, спекуляция, обогащение личностей и групп, безнаказанно хозяйничающих под покровительством клик в Сейме, в то время как широкие массы народа жили в нужде».
Изданная же в Познани брошюрка «Землякам к размышлению» драматически призывала: «Произошло большое несчастье. Пан Пилсудский с несколькими социалистическими генералами и с частью армии, взбаламученной социалистами, вызвал гражданскую войну, уничтожил почти триста человек, а более тысячи ранил; потряс Польшу до оснований; пробудил немецкий аппетит на Силезию и Поморье, литовский — на Вильно, а русский — на Львов, вооружил отбросы общества винтовками, побуждая их к грабежу и насилию; подорвал доверие к Польше и к Войску Польскому за границей. <…> Кто преклоняется перед бунтом, разжигает гражданскую войну, вводит страну в разруху, тот ускоряет распад Польши и толкает ее к непредсказуемым несчастьям. <…> Поляк, католик должен найти смелость выступить против преступления. Кто решится бороться до последнего, тот должен победить. Силе зла необходимо противопоставить еще большую силу добра. Каждый мобилизован, а тот, кто не услышит этого призыва, кто будет медлить, тот погубит Польшу и самого себя».
Отец народа
Успех участников переворота был равнозначен триумфу «белой» легенды вождя. До этого времени она состязалась с противниками в партнерском бою. Сейчас шансы выглядели иначе. Перед хвалебными гимнами открылся широкий путь для создаваемой государством пропаганды. Упреки же оппозиционной агитации могли лишь сочиться все более тонкими струйками через законопаченные цензурой и репрессиями щели.
Однако вскорости оказалось, что многим людям был значительно ближе тот Пилсудский, который лишен почестей, отождествляемый с протестом против расширяющегося зла, чем диктатор, как арбитр, разрешающий судьбы страны. Потому что человеческую симпатию нельзя измерить килограммами бумаги, предназначенной на биографические публикации. Она рождается в закоулках души, неоднократно вопреки стараниям, предпринимаемым самыми искусными специалистами по пропагандистской обработке умов.
Рисуемый после переворота образ Пилсудского вначале был обращен к предмайским агитационным канонам. Доминировал образ уже упоминавшегося Геркулеса, гигантскими усилиями вычищающего польскую конюшню Авгия. Маршала представляли как героя-бунтаря, протестовавшего против свирепствующего вырождения, угрожавшего высочайшей ценности — Польше.
Тадеуш Лопалевский писал в стихотворении «Пилсудский»:
И почему это у нее[198] глаза побелели в орбитах, Почему лицо искривляется грубо, как маска? Он[199] посмотрел на небо, у звезд спрашивает совета. Ходит по тихому дворику в блеске луны. Сквозь окно майский ветер, звеня в рамы, Приносит ему издалека бессловесные рапорты: Разгулялись в безумной столице хамы, Расползлись по стране подлые когорты.Когда упадок начал угрожать Отчизне, вождь-отшельник вынужден был отважиться на протест:
Тогда посмотрел в ее глаза, уже почти угасшие, Поднял руку. Задержал! Что-то взвешивал в сердце… И неожиданно грозной хваткой сорвал с нее непристойную маску — Брызнула кровь на ладони с самого дорогого ему лица.Итак, страшной была эта операция, окупленная ценой крови. Но для спасения умирающей Родины не было иного выхода.
После таких образов, наполненных терпением и жертвой, поэт рисовал олеографическую картину новой, послемайской Польши:
В бельведерском саду шелестит благовонный ветер. Опадает туман, как вуаль со святого лика, С этих глаз, уже избавленных и от слез, и от боли. Которыми его обворожила таинственная Пани. В кузницах звенят молоты, плуг вспахивает землю, В прядильнях прядут полотно молниеносные прялки, Пан Маршал на Польшу открыл свои окна. Усмехается детям и говорит: «Уже весна…»Таким образом, организатор переворота предстал как оздоровитель государства. Правовые аспекты этого поступка не имели значения. Учитывался лишь факт, что он нечеловеческим усилием вытащил страну из открывающейся бездны самоистребления.
Быстро начали исчезать те расчетливые, отдающие искуплением тона. Все больше распространялся портрет отца народа, стоящего над обществом и призывающего к порядку, в случае необходимости — солидным шлепком.
В своем преклонении перед вождем пилсудчики зашли так далеко, что отношение к нему сделали основным мерилом ценностей самого общества. «Пилсудский, — писал в 1927 году в книге «Роль Юзефа Пилсудского в жизни народа и государства» Антони Ануш, — принадлежит к тем немногим личностям в истории народа, которые наиболее достойно представляют то, что в его стремлениях бессмертно и велико. О ценностях поколения современников таких великих личностей потомки судят по тому, как это поколение относилось к самой выдающейся личности своего времени, понимало ли ее цели, сумело ли поспевать за ее волей, достаточно ли поддерживало ее намерения». Следовательно, Маршал был уже не первым из поляков, самым достойным слугой, мужем, ниспосланным Отчизне самой судьбой. Был поднят выше ее. Не он должен был служить Польше, а Польша ему!
Жрецам легенды просто недоставало определений для выражения его величия. Владислав Побуг-Малиновский в 1928 году прибегал к историческим сравнениям: «Ветхозаветный иудей, приученный к вмешательству Бога в историю народа, назвал бы Его пророком, ниспосланным на землю для выравнивания тропинок и дорог жизни народа. Древний грек, поддаваясь чарам мифа, который возносился над всем как близкое и прекрасное явление, назвал бы Его богом и велел бы Ему проживать на недоступном для простых смертных Олимпе. Мы, современные люди, люди твердой борьбы за существование, должны назвать Его народным героем. Достаточно ли этого? <…> У нас много народных героев. Но не найдем среди них ни одного, кто делами своими превзошел бы Маршала». Здесь автор приступал к пространному перечислению заслуг короля Болеслава Храброго[200], гетмана Станислава Жулкевского[201], Тадеуша Костюшко, Яна Генрика Домбровского, Ромуальда Траугутта[202]. Не поскупился на похвалы. Тем не менее в конечном итоге доказывал, что «геройство Пилсудского более значительно, чем геройство самых выдающихся мужей Польши».
Эта мощная река пропаганды и рекламы текла по широко разветвленному руслу. Наиболее полноводным было ее главное течение — официальная, помпезная агитация правящего лагеря, заливающая также страницы школьных учебников. В конце концов трудно перечислить появившиеся в то время издания. Значительно легче охарактеризовать их содержание, сводящееся к преклонению перед Первым Маршалом Польши.
«Он — отражение наиболее достойных корней нашего народа, — утверждала специальная брошюра, изданная в ознаменование именин в 1930 году Генеральным секретариатом Беспартийного блока сотрудничества с правительством, — по своей сути продолжает тот ряд героев, которыми гордится наша история и которым каждый поляк обязан своим национальным строением души. Он — один из организаторов духа Польши, который в тяжкой работе, в огромном историческом труде развивается, растет, становится сильнее, наполняясь все более глубоким содержанием, чтобы принять достойное участие в истории общечеловеческой культуры».
Легенда отца народа, как и ее предшественницы, в каждой среде использовала различные достоинства героя. Итак, были портреты, сконструированные для детей, рабочих, крестьян, интеллигенции, военных — для каждой большой группы, имеющей вес в обществе. Разные лики мифа соприкасались между собой, но и функционировали с соблюдением определенной, выразительной автономии. Произведения, известные в одной среде, в другой почти не присутствовали.
Так, например, «Юзеф Пилсудский» Юлиана Тувима был популярен прежде всего среди интеллигенции, даже той, либеральной, не вытягивающейся по стойке «смирно» в любой ситуации.
Знают, что брови кустистые и пышные усы, И что не по уставу носит мацеювку, Слышали, что выражается крепким словечком. Что он литовского происхождения и с претензией… Когда он автомобилем, голубым и грустным, мелькнет через год, Вытягивая за собой сизый шлейф легенды, Оглядываются, чувствуя на минуту, подсознательно. Озноб, несбыточный призыв жестокой команды…В этих и дальнейших оборотах поэт компоновал величие Пилсудского из положительных черт характера, близких каждому человеку. Более того, он касался его слабостей, уже издавна скрупулезно опускаемых биографами. Не принижал, таким образом, героя, скорее наоборот: делал более близким, а одновременно разительно отличающимся от остальной части поляков.
Маршал в глазах Тувима был столь велик, что его личность тревогой пронизывала противников. Однако действительность выглядела гораздо менее патетично. Антагонисты притихли, но, по крайней мере, не из-за величия героя. Молчание было вызвано силой.
Новые методы обеспечения повсеместного уважения «любимого» вождя одним из первых ощутил на себе Адольф Новачиньский, который после майского переворота не прекратил чрезвычайно яростных атак на извечного врага. За это он и был сильно избит офицерскими боевиками. Лишился глаза. Терпеливо переживал болезненный урок, в то время как пилсудчиковская Фемида безрезультатно разыскивала «неизвестных преступников».
Неприятные ощущения доставили также «неизвестные преступники» другому оппозиционному журналисту — Тадеушу Долендзе-Мостовичу[203]. Его вывезли в глиняный карьер под Варшавой, где сильно избили. Нападение остудило его энтузиазм к дальнейшим выступлениям в прессе. Однако он не полюбил санацию. Начал выступать против нее более рафинированным способом, публикуя повести с подтекстом, осмеивающие власти.
Насколько подлым и безнаказанным может быть тот, кто имеет в своих руках полицию, прокуратуру и суд, узнавал читатель из «Карьеры Никодима Дызмы», нашумевшей книги Мостовича, написанной, как считают некоторые, непосредственно в отместку за бандитское нападение. В ней писатель не атаковал самого диктатора. Не ссылался на него ни в одном эпизоде. Хотя можно не сомневаться, что, иронизируя над некоторыми выходками Дызмы, он насмехался над личными качествами Маршала. Так, например, можно понимать описание поведения Дызмы в цирке, когда тот не хочет согласиться со справедливым вердиктом судьи, дисквалифицировавшего одного из спортсменов за нарушение правил борьбы.
«— Ну и что? — кричал Дызма. — Ну и что? Если я говорю, что не подставил (ногу. — Авт.), я, председатель Государственного зернового банка, то мне можно больше верить, чем такому молокососу со свистком (судье. — Авт.).
Цирк взорвался от аплодисментов.
— Браво, браво!
— Верно говорит!
Председатель поднялся с места и призвал:
— О результатах борьбы решает жюри, а не зрители. Этот поединок не выявил победителя.
Никодим полностью утратил контроль над собой и гаркнул на весь цирк:
— А г..!
Эффект был колоссальный. На галерке поднялся истинный ураган аплодисментов, смеха и выкриков, среди которых все время повторялось слово, употребленное Дызмой.
Никодим всунул руки в карманы и сказал:
— Идем из этой будки, а не то меня кондрашка хватит.
Выходили, смеясь.
— Ну, — говорил полковник Вареда, — одно это принесет тебе популярность.
— Э-э-э…
— Никаких «э-э-э»… только популярность. Завтра вся Варшава будет говорить только об этом. Увидишь. Люди любят крепкие слова…
На следующий день о нем не только говорили, но и писали. Почти все газеты дали подробное и пикантное описание скандала, а некоторые поместили даже фотографию героя вечера…»
Ведь каждый знал, что это Маршал, как деликатно выразился Тувим, «крепким выражается словцом». Он также частыми оскорблениями и ссылками на высокую должность подменял существенные аргументы, особенно во время полемики с Сеймом.
Многочисленные примеры, оправдывающие грубость Дызмы, писатель уже открыто приводил в одной из очередных сцен:
«— Он прав, прав, — кивнул головой генерал.
— Но не слишком, гм… не слишком по-версальски свою правоту выражает, — с акцентом удивления заметил старый помещик.
Воевода снисходительно усмехнулся.
— Мой пан, поверьте мне: позволено ему, он в состоянии сделать это. — Генерал барон Камброин был версальцем!..
Заиграл оркестр…»
Камуфляж был слишком очевиден.
Никто из читателей не мог сомневаться, которая из современных польских величин скрывалась под костюмом бравого наполеоновского солдата из-под Ватерлоо.
Не в этих, по сути, безвредных намеках и насмешках заключался обвинительный тон книги. Прежде всего она била по всей системе правления, созданной санацией, поощрявшей мафиозные связи, некомпетентность, невежество, обычную человеческую глупость, лишь бы все это было прикрыто соответствующей высокой должностью, положением, деньгами, протекцией.
Писатель достиг своей цели. «Карьера Никодима Дызмы» стала оружием, поражающим не менее успешно, чем десятки обвинений, нагромождаемых на страницах брошюр.
Подобно литературе, разоблачительные функции начала выполнять и историческая публицистика.
«В 1665 году, — писал в популярном в то время очерке Владислав Конопчиньский, — Ежи Любомирский выступил с оружием против Яна Казимежа и Людовики Марии под лозунгом свободы и дворянской демократии. Клеймил нечистую практику двора, его покушения на выборы и право вето, франко-абсолютистские принципы: снова добродетель, невинность и демократия спасали Польшу перед черной реакцией»[204].
Так говорили бунтовщики. Реальность выглядела иначе.
Королевское правительство, хотя и не самое лучшее, но действительно заслуженное и ответственное, в тяжкой войне за приграничные области, в работе по восстановлению народного хозяйства после «потопа»[205] намеревалось укрепить Сейм и исполнительную власть.
А чего хотел, во что верил Любомирский? По-хорошему не верил ни во что: ни в свободные выборы, ни в другие лозунги своих товарищей, хотел отомстить королю за то, что тот слушал других, более умных советников. А те товарищи — конфедерированная армия и часть дворянских демократов также не имели никакого патриотического идеала, кроме анархии и равенства; из их болтовни об устранении злоупотреблений невозможно выскрести ни одной глубокой политической мысли. Поддалось агитации простодушное общество под руководством глупых офицеров, выдвинув на первый план свои материальные интересы, то есть острые претензии на выплату запоздавшего жалованья, и связало их с «моральным интересом», то есть спесью Любомирского. <…>
Кто победил? Те, кто был менее скрупулезен в убиении собратьев. <…> Так хотел демон польской истории: чтобы патриотизм уступал перед насилием людей без совести и чтобы Польша боялась подлецов, а не подлецы Польши…»
В этих утверждениях читатели видели осуждение более близкого им заседания сеймика — от мая 1926 года, в общем-то описанного достаточно реалистически.
Однако не все прибегали к использованию литературных и исторических костюмов. Оппозиция неоднократно выходила на ристалище с поднятым забралом, бросая прямо в лицо диктатору самые острые, хотя не всегда справедливые упреки. Депутат от коммунистов Якуб Войтюк, выступая в Сейме 19 сентября 1927 года, в частности, говорил:
«Каждый рабочий и каждый крестьянин знает, что в действительности в Польше не существует даже видимости конституции или демократии. Знает о том, что в Польше правит фашист, диктатор Пилсудский, для которого не существуют ни законы, ни какие-либо ограничения власти, какие-либо предписания; он знает, что законы пишутся для того, чтобы с ними никто не считался. Доказательством тому — переполненные тюрьмы, пытки в дефензивах[206], сотни и тысячи каторжных приговоров, подавленная рабочая пресса, разбитые организации, цепь преследований рабоче-крестьянского движения, освободительных движений угнетенных народов, которая сделала из нынешней Польши одну большую тюрьму».
Коммунисты наиболее часто подвергались репрессиям. Хотя с течением времени репрессии не миновали и деятелей остальных оппозиционных движений. Самую печальную славу получил так называемый брестский произвол, как стало принято называть жестокую расправу с руководителями антисанационных группировок в сентябре 1930 года. Противники подвергались террору, с тем чтобы не допустить продолжения ими политических действий, которые могли бы привести к широкомасштабным выступлениям народа. Это не случайно, что наиболее сурово расправились с теми брестскими заключенными, кто ранее отважился лично выступить против Маршала.
«Уже по дороге в Брест, — писал историк и социалистический деятель Адам Прухник, — конвой не скупился на угрозы и вульгарные клички для арестованных. По отношению к Либерману конвой не остановился на угрозах, а перешел к делам. Автомобиль, которым его везли, был остановлен за Седльцами. Либерману приказали выйти и ударами прикладов загнали в лес. Сопровождавший комиссар полиции дважды ударил его в подбородок и повалил на землю; на его голову, которую обвернули плащом, уселся один из конвоиров, с лежащего сняли одежду и с оскорблениями и криками: «Ты смеешь оскорблять Чеховича[207], ты смеешь поднимать голос против пана Маршала» — его избили до потери сознания, нанеся более двадцати кровавых ран. Либерман потерял сознание, и в таком состоянии конвой затащил его в автомобиль и привез в Брест».
На этот раз оппонентов диктатора били не «неизвестные преступники». Насилие совершалось «во всем величии закона», именно теми, кто призван был соблюдать порядок и лад в Речи Посполитой. «Поднятие голоса против пана Маршала» оказывалось таким непростительным проступком, что конституционные гарантии правопорядка уходили на задний план.
Эти дикие нравы, сотворение из закона ширмы, скрывающей своеволие диктатуры, подавляющее большинство пилсудчиков воспринимали без особых возражений. Ведь за теми действиями стоял авторитет Коменданта! Тот же оправдывал каждое решение, делал справедливым каждое движение.
Пилсудчики подняли своего вождя так высоко, что с вершин этого величия все казалось небольшим и малозначимым. Даже если в расчет входили такие главные ценности, как права личности или интересы Польши. В конце концов интересы Польши подчиненные Маршала уже полностью идентифицировали с его личностью. Вацлав Серошевский писал на специальной почтовой открытке, тиражируемой в десятках тысяч экземпляров:
«Воскреситель польского государства, создатель и вождь польской армии Маршал Юзеф Пилсудский. Рожденный на виленской земле, сосланный в Сибирь на 19-м году жизни. По возвращении вступил в ППС. В 1905 году организовал вооруженную борьбу с царизмом. Затем создал союз стрелков. С ним выступил из Кракова 6.VIII. 1914 года на освобождение от россий{ского} раздела. После того как москали оставили рубежи Речи Посполитой, направил все силы против немцев и австрийцев. 20.VII. 1917 года был вывезен в Магдебург. Возвратился в нояб{ре} 1918 года и 11-го того же месяца взял власть над возродившимся государств{ом}. Создал правительство, созвал учредительный сейм, оружием начертал границы Польши. В 1920 году дал отпор нашествию большевиков. С 1916 года всей силой своей воли стремится к улучшению конституции. Его гений позволил польскому народу в короткое время совершить великие дела. Устанавливаемые ему памятники являются одновременно памятниками любви Родины».
Эти утверждения весьма далеки от исторической правды, но для неосведомленного человека было очевидным, что гений с такой биографией, имеющий столь высокие заслуги перед Родиной, не может ошибаться, если речь идет об определении дальнейшего курса государства. Каждый же, кто мешает ему в этом, должен быть убран, независимо от того, какими бы методами это ни пришлось сделать.
Такая схема мышления, годами культивируемая пилсудчиками, превращала Польшу в большую усадьбу, управляемую только одним владельцем. Одновременно признавала недееспособным народ, делала из него покорное стадо, которое не в состоянии осуществить какое- либо самостоятельное, разумное действие.
Пропасть, разделяющую правителей и общество, можно обнаружить в каждой тоталитарной системе. Но в Польше после мая это явление под воздействием легенды и культа Пилсудского приняло исключительные для XX века оттенки. В невиданных масштабах властям старались придать патриархальный, старосветский характер.
С лозунгом, популяризировавшим вождя — отца народа, пытались войти в любую среду общества. Особенно старались завоевать сердца молодежи. Вот какие указания содержал «Справочник для организаторов празднеств и торжественных собраний в честь Маршала Пилсудского», изданный в Лодзи в 1934 году.
Его открывало адресованное воспитателям общее обоснование необходимости празднования именин «Деда»: «Дня 19 марта отдаем честь самому великому человеку современной Польши. Любим Его и восхищаемся Им. Он посматривает на нас с портрета из-под кустистых бровей. Задумчивый, всем своим существом отданный Родине, бдительный, зорко стоит на страже государства. Постараемся привить сердцам молодых любовь к Коменданту!..»
Этот призыв был подкреплен конкретными проектами организации празднования именин. Среди них содержались относительно скромные предложения:
«В отдельных классах проводим ряд бесед на тему о жизни и деятельности Маршала. Показываем молодым слушателям портреты, картины, таблицы, почтовые открытки, отражающие службу Пилсудского народу. Беседа должна быть популярной, красочной и живой, лишенной сухости, обращенной к воображению молодежи».
Были также и более подробные и амбициозные сценарии.
Издатель побеспокоился также о различных версиях полных обожания речей, из которых одну должен был произнести на собрании лучший ученик:
«Любим Коменданта!
Юзеф Пилсудский! Вся Его жизнь — это непрерывная бесконечная служба, это непрерывный труд, это постоянная борьба во время неволи и в годы войны с врагом, а в возрожденной Польше — со своими земляками. Не согнул его никакой труд. Шел прямо по жизни, избрав своим идеалом одну-единственную цель — вольную, могущественную Польшу. Зажигал энергией, пробуждал энтузиазм, увлекал. Кто хоть раз увидел Его, тот остался предан ему не на жизнь, а на смерть, тот бросал ради него отчий дом, покой, должность, готовился к его зову, ожидая той минуты, когда Комендант призовет его к действию. <…>
Мы все любим его, с восхищением относимся к нему! Он не выносит ни внешнего блеска, ни бахвальства. Прямолинейный, искренний, суровый по отношению к себе, требует также от других самоотдачи и самопожертвования.
Проходят годы… Он неизменен, непоколебим. Чем заняты Его мысли? Наверное, грезится, мечтается Ему о большой, сильной, непобежденной Польше. <…>
Любим Его! Великий, мощный, молчаливый, будто сфинкс, погруженный в раздумья, выкованный из гранита.
Великий Вождь! Необыкновенный Человек! Олицетворение живой любви к Родине! Маршал Юзеф Пилсудский — любовь и гордость народа…»
В «Справочнике» были помещены также подборка мыслей самого Маршала, антология посвященных ему драматических произведений, песен, стихотворений, картин и гравюр, каталог находившихся в продаже диапозитивов, библиография популярных изданий.
Автор довел шпаргалку до того совершенства, что невозможно было усомниться в том, что подготовленное таким образом празднество действительно могло быть продиктовано «потребностью сердца», что, впрочем, и являлось главной целью упоминаемой публикации.
В реальности уже долгое время торжества по случаю именин и дней рождения значительно больше напоминали богослужения в честь героя, которому страна обязана всем.
Каждый, кто пробовал отойти от этого пропагандистского канона, вызывал гром на свою голову, даже если делал это в доброй вере и, более того, в соответствии с исторической правдой. Болезненно убедился в этом Владислав Побуг-Малиновский, который в начале 30-х годов приступил к написанию научной биографии Пилсудского. Он начал эту работу по поручению генерала Юлиана Стахевича[208], шефа Военного исторического бюро. Был убежден в гениальности Маршала, в абсолютной правильности всех его начинаний. Исходя из этого, не считал уместным умалчивать что-либо из богатой и бурной биографии Пилсудского. Это же не вмещалось уже в жесткие рамки пропагандистских канонов. В результате, когда Побуг-Малиновский опубликовал в феврале 1935 года первую из запланированной многотомной серии книг, посвященных Пилсудскому, разразился скандал. Благонадежные поклонники Маршала не скрывали своего возмущения.
«Выпало мне, — вспоминал через несколько лет виновник этого скандала, — пережить самые тяжелые в жизни недели и месяцы… Громы и удары падали на меня один за другим — к облаве на меня мобилизовали самых мощных крикунов, некоторые знакомые при встречах стали переходить на другую сторону улицы».
А ведь, как пишет самый опытный биограф Маршала профессор Анджей Гарлицкий: «Книга Побуга была биографией, облеченной в научную форму, и не выдерживала серьезной научной критики. Но, конечно, не это стало поводом для гонений. Побуг напоминал о делах правящей элиты в невыгодном для нее свете: социалистическое прошлое диктатора и вопрос перемены вероисповедания, которые не соответствовали воображаемой легенде Пилсудского».
Таким образом, биограф, единственной виной которого было не очень гибкое обхождение с фактами, встретился с не меньшим осуждением, чем ранее настоящие враги диктатора. Легенда уподобилась чудовищу, поедающему собственных детей за недостаточно послушную и усердную службу.
Но Побуг-Малиновский с его писательской непокорностью был исключением среди пилсудчиков. Рисуемый во многих изданиях образ Маршала представлял бронзовую личность, лишенную даже ничтожных пороков.
Статья в «Военной энциклопедии», труде с научными амбициями, насчитывающая более десятка страниц, начиналась так: «Юзеф Пилсудский, Первый Маршал Польши, Создатель возрожденного польского государства, Воскреситель Войска Польского, Великий Вождь и Воспитатель народа…»
Смерть и по-настоящему королевские похороны в Вавеле были призваны окончательно закрепить величие. Еще раз разнеслись хвалебные гимны. «Большим трудом своей жизни, — утверждалось в обращении президента Мосьцицкого от 12 мая 1935 года, — он побуждал силу в Народе, гением мысли, твердым усилием воли воскресил Государство. Вел его к возрождению собственной мощи, к высвобождению сил, на которые будут опираться будущие судьбы Польши. Благодаря огромному Его труду, дано было Ему смотреть на наше государство как на живое образование, способное к жизни, приготовленное к жизни, а Армия наша овеяна славой победных знамен. Этот самый великий во всей нашей истории Человек черпал из глубины древней истории мощь Святого Духа, а нечеловеческим напряжением мысли определял будущие пути».
В этой атмосфере преемники скромно согласились с ролью несовершенных продолжателей дела великого Маршала. Но жизнь диктовала свои права. Освобожденное диктатором место постепенно начал занимать новый вождь — Эдвард Рыдз-Смиглы. И хотя его представляли как первого и наиболее достойного ученика Коменданта, со временем он начал все больше отодвигать в тень Мастера. О новых обычаях наиболее убедительно свидетельствовало характерное изменение определений, сопровождавших получение Рыдзом в 1936 году звания Маршала Польши. С той поры Пилсудский все чаще был уже не «великим», а «старым» Маршалом.
Вместе со смертью Коменданта бесповоротно закрывалась очередная, но, во всяком случае, не последняя страница легенды о нем. Миф продолжал жить, во все большей степени вплетаясь в дела народа, имевшие все меньше общего с самим Пилсудским.
Корни
Феномен легенды не удастся раскрыть в нескольких предложениях. Тем более что, выясняя ее популярность, в равной мере необходимо заняться как самим Пилсудским, так и любящими и ненавидящими его группами общества. Ведь величие личности рождается не только в результате совершенного лично им. Оно и результат общественных потребностей, ожиданий.
Этот механизм раскрыл, автор «Карьеры Никодима Дызмы». «Над вами смеются! — кричал в заключительной сцене повести граф Понимирский в адрес собравшейся в Коморове дружеской разношерстной компании. — Над вами! Элита! Ха, ха, ха… Так вот, заявляю вам, что ваш государственный муж, ваш Цинциннат[209], ваш тонкий человек, ваш Никодим Дызма — это обычный шулер, который водит вас за нос, это расторопный лодырь, фальсификатор и одновременно полный кретин!
<…> Видите ли вы это? Я не точно выразился, что он водит вас за нос! Это вы сами возвели это быдло на пьедестал! Вы! Люди, лишенные всяких разумных критериев. Над вами смеются, глупцы! Над вами…»
Эти слова высказывал полоумный человек, но они давали наиболее рациональную оценку, которую следовало сформулировать. В конце концов, в этом заключалась очередная доза иронии, сервированной писателем, который наделил здравым рассудком личность, считавшуюся всеми сумасшедшей.
Однако слишком смелым был вывод, что Мостович направлял эту филиппику по адресу легенды Пилсудского. Хотя и такой возможности нельзя исключать, если считать, что он мстил за избиение.
Вне сомнения, общество испытывало жажду по руководителям неординарным, великим, способным нести ответственность за судьбы возрожденной Родины. «Чем больше размышляю, — писал Юлиан Тувим в письме, датированном июнем 1944 года, — о взглядах и духе того периода, периода, в котором Пилсудский явно либо подспудно доминировал, тем больше охватывает меня изумление, что мы, современники, дали себя так обмануть и позволить угореть «романтическим флюидом», который излучал Пилсудский. Честно признаюсь, что и я долгое время относился к угорелым. Для этого было много причин, и в частности, ошеломление независимостью, эмоциональное заблуждение в многоликой исторической фальши, принятой моим поколением за чистую монету, страшный балласт поэзии и «мистицизма», который мы совершенно ни к чему взяли из XIX века вместо того, чтобы освободиться от него, то есть найти для него место там, где оно должно быть: в сфере художественных, литературных ценностей, а не, как это было у нас, убеждать себя и других, что мы — нечто особенное в истории, что имеем какую-то там «историческую миссию», «предназначение» и тому подобную ерунду».
Исключительно точным был этот анализ. Корни легенды Пилсудского таились действительно глубоко в польской традиции. Они обильно черпали соки из безмерно популярного в течение десятилетий романтико-повстанческого мифа. Но одновременно эта легенда была тесно связана с современностью. Она возникла как простое объяснение фактов, в основе своей гораздо более сложных. Потому что благодаря истории поляки того периода были поставлены перед великим событием. Так, после многолетней неволи возродилась Речь Посполита. Боролись за нее многие поколения. Все время тщетно. А сейчас удалось, и даже не ценой самопожертвования, характерного для периода восстаний. Значит, неотвратимо возникал вопрос об источниках этого успеха. Самым простым ответом было указать на заслуги гения, который сумел сделать то, что так долго не удавалось многим выдающимся его предшественникам.
Тем, кто не хотел увидеть генезис завоевания свободы в принципиальном изменении международной ситуации, вызванном войной и революцией, увязка возрождения с действиями гениальной личности давала просто самонавязчивый альтернативный ответ. А ответ этот, однажды сформулированный, дальше продолжал жить уже собственной жизнью. Тем более что личность, вознесенная на пьедестал национальной заслуги, по сути не относилась к посредственным. Ее биография, богатая и таинственная, открывала широкое поле различным интерпретациям.
Библиографии
Н. Cepnik. Józef Piłsudski, twórca niepodleglego państwa polskiego. Zarys źycia i dzialalnošci (5 XII 1867—12 V 1935). Warszawa, 1935.
A. Carlicki. Od maja do Brzešcia. Warszawa, 1981.
A. Carlicki. Przewrót majowy. Warszawa, 1978.
A. Carlicki. U źródel obozu belwederskiego. Warszawa, 1978[210].
Idea i czyn Józefa Piłsudskiego. Praca zbiorowa. Warszawa, 1936.
W. Jędrzejewicz. Józef Piłsudski 1867–1935. Zyciorys. London, 1982.
W. Jędrzejewicz. Kronika źycia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. I–II. London, 1977.
J. Lipecki (I. Pannenkowa). Legenda Piłsudskiego. Poznan, 1922.
W. Lipiński. Wielki Marszalek (1867–1935). Warszawa, 1936.
A. Micewski. W cieniu marzalka Piłsudskiego. Warszawa, 1968.
J. Molenda. Piłsudczycy a narodowi demokraci. Warszawa, 1980.
W. Pobóg-Malinowski. Józef Piłsudski 1867–1908; t. I: W podziemiach konspiracji 1867–1901; t. II: W ogniu rewolycji 1901–1908. Warszawa, 1935.
W. Pobóg-Malinowski. Józef Piłsudski 1867–1914, b. m. i b. d.
J. Starzewski. Józef Piłsudski. Zarys psychologiczny. Warszawa, 1930.
J. Woysawillo (W. Pobóg-Malinowski). Józef Piłsudski: źycie, idee i czyny 1867–1935. Warszawa, 1937.
W. Wójcik. Nadzieje i zludzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej. literaturze międzywojennej. Katowice, 1978.
Приложения
Збигнев Залуский Пути к достоверности[211]
От редакции
Польско-советская война 1920 года была вершиной политической и военной деятельности Юзефа Пилсудского, снискала ему огромный авторитет и признание среди широкой польской общественности. Вместе с тем она оставила глубокий след в сознании как польского, так и советского народа, породила взаимное недоверие и неприязнь, оказала серьезное негативное воздействие на развитие советско-польских отношений в межвоенный период. Об этом ярко и убедительно рассказывает известный польский писатель и публицист Збигнев Залуский в своей книге «Пути к достоверности», вышедшей в Варшаве в 1986 году (книга написана в 1971–1973 годах). Отрывки из нее предлагаются советскому читателю.
Збигнев Залуский (1926–1978) принимал участие в освобождении Польши в рядах 3-й пехотной дивизии имени Ромуальда Траугутта I армии Войска Польского, сражался под Варшавой, на Поморском валу, в Колобжеге, на Одре и Эльбе. После войны занялся публицистикой, посвященной новейшей истории Польши. В 1961 году вышла его книга «Пропуск в историю» (издана в СССР), затем последовали книги «Семь главных польских грехов», «Финал 1945», «Сорок четвертый», «Поляки на фронтах второй мировой войны» и др.
Настойчивость
Весной 1920 года польские войска начали концентрироваться на украинском фронте. Обеспокоенные затяжкой переговоров советские власти также начали перебрасывать на польский фронт войска с Урала и Кавказа.
17 апреля 1920 года Пилсудский подписал приказ о наступлении на Киев. На украинском фронте уже было сосредоточено три пятых польских войск, находившихся на востоке. 20 апреля было опубликовано коммюнике о прекращении польско-советских переговоров. 21 апреля официально подписан договор с Петлюрой. 25 апреля началось польское наступление. Три польских армии разбили и оттеснили две советских, обнажив киевское направление и заняв Житомир, Коростень и Радомышль. Эти армии отступали поспешно — одна на юг, а вторая — за Днепр. 6 мая вечером первый патруль польских улан попросту въехал на трамвае в незащищенный Киев. 8 мая 3-я польская армия заняла весь город и плацдарм за Днепром. Несколько дней спустя завоеватель Киева генерал Эдвард Рыдз-Смнглы принимал на Крещатике парад союзных войск. В Виннице Пилсудский с Петлюрой торжественно обновляли братство и союз.
И только диссонансом доносились слова рапорта с северо-востока, из Белоруссии: «Реакция населения в районе боевых действий 2-й армии еще раз убедительно подтверждает, что почти единственной притягательной силой для него является большевизм».
В течение месяца оказалось, что и на Украине польские концепции не имеют шансов на успех. А ведь в свое время главное польское командование правильно оценивало ситуацию. Еще до похода на Киев утверждалось: «Если в настоящее время провести голосование среди населения, вероятнее всего подавляющее большинство категорически выскажется за нахождение в составе России. <…> «Против большевиков не идем, мы сами большевики», — это высказывание характеризует отношение украинского населения к большевизму, подкрепляемое массовым вхождением в ряды большевиков».
Так и случилось. Фактически Петлюре не удалось захватить власть на Украине. Была несколько увеличена армия, главным образом с опорой на старые кадры — новых добровольцев прибыло только около двух тысяч. Самое главное, украинское крестьянство не поддержало Петлюры. Оказалось, что Киевщина, которая не желала ни немцев, ни Деникина, ни польских помещиков, не хотела также и украинских националистов. Киевщина хотела земли и мира. А также, как оказалось, живо чувствовала свою связь с государственной территорией всей великой, рождающейся вокруг социалистической Москвы семьи народов бывшей Российской империи.
Семьи, с которой она пережила самое плохое, а теперь избрала для себя самые высокие цели — социалистическую революцию и сейчас, в мире, хотела их реализовать.
Итак, власть Рыдз-Смиглы и Петлюры над Днепром повисла в воздухе, вокруг же накапливались силы, до глубины задетые нашествием чужеземцев, настроенные покончить с ним.
5 июня I Конная армия Семена Буденного прорвала польский фронт южнее Киева и вышла в тыл польских войск. 11 июня ночью последние отряды 3-й польской армии Смиглы покинули Киев. Весь южный польский фронт попятился назад. Началось общее и все более спешное отступление. Фронт был еще далеко от исконно польских земель, когда стало ясно, что вначале армия, а за ней государство надломились прежде всего в моральном плане.
4 июля в наступление перешел Западный фронт советской армии под командованием Тухачевского. 6 июля Совет обороны страны в Варшаве принял решение в срочном порядке обратиться к заседавшему в то время Верховному Совету союзнических государств с просьбой быть посредником в мирных переговорах с Советской Россией и оказать военную помощь для сдерживания советского военного наступления. 10 июля тогдашний польский премьер Владислав Грабский стоял в Спа перед Ллойд Джорджем. Не щадя ядовитых эпитетов, этот видный британский политик потребовал отступления поляков на линию Керзона, согласия на уступки в пользу немцев во многих вопросах, касавшихся польской западной границы, и только взамен за это обещал обратиться к Советскому правительству с предложением быть посредником в мирных переговорах. Если бы русские это предложение отвергли, союзники поставили бы технику в меру своих, как подчеркивали, скромных возможностей… Была выражена также надежда, что эти поставки еще могут успеть в Польшу… Кроме того, обещали прислать какого-то «западного» маршала, чтобы тот принял на себя командование.
11 июля Красная Армия освободила Минск, 14 июля — Вильно, 20 июля пересекла Неман. 23 июля Главное Командование Красной Армии издало приказы для Западного и Юго-Западного фронтов, предусматривавшие в первую очередь наступление на Варшаву и Львов.
1 августа войска Тухачевского пересекли Буг. 13 августа части Красной Армии оказались у ворот Варшавы. На следующий день начался штурм, а газета «Речь Посполита» поместила статью «О чуде над Вислой», позднее ставшую исторической.
Советская Россия: импровизация
Война с Польшей для народов революционной России была чем-то иным, нежели перед этим борьба с белогвардейцами. Юденич, Колчак, Деникин — это была гражданская, классовая война, ожесточенная, жестокая, однако каким-то образом своя, родная, внутренняя. В кризисные моменты речь шла о том, быть или не быть власти рабочих и крестьян, о будущем революции. Существование отчизны и ее целостности под вопросом не стояло.
«Польскую войну» воспринимали иначе. Она, конечно, понималась как война классовая, война польских землевладельцев против белорусских и украинских крестьян. Однако это была прежде всего война с нашествием чужеземцев, с внешней агрессией, преследовавшей цель отторгнуть часть земель. Не случайно, что именно тогда, в мае — июне 1920 года, такие нотки впервые появились в выступлениях советских руководителей, с тем чтобы напомнить о себе в 1941 году. Не случайно в то время Ленин говорил о защите независимости Советской России, о защите ее территориальной целостности.
Партия направила в ряды Красной Армии на польский фронт десятки тысяч своих активистов, но, как никогда ранее, десятки тысяч добровольцев также потянулись на фронт.
Национальное единство — мощный двигатель мобилизации сил Советской России на войну с Польшей.
Таким образом, войска Западного фронта под командованием Михаила Тухачевского направились маршем через Смоленские ворота к реке Неман, а войска Юго- Западного фронта под командованием Александра Егорова из-под Киева к реке Буг, к границам родины, чтобы воссоздать и защитить их.
Неожиданный шанс
В начале июля советские войска приблизились к границе между бывшим Королевством Польским и Россией, к линии Керзона, определенной в декабре 1919 года
Высшим Советом мирной конференции в качестве временной восточной границы Польши.
Военные напомнили: польские войска, которые еще недавно оккупировали Киев и Минск, разбиты, но не уничтожены. Где гарантия, что они не попытаются повторить нападение?
На чашу весов были поставлены военные и политические аргументы. Во-первых, Россия не могла позволить себе вести еще одну войну в течение нескольких месяцев, следовательно, имевшееся преимущество необходимо было использовать до конца. Во-вторых, позволительно ли было отказаться от такой, казалось бы, легкой и привлекательной оказии помочь пролетариату Польши? В-третьих, могли ли революционеры отказаться от такого шанса, отречься от обязанностей по отношению к пролетариату Европы, не вспомнить о лозунге «Даешь мировую революцию!», который воодушевлял борющихся в самые трудные годы? В-четвертых, в понимании советской стороны война становилась непосредственной открытой конфронтацией между социализмом и империализмом, «последним боем».
Советские войска, преследуя польские, пересекли линию Керзона. Вместе с лозунгом революции в Польше на повестку дня встал лозунг революции в Европе.
Тухачевский пошел на Варшаву, точнее, севернее ее, вплоть до Влоцлавека и околиц Торуни — к немецкой границе. Егоров по советам и подсказкам Сталина — на юг, чтобы через Львов, Малопольшу выйти на Карпатский хребет, с одной стороны — к Венгрии, а с другой — на подступах к Кракову — к Чехии и Австрии. Позднее Ленин сказал: «Если бы Польша стала советской, если бы варшавские рабочие получили помощь от Советской России, которой они ждали и которую приветствовали, Версальский мир был бы разрушен, и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы… Вопрос стоял так, что еще несколько дней победоносного наступления Красной Армии, и не только Варшава взята (это не так важно было бы), но разрушен Версальский мир»[212].
Через несколько лет Тухачевский сформулировал тогдашние надежды еще более отчетливо: «Рабочий класс Западной Европы от одного наступления нашей Красной Армии пришел в революционное движение. Никакие национальные лозунги, которые бросала польская буржуазия, не могли замазать сущности разыгравшейся классовой войны. Это сознание охватило и пролетариат и буржуазию Европы, и революционное потрясение ее началось. Нет никакого сомнения в том, что если бы только мы вырвали из рук польской буржуазии ее буржуазную шляхетскую армию, то революция рабочего класса в Польше стала бы свершившимся фактом. А этот пожар не остался бы ограниченным польскими рамками. Он разнесся бы бурным потоком по всей Западной Европе»[213].
12 августа Тухачевский издал приказ об окончательном штурме Варшавы.
Разочарование
Поражение, а с ним разочарование пришли быстро, быстрее, чем удалось сориентироваться и на фронте, и в штабе Тухачевского в Минске, и в Москве.
А ведь предпосылки этого нарастали постепенно, по крайней мере с той минуты, когда советские войска вышли из подковы между Неманом и болотами Полесья на севере и между Днестром и Полесьем на юге, до минуты, когда они покинули землю Западной Белоруссии и Западной Украины.
На сотни километров удлинились линии коммуникации, миллионная армия таяла в боях и походах, приближался кризис, обычно завершающий каждый дальний наступательный бросок.
Красная Армия кровоточила, польское сопротивление возрастало. На территории Польши поддержка населения была очень слабой — она ощущалась лишь со стороны незначительной группы коммунистов и небольшой части фольварочных рабочих. Заводского пролетариата почти не было, предвоенные польские революционные кадры затерялись где-то на фронтах гражданской войны, на Урале, в Закавказье. Лозунг Польской Республики Советов, брошенный в кровавый водоворот войны, не находил отклика между марширующими колоннами войск. Напрасно Юлиан Мархлевский призывал заботиться о сохранении «польскости». Ревкомы приволжских и донских дивизий прокламировали советскую власть по-русски и на жаргоне.
Советский принцип огосударствления земли с оставлением ее во владении крестьян не убеждал польского землевладельца. Он имел собственную землю. Неясно было, что делать с помещичьей землей. Несмотря на давление Ленина, никакие решения не принимались. Впрочем, на это не было времени.
Ведь надо всем главенствовала основная проблема — национальная проблема, проблема независимости. После 125 лет неволи с этим нельзя было не считаться. Для большинства поляков вопрос выглядел просто: сначала Польша, а потом посмотрим — какая.
Революционные армии, все более слабые, подходили уже к Варшаве. Корпус Гая оперировал на подступах к Торуни, Буденный шел на Замостье, а противник не сдавался, не поддавался разложению…
Если руководители капиталистического мира, собравшиеся в Спа, не отреагировали достаточно энергично на революционную опасность, если не поняли, что над Вислой решается судьба не Пилсудского, а капиталистической Европы, то во всяком случае над Вислой понимали, что по крайней мере здесь решалась судьба Польши. Правительство Грабского, ответственное за унизительные переговоры в Спа, подало в отставку. Все легальные партии и объединения — от ППС и крестьянской левицы до консерваторов — твердо сплотились вокруг лозунга защиты независимой Родины — такой, какой она была. Было создано правительство национальной обороны во главе с Винценты Витосом, пользовавшимся большим авторитетом среди крестьянства, и Игнацы Дашиньским, уважаемым лидером социалистического движения. Принято решение о сельскохозяйственной реформе. Разрабатывается прогрессивное социальное законодательство. Папский нунций, епископы, пасторы и раввины, социалисты и эндеки, крупные помещики и левые деятели, бывшие царские офицеры и красные боевики ППС периода 1905 года — все призвали к защите Варшавы, защите Отчизны.
И этот призыв нашел широкий отклик. Обозначился перелом, прежде всего моральный, а также материальный. В течение шести месяцев ряды защитников пополнили 180 тысяч добровольцев.
Истощенные сражениями на фронте над Вислой дивизии получили инъекцию свежих сил. В Великопольше создавалась вторая линия обороны.
Польские дивизии все более тесно сжимались кольцом над центральной Вислой. Тетива лука натянулась до предела…
«Когда мы подошли к Варшаве, — говорил вскоре после этого Ленин, — наши войска оказались настолько измученными, что у них не хватило сил одерживать победу дальше, а польские войска, поддержанные патриотическим подъемом в Варшаве, чувствуя себя в своей стране, нашли поддержку, нашли новую возможность идти вперед»[214].
14 августа части Красной Армии сломили позиции 11-й польской дивизии под Радзымином — последнюю линию обороны перед городской заставой Варшавы.
Вечером того же дня в присутствии председателя Совета министров В. Витоса и членов правительства там, под Радзымином, в контратаку бросился последний польский резерв в предместье Варшавы — Литовско-Белорусская дивизия генерала Люциана Желиговского.
На следующий день в центре фронта Тухачевского под Плоньском и Серпцем начался контрудар 5-й польской армии генерала Владислава Сикорского.
16 августа развернулось контрнаступление главной ударной группы, возглавляемой лично Пилсудским, — знаменитый маневр из-за Вепша.
17 августа в Минске Тухачевский издал приказ об отступлении. Но было уже поздно. В течение менее чем месяца почти весь его фронт был разбит и большинство войск вытеснено в район Восточной Пруссии.
В сентябре Пилсудский выиграл еще одну битву — на Немане. В октябре польские войска даже вошли снова в Минск.
Однако чем дальше от Варшавы, тем больше спадало напряжение в рядах наступавших. Полки, которые выиграли битву за Варшаву, не хотели сражаться за Минск. Страна, которая поддержала оборону, не поддержала агрессии. Просто она очень устала. Ведь для поляков шел уже седьмой год войны.
18 октября 1920 года на востоке борьба прекратилась. Начались мирные переговоры. На этот раз — уже по-серьезному. Войска находились друг против друга почти на той же линии, на которой стояли и могли оставаться осенью 1919 или весной 1920 года. Кровавая свистопляска закончилась.
1920-й: последствия
Каковы были результаты этой пробы сил, продолжавшейся почти шесть месяцев, этой кровавой свистопляски от Буга до Днепра, от Днепра к Висле и от Вислы почти что до Днепра?
На полях сражений между Березиной и Вкрой, между Вепшем и Тетеревом, на дорогах Белоруссии и Украины, Мазовше и Люблинщины, на всех путях между Вислой и Днепром, вытаптываемых маршировавшими то в одну, то в другую сторону колоннами падавших от усталости людей с орлами и со звездами на шапках, нашла свой трагический исход не одна человеческая жизнь, а также не одна иллюзия и не одна надежда.
С апреля по октябрь 1920 года польская армия потеряла 184 246 человек — почти 20 процентов своего максимального состава. Потери Красной Армии официально не оглашались.
Ни с той, ни с другой стороны не была реализована ни одна программа, ни одна надежда, не были достигнуты исторические цели и политические намерения — ни главные, запланированные, ни текущие, импровизированные по мере развития событий.
Можно было бы сказать, что результат соревнования равнялся нулю. Можно было бы, если бы не то, что между Варшавой и Москвой, Киевом появились новые кладбища, выросли новые, устойчивые препятствия горести и недоверия, боли и ненависти.
Негативный итог
На полях брани под Аутой и на Немане, под Киевом, Рогатином и Коростенем окончательно развеялась иллюзия, что Польша может подарить свободу Украине или Белоруссии, неся ее на штыках своих полков и привозя зависимые от себя национальные правительства или комитеты. Развеялась иллюзия, что Польша была способна организовать новый порядок на землях, некогда — столетия назад — с ней связанных, в то время, как оказалось, совершенно ей чуждых. Рухнула федералистская концепция, основная политическая концепция Начальника государства и Первого Маршала.
И vice versa: на полях сражений под Радзымином, Седльцами, Плоцком и Влоцлавеком развеялась надежда на социалистическую революцию в Польше, а также на помощь европейской революции. С отступлением армии Тухачевского канули в Лету Временный революционный комитет Польши, зачатки польской Красной Армии и вся идея Польской Республики Советов.
Позднее польские революционные формирования мужественно и с честью защищали от солдат Пилсудского красный Минск и еще позднее остатки польской дивизии стрелков уже в рядах 52-й дивизии Красной Армии овеяли себя славой при ликвидации Врангеля в Крыму в ходе исторического перехода через Сиваш, потеряв при этом до 40 процентов личного состава.
Вооруженная помощь революционного русского государства, как оказалось, не укрепила, а ослабила силы революции в Польше. Правы были те из руководителей польских коммунистов, которые предупреждали, что опасение перед внешней угрозой укрепит реакционные силы в Польше, гарантируя им искреннюю поддержку многих сотен тысяч простых, добросовестных людей, любящих свою страну и стремящихся найти решение ее проблем самостоятельно.
Варшавское поражение нанесло чувствительный, хотя еще и не окончательный удар по концепциям «перманентной революции» Троцкого. Действительность подкрепила смысл тезиса о возможности и потребности стабилизации революции в одной стране, даже находившейся в обременительном капиталистическом окружении.
После 1920 года дозрела не только потребность, но и психологическая возможность стабилизации отношений между Польшей и Советской Россией.
В течение всего 1919 года Пилсудский высокомерно повторял, что большевики — это ничто, и что он будет бить их «где захочет и как захочет». Когда на рубеже 1919 и 1920 годов польские войска стояли далеко на востоке, после годичных, правда маломасштабных сражений, которые в целом еще не носили характера принципиальной конфронтации между обеими сторонами, польский кабинет подготовил проект мирного соглашения.
В этом удивительном документе почти каждый пункт начинался со слов «советская сторона обязуется», и ни один — со слов «польская сторона обязуется». Таким образом, советская сторона должна была безотлагательно демобилизовать половину своей армии, а в течение следующего года еще уменьшить ее состав, выплатить Польше компенсацию в золоте и поставками товаров в течение десяти лет, допустить на территорию России на условиях экстерриториальности многие польские учреждения, обеспечить польским гражданам в России возможность ведения торгово-промышленной деятельности и т. п., минуя предписания советского законодательства, и, наконец, признать единственной властью, уполномоченной решать возникающие по данным вопросам споры… окружной суд в Варшаве. Не говоря уже о параграфе, предписывающем безотлагательное выведение советских войск за польскую границу 1772 года. На этом документе, хранящемся в Архиве новых документов в Варшаве, можно увидеть не лишенную смысла приписку главного помощника Пилсудского по восточным вопросам Леона Василевского: «Требования в значительной части сформулированы так, как будто их адресуют стране, которую Польша разбила полностью. Это — существенное вмешательство во внутренние дела России, ограничивающее ее суверенитет…»
Через несколько дней после того, как Красная Армия оказалась под Радзымином, глава советской делегации на мирных переговорах представил новые советские условия: безотлагательное сокращение польского войска до 50 тысяч человек, сдача оружия и военного оборудовании, сформирование по всей Польше рабочей милиции, которой Советская Россия передаст это оружие, проведение сельскохозяйственной реформы, прежде всего в пользу жертв польско-советской войны и т. д. и т. п.
Мирные переговоры в октябре 1920 года и мирный договор, заключенный в 1921 году в Риге, принципиально отличаются от всех прежних проектов документов по этим вопросам. В их основу лег, наконец, принцип равенства и взаимности. Каждому пункту «Россия и Украина обязуются» в них соответствует пункт «Польша обязуется». Сам характер текстов договоров свидетельствует, что говорили между собой две стороны, действительно взаимно признающие свои суверенитет, равноправие и законность.
Полная конфронтация на полях сражений и ее опыт создали новое политико-психологическое состояние между Польшей и Советской Россией. Итоги же войны создали новое материальное состояние, новую реальность бытия России, Белоруссии и Украины, а в определенной степени — и Польши. Эти реалии, закрепленные в Рижском мирном договоре, позитивно воздействовали на дальнейший ход жизни и политические отношения в этой части Европы.
Диктат действительности: Польша
Несмотря на одержанные Польшей военные успехи, Рижский договор не носил колониального характера, как польский проект начала 1920 года. Но все же он был военным диктатом. Граница, которую он определил, проходила не по какой-то рациональной линии, которую можно обосновать исторически, географически, этнографически или политически, а в основном в соответствии с довольно случайной конфигурацией линии фронта, достигнутой польскими войсками во время осенней кампании.
Она была результатом двух победоносных сражений под Варшавой и на Немане, а не серьезных раздумий. Она оставляла на польской стороне почти половину Белоруссии и около четверти Украины, а на советской — все вековое «историческое наследие», выражавшееся в нескольких миллионах польского населения, не только помещиков, но главным образом крестьян, рабочих, служащих. Она оставила на польской стороне многочисленные живые очаги революции, а на советской — тоже многочисленные и живые центры Вандеи — потенциальной контрреволюции.
Она не решила ничего, но обе стороны торжественно заявили в договоре, что «отказываются от всяких прав и притязаний» на земли, расположенные по другую сторону определенной им границы, и «взаимно гарантируют полное уважение государственного суверенитета другой стороны и воздержание от всякого вмешательства в ее внутренние дела, в частности от агитации, пропаганды и всякого рода интервенций либо их поддержки».
Рижский договор решил окончательно лишь одну проблему, причем внутрипольскую. Вот два парадокса польской победы.
Первый: договор, результат победоносных сражений, зафиксировал политическое поражение мнимого победителя, маршала Пилсудского. Ему пришлось отказаться от идеи создания Надднепровской Украины, бросить на произвол судьбы своих союзников — Петлюру на Украине, Булак-Балаховича — в Белоруссии. Того, что завоевала Польша из восточных земель, не хватало уже ни на какую федерацию, ни на какое буферное государство. Последняя попытка этой политики — переворот Желиговского в Вильно и образование Центральной Литвы — провалилась из-за негативного отношения к идее федерации как со стороны литовцев, так и белорусов. Провалилась, впрочем, без какого бы то ни было влияния Советской России и Красной Армии.
И второй парадокс «чуда на Висле»: была похоронена концепция Пилсудского, а сам он одержал военную победу… в пользу своего противника Романа Дмовского. Ибо сформированная на Востоке на основе Рижского договора Польша была ближе всех концепциям Дмовского: простирающаяся на восток насколько удастся, без включения в состав государства «чрезмерного» числа национальных меньшинств. Эта цифра, по его мнению, не должна была превышать 50 процентов населения. Некоторые из присоединенных земель насчитывали даже, по самым оптимистическим оценкам, от 3 до 5 процентов польского населения, а большинство составляли белорусы или украинцы.
Таким образом, Польша Рижского договора отвечала этим концепциям. Поляки составляли в ней приблизительно около 64 процентов населения.
Такая Польша была создана точно по рецепту Дмовского как единое польское государство, государство польского народа, с которым были формально полностью интегрированы восточные окраины, без каких-либо несбыточных мечтаний о полусамостоятельности, автономии, самоуправлении или других правах и особенностях.
Польша формально единая, а по существу многонациональная. Владение восточными землями стало фактором постепенного регресса Польши.
Польша Пилсудского во внутренней политике руководствовалась националистическими канонами Дмовского. Вначале созванный генералом Желиговским сейм Центральной Литвы отверг все концепции самостоятельности или автономии литовско-белорусских земель и потребовал полной интеграции Вильно с Варшавой. Позднее тех, кто в принадлежащей до этого России части Польши записался как «местные», окрестили поляками. Еще позже некогда униатские, а более ста лет православные церкви на Волыни были превращены в католические костелы и целые деревни стали польскими. Только на Волыни в 1938 году были превращены в костелы 139 церквей и уничтожено 189, осталось лишь 151.
Итак, в бывшей Восточной Галиции шаг за шагом ликвидировались украинские культурные и экономические организации, закрывались школы. Опять же на Волыни — в деревне, где 80 процентов населения составляли украинские крестьяне — из 2000 начальных школ было только 8 украинских.
Но результаты полонизации этих земель были ничтожными. За 18 лет польского правления численность польского населения на Волыни выросла с 7,5 до 15 процентов, с учетом наплыва служащих, железнодорожников и сотрудников государственного и административного аппарата. Похожая ситуация была и в других восточных воеводствах.
Не увенчалась успехом попытка полонизации «местных элементов». Под влиянием давления на них ширился и углублялся процесс национального самосознания, особенно в деревне. Войско «усмиряло» неспокойные украинские деревни в Тарнопольском воеводстве, расстреливало крестьянские демонстрации на Волыни. В тюрьмах, в Березе Картузской полиция издевалась над арестованными украинцами, в ответ гибли от пуль террористов и министр санационного правительства, и школьный куратор, и невинные простые люди. Росли напряженность и враждебность. Презрение правящих рождает ненависть угнетаемых.
Никогда межвоенная Польша не была по существу интегрированной страной. Всегда в ней была Польша А и Польша Б. Это касалось не только экономической политики государства, но и позиций всех политических сил. Все они игнорировали в своей деятельности восточные окраины. Сознательно не вовлекала их в борьбу с диктатурой Пилсудского парламентская оппозиция, их не затронули ни массовые забастовки, организованные главным образом ППС в 1936 году, ни манифестации людовцев 1937 года. Служащих государственной администрации отправляли на восточные окраины, как на ссылку в Сибирь.
18 лет использования созданных Рижским договором условий для реализации инкорпорационной концепции не принесли результатов. В экономическом смысле Польша Б не стала золотым прииском. Крестьянская нищета отрицательно сказывалась на экономическом балансе страны. Колонизация этих земель не удалась, и они не способствовали ликвидации земельного голода в масштабах страны. Более того, эти земли — чуждые, бунтарские требовали больших инвестиций, чем коренные польские. Жители восточных окраин оказались в худшей ситуации, чем поляки в период разделов Польши под чужим господством.
Вопреки надеждам Дмовского Польша оказалась неспособной привлечь на свою сторону и ассимилировать национальные меньшинства на Востоке — ни в национальном, ни в культурном, ни в экономическом смысле. В то же время своей политикой, своим присутствием она способствовала развитию националистических извращений в освободительном движении этих народов, взаимной ненависти.
Крепнущий под влиянием национального угнетения национализм национальных меньшинств искал опоры за границей и представлял собой благодатный материал для любых интриг против Польши.
Как национализм угнетаемых народов обращался на Запад и искал себе союзников среди врагов польского государства, так патриотизм этих народов — в сторону их большей части, объединенной с другими народами в первом социалистическом государстве. Тяга белорусов в направлении Минска, а украинцев — Киева стала необратимым процессом, нарастающим по мере укрепления национального и классового сознания этих двух, прежде всего крестьянских, а в определенной мере и рабочих, народов. Эта тяга не могла привести к иному результату, чем тот, который мое поколение видело своими глазами: триумфальные арки, встречавшие отряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в памятном для поляков трагическом сентябре 1939 года.
В этом отдавали себе отчет в Варшаве. Поэтому политика защиты истоков польской великодержавности — ее полуколоний на Востоке — должна была быть политикой далеко зашедшей сдержанности и неприязни по отношению к Советскому Союзу. Поэтому драма рижской границы заключалась в том, что она стала непреодолимым барьером между Польшей и Советским Союзом.
Польскую политику в межвоенный период трудно назвать политикой, бескомпромиссно враждебной по отношению к СССР, направленной на войну. Сам Пилсудский как-то сказал, что он победил в одной войне и зачем ему рисковать другой? Все военные приготовления Польши, все разрабатываемые ею планы, касающиеся восточной границы, включая последний, с весны 1939 года носили оборонительный, защитный характер. Но польские правящие круги хотели удержать то, что приобрели в 1920 году.
Этому не способствовали, разумеется, мелкие «укусы» в отношении СССР — поддержка различных антисоветских акций, осуществляемых с территории Польши, как, например, деятельность террористов Бориса Савинкова, вылазки Балаховича на Белоруссию и атамана Тютюника на Украину. Советский Союз раздражало также создание в Польше организаций, объединяющих националистических деятелей Белоруссии, Украины, крымских и казанских татар, Грузии и Азербайджана, калмыков, таджиков и даже кубанских казаков.
Однако главным для польских правящих кругов было опасение какого бы то ни было политического сближения с СССР, которое могло усилить привлекательность и влияние Советской Украины и Советской Белоруссии на население польских окраин. На этих территориях долго еще после заключения Рижского мира тлела крестьянско-национальная и белорусско-украинская советская подпольная война, поддерживаемая из-за кордона минскими и киевскими коммунистами.
Эти опасения за восточные земли определяли в значительной мере сохраняемую изоляцию и подогреваемую неприязнь Польши к Советскому Союзу. Даже перед лицом угрозы гитлеровского нашествия и рассматриваемой возможности получения советской военной помощи. Ибо эта помощь означала практически вступление советских войск в Западную Белоруссию и Западную Украину. Вступление — как считали в Варшаве — с непредсказуемыми последствиями для судеб польской власти на этих землях.
Такова была реальная ситуация в Польше в результате Рижского договора и таково было дальнейшее развитие содержащихся в этой ситуации в зародыше процессов.
Диктат действительности: СССР
Рижский договор и для Советской России также создал ситуацию, заключающую в себе зародыши явлений, дальнейшее развитие которых никто тогда, пожалуй, еще не предвидел.
Одной из главных задач, которую предстояло решить молодому Советскому государству, представляющему также национальные и государственные интересы белорусского и украинского народов, было их государственно-национальное объединение. Если такие проблемы не существовали ни на одной из границ сформировавшегося в 20-е годы социалистического союза народов, то здесь, у пограничных столбов, разделявших земли Белоруссии и Украины, в десяти с небольшим километрах от Минска и в ста с лишним километрах от Киева — проблема национальной целостности, проблема завершения неизбежного процесса объединения созревших для этого народов лежала как на ладони и была объективно самой важной. Могли на первый план выдвигаться большие задачи восстановления и социалистической перестройки народного хозяйства, можно было в Москве «подчинить интересы части общества» общим интересам — на Днепре такая проблема существовала. Ныла как болящий зуб.
И наконец, второй вопрос. Рижскую границу советская сторона считала совершенно открытой, незащищенной, заманчивой для агрессоров. Трудно себе представить более удобную линию развертывания войск для любого нашествия в глубь Советского Союза. Здесь пролегают два древних пути походов на Восток. Главный: Берлин — Познань — Варшава — Минск — Смоленск — Москва. И второй, вспомогательный: Мюнхен — Лейпциг — Вроцлав — Краков — Львов — Киев — Ростов.
Эти «главные направления ударов» невозможно перекрыть на той линии, которую провела рижская граница.
Естественной эманацией оборонительных интересов государства, которое истоки своей силы имеет в Москве, Донбассе и на Кавказе, должно быть выдвижение «наблюдательных постов» и даже своих форпостов подальше на запад, где-то между нижним течением Немана, мазурскими озерами и полесскими болотами, с одной стороны, и между полесскими болотами и Карпатами, с другой. Оба пути вторжения сужаются здесь, а в довершение всего эти «ворота» преграждены руслами рек, удобными для обороны.
Из Минска и Киева на эти «ворота» смотрели люди, которые сражались здесь когда-то с войсками Пилсудского. Эти два направления не могли не ассоциироваться у них с теми походами и с той угрозой. Напротив них, на границе, где застыл фронт с осени 1920 года, стояли невдалеке развернутые войска той же «панской Польши» — противник, как они знали по своему опыту, грозный. Знали, что и теперь приходят оттуда вскормленные Пилсудским белые банды Савинкова, Тютюника и Балаховича. Знали, что, как и тогда, в 1920 году, в Варшаву зачастили французские генералы и английские банкиры. Знали, что в военной школе в Варшаве преподают французские профессора, а в мастерских под Прушкувом механики собирают английские танки. Для них на широких, чересчур широких пространствах центральной Белоруссии и открытых полях Украины, где стояли польские пограничные столбы, все еще продолжалась борьба. Та же самая — с мировым империализмом.
Западный Особый военный округ и Киевский Особый военный округ на протяжении всего межвоенного периода были готовыми фронтами, главным заслоном от внешней угрозы Советскому Союзу. Границу с Польшей прикрывали семнадцать мощных укрепленных районов, размещенных в два ряда, с развитой инфраструктурой, дорогами, аэродромами, складами. Были продуманы, запланированы и отработаны действия.
Психология укрепленного лагеря, характерная для жизни Советского Союза в межвоенный период плотного капиталистического окружения, нигде, вероятно, не проявлялась так отчетливо, как здесь. На фронте. На польском фронте. Популярная многие годы песня «Если завтра война» ассоциировалась с той, с 1920 года — «Помнят польские паны, помнят псы-атаманы».
Такова была реальная ситуация, возникшая в результате польского похода на Киев и советского — на Варшаву, в результате «чуда на Висле» и Рижского договора.
Груз прошлого: Польша
Рижская граница разделила не только земли. Эта кровоточащая линия фронта по состоянию на осень 1920 года, в соответствии с которой была проведена новая граница, надолго разделила народы, а не только правительства. Пилсудский позднее писал, что его целью было отделить Польшу от революционной России по возможности более широким пространством… Следует добавить, что это пространство было заполнено кровью, обидами, взаимным недоверием и неприязнью, нередко открытой враждебностью, которые эффективнее, чем пограничные заграждения из колючей проволоки и заборонованные полосы «ничейной земли», разделили и противопоставили друг другу Польшу и Советский Союз.
Помимо описанных материальных фактов и последствий в дни польско-советской войны родились психологические явления, воздействие которых и их массовый характер заставляют рассматривать их также в качестве объективных факторов — постоянных, оказывающих значительное влияние на формирование истории обоих народов, независимых уже от нашей воли.
Прежде всего, необходимо отдавать себе отчет в том, что военная конфронтация 1920 года была наиболее массовым из всех переживаний, выпавших в годы формирования обоих государств — возрожденной Польши и новой России — на долю наших народов.
Через легионы Пилсудского прошло около 30 тысяч человек. 11 ноября 1918 года немцев в Варшаве и во всем Королевстве разоружили немногим более десятка тысяч поляков. Великопольское и Силезские восстания — это региональные акции, охватившие примерно по 50 тысяч каждая. В то же время через фронт польско-советской войны прошло около миллиона польских солдат. Интеграция польского общества происходила, к сожалению, на полях антисоветской войны. Жители различных частей Польши, разделенные на протяжении 120 лет, впервые встретились на полях Белоруссии, на дорогах Украины, в окопах под Варшавой. Фундаментом мировоззрения, вынесенного с полей битв 1920 года, был прежде всего страх. Гордость за одержанную победу и даже определенная кичливость скрывали появившиеся комплексы и прежде всего страх. Страх разного содержания и облика.
Страх «панов» перед мятежом взбунтовавшихся «хамов». Но и обыкновенный человеческий страх перед непонятным кровавым расточительством революционного урагана и боль перед неизбежным, также жестоким возмездием.
Страх перед слепой, низвергающей все на своем пути стихией. Страх перед безжалостной мощью потопа, на который отдельный человек не имел влияния, то есть страх перед потерей возможности (хотя бы иллюзорной) формирования своей собственной судьбы, которую дают нормальные условия, понятные, к которым давно привыкли.
Ибо революция показала себя в Польше в 1920 году, несомненно, с наименее привлекательной стороны.
Существует пафос революции и существует ужас революции. Из этого ужаса, увиденного и пережитого, выросла, бесспорно, эта всеобщая в Польше в межвоенный период неприязнь к восточному соседу, к революционной России, к той силе, даже самые благородные лозунги которой нельзя было прочитать на транспарантах раздражающего цвета, написанных чужим алфавитом, силе, даже самые убедительные аргументы которой трудно было слушать под грохот орудий, треск пулеметов, цокот копыт легендарной Конармии.
Из пережитого и увиденного ужаса войны и революции, из возникшего во время того неудержимого отступления и в тот памятный, решающий момент страха родилось недоверие ко всему, что напоминало то время — к цвету, к языку и… к идее. Недоверие, которое заставляло на протяжении всего двадцатилетия каждую новую мысль и каждую инициативу рассматривать через призму опыта тех лет, как бы на фоне военных пожаров и облаков пыли, поднимаемых марширующими колоннами.
Легенда 1920 года, базирующаяся на этом реальном опыте, развиваемая и цементируемая сознательно и умело «воспитательными силами» Второй Республики, стала основой повседневного, бесспорно небогатого, но прочного мировоззрения значительной части по крайней мере двух поколений поляков.
В этой легенде содержались две, правда, противоречащие друг другу, но настойчиво внушаемые людям идеи.
Одну из них я бы выразил словами «мы сами». Битва за Варшаву была первой на протяжении двухсот с лишним лет выигранной поляками крупной битвой, а польско-советская война — первой за тот же период выигранной войной. Поддержка со стороны Петлюры или скоординированное по времени наступление Врангеля не оставили заметного следа в общественном сознании. Пилсудчики тоже хорошо поработали, подчеркивая свои заслуги в этой победе. В результате возобладала убежденность, что мы сами, собственными силами отразили большевистское нашествие, победили Россию — одну из самых крупных европейских держав. Значит, мы сами являемся державой, значит, мы многое можем, если только захотим, если напряжем свои силы. Эта убежденность, которую чаще разделяли простые люди, чем руководители государства, лучше сориентированные в подлинном характере этой победы, наложила свой отпечаток на политику и идеологию Польши межвоенных лет и периода второй мировой войны. Бесспорно, если бы поляки подошли более критически к оценке своих сил, труднее было бы ставить перед Польшей задачи, превышающие ее возможности, не укоренилась бы чрезмерная вера в собственные возможности, не было бы позже столько разочарований и обид.
Вторая идея — «Европа не даст нам погибнуть». В общественном сознании сохранились отголоски заинтересованности Запада, особенно Франции, в судьбе Польши в 1920 году. Эскадра имени Костюшко, американские и итальянские летчики-добровольцы, французские инструкторы, генерал Вейган за штабным столом Маршала Пилсудского, позднейшие визиты Фоша, которому присвоили звание Маршала Польши. Это укрепляло убежденность, что мы нужны Западу, что в критический момент он не даст нам погибнуть. До человеческого сознания не доходили близорукость и ограниченность этой заинтересованности. Не помнили о горечи визита польской делегации в Спа, где союзники вынудили Польшу согласиться на исключительно неблагоприятные для нас решения на севере, западе и юге взамен на обещание иллюзорной интервенции в пользу Польши в Москве, интервенции, которая, впрочем, не принесла никаких результатов. Не знали, что, когда шло сражение под Радзымином и когда в польский штаб явился генерал Вейган, Пилсудский спросил его: «Сколько дивизий Вы привели с собой?» А на ответ, что ни одной, Пилсудский жестко прореагировал: «Тогда зачем Вы вообще приехали?» Зато знали сладкие слова и помнили их.
Подлинный опыт и ложные выводы из этой самой большой польской войны 1920 года оказывали немалое влияние на политику всей Второй Республики и на национальное самосознание вплоть до последних дней последнего из активных участников тех событий.
Политические концепции эмигрантского правительства а годы второй мировой войны, которые привели к Варшавскому восстанию, концепции, за которые такую страшную цену заплатил польский народ, также вытекали из этого груза прошлого.
И не только концепции правительства. Также упорное, ожесточенное поведение тысяч и десятков тысяч поляков. Это моральное упорство, которое закрыло дорогу многим молодым людям «1920 года рождения» к идеологии новой Польши. Впрочем, оба слагаемых драмы «Колумбов 20-го года» враждебность, с одной стороны, и недоверие, с другой, уходят своими корнями в ту роковую войну.
Груз прошлого: СССР
1920 год оказал также влияние и на сознание советских людей, как поколения борцов за власть Советов, так и молодых строителей Советского Союза. Он формировал опыт и взгляды участников событий, руководителей, позднейших воспитателей.
Польская война была самой большой из тех, которые вели советские власти в годы защиты революции и гражданской войны, а Польша была самым крупным и серьезным реально действующим противником революционной России.
Адмирал Колчак на вершине своего могущества выставил на фронт боевые части численностью от 130 до 150 тысяч человек.
Армия Юденича осенью 1919 года насчитывала 40 тысяч человек. Генерал Деникин в это же время бросил в бой у ворот Москвы 150 тысяч человек. Польша на советском фронте имела постоянно не менее 200–250 тысяч активных штыков и сабель.
Польская война была также самым массовым переживанием советских людей в период возникновения Советского государства. Через польский фронт в течение 1919 и 1920 годов прошло не менее 1,5 миллиона советских бойцов Морально-психологическое состояние и диапазон переживаний солдат и офицеров на этом фронте были особыми. Если боевые действия 1919 года вписывались еще в рамки многих подобных сражений за укрепление Советской власти, то 1920 год был уже явной войной с внешним нашествием. И огромным шоком. К тому времени гражданская война в принципе закончилась. Начало 1920 года считалось началом мирного строительства. И в этот момент чужеродный агрессор протянул руку к тому, что для всех советских людей — коммунистов и некоммунистов — представляло часть его Родины, к колыбели русской культуры, к Киеву.
В России, измученной мировой войной и глубокими пароксизмами революции, всецело поглощенной первыми трудными шагами установления нового, большевистского порядка, весной 1920 года действительно хотели мира. Тем большим шоком оказались польский поход на Киев и необходимость вести еще одну войну, причем самую продолжительную и тяжелую. Поэтому эта война среди всех, которые пришлось вести Советской России в 1918–1920 годах, оставила в общественном сознании неизгладимую горечь и прочный след.
Необходимо помнить и о том, что война с Пилсудским была единственной среди этих войн, которая не была выиграна, не завершилась полным поражением и уничтожением противника.
«Панская Польша» оставалась в сознании очень многих советских людей, которые прошли через фронт 1920 года, главным врагом Родины, главной опасностью для Советского Союза. А также главной антисоветской силой. В ней по-прежнему видели любимое детище Антанты и опору тогдашнего империалистического соотношения сил в Европе, ненавистного версальского порядка.
В 1920 году немалую роль сыграла поддержка, которую оказали Советской России рабочие Европы. Советские газеты были заполнены информацией о забастовках докеров и железнодорожников, моряков и транспортников Германии и Чехословакии, Франции и Англии под лозунгом «Никакой помощи Польше Пилсудского»… Эта преувеличенная вера в помощь рабочих Запада вылилась потом в горькое разочарование в 1941 году!
И, наконец, самый трагический вопрос — о польском революционном рабочем движении. Это движение, которое дало Октябрьской революции 70 тысяч самоотверженных и преданных бойцов, которое в 1918 году создавало в Польше рабочие советы, а в 1920 году попыталось заложить революционную польскую власть в Белостоке, не сумело, однако, а точнее, было не в состоянии привести в 1920 году польское общество к социалистической революции.
Красную Армию, которая шла на Варшаву под лозунгами социального освобождения, которая протянула руку своим классовым братьям — польским рабочим, на заставах Варшавы встречали не триумфальные арки. Это стало для российских революционеров серьезным разочарованием. Термин «белополяки» служил вначале для того, чтобы различить настоящих поляков от польской контрреволюции. Но чем ближе к Висле, тем этих «белополяков» оказывалось все больше… На предпольях Варшавы складывалось впечатление, что других просто нет.
Зародыши новых драм
Итак, в конечном счете кампания 1920 года оказала огромное влияние на сознание обоих народов. По обеим сторонам рижской границы, по обеим сторонам фронта, который в силу необходимости стал границей, утвердились стереотипы, свойственные больше состоянию войны, чем дружественного мира. Термин «белополяки» имел в Советской России такую же эмоциональную окраску, что и термин «большевики» и «советы» в Польше. С карикатур на плакатах и в газетах людей пугали, с одной стороны, азиат в бараньей шапке, с ножом в зубах, с другой, элегантно одетый польский легионер, вытирающий ажурным носовым платком окровавленную шашку. С одной стороны, была «панская Польша Пилсудского», с другой — «хамские, большевистские советы».
Реальные обстоятельства польско-советских отношений в межвоенном двадцатилетии сформировали события 1920 года. Господствующие идеологии были те же, которые столкнулись друг с другом на полях сражений. Конкретные взгляды отдельных лиц и масс формировались под влиянием личного и исторического опыта в боях под Киевом, Радзымином и на Немане.
Нельзя забывать, что люди, которые разрабатывали и реализовывали политику на протяжении всего межвоенного периода и в Варшаве, и в Москве, — это были люди, сформировавшиеся в 1920 году.
Сталин и Пилсудский, Ворошилов и Рыдз-Смиглы, Молотов и Бек… а также партийные активисты среднего уровня и политические деятели, комиссары и офицеры. А также молодежь по ту и другую сторону границы, воспитанная на легенде.
Эхо 1920 года мы находим в поведении этих людей и в 1939 году, и в 1941-м, и в 1943-м, и в 1944 году. Это эхо лежит у основ всех трудностей соглашения, у основ многих личных драм и одной общей драмы.
Все это — и реальный диктат действительности, и психологический багаж прошлого — оставило цепь драматических споров и трагических недоразумений, которые вели к противопоставлению Польши и Советского Союза в конце межвоенного двадцатилетия, перед лицом нарастающей угрозы гитлеровского нашествия.
Победа 1920 года породила Сентябрьскую катастрофу. Но «чудо на Висле» породило также трагическую ситуацию 1941 года, породило боль разочарований, одиночества и разгрома приграничных советских фронтов летом 1941 года и зимнюю трагедию Ленинграда.
Ибо иное состояние польско-советских отношений и во всяком случае иная, свободная от груза 1920 года атмосфера, дающая возможность для политического маневра, продиктованного логикой событий уже в конце 1937 — начале 1938 года и наверняка в 1939 году, создали бы иные условия для конфронтации между гитлеризмом и Европой. Эта конфронтация могла произойти в другое время и наверняка в другом месте.
* * *
Прошло уже столько лет. Кладбища 1920 года давно заросли густыми кустами, их заслонили новые, более длинные ряды могил погибших в годы второй мировой войны. Не один из участников сражения под Радзымином успел принять участие в битве за Берлин, и многие бывшие польские легионеры в окопах под Ленино, на Висле, Одре и Нысе успели поделиться, как облаткой братства, последним сухарем, последней обоймой, иногда последним дыханием с ненавистным когда-то большевиком.
Осталась в истории двадцатипятилетняя цепь событий, полностью завершенная и закрытая. Остался фрагмент истории Польши и истории России.
Чем он является сегодня для нас? Бесспорно, частью нашей истории, во многом поучительной, бесспорно, все еще частью нас самих — нашей жизни, нашего мировоззрения, нашего исторического и политического опыта. Ибо ничего нельзя вычеркнуть из прошлого. Нельзя устранить никакие факты и события, которые формировали судьбы и мысли наших отцов и нас самих. Мы все выросли из той эпохи.
История 1920 года учит нас. Учит, чего делать нельзя, чего следует остерегаться.
Действительно, Польша начала эту войну и выиграл ее польский солдат… Но войны могло не быть, не должно было быть. Польша заплатила за нее не только десятками тысяч погибших в 1920 году, но и миллионами погибших в годы второй мировой войны.
В походе на Киев и походе на Варшаву созревала самая большая трагедия поляков и русских — трагедия изоляции.
Мечислав Лепецкий Дневник адъютанта Маршала Пилсудского[215]
От редакции
Автор дневника М. Лепецкий (1897–1969) был в первой половине 30-х годов человеком, близким к Бельведеру, семье и лично Ю. Пилсудскому, можно сказать, жил их повседневными заботами и планами. Естественно, как и все пилсудчики, он обожествлял и восхвалял Маршала, участвуя в создании так называемой белой легенды.
Образ мышления автора наложил отпечаток и на содержание книги, которая не лишена односторонности и субъективности. В дневниковых зарисовках из жизни Ю. Пилсудского в 1923–1935 годах М. Лепецкий главный акцент переносит на личные впечатления, освещение «внутренней кухни» Бельведера и Генерального инспектората Вооруженных сил, с которым была связана деятельность Ю. Пилсудского в последние годы его жизни. В этом контексте объяснимым становится и сострадание автора к уже угасавшему лидеру нации, бывшему для большинства поляков того периода непререкаемым авторитетом.
Авторы перевода книги сочли целесообразным ограничиться лишь теми фрагментами дневника, которые позволяют советскому читателю более глубоко понять образ Ю. Пилсудского как человека — личности, бесспорно, сильной, неординарной и неоднозначной, проникнуть в суть легенды вождя поляков, любовно рисуемой пропагандой того периода. И дело здесь не только в своеобразной политической близорукости автора дневника: возлелеянное десятилетиями видение крепкой, независимой Польши ассоциировалось в умах и сердцах поляков с деяниями человека без изъянов — любящего отца двух дочерей и любимого отца нации.
Майор Мечислав Богдан Лепецкий участвовал в борьбе за восстановление государственной независимости Польши. Много путешествовал: был в Центральной и Южной Америке, ряде арабских стран, посетил Сибирь, Кавказ, излагая свои впечатления в книгах и брошюрах. В возрасте двадцати пяти лет демобилизовался и отправился в Бразилию, где стал организатором и руководителем союза стрелков, закамуфлированного под Союз польских спортивных обществ, Юнак…
Это в дальнейшем оказало определенное влияние на судьбу М. Лепецкого. Спустя несколько дней после майского переворота 1926 года ему предложили вернуться в армию и занять должность референта в кабинете военного министра.
С Ю. Пилсудским автор дневника познакомился ближе в 1931 году, когда выполнял поручение министра иностранных дел Польши Ю. Бека — неофициально ассистировать Ю. Пилсудскому во время его отдыха на Мадейре. Затем — снова воинская служба, работа в министерстве иностранных дел, в польском посольстве в Румынии. В октябре 1931 года по возвращении из Бухареста вместе с Ю. Пилсудским, где тот находился на отдыхе, М. Лепецкий был назначен его адъютантом.
С осени 1931 по май 1935 года, то есть до последних дней жизни Маршала, адъютант М. Лепецкий жил вместе с Ю. Пилсудским в Генеральном инспекторате Вооруженных сил и, разумеется, хорошо ориентировался во многих незаметных глазу простого поляка особенностях труда и быта Маршала. Понятно, он не был введен в борьбу в высших кругах власти (да это, впрочем, и не входило в обязанности адъютанта), но о некоторых ее нюансах, бесспорно, догадывался. Впрочем, в своих записках — по понятным причинам — автор тщательно обходил все то, что могло бросить тень на кого-либо из элиты власти, тем более на Ю. Пилсудского.
Книга должна была появиться еще в конце 1939 года, однако вторая мировая война не позволила ей увидеть свет. После трагического сентября 1939 года М. Лепецкий эмигрировал во Францию, а затем переехал в Бразилию. В Польшу возвратился лишь в 1962 году. В сохранившейся рукописи автор произвел лишь незначительные поправки стилистического и редакционного характера.
1934 год
Воспоминания о 1920 годе
День 2 марта 1934 года был погожим, солнечным. Голубое небо и теплый ветер создавали иллюзию конца зимы и скорого наступления лета.
Ссылаясь на это, я обратился к Маршалу:
— Весна в этом году ранняя.
Тот был в хорошем настроении, поэтому не отделался от моих слов пожатием плеч, как иногда бывало.
— Как в 1920 году, — ответил он.
— Я не очень уж помню ту весну, — сказал я. — В памяти запало только то, что, когда 1-й пехотный полк легионов переезжал с Северного фронта (из-под Барановичей) в Звяхель, было совсем тепло. Мы ехали в открытых вагонах, хотя был еще только март.
— Начало апреля, — поправил меня Пилсудский.
— Да, да. Теперь вспоминаю, что Пасху мы отмечали еще в Новой Мыши и лишь потом отправились в Звяхель.
Маршал поднялся с кресла и наклонился к огромной карте польских и прилегающих земель, висевшей на специальной подставке рядом со столом. Его взгляд остановился вначале в том месте, где виднелась надпись «Барановичи», а потом на маленьком кружочке с надписью «Звяхель» и наконец совершенно неожиданно перенесся туда, где поблизости от Скериевиц миниатюрными буковками было написано «Спала».
— В 1920 году весна пришла очень рано, уже в марте, — сказал он. — Пасха пришлась в том году на 1 апреля. Я решил провести праздники в Спале и поехал туда на автомашине. Ну и представьте себе, увидел там цветущие абрикосы. Первое апреля — и цветущие абрикосы!
— Может так случиться, что и в этом году будет ранняя весна. Все говорит об этом.
— Дай боже, пусть будет. Теперь мне все равно, но все же предпочитаю, чтобы она наступила как можно скорее. Иначе было в 1920 году.
— Для нас в полку было лучше, что она наступила раньше.
Маршал недоброжелательно взглянул на меня.
— Глупости говорите! Ранняя весна испортила мне тогда половину работы. Ведь я все ставил на то, что когда ударю на юг, то меня контратакуют с севера. Разумеется, все мои штабисты не соглашались со мной. Говорили: на юге — Врангель, большевики наверняка попытаются перейти в контрнаступление на том же участке. А я считал иначе и рассчитывал на то, что, нанося удар на юге уже весной, не получу ожидаемой атаки на севере раньше, чем весна доберется туда. Нормально на это требуется около трех недель. Ну что поделаешь, весна в 1920 году пришла на весь фронт раньше, и, когда я наносил удар на юге, она уже царила и на севере.
Пауза и вопрос:
— А вы где тогда были?
— Шел на Житомир, а потом на Киев.
И, желая похвалиться, добавил:
— Шли, пан Маршал, как вода в половодье.
Но тут меня ожидало неприятное разочарование. Пилсудский не только не поддержал мои рассуждения, но сказал прямо:
— Ох, какое же это было плохое войско.
Я остолбенел, кашлянул.
— Да, да, плохое, ничего не стоящее. Дерьмо, а не войско.
— Пан Маршал…
Но Пилсудский не слушал моих слов, а продолжал свою мысль:
— Это войско, это… Ведь верховный главнокомандующий вынужден был сам устанавливать и поддерживать в машине связь. Никто ничего в этом балагане не знал, и мало того, не хотел знать, не интересовался. Летчик, черт побери, летал над Коростенем, занятым уже нашими, и привез известие, что вся моя кавалерия разгромлена. Это была первая весточка, которую я получил с фронта после начала наступления…
Маршал рассердился не на шутку.
— Не говорите мне больше об этих паскудных временах.
Однако эта тема слишком волновала Пилсудского, чтобы он мог перестать говорить о ней. Он еще долго бранил плохое войско, жаловался на полное отсутствие средств связи и легкомысленность офицеров.
— Прислали, — рассказывал он, — почтовых голубей. Я очень обрадовался. Теперь, думал, дело, может, как-то наладится. Но что из этого — все до одного, как их выпускали, летели прямехонько в Познань, где их учили.
Воспоминание о неудачной попытке использования познаньских голубей рассмешило Маршала, и он смягчился.
Тем временем наступила полночь — время пить чай и отдавать распоряжения на следующий день.
На именины в Вильно
Утро было морозным. Когда я встал, на дворе было еще все лилово. За замерзшими окнами в Аллеях Уяздовских стояли задумчивые, покрытые инеем деревья. Было тихо, как в деревне. Город еще спал, только трамваи да ранние птицы пролетали мимо время от времени. Я оделся. Теперь должна была наступить самая неприятная минута: надо было будить Маршала.
Я вошел в спальню. Пилсудский спал спокойно, как обычно, на правом боку. Как правило, утром он спал крепко, и если с вечера засыпал обычно очень поздно и каждый шум мешал ему, то утром его не могли разбудить, как он сам говорил, даже пушки.
Я громко кашлянул.
Маршал продолжал спать.
Я отодвинул ночной столик, с шумом передвинул кресла.
Маршал не вздрогнул.
Я взглянул на часы. Был уже девятый час. Дольше тянуть я не мог.
— Пан Маршал!
Пилсудский пошевелился, открыл на минуту глаза и снова закрыл. Наученный опытом, я опять громко окликнул его:
— Пан Маршал!
На этот раз он окончательно проснулся.
— Что? — спросил он.
— Уже девятый час.
Маршал сел на кровати.
— Всегда будите меня слишком поздно, — сказал он.
Я попытался оправдаться:
— Ведь вы уснули лишь в четыре утра.
Пилсудский закурил.
— Все время преувеличиваете, — сказал он, — не в четыре, а раньше.
Ординарец принес сладкий чай, булку, которую Маршал называл гамбургской, и газету. Маршал ел и читал.
Я тем временем собирал различные мелочи и укладывал их в чемодан. Надо было не забыть взять две колоды карт для пасьянса, несколько пенсне, которые Маршал постоянно терял, томик поэзии Словацкого и ключи от дорожной шкатулки — единственного сугубо личного предмета. Ну и браунинг.
— Пора одеваться, пан Маршал, скоро девять.
— Хорошо, хорошо, закурю только и поедем.
В десятом часу мы сели в машину и тронулись. Я обернулся. Следом за нами шла машина с охраной. «В порядке», — подумал я и укутал Маршала пледом.
В мороз город всегда оживлен. Люди мчатся, чтобы как можно скорее оказаться в тепле. Шофер вынужден был постоянно сигналить, чтобы кого-нибудь не задавить. Через несколько минут мы были уже на Виленском вокзале.
Сложился обычай, что при выезде из Варшавы Пилсудского провожали на вокзале люди из его ближайшего окружения, ближайшие сотрудники и премьер.
И теперь они выстроились у входа.
Обычно Маршал останавливался и с минуту разговаривал с провожавшими его министрами и офицерами, но сегодня было холодно и ветрено, поэтому он направился прямо к вагону.
Салон-вагон, которым мы ехали, состоял из гостиной, небольшого кабинета, спальни и ванной, а также двух обычных двухместных купе для адъютантов, одного — для кондуктора и небольшой кухоньки.
Маршал уселся в гостиной на диване у стола и попросил карты для пасьянса и чаю.
В соседнем вагоне ехала охрана.
Я очень устал. Спал ночью не больше трех часов, глаза закрывались сами собой. Прилег на лавке и тотчас же уснул.
Проснулся лишь в Белостоке. Заглянул в гостиную. Пилсудский сидел в расстегнутой блузе и курил. Смотрел в окно.
— Что? — спросил, увидев меня.
— Ничего, пришел посмотреть, не нужно ли вам чего.
Но Маршал не слушал меня и, не обращая внимания на мое присутствие, молча пускал клубы дыма. И только через некоторое время произнес:
— Посчитайте, сколько лет прошло с войны.
— Четырнадцать.
Маршал покивал головой и снова умолк.
Я подошел к окну и посмотрел на длинный низкий железнодорожный вокзал, на ведущий в город виадук и на сам город.
Я прекрасно помнил все, что происходило здесь четырнадцать лет назад.
Было 22 августа 1920 года. Молоденьким подпоручиком я сражался здесь, на этих железнодорожных путях, усеянных тогда трупами.
Я прижался лбом к стеклу и думал. Перед глазами вставали мои погибшие боевые друзья. Где-то неподалеку отсюда, может, еще стоит кривая избушка, где и меня настигла большевистская пуля. Однако судьба уберегла меня тогда от смерти.
Маршал пошевелился. Я обернулся. Он шептал что-то про себя, раскидывал руки, пожимал плечами и вдруг громко сказал:
— Слишком много этого, слишком много.
Я молча подошел к столу. Маршал посмотрел на меня и начал говорить, как бы продолжая начатый уже разговор.
— Дурость, абсолютная дурость. Где это видано — руководить таким народом двадцать лет, мучиться с вами.
Я хотел вырвать Пилсудского из заколдованного круга неприятных мыслей и сказал:
— Пани Зуля[216] права, говоря, что вам надо годок отдохнуть.
Но Маршал не любил, когда ему говорили об отпуске и отдыхе.
— Глупости говорите, — отрезал он.
Тем временем поезд тронулся. Выстукивая свою монотонную мелодию, миновал Чарну Весь, Сокулку и подъезжал к Гродно. Я знал, что Маршал не простит себе, если проедет Неман, не полюбовавшись его красотой. Поэтому зашел снова в гостиную и доложил: «Скоро Неман». Пилсудский тотчас же встал, как будто бы давно ждал этой минуты, и подошел к окну.
Неман замерз, а лед был покрыт слоем снега.
Маршал стоял задумчивый и смотрел вниз на реку. Лицо его нахмурилось, насупилось. Огромные брови нависли над самыми глазами, чуть ли не закрыли их. Зная это его настроение, я вышел потихоньку из гостиной.
Приехали в Гродно. На вокзале, как всегда, его встречали военные. Я поздоровался с ними и пошел доложить Маршалу.
Обычно во время стоянки он беседовал с ними. Но на этот раз чувствовал себя не очень хорошо, не хотел никого видеть.
— Никого не принимаю, — отрезал он.
Официант из вокзального буфета принес обед: суп, мясо с овощами и компот. Он съел только компот и кусочек холодной курицы, после чего попросил чаю.
Чаю Маршал выпивал ежедневно минимум шесть стаканов, но бывало восемь и десять.
После обеда Пилсудский никогда не спал. Не прилег и теперь, а, выпив чаю, начал снова раскладывать пасьянс.
Снова едем. Проезжаем Друскеники, поезд идет вдоль литовской границы. Из окон вагона открывается вид на удивительную, мрачную и упрямую страну. Я был почти уверен, что Маршал любил ее и одновременно ненавидел.
К вечеру приехали в Вильно. На вокзале со шляпами в руках стоят гражданские власти и с десяток генералов. Маршал улыбается им, вдыхает полной грудью литовский воздух, разговаривает то с одним, то с другим. Все здесь как-то иначе, просто, без каких-либо церемоний. И люди здесь другие, и Пилсудский становится другим.
— Значит, к нам, пан Маршал, на именины.
Смотрю на Пилсудского с умилением. Он словно помолодел на десяток лет. Оживился, жестикулирует.
Воевода на своей машине увозит Маршала во дворец.
Теперь надо пригласить членов его семьи. В первую очередь тетю Зулю и ее дочь Зульку, Ванду Павловскую — дочку Адама Пилсудского и самого Адама, других родственников. Маршал очень любил свою семью, чувствовал себя с ними хорошо и свободно. Это была необычная семья. Редко можно встретить такое сочетание скромности, простоты и неслыханной бескорыстности. Семья любила Пилсудского не потому, что он был Маршалом. Они никогда его ни о чем не просили, да и он им ничего не давал — ни денег, которых у него не было, ни протекции, которую бы они ни за что не приняли. И Маршал, видимо, это чувствовал. Поэтому, не желая быть свидетелем торжеств, связанных с его именинами в Бельведере, он охотно уезжал в Вильно, где скрывался в кругу своей семьи. Так было в 1933-м, 1934-м и 1935 годах.
Покушение на министра Бронислава Перацкого и создание лагеря в Березе
Было 10 или 12 июня. Пополудни я забежал на минуту в кафе гостиницы «Европейская», чтобы выпить чашечку кофе и поболтать со знакомыми. За «правительственным» столиком сидело несколько человек, я подсел к ним. Через несколько минут появился министр Перацкий и тоже сел с нами. Как всегда, когда встречался со мной, он спросил:
— Как Комендант?
Как и многие тогдашние сановники, он любил приходить в кафе, чтобы увидеться с коллегами и друзьями. Эта на первый взгляд ненужная привычка позволяла поддерживать непосредственный контакт с легионерскими «низами», которые охотно встречались с высокопоставленными друзьями, но на нейтральной почве. Сановники, поддерживающие такие контакты, пользовались популярностью и симпатией. К числу последних принадлежал и Бронислав Перацкий. В «Европейскую» он приходил, если служба ему позволяла, ежедневно. Пришел и в тот день, когда и я там был.
Беседа началась вначале на тему Коменданта.
— Я уже распорядился установить лифт во дворце в Вильно, — сказал Перацкий, как бы отвечая на мою недавнюю просьбу.
Речь шла о том, чтобы Маршал, которому подниматься по лестнице становилось все труднее, не испытывал этого во время пребывания в Вильно, где его покои находились на втором, но очень высоком этаже.
— Спасибо, Маршал наверняка будет рад, хотя сомневаюсь, что признается в этом.
Перацкий кивнул головой. Он так же хорошо знал Пилсудского, как и я. Мы оба знали о том, что Маршал всегда старался скрыть свои физические недуги и сердился, когда ему хотели в чем-то помочь. Поднимаясь по лестнице дворца в Вильно, он обычно останавливался на полуэтаже, чтобы передохнуть. Однако старался замаскировать это желанием полюбоваться расставленными на лестничной площадке цветами. Так он поступал и идя пешком из Генерального инспектората вооруженных сил в Бельведер. Желая передохнуть, останавливался обычно у какого-нибудь дерева или куста и заводил разговор на эту тему.
Потом беседа с министром Перацким переключилась на другие вопросы, пока он не начал рассказывать о своей недавней поездке в Восточную Малопольшу.
— Миновав какое-то местечко, — продолжал он, — я подъехал к ручью, мостик через который рухнул. Собрал мужиков, чтобы они починили его. Через несколько часов мостик был восстановлен, и я двинулся дальше. Но представьте себе мое удивление, когда на следующий день мне донесли из Львова, что там распространился слух, что на меня было совершено покушение: когда я якобы проезжал по этому мостику, его взорвали…
Рассказывая это, Перацкий рассмеялся.
— Я не очень-то верю, — сказал он, — в эти украинские покушения, но этот слух помог мне понять царившие там настроения.
Когда позже я вспоминал этот разговор, то с ужасом осознал, что это говорил человек, который два дня спустя упал с размозженной головой, сраженный пулей как раз украинского наемного убийцы…
Подошли другие знакомые, разговор стал общим, и через несколько минут все разошлись на обед. Бронислав Перацкий направился в клуб, который вскоре должен был стать его могилой.
Спустя два дня у меня оказалось свободное от службы время и я решил пообедать в городе. Я всегда оставлял телефон, по которому меня могли найти в любую минуту, доктору Войчиньскому. Во время обеда меня неожиданно вызвали к аппарату.
— Вы знаете, что произошло? — услышал я в трубке голос Войчиньского.
В первую минуту я подумал о Маршале. В последнее время ему нездоровилось… Сердце лихорадочно заколотилось.
— Не знаю, а что случилось?
Но тот не захотел объяснять и только сказал:
— Приезжайте немедленно.
Я летел по Аллеям Уяздовским как на крыльях. Открыл своим ключом дверь в квартиру Пилсудского и направился к доктору. Тот сидел, как обычно, за своим столом и раскладывал пасьянс.
Увидев меня, отложил карты и сказал:
— Совершено покушение на Перацкого. Он сейчас в госпитале, жив, но надежды мало, что выживет.
— Маршал уже знает?
— Да.
— Ну и что?
— Очень взволнован.
— И кто, кто мог бы это сделать? — воскликнул я.
Доктор пожал плечами.
— Говорят, эндеки.
Я знал, что Перацкий подавлял твердой рукой любые проявления анархии, особой суровостью отличался по отношению к молодежи из Лагеря Великой Польши, и поэтому такое предположение не казалось мне абсурдным.
Я пошел к Маршалу. Он сидел в кабинете, но не читал и не раскладывал пасьянса, как обычно после обеда. Погрузился в раздумья, густое облако табачного дыма свидетельствовало о том, что он курит папиросу за папиросой.
— Добрый день, пан Маршал!
Пилсудский, не меняя выражения лица, взглянул на меня.
— Да, — сказал вместо ответного приветствия и спустя минуту повторил, — да, да, да.
— Это же какие-то свиньи… — начал я, но Маршал прервал меня.
— Помните Привислинский край? — спросил он.
— Мало.
Но тот не обращал внимания на мои слова.
— Десять привислинских губерний и тринадцать миллионов привислян, — и перешел с польского на русский, — главный город — Варшава, вероисповедание — римско-католическое. Привислинский край и в нем привисляне, взятки и конспирации.
Пилсудский насупился и бросал резкие слова по адресу прежде принадлежащей России части Польши и ее довоенных жителей.
Из хороших побуждений я вставил:
— Это, слава богу, уже прошлое.
Мои слова вызвали неожиданную для меня реакцию. Маршал со всей силой ударил кулаком по столу.
— Ишь, умник нашелся, это уже прошлое! А где вы в настоящем видите конец прошлого?
Я, естественно, молчал, тем более что Пилсудский добавил:
— Сам привислянин и поэтому защищаете этот край.
Я боялся продолжать начатый разговор, видя раздраженность Пилсудского и его взволнованное настроение. Покрутился по кабинету и вышел.
Около пяти часов пришел генерал Славой-Складковский, который находился у постели Перацкого, и сказал, что министр, не приходя в сознание, скончался.
Поскольку в этот день я был свободен от службы, я мог пойти в город, чтобы разузнать подробности покушения.
Тем временем «город» гудел от слухов и сплетен. В кругу моих знакомых доминировало мнение, что вину за смерть министра несут эндеки. Возмущение было настолько сильно, что даже самые суровые репрессии, направленные неважно в какую сторону, встретили бы восторженное одобрение. Подобные настроения царили и в правящих кругах, для которых, наряду с причинами, вызывающими глубокое возмущение в широких слоях общества, добавлялась еще одна: убили друга, которого любили и ценили, с которым пережили не одну трудную минуту в легионах и позднее. Поэтому ничего удивительного, что мысль отомстить за него и выжечь каленым железом позор убийства из-за угла в политической борьбе, бросающий тень на нашу страну, родилась еще в тот день, когда смертельно раненный министр испустил последний вздох. Через час после его смерти к Пилсудскому явился премьер Леон Козловский. Во время продолжительной беседы он представил ему определенный проект и, получив согласие, начал на следующий день реализовывать его.
Видимо, Пилсудский хотел обменяться еще мнениями с кем-то из близких ему людей, поскольку на девять часов вечера пригласил полковника Александра Прыстора. Мне кажется, что Пилсудский очень ценил мнение своего старого друга. Когда над Польшей собирались какие-то тучи или что-то не ладилось в государственной машине, мы, адъютанты, получали приказ пригласить его к Маршалу. Так было и в тот день, когда наемный убийца совершил покушение на министра внутренних дел.
В этот день я заступил на дежурство в 12 часов ночи. Доктор ушел домой, и я остался один с Маршалом. Как всегда в эту пору, я взял карандаш и блокнот и направился в кабинет, чтобы спросить Пилсудского, кого пригласить на следующий день и что предстоит сделать.
Когда я вошел, Маршал держал под мышкой градусник. Увидев меня, вынул его и, протягивая мне, сказал:
— Посмотрите, какая температура.
Я внимательно посмотрел на маленькие цифры и узенький серебряный столбик. К сожалению, он задержался выше предостерегающей красной черты.
— Тридцать семь и две.
Маршал пожал плечами.
— Не так уж и плохо. Я думал, что наберется тридцать восемь.
Пилсудский взял у меня пачку иллюстрированных журналов, которые я принес, но не стал просматривать их, а продолжал курить.
Как всегда, когда я видел Маршала глубоко задумавшимся, как сейчас, я старался выйти потихоньку из кабинета. Чаще всего Пилсудский даже не замечал моего ухода, но теперь, когда я направился к двери, зашевелился в кресле и, взглянув на меня, промолвил:
— Ага, вы здесь.
— Так точно, пан Маршал, пришел за распоряжениями на завтрашний день.
— Хорошо, хорошо, — и вдруг, как бы отвечая на мой вопрос, сказал:
— Я не против вашей чрезвычайки, я согласился на год на эту вашу чрезвычайку.
Тогда я еще не знал, о чем говорит Пилсудский и на что он согласился. Лишь догадывался, что это имело какую-то связь с визитом премьера Козловского и полковника Прыстора, но прежде всего с покушением на министра Перацкого. Поскольку я сам был весьма взволнован происшедшими событиями, то добавил:
— Ох, пригодилась бы, пан Маршал, такая чрезвычайка для тех, кто задумал это покушение и подготовил соответствующую атмосферу для этого. Только пока еще не ясно, кто несет за это вину.
Пилсудский изучающе посмотрел на меня.
— А вы что слышали?
— Почти все в городе говорят, что это те же, кто инспирировал убийство президента Нарутовича.
Маршал второй раз за сегодняшний день ударил при мне кулаком по столу.
— Привисляне! — крикнул. — Если это окажется правдой, велю высечь вас батогами, содрать с вас шкуру. Никого не пощажу — ни женщин, ни девушек. Искореню привислянское семя и из Привислинского края, и из Галиции, и из Познани.
Никогда, ни до этого, ни позднее, я не видел Пилсудского таким раздраженным. Он встал, отодвинул кресло и начал мерить кабинет быстрыми шагами. Я отошел в сторону и думал, что эти его слова не пустые угрозы, что в один прекрасный день они обрушатся, как молот, на головы виновных. Но одновременно у меня пробудились сомнения в отношении предполагаемых виновников преступления. А, может, это не эндеки?
Неужели они могли зайти так далеко, обратиться к такому оружию?
— Пан Маршал, — сказал я, — один мой коллега, который работает во втором отделе[217], говорит, что он не очень-то верит, что это дело рук эндеков.
Пилсудский остановился посреди комнаты и долго молча смотрел на меня, после чего сел в кресло и взял в руки один из иллюстрированных журналов.
— Завтра, — промолвил он, — в два часа дня пусть ко мне придет мой начальник штаба.
— Слушаюсь!
Я вышел.
В эту ночь Пилсудский долго не ложился спать.
Сидя в своей комнате, я слышал громкий разговор, который он вел с самим собой, слышал, как ударял кулаком по столу, как кого-то резко отчитывал. Уже пробил третий час, а Маршал все еще метался в своем уединении и только раннее июньское утро, проникшее сквозь щели между шторами и окнами, вынудило его перейти в спальню.
Как каждую ночь, так и в эту, я погасил свет в его кабинете и положил револьвер на ночной столик Маршала.
Было полпятого утра.
* * *
На следующий день Пилсудский издал следующий приказ:
«Приказ военного министра по армии № 5.
Варшава, 16 июня 1934 года
Солдаты!
Полковник Бронислав Перацкий был откомандирован с должности заместителя начальника Главного штаба в распоряжение правительства, где выполнял различную работу и, в частности, руководил внутренними делами государства.
Полковник Бронислав Перацкий хорошо и с честью выполнял возложенные на него обязанности, погиб, как солдат на своем посту, 15 июня 1934 года.
Признавая его заслуги, Президент Республики присвоил сегодня полковнику Брониславу Перацкому звание генерала бригады.
Отдавая честь солдатской памяти, приказываю зачитать данный приказ во всех ротах, эскадронах, батареях и т. д.
Военный министр
Юзеф Пилсудский
Маршал Польши».
В связи со смертью Бронислава Перацкого последовал ряд кадровых изменений. 28 июня министром внутренних дел был назначен президент Варшавы Мариан Зындрам-Косцялковский[218].
На третий день после покушения, 17 июня, был созван Совет министров, который принял решение о создании «изоляционного лагеря», названного позднее «лагерем обособления», в котором должны были быть помещены лица, «угрожающие безопасности и общественному порядку». Место для этого лагеря было выбрано в небольшом городке в восточной части Польши — Березе Картузской, расположенном у железнодорожной линии недалеко от границы с Россией.
Именно эту «чрезвычайку» имел, видимо, в виду Пилсудский, разговаривая со мной в ночь с 15 на 16 июня. Она начала действовать три недели спустя. Среди первых «ссыльных», наряду с поляками, оказались несколько украинцев и пара коммунистов.
Через несколько дней после покушения, утром 19 июня, Маршал отправился в Пикелишки, где уже находилась его супруга с дочерьми. Однако 25 июня вернулся в Варшаву, где оставался до 6 июля, проведя там ряд совещаний. После этого снова выехал в Пикелишки. Но Пилсудскому не было суждено провести свое последнее в жизни лето спокойно, 19 июля ему снова пришлось приехать в Варшаву, где он провел пять дней и опять вернулся в Пикелишки. 11 и 16 августа Пилсудский выезжал по служебным делам в Вильно, а 25 августа его отпуск закончился.
6 июля, покидая Польшу, я успел прочитать в «Газете Польской» напечатанное петитом на четвертой странице сообщение:
«Краков, 5 июля 1934 года. На сегодняшнем заседании Городского Совета… принято решение… выделить в Вольском лесу на так называемом холме Совинец часть земли для возведения кургана им. маршала Пилсудского».
Я отложил газету, что-то сдавило мне сердце. Будут насыпать могилу Коменданту, подумал я. Как насыпали после смерти Кракусу[219], Ванде[220] и Костюшко. Только почему хотят сделать это при его жизни? Меня одолели мрачные мысли.
История одного предисловия
В 1926 году я издал свои воспоминания о польско-большевистской войне под названием «В блеске войны». Тогда же у меня была возможность подарить ее лично Пилсудскому, который прочитал ее и даже не раз упоминал о ней при различных обстоятельствах. Ободренный благосклонностью Маршала, я как-то попросил его, чтобы он написал предисловие ко второму изданию, которое должно было выйти в конце 1934 — начале 1935 года. Пилсудский, как он это часто делал, ничего не ответил, однако спустя два дня сам вернулся к этому вопросу.
— Значит, хотите, — сказал он, — чтобы я написал вам предисловие?
— Признаюсь, что я был бы счастлив, если бы Вы согласились.
— Значит, я должен сделать рекламу вашей книге?
Я остолбенел, мне сделалось неприятно.
— Вы же сами, — промолвил я, — не раз хвалили ее.
— Оказывается, я иногда делаю ненужные вещи.
Маршал был в прекрасном настроении, закончил все свои дела и готовился выехать на летний отпуск в Пикелишки. Был уже конец июня. Что касается меня, то признаюсь, что я тогда совсем растерялся. Стоял перед Маршалом с глупым выражением лица. Пилсудский был прав: я хотел, чтобы он сделал мне рекламу. Теперь я понял неуместность своей просьбы и во что бы то ни стало хотел как-то выйти из этого положения. Но, как я уже говорил, Маршал был в отличном настроении и поэтому сказал:
— Попробую написать вам что-нибудь в Пикелишках, только не знаю, удастся ли.
Не следует, наверное, добавлять, как я был счастлив, услышав эти слова, и как горячо благодарил Маршала.
Несколько дней спустя Пилсудский выехал в Пике- лишки, а я отправился в путешествие в Персию и Багдад.
Вернувшись в Варшаву, я уже не решался поднимать вопрос о предисловии, ожидая, пока сам Маршал не заговорит о нем. Однако проходили месяцы, а Пилсудский ни словом не вспоминал об этом. Я был почти уверен, что он забыл о своем обещании, как вдруг в один из декабрьских дней, перед самым Рождеством, он сказал:
— Знаете что, я вам этого предисловия, наверное, не напишу. Трудно приняться за него.
Это было за пять месяцев до его смерти. Правда, состояние его здоровья не вызывало еще серьезных опасений, но тем не менее оно не было особенно хорошим — бывали боли в желудке, опухали ноги, организм его ослаб.
Я, естественно, ответил:
— Не думайте об этом, это мелочь.
— Да, — повторил Маршал, — трудно взяться за какое-то писание, но я дам вам кое-что для вашей книги, что вы сможете напечатать.
Я с любопытством посмотрел на Пилсудского и заранее поблагодарил его.
— Дам свою фотографию с надписью.
— Большое спасибо.
И. желая ковать железо пока горячо, добавил:
— Сейчас принесу фотографию.
— Хорошо, хорошо.
Я бросился бегом в свою комнату и через минуту положил перед Маршалом фотографию, которых я всегда имел у себя в запасе несколько штук.
Пилсудский взял ручку и написал под фотографией: «Капитану Лепецкому — автору «В блеске войны» — Ю. Пилсудский».
— Возьмите, — сказал он с добродушной улыбкой, протягивая мне свою фотографию с автографом, — напечатайте в своей книге. Это тоже неплохая реклама. А предисловие, может, напишет вам кто-то другой.
И спустя минуту:
— Может, Смиглы захочет написать.
Я был глубоко тронут добротой Маршала, который среди сотен дел первостепенного значения нашел минуту времени подумать о моей скромной просьбе. Мне хотелось выразить свои чувства, и я начал что-то бормотать на эту тему, но Пилсудский перебил меня.
— Хорошо, хорошо, не хочу слушать ваших излияний.
Фотографию с этой надписью я считаю для себя самым дорогим подарком и самой большой наградой за свою службу. Это один из последних автографов Пилсудского.
Вскоре после разговора с Маршалом я пришел к генералу Рыдз-Смиглы и, коротко повторив историю с предисловием, показал ему фотографию Маршала с надписью и попросил его написать хотя бы несколько строк. К моей огромной радости, генерал обещал, и спустя некоторое время я получил известие, что предисловие готово…
Из Персии в Мощаницы
Во время пребывания Пилсудского в Пикелишках я совершил поездку в Персию и Ирак. Время пролетело незаметно, и когда я оказался снова в Варшаве, то узнал, что Маршал уже дня четыре или пять, как вернулся из Пикелишек. Поэтому ничего удивительного, что я шел к нему, умирая от страха.
А вдруг Маршал рассердится! Я очень боялся его гнева. Поговорив с доктором Войчиньским, который не только не успокоил меня, но даже подлил масла в огонь моего беспокойства, я направился в маршальскую столовую.
Пилсудский только что съел обед и пил теперь чай, на небольшом столике еще стояли неубранные тарелки с остатками еды.
— Пан Маршал, — обратился я к нему, — докладываю о своем возвращении из отпуска.
Пилсудский без улыбки сурово посмотрел на меня.
«Плохи мои дела», — подумал я и, желая не дать ему слова сказать, добавил:
— Трудно точно рассчитать продолжительность поездки.
Маршал поднял голову, как это делал всегда, когда чьи-то слова его заинтересовывали:
— Только не выкручивайтесь. Опоздали — и все.
— Пан Маршал, но вы же точно не назначали мне дня возвращения.
Пилсудский махнул рукой.
— Дурак, — сказал он коротко.
Мне стало неприятно, но я одновременно понял, что Маршал имел в виду.
— Понимаю.
— А что вы понимаете, умник.
— Что я и так не должен опаздывать.
— О, какой догадливый.
Правда, пока что вопрос о моем опоздании был забыт без предполагаемых доктором последствий, но Маршал еще раз напомнил мне о нем несколько дней спустя в связи с подготовкой к отъезду на отдых в Мощаницы.
— Вы, — сказал он, — будете играть в приготовлениях второстепенную роль, поскольку опоздали.
Потом уже я никогда не слышал упреков на эту тему.
Место для отдыха — кто мог в то время предполагать, что это будет последним отдыхом Пилсудского? — и для предпоследних военных учений выбирал полковник Леон Стшелецкий[221]. Мне Пилсудский велел проследить, чтобы там было все приготовлено. Выбор пал на имение Кемпиньского в Мощаницы.
— Что касается вас, — сказал мне Маршал после моего возвращения из Мощаницы и доклада, — то вы займетесь моей безопасностью. Только не таким дурацким способом подглядывания и слежки за мной, понятно?
Не раз Пилсудский жаловался на систему его охраны, заключающуюся в хождении за ним по пятам, поэтому я ответил без колебаний:
— Так точно, понятно.
— Ну и хорошо, дело в другом. Там близко чехи, пепички. Вы должны знать, что это самые любопытные люди на свете, врожденные шпионы. Они наверняка захотят следить за мной. Я же этого не хочу.
Маршал на минуту умолк, закурил папиросу, после чего продолжил:
— Я вам это говорю для того, чтобы вы так устроили, чтобы никто не ходил за мной по пятам, да и сами займитесь больше окрестностями, чем имением.
— Слушаюсь! Тогда я поселюсь, пожалуй, в Живце или Вельске; машина у меня есть, всегда смогу быстро подъехать.
— Я тоже так думаю.
В Мощаницы
Из Варшавы поезд тронулся в плохую погоду. Уже около Колюшек начал накрапывать дождь. Но Пилсудский был доволен.
— Дождь весь выльется, — ответил он на мои сетования, — и когда приедем на место, будет хорошая погода.
И действительно. В Живце небо было хотя и хмурым, но, как говорят метеорологи, «с прояснениями».
На перроне нас встречали местные власти. За вокзалом ждала огромная толпа. При виде детей лицо Пилсудского озарилось улыбкой. Он на минуту остановился у машины и дружески кланялся собравшимся.
Через несколько минут езды мы были уже в Мощаницы.
Само имение, расположенное в широко раскинувшемся парке с красивыми газонами и старыми деревьями, окружала аккуратно подстриженная живая изгородь. Дом был двухэтажный, просторный. На пороге Пилсудского встретили хозяева: пан Кемпиньский с женой и тремя дочерьми.
Шляхтич был взволнован. В руках по старому обычаю держал поднос с хлебом и солью. Прерывающимся голосом произнес короткую речь, девчата вручили Маршалу цветы.
Пилсудский поблагодарил, поздоровался. Вошли в дом.
Через час хозяева покинули имение, чтобы поселиться на время пребывания высокого гостя в Живце. Маршал, побыв немного в своих комнатах, вышел в парк, где долго гулял.
* * *
День в Мощаницы начинался рано. Еще солнце не появлялось из-за гор, как все приходило в движение.
Пилсудский просыпался поздно. Около десяти слуга приносил ему чай и ставил на столике возле кровати, рядом клал газеты. Маршал вначале читал газеты, а потом завтракал.
Обычно около двенадцати, когда солнце стояло уже высоко, светя и грея, как в июле, Пилсудский брал «мацеювку» и выходил в парк.
Делал вначале «обход», то есть медленно проходил аллею за аллеей, обходил клумбы, заглядывал во все углы. Не любил, чтобы его кто-то сопровождал. Ходил один. Уже в первый день после приезда строго предупредил:
— Только не шляйтесь за мной. Я этого не люблю.
Но иногда разрешал. И тогда показывал наиболее интересные кусты и цветы, которые заметил до этого: сравнивал все с Пикелишками и Сулеювеком. В парке его интересовало все. Останавливался подолгу у цветочных клумб или у грядок в огороде, наклонялся, брал в руки цветы и листья, рассматривал их.
В одном месте в изгороди был пролом. За ним тянулась довольно оживленная дорога, ведущая от шоссе в деревню Мощаницы. Пилсудский любил задерживаться в этом месте и смотреть на идущих с работы и на работу крестьян. Люди в деревне рассказывали потом друг другу, что видели «Деда».
В кустах на небольшом свободном пространстве стояла фигура Божьей матери с надписью на цоколе «Сальве, Регина!». Маршал полюбил это место и даже велел мне сфотографировать эту фигуру.
Прогулка по парку затягивалась обычно до трех часов, а иногда и дольше.
Потом был скромный, неприхотливый обед. Пилсудский любил только простые блюда. Единственным кулинарным раритетом Маршала был очень хороший чай. Как известно, он пил его приблизительно пять-шесть раз в день.
После обеда Пилсудский не спал. Часто раскладывал пасьянс, прохаживался по комнате или читал. Вечером редко покидал свои апартаменты.
Ужинал в восемь. Как и обед, ужин был очень скромным, обычно овощной, без мяса. Ну и как при каждом приеме пищи — чай. Пил его Пилсудский почти без сахара.
Между ужином и поздним приемом пищи, который состоял лишь из чая и фруктов, Маршал чаще всего читал, после полуночи оставался один со своими мыслями.
Так выглядел обычный день в Мощаницы. Но не все были такими. Многие из них прерывали совещания, военные учения, шифровки, письма…
А сколько хлопот доставляла Пилсудскому каждая газета! Для него каждое событие было чем-то личным, на что он должен был реагировать.
Странный это был отдых. Вроде бы и отпуск, но «двери не закрывались», а книги и бумаги никогда не исчезали с письменного стола. Однако к полудню, когда солнце поднималось высоко в небе, Маршал все бросал и наслаждался прекрасной осенней погодой. Гулял по парку, ходил напрямик по газонам к цветочным клумбам, к красивым деревьям и кустам. Был в отличном настроении. Хвалил подгорский климат и даже о ветре, которого так не любил, выражался снисходительно:
— У здешнего ветра, — сказал он как-то, — нет никакой резкости.
В парке рос высокий дуб, усыпанный желудями и украшенный красивыми резными листьями. Под этим дубом стояла зеленая скамеечка. Маршал в одиночестве садился на нее, наслаждаясь огромной тенью королевского дерева. Вокруг царила тишина, изредка прерываемая далеким шумом проезжающей машины или монотонным стрекотанием сверчков.
День за днем солнце выходит из-за невысоких холмов, окружающих Мощаницы, ласкает крышу дома, заглядывает в парк. Кто знает, может, из любопытства, чтобы увидеть необычного гостя?
Но любопытное не только солнце. Дорога, ведущая из местечка к имению, особенно к полудню, полна любопытных, желающих хотя бы через изгородь увидеть Пилсудского, и, видимо, некоторым это удается, поскольку паломничества не прекращаются.
Как всегда, его посещают немало разных делегаций. Все знают о слабости Маршала к детям. Они инстинктивно чувствуют это и засыпают его письмами. Пишут о своих радостях и печалях, доверяют ему свои тайны и всегда хотят видеть его.
4 октября мы вернулись из Мощаницы в Варшаву.
Последний парад Маршала Пилсудского
День 7 ноября 1934 года ничем не отличался от других ноябрьских дней в Польше. Не был ни холодным, ни теплым, ни дождливым. Это был обыкновенный, серый день. Термометр, правда, показывал несколько градусов тепла, но ветер раз в десять снизил эту температуру; еще не было зимы, но не было уже и осени.
Когда утром я доложил Пилсудскому о состоянии погоды, Маршал вздохнул и сказал:
— Паршивое время. Для меня самые плохие месяцы — это ноябрь и март. Какое облегчение, когда они уже позади. Но эти месяцы так расположены, что всегда один из них еще впереди.
Маршал оделся, обулся и перешел из спальни в кабинет. Я отправился отдыхать.
Когда я пришел на ночное дежурство, Пилсудский сидел, как всегда в это время, за пасьянсом и стаканом чая. Было видно, что он в хорошем настроении.
— Приветствую вас, капитан, — сказал он с улыбкой, — что слышно в «Европе»?
Маршал знал мою привычку посещать кафе, поэтому его вопрос не удивил меня.
— Сплетничают, как всегда, — ответил я.
Маршал взглянул на меня из-под нависших на глаза седых бровей с добродушной улыбкой.
— А вы, наверное, король среди этих сплетников? — сказал он.
Я рассмеялся.
— Нет, я среди них худородный шляхтич.
Теперь рассмеялся и Маршал.
— Хо, хо, какой скромный.
Во время разговора Пилсудский продолжал раскладывать пасьянс.
— Вот видите, — сказал он, показывая на карты, не ложатся, и все.
— В другой раз наверняка получится.
— Обязательно должно получиться.
Воцарилось молчание. Я стоял у письменного стола и укладывал разбросанные книги и бумаги, а Маршал листал какой-то парижский еженедельник. Было уже далеко за полночь, в кабинете царила почти гробовая тишина. Я предпочитал во время таких долгих ночных часов оставаться как можно дольше в его кабинете.
Маршал не всегда любил это, бывало, говорил: Идите наконец, спать», но много раз присутствие «живой души» было ему приятно. Так было, вероятно, и теперь, поскольку он не только не вспомнил о сие, но даже, когда я делал попытку уйти, о чем-нибудь заговаривал и этим задерживал меня.
В какую-то минуту я подошел к окну, поднял штору и выглянул в окно. Пилсудский, по-видимому, заметил мое движение, поскольку оторвал взгляд от журнала, поднял голову и спросил:
— Ну, как там на улице?
— Туман, влага, холод и ветер.
Маршал возмутился:
— Что за вести вы мне приносите, как вам не стыдно! Что я сделаю с этим парадом?
— Вы имеете в виду 11 ноября? — вставил я.
— Ну, конечно.
— Может, к тому времени погода наладится.
— О, нашелся пророк…
Я растерялся и умолк.
Пилсудский задумался. Я стоял перед и им у небольшого, покрытого зеленым сукном столика и пытался угадать его мысли. Но, разумеется, не угадал. Маршал всегда что-то делал или говорил вопреки моим предположениям.
Часы пробили два, в углу монотонно гудел вентилятор и потихоньку потрескивала небольшая электрическая печка.
Пилсудский сидел задумчивый, курил и пускал перед собой клубы дыма. С лица исчезла добродушная улыбка, усы еще больше нависли, а глаза совсем скрылись под бровями. Отодвинул от себя журнал, отложил карты для пасьянса, откинул голову на спинку кресла и смотрел невидящим взглядом прямо перед собой. Я подумал, что напрасно кручусь здесь и хотел было уже уйти, но, когда сделал движение в сторону двери, Маршал очнулся и сказал:
— Значит, парад… Какой же по счету в моей жизни? Надо подготовиться к нему. Сам еще не знаю, буду ли принимать его. Все зависит от этого гнусного прибора.
И показал на лежащий на столике градусник. Уже несколько дней у него была небольшая температура, и теперь он боялся гриппа, которому, как известно, был весьма подвержен.
— От этого гнусного прибора, — повторил.
Пилсудский не любил градусника, всегда называл его нехорошими словами, но, когда чувствовал недомогание, пользовался им.
— Вот, пожалуйста, — говорил, — ваш первый маршал целиком зависит от кусочка стеклянной трубочки с каплей ртути.
Я молчал. Что я мог на это сказать?
— Во всяком случае, — продолжал он, — если будет дождь, либо сильный ветер, или мороз, то наверняка не буду принимать парад. Пусть тогда примет его Смиглы.
Пилсудский долго не отзывался, а я стоял тихонечко, чтобы не мешать его мыслям.
— Ну, да, пусть тогда примет парад Смиглы, — повторил он и добавил, — я же от него в восемнадцатом году принял войско.
Я спросил, надо ли сказать о возможной замене генералу Смиглы.
— Да, да, скажите. Пусть приготовится.
На следующий день я явился к генералу Смиглы и доложил ему о приказе Маршала.
Следующие три дня до парада не отличались ничем особенным.
К счастью, подозрения в отношении гриппа не подтвердились; самочувствие Маршала улучшилось, появился аппетит. Хуже было со сном. Пилсудский всегда ложился спать очень поздно, но все-таки около четырех часов утра обычно уже спал. Теперь все чаще его навещали, как он говорил, «белые ночи». Рассвет заставал его усталым и разбитым, без единой минуты наилучшего отдыха, каким является для организма сон.
Утро 11 ноября 1934 года было ясным и солнечным. Мы уже знали, что парад будет принимать сам Маршал.
На Мокотовском поле собрались огромные толпы, трибуны прогибались от тысяч людей, жаждавших увидеть живую легенду нашего времени. Они терпеливо ждали уже часа два.
Пилсудский приехал угрюмый и молчаливый. Равнодушно слушал возгласы в свою честь; с непроницаемым выражением лица шел к трибуне, с которой должен был принять парад.
Я стоял в толпе и с беспокойством следил за ним. Маршал шел тяжело, неуверенно. Я знал, что ходить ему становится все труднее. А тут, не знаю почему, машина подъехала так, что до трибуны надо было пройти несколько сот шагов. Я боялся, чтобы он не споткнулся. Я знал, что он стыдится своей физической слабости. А здесь тысячи глаз пожирали каждое его движение, каждый шаг.
И я облегченно вздохнул, когда над украшенной флагами трибуной и серым Мокотовским полем вознеслась наконец его голубая фигура.
Парадом командовал генерал Чеслав Ярнушкевич[222]. Он громко скомандовал, пришпорил лошадь и, описав дугу, остановился перед трибуной. Потекла река войска.
Никому тогда даже не пришла в голову мысль, что он свидетель последнего парада, который принимает Маршал. Почти ровно полгода спустя перестало биться его сердце.
Пилсудский стоял величаво, но одновременно слегка сгорбившись, как бы придавленный тяжестью возложенных на него обязанностей. Опершись на шашку, он не отрывал взгляда своих стальных глаз от серой ленты пехоты.
Время шло, а реке рядов не было видно конца. Маршал, правда, не был в то время больным, однако силы покидали его. Поэтому в какой-то момент он почувствовал себя, как позднее сам мне рассказывал, настолько плохо, что даже раздумывал, не покинуть ли ему трибуну. Слабость Пилсудского заметили многие. Потом расспрашивали меня о состоянии его здоровья. Я отвечал, что все в порядке, а в действительности дрожал от беспокойства и опасений и облегченно вздохнул лишь тогда, когда Маршал сошел с трибуны и сел в машину.
Парад закончился. Последний парад варшавского гарнизона перед Пилсудским!
Огромная толпа людей покидала Мокотовское поле шумно, весело и беззаботно. Я шел вместе с нею, не зная и даже не предчувствуя, что в следующий раз я буду идти здесь с гробом.
В Вильно
21 ноября
20 ноября последним поездом Пилсудский выехал в Вильно.
После длившейся всю ночь поездки, во время которой Маршал спал очень мало, мы прибыли утром в Вильно.
На вокзале нас встречали местные власти.
Маршал направился в зал ожидания и задержался там. Был оживленный, веселый. Каждый приезд в Вильно приводил его в прекрасное настроение. Рассказывал о погоде, что в Варшаве мороз, что Висла замерзла, что на Немане лед, наверное, с метр толщиной. Улыбался, обращался то к одному, то к другому, расспрашивал о Вильно.
Но в зале ожидания дуло по ногам, и я боялся, что Пилсудский простудится, поэтому подошел к нему и сказал:
— Машина уже ждет.
Спустя минуту мы тронулись.
Собравшаяся перед вокзалом толпа кричала: «Да здравствует маршал Пилсудский!», «Да здравствует маршал Пилсудский!»
Маршал смотрел в окно машины и улыбался. Его взгляд скользил по старым, знакомым улочкам, по облупившимся, привычным домам, по медленно идущим прохожим. Увидев серую куртку в машине, прохожие снимали фуражки, кланялись.
Машина подпрыгивала на плохой мостовой, поэтому ехали медленно.
До моих ушей долетали обрывки разговоров.
— …приехал.
— Смотри, Маршал приехал.
Или короткое, проникновенно сказанное:
— Пилсудский.
Жители Вильно по-особому относились к Пилсудскому. Более лично, чем поляки из других районов Польши. Для них Маршал был и оставался «наш» в прямом значении этого слова. Каждый приезд Пилсудского был для них своего рода праздником.
В Вильно Маршал останавливался обычно во Дворце республики, построенном в XVIII веке.
Мы подъехали ко дворцу, на фронтоне которого виднелась мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь останавливался Наполеон I во время похода на Москву.
Уже был готов лифт, который распорядился сделать по моей просьбе министр Бронислав Перацкий, поскольку хождение по лестницам доставляло Маршалу немалые трудности. Поднялись на второй этаж, где находились апартаменты, которые обычно занимал Пилсудский.
Маршал снял шинель и направился в свои покои.
Как только остались одни, он сбросил с себя маску спокойствия и равнодушия. На его лице появилось выражение усталости. Опустил беспомощно руки, откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Я с беспокойством смотрел на него. Дурные мысли обступали меня, как вороны. Я уже давно замечал растущую слабость Маршала, бессонницу, отсутствие аппетита… И видел его огромную неприязнь к врачам и лекарствам. О докторах Пилсудский не хотел и слышать. Выражался о них скверно.
Вскоре Маршал очнулся.
— Послушайте, — обратился он ко мне. — Поезжайте к тете Зуле и узнайте, как на самом деле ее здоровье. Боюсь за нее.
Я оставил Пилсудского погруженным в свои мысли и ушел с неопределенным страхом в душе.
Зофья Каденацова, или тетя Зуля, была родной старшей сестрой Пилсудского, которая рано осиротевшему будущему Первому Маршалу Польши заменяла долгие годы мать. Теперь она больная лежала в постели вот уже несколько недель. Врачи говорили: «У нее мало красных кровяных телец» и добавляли: «А теперь их все меньше и меньше». Маршал понимал, что это значит, ведь недаром он в 1885 и 1886 годах изучал в губернском городе Харькове медицину. Поэтому очень беспокоился о сестре.
Когда я через час вернулся и доложил, что она очень ослабла и не встает, Пилсудский тотчас же заявил:
— Завтра поедем к тете Зуле.
Супруга воеводы была сильно озабочена составлением для Маршала меню на ужин и обед. Но того это совсем не интересовало. Ужинал в Вильно обычно один, иногда с родственниками. Сегодня ел один. К концу ужина я вошел и увидел Пилсудского со стаканом чая при отставленных, нетронутых тарелках с едой.
Аппетит у него уже тогда был очень плохим.
— Вы же ничего не ели, — заметил я.
Маршал пожал плечами и махнул рукой, давая понять, что мои слова его не волнуют.
Но я не сдавался.
— Супруга воеводы расстроится, что не угодила вам с едой.
Пилсудский поднял голову. В его глазах вспыхнули веселые искорки.
— Вы правы, — сказал он, — нельзя огорчать женщин.
Я обрадовался, начал пододвигать тарелки.
Маршал одобрительно кивал головой.
— Знаете что, — промолвил он неожиданно, — уплетите пару этих блюд и никому ни слова, что это не я. Пусть все считают, что это я сделал.
В его глазах затаились веселость и смех.
— Да, да, — повторил он, — вы правы. Нельзя огорчать женщин.
Около девяти часов пришли родственники: брат Адам Пилсудский, его дочь Ванда Павловская с мужем и дочь тети Зули Зулька Каденацова.
Обычно, когда приходили родственники Пилсудского, я уходил в свою комнату и отдыхал. Ушел и теперь. Когда спустя час заглянул, чтобы узнать, не нужно ли чего-нибудь, то увидел такую сцену: Маршал сидел на диване, а рядом с ним — Зулька с маникюрными ножницами в руке. Все уговаривали Пилсудского разрешить постричь ему ногти на руках, которые, следует признать, отросли. Маршал раскладывал пасьянс и, казалось, не слышал этих просьб.
— Ну, дядюшка, — говорила Зулька, — разве можно ходить с такими ногтями. Дайте руку, я обрежу.
— Не позволю обрезать руки.
— Ну, дядюшка… — ногти, а не руки.
— А кто тебя знает, может, руки, — шутил Маршал.
Закончив раскладывать пасьянс, Пилсудский собрал карты, перетасовал их и неожиданно согласился.
— Режь.
На следующий день я заметил, что ногти были подстрижены.
День был ясным, солнечным, морозным. Я знал, что Маршал не будет работать и решил дать ему поспать.
Направился в спальню только в половине двенадцатого. Пилсудский уже не спал.
— Думал, — сказал он, увидев меня, — что вы вообще уже не придете. В этом Вильно все распускаются. Где это видано ломать мне весь распорядок дня.
Я осмелился сказать, что на сегодня нет никаких дел.
— Вы за меня не думайте, я в этом не нуждаюсь.
Пилсудский сидел на кровати, опустив ноги на ковер.
Когда я увидел их, то испугался. Ноги настолько опухли, что не были видны даже щиколотки.
Я не мог сдержаться, чтобы не обратить на это внимание Маршала.
Пилсудский с любопытством, как на какой-то не известный ему предмет, посмотрел на меня и равнодушно кивнул головой.
— Пусть.
Несмотря ни на что, было видно, что он в прекрасном настроении. Встал с кровати и, надев только нижнее белье и тапочки, подошел к окну. Оперся обеими руками о подоконник и смотрел на открывшуюся неповторимую панораму, на окруженный колоннадой внутренний двор дворца и благородные очертания Доминиканского костела.
— Этот костел, — произнес он, — виден во всем великолепии только отсюда. Ни с какого другого места в городе он не выглядит так.
И действительно, вид был замечательный. Покрытые снегом крыши домов, небо в сочетании с тишиной и покоем, характерные для этого старого района Вильно, создавали прекрасное поэтическое целое.
Но я не видел тогда ни этой красоты, ни снежного убранства, ни архитектуры костела, ни дворцовой колоннады. Думал об одном: через две недели Пилсудскому исполнится шестьдесят семь лет… Шестьдесят семь тяжелых, заполненных трудом лет.
1 декабря около девяти утра мы выехали из Вильно в Варшаву.
1935 год
Новый год
31 декабря в 12 часов ночи мы с доктором Войчиньским зашли к Пилсудскому с бокалами вина, чтобы встретить Новый год.
— Желаем Вам, пан Маршал, здоровья, — сказал доктор.
Пилсудский взял бокал и отпил немножко:
— Спасибо.
Раньше Маршал при таких оказиях любил поговорить, вспоминал прежние времена. Теперь же молчал, не проявляя ни малейшего желания к беседе. Мы вышли.
Супруга Пилсудского находилась в Крынице, и поэтому он остался в Генеральном инспекторате Вооруженных сил.
Утром я спросил его, можно ли вечером показать кинофильм.
— Ведь сегодня праздник, — добавил я.
Маршал неожиданно спросил:
— А какой?
— Новый год.
— Новый год? У нас в Литве никто не считает его праздником. Какой еще праздник? Трех королей[223] — да, праздник, но Новый год…
Весь день Маршал провел в одиночестве.
Визит Геринга
Бельведер, 31 января
Главу правительства Пруссии Германа Геринга Пилсудский должен был принять в Бельведере 31 января в 6 часов вечера[224]. За несколько минут до этого он надел военный френч с маршальскими регалиями и парадный пояс. Геринг приехал пунктуально. Мы с капитаном Пахольским встретили его в вестибюле и проводили в гостиную, где его ожидал Пилсудский.
Этот один из наиболее известных гитлеровцев прекрасно иллюстрировал распространенное мнение о внешнем виде немцев. Толстый, тяжелый и серьезный. Его внушительный живот, который обычно скрадывал мундир, теперь, в гражданской одежде, особенно выделялся. Однако достаточно было бросить взгляд на его мрачное и суровое лицо, чтобы забыть о комплекции этого человека. Оно выражало неукротимую веру — не знаю — в себя или в идею, но во всяком случае веру, ломающую любые преграды и всегда побеждающую. Этот человек наверняка умеет быть другом и врагом не на жизнь, а на смерть. Я смотрел на него с огромным интересом. Присутствие в Бельведере правой руки Гитлера казалось мне чем-то неестественным. Еще свежим был гигантский скачок, который совершил Гитлер из ничтожества на самый верх.
Геринг снял пальто в холле и молча направился к открытой двери первой комнаты. Не глядя ни на кого, с немым выражением лица прошел большими шагами несколько залов. В последнем его ждал Маршал.
Я видел, как они поздоровались, после чего дверь закрылась.
Я задумчиво смотрел на нее. Там, за нею, разыгрывалась историческая сцена. Может, решалась линия польской внешней политики на многие годы.
Несколько лет спустя я имел возможность видеть Геринга на огромном митинге в Вене после присоединения Австрии к германскому рейху. Я никогда не предполагал, что этот толстый, пузатый человек может быть прекрасным оратором и умеет так воздействовать на слушателей. Два часа подряд он держал в напряжении пятнадцатитысячную толпу в огромном зале недействующего вокзала. Его голос не ослабевал ни на минуту. Возбужденная и внимательно слушавшая его речь толпа охрипла от постоянных возгласов «Зиг хайль!».
Через некоторое время встреча в Бельведере закончилась, Геринг снова прошел большими, тяжелыми шагами по залам дворца и, не промолвив ни слова, сел в машину и уехал. Исторический визит завершился.
Тетя Зуля умерла
Воскресенье 3 февраля Пилсудский проводил в Бельведере, и поэтому у меня было свободное время. Около шести вечера меня разыскали в городе.
— Маршал вызывает вас к себе, — сообщил дежурный и тотчас же добавил: —пани Каденацова умерла.
Я помчался в Бельведер.
Когда я вошел в угловую комнату, где сидел Пилсудский, то застал его подавленным и печальным. Увидев меня, он произнес тихим, отрешенным голосом:
— Тетя Зуля умерла.
Меня охватила жалость. Я молча смотрел на сгорбленную фигуру Маршала, который переживал постигший его удар. Понимал его горе. Ведь умерла его старшая сестра, при которой он всегда чувствовал себя «младшим».
С ее уходом он более осязаемо должен был почувствовать тяжесть прожитых лет. Сидел теперь на диване, упершись локтями о стол и водя невидящими глазами по стенам комнаты, шептал про себя: «Тетя Зуля умерла, тетя Зуля умерла»…
Я хотел чем-то утешить Маршала, но не решался прерывать его раздумья.
В какую-то минуту Пилсудский очнулся от забытья и сказал:
— Бедная Зуля. Что она сделала. Я всегда думал, что умру первым, и она похоронит меня, а не я ее.
Маршал снова умолк на долгое время, только пускал клубы дыма.
— Надо заняться похоронами, — прервал я его молчание.
Маршал оживился.
— Да, — промолвил он, — займитесь с Пахольским организацией похорон. За все плачу я.
— Слушаюсь.
— Остальные распоряжения получите завтра утром.
Вошла супруга Маршала, а минуту спустя одна из дочерей.
Я покинул Бельведер и поехал в больницу, где лежала умершая.
На следующий день мы с капитаном Пахольским явились к Маршалу за дальнейшими распоряжениями. Он, видимо, до этого все обдумал, потому что сразу же дал нам подробные указания.
Коротко они заключались в следующем: похороны состоятся в Вильно, вынос тела и похороны будет обслуживать епископ Гавлина, в обеих траурных церемониях примет участие Маршал с женой и детьми.
— К Гавлине пойдите сами и попросите от моего имени.
Весь понедельник ушел на подготовку к выносу тела, после чего вечером мы вместе с сыном умершей Чеславом Каденацовым выехали в Вильно, чтобы приготовить там все, как следует. В соответствии с пожеланием Пилсудского траурное богослужение должно было проходить в костеле Святой Анны, о котором Наполеон якобы сказал, что это единственная вещь, которую он охотно забрал бы из Вильно во Францию.
5 февраля мы обсудили все детали с ксендзом и в среду утром вернулись в Варшаву.
Поскольку Маршал сам руководил подготовкой к похоронам, мы с капитаном Пахольским тотчас же явились к нему, чтобы доложить о результатах поездки в Вильно.
После окончания богослужения в больнице тело умершей было установлено на катафалк и похоронная процессия двинулась в направлении Главного вокзала. Гроб должны были поместить в специально подготовленный вагон, а затем отправить в Вильно. Пилсудский не участвовал в похоронной процессии, а приехал на вокзал, где встретил похоронную процессию, дождался, пока гроб не внесли в вагон, после чего уехал.
Похороны были назначены на 8 февраля. Мы с Пилсудским выехали ночным поездом сразу же после церемонии выноса тела.
Это была печальная поездка. Маршал, который всегда был в прекрасном настроении, направляясь в любимый Вильно, на этот раз молчал и не проявлял никаких чувств.
Утром прибыли в Вильно. С вокзала Пилсудский отправился прямо во Дворец приемов, где остановился. Спустя некоторое время пригласил к себе епископа Гавлину, Чеслава Каденацова и меня. Мы доложили ему о состоянии подготовки к похоронам, а затем он отдал последние инструкции. Маршал особенно хотел сохранить в траурной процессии семейную иерархию, определив места поближе к гробу ближайшим членам семьи, подальше — дальним родственникам. Заявил, что сам будет идти сразу же за гробом и вести под руку старшую дочь умершей Зофью Каденацову. Его последнее заявление напугало нас. Но, к счастью, Маршал не настаивал пройти пешком вместе с похоронной процессией весь путь от костела Святой Анны до кладбища и согласился сопровождать гроб только при выносе тела из костела, а затем — от ворот кладбища до могилы.
Похороны проходили в соответствии с заранее разработанным планом. Никогда не забуду печали в глазах Маршала, когда о крышку опущенного в могилу гроба застучали первые горстки земли. Пилсудский смотрел на исчезающий, засыпанный гроб с окаменевшим выражением лица. У его ног был гроб не только сестры, но и детских воспоминаний, воспоминаний о матери, отце, старых друзьях.
Падал мокрый, липкий снег и оседал на его седых волосах. Зофья Каденацова раскрыла зонтик и подняла его над ним.
Вернулись во дворец. Вечером собралась большая часть семьи Пилсудских и допоздна пробыла у него.
Маршал не спал почти всю ночь, даже не раздевался. Я заглянул к нему в 7 утра. Он сидел на диване и курил.
— Ну, все позади. Теперь я думаю уже о Варшаве.
В 8 утра Пилсудский покинул Вильно. Дорогой он был все еще подавлен и все время молчал. О «тете Зуле» не вспоминал ни словом.
На вокзале в Варшаве его встречало почти все правительство, которое в дни траура старалось продемонстрировать свое сердечное отношение к Маршалу и сочувствие.
Через год… полвека
18 февраля
Было поздно. Может, час или два ночи. Я сидел в своей комнате и просматривал груды документов, привезенных из России. Там были полицейские донесения, фотографии, протоколы, объявления о розыске. Из груды этих пожелтевших листков проглядывала вся жизнь Пилсудского. Жизнь, лишенная дневного света, личного счастья, радости.
Читая эти документы, я никак не мог ассоциировать того, преследуемого шпиками Юзефа Юзефовича Пилсудского, он же Зюка, с сидящим в соседней комнате Первым Маршалом Польши.
Двери были открыты, и я время от времени слышал его покашливания.
Читаю один из этих листков, помятый, испачканный, написанный отчетливым почерком.
«Его превосходительству ректору Харьковского университета от студента Юзефа Пилсудского.
ПРОШЕНИЕ
Желая перевестись в Дерптский университет на второй курс медицинского факультета, имею честь просить Ваше превосходительство переслать мои документы в означенный университет, а в случае принятия меня выслать требуемое свидетельство о моем освобождении по нижеуказанному адресу.
Студент Юзеф Юзефович Пилсудский.
Мой адрес: Вильно, Замковый переулок, дом Липницкого».
На этом прошении виднеется в левом углу наискось написанное примечание университетского инспектора следующего содержания:
«Студент Юзеф Пилсудский своим поведением обращал на себя внимание инспекции, а за участие в беспорядках 18 и 19 февраля 1886 года решением Правления Университета, утвержденным куратором округа, был посажен в карцер, который отсидел, и получил выговор и предупреждение, что если будет замечено, что он ведет себя вопреки действующим предписаниям, то будет безоговорочно исключен из университета.
И. о. инспектора Д. Гаркшевский».
18 февраля 1886 года! Я невольно взглянул на календарь. Тогда тоже было 18 февраля, только год другой, сейчас — 1935-й. Значит, с того дня прошло ровно сорок девять лет. Сорок девять лет борьбы!
«Через год, — подумал я, — исполнится полвека». И в голове зародилась мысль отметить эту дату. Начал строить план. Надо было бы сказать об этом премьеру, а может, и президенту, но вначале необходимо поговорить с Маршалом.
Я взял листок с примечанием университетского инспектора и направился в кабинет Пилсудского.
Маршал сидел в глубоком кожаном кресле за небольшим, покрытым зеленым сукном столиком и, склонившись над пачкой журналов, читал. В последние годы он любил читать зарубежные иллюстрированные журналы. Видимо, был увлечен их содержанием, поскольку не слышал, как я вошел. Только после длительной паузы поднял голову, снял пенсне и промолвил:
— Что у вас?
Хотя время было позднее, вид у Маршала был отнюдь не сонным, а наоборот — он выглядел отдохнувшим. Глаза смотрели живо, блестели. Даже чересчур. Лихорадочное состояние не покидало Пилсудского уже на протяжении нескольких недель. Градусник неизменно показывал вечером на две-три десятых градуса выше предостерегающей красной отметки и приводил в депрессию доктора Войчиньского.
— Пан Маршал, — сказал я, — я тут нашел одну бумажку с харьковских времен.
Пилсудский протянул руку.
— Паскудное было время, — сказал он, взял листок и начал читать. Через минуту оторвал взгляд от документа, оперся на ручку кресла и откинул голову назад. Задумался.
Я продолжал тихонечко стоять в двух шагах от него. Не смел прерывать задумчивость Маршала: тот смотрел открытыми глазами куда-то мимо меня, в угол комнаты. Казалось, что он забыл обо мне и документе, который я принес ему. Я подумал, может, мне следует удалиться в свою комнату, как вдруг Маршал пошевелился в кресле и встал. Сделал жест рукой, как будто бы от чего-то отмахивался, и промолвил:
— Где вы это разыскали?
— В бумагах, — ответил я, — которые большевики добровольно передали нам в прошлом году.
— Ага.
Пилсудский взял в руки один из журналов и начал просматривать его, давая понять, что не намерен продолжать разговор. Но мне хотелось поговорить с ним о годовщине.
— Пан Маршал…
Пилсудский взглянул на меня поверх пенсне.
— Что еще?
— Сегодня исполнилось как раз сорок девять лет со времени того харьковского карцера.
Хм!
— Через год будет пятьдесят.
Маршал кивнул головой.
— Невелика премудрость, — сказал он, — уметь прибавить один к сорока девяти.
Теперь я приступил к сути дела.
— Я хотел спросить, вы бы не возражали организовать в 1936 году торжества по случаю полувековой годовщины вашей работы.
Пилсудский, не раздумывая, ответил:
— Еще чего, ни в коем случае.
Я растерялся.
Маршал постучал мундштуком папиросы по столику и сказал:
— Тоже придумал… я совсем не рад, что с тех пор прошло уже полвека и не имею никакого желания отмечать эту дату.
Мне стало не по себе. Какого черта я вылез с этим предложением? Мои переживания, должно быть, отразились на моем лице, поскольку Пилсудский дружески улыбнулся мне, как бы желая утешить меня.
— Да, да, — сказал он, — полвека — немало времени. А мне, знаете, пятьдесят лет исполнилось в тюрьме.
— В Магдебурге?
— Да, в Магдебурге. А пятьдесят первый — в Бельведере. Я уже был Начальником государства. Полвека… Полвека собачьей жизни. А эту вашу паскудную харьковскую годовщину спрячьте в карман или в ящик. Харьковская годовщина… Бог с ней.
Но, видимо, никак не мог оторвать свои мысли от давних воспоминаний.
— Паршивый был этот губернский город Харьков.
Тем временем старинные часы, стоящие на полке с книгами, пробили три часа утра. В кабинете царила идеальная тишина.
Маршал полулежал в кресле и задумчиво смотрел на большую картину Следзиньского «Взятие Вильно в 1919 году». Пилсудский любил эту картину. Считал ее «комической». «Смотрите, — сказал он мне как-то, — какие у меня на этой картине красивые белые перчатки. Мне кажется, я никогда таких красивых не имел». Но тогда, когда я стоял перед ним в Генеральном инспекторате Вооруженных сил, он не думал об этой картине. Его взгляд, не задерживаясь, скользил по ней. Раздумывал. Я знал, что в последнее время Маршала одолевали черные мысли и старался, как мог, отвлечь его от них. И теперь я подошел к окну, раздвинул штору и посмотрел на небо. Оно искрилось от звезд.
— Мороз, пан Маршал, — сказал я.
Пилсудский очнулся от задумчивости.
— Хорошо, хорошо, — сказал он и склонился над журналами.
Болезнь
До февраля здоровье Пилсудского давало, правда, иногда сбои, но не настолько, чтобы вызывать в семье или ближайшем окружении опасения. Болел гриппом, простужался, страдал от кашля, но из всех этих недугов он всегда выходил победителем. И только 1935 год начался под плохой звездой. Лихорадочные состояния случались все чаще, и все заметнее проявлялось ослабление всего организма. Доктор Войчиньский делал, что мог, чтобы добиться согласия на проведение консилиума, но безрезультатно. Несмотря на недомогания, Маршал работал почти нормально: принимал людей, выезжал в Вильно…
23 февраля снова выехал в Вильно, а я на этот раз остался в Варшаве.
После его возвращения я около полуночи явился к Маршалу за распоряжениями на следующий день. В Бельведере было тихо и сонно. Как всегда, без стука вошел в угловую комнату, где на диване за овальным столиком сидел Пилсудский. Для него полночь была ранним временем, и я знал, что застану его бодрствующим. В комнате было светло, горело как минимум с пятьсот электрических свечей. Маршал не читал и не раскладывал пасьянса. Сидел, опершись руками о стол, и курил.
— Добрый вечер, — сказал я.
Однако вместо обычного «добрый вечер» услышал фразу, которая показалась мне тогда маловажной, но значение которой я оценил позже.
— Меня вырвало, — промолвил Пилсудский.
До февраля 1935 года я не интересовался такой опасной болезнью, как рак желудка, не знал ее симптомов. Поэтому сказал:
— Наверное, съели что-нибудь недоброкачественное в Вильно или в поезде. Надо принять таблетку.
Пилсудский внимательно посмотрел на меня:
— Думаете, из-за желудка?
Я не понял его вопроса. Для меня все было ясным.
— Доктор из меня неважный, может, позвать Войчиньского?
— Не надо.
Маршал взял у меня иллюстрированные журналы и начал просматривать их. Но определенная тревога, которую я уловил, когда Пилсудский говорил о тошноте, посеяла во мне зерна беспокойства. Я начал вспоминать состояние его здоровья в разное время.
Уже в январе было два приступа боли. Позднее появилась рвота. Все это Пилсудский приписывал расстройству желудочно-кишечного тракта и начал придерживаться диеты. Вначале отказался от трудноперевариваемых блюд, потом стал ограничивать порции, пока наконец не перешел на лечебное голодание. Доктор Войчиньский старался убедить Маршала, что голодание не только не устранит источники страданий, но серьезно ослабит его организм, но тот не хотел его слушать. Тогда доктор Войчиньский попросил меня объяснить Пилсудскому, что тошнота и рвота вызваны не желудком, а печенью.
Выбрав момент, я направился к нему и сказал:
— Пан Маршал, кто знает, правильный ли путь это голодание?
Пилсудский как раз совершал свою ежедневную утреннюю прогулку по комнате. Услышав мои слова, остановился и недружелюбно посмотрел на меня.
— Ишь, умник нашелся, — промолвил он и опять зашагал по комнате.
— Бывает так, — продолжал я излагать мысли доктора Войчиньского, — что даже при здоровом желудке…
Пилсудский прервал прогулку и уселся в кресло.
— Вы же не врач, — сказал он, — и не имеете права заниматься моим здоровьем. А впрочем, я сам себя лечу, не нуждаюсь в этих негодяях.
О врачах у Маршала было вполне определенное мнение.
— При болезнях печени, пан Маршал, симптомы…
Услышав слово «печень», Пилсудский возмутился.
— Докторский агитатор. Будет внушать мне болезнь печени. Это наверняка выдумка Войчиньского. У самого больная печень, хочет, чтобы и у меня было то же самое. Убирайтесь с такими идеями в Америку или Сибирь. Не хочу слышать об этом. Понимаете?!
И Пилсудский завершил разговор парой крепких выражений. Моя миссия провалилась.
Шли дни. Маршал перешел на еще более строгую диету. Я с испугом смотрел на его прогрессирующее истощение и слабость. Он страшно похудел.
В применении собственного метода лечения Пилсудский проявил невероятную настойчивость и решительность. Дни проходили за днями, недели за неделями, а он не прерывал своей полуголодовки. Его метод принес вначале определенный успех. Тошнота появлялась редко, боли тоже. Росла только слабость. Маршал начал постепенно сокращать любые физические усилия. Ограничил, а затем и совсем отказался от прогулок по своему кабинету, все реже заглядывал в мою комнату, просил других раскладывать за него пасьянс.
Когда 19 марта выезжал последний раз в Вильно, был уже очень слабым. Однако по-прежнему скрывал свое состояние от людей. Не выносил жалости, сетований. В то время, то есть в марте, работал очень интенсивно. Принимал многих людей, проводил совещания. Все эти визиты Пилсудский назначал на то время, когда хорошо себя чувствовал. Принимая гостей, сидел удобно в кресле, курил и оживленно разговаривал. Но я видел Маршала после этих бесед. Видел его поникшую голову и беспомощно опущенные плечи, потухший взгляд.
Войчиньский неоднократно обращался к Пилсудскому с просьбой согласиться на созыв консилиума, но Маршал не хотел и слышать об этом. На все аргументы коротко отвечал: «Не хочу». Войчиньский был в отчаянии.
Однако, несмотря на голодание, тошнота и рвота повторялись все чаще, а наше беспокойство начало переходить в панику. Наступило 4 апреля, когда мы решили еще раз атаковать Маршала по вопросу консилиума. Время для разговора выбрали около полуночи, когда Пилсудский составлял план на следующий день.
Явились к Маршалу вдвоем. Комендант сразу же догадался, что у нас какое-то серьезное дело, и, видя наши колебания, сказал:
— Ну, снесите же наконец свое яйцо.
— Пан Маршал, — начал Войчиньский, — надо обязательно собрать консилиум. Очень давно его не собирали.
Пилсудский враждебно посмотрел на доктора и демонстративно обратился ко мне, игнорируя его.
— Эти врачи — отвратительный народ, мерзавцы, проходимцы, негодяи!
Маршал повысил голос. Войчиньский стоял, как на горячих углях, переступая с ноги на ногу, наконец он не выдержал:
— Когда надумаете, пан Маршал, скажите мне.
Поклонился и вышел. Я остался с Пилсудским.
Маршал продолжал метать громы и молнии по адресу всех врачей мира.
— Вы не представляете, какие это подлецы, как они любят досаждать другим.
— Ну да, — подтвердил я мнение Пилсудского о врачах, — но ведь вас вообще не лечат, и если так будет продолжаться, то вам станет хуже. Что же касается врачей, то можно взять других, тоже хороших.
Пилсудский тем временем совсем успокоился.
— Я бы даже согласился на этот консилиум, — сказал он примирительно.
Я тотчас же подхватил его слова.
— Может, я займусь этим вопросом?
— Хорошо, займитесь вместе с Войчиньским. Этот Войчиньский не такой уж плохой доктор.
На следующий день мы составили список врачей, которые должны были принять участие в консилиуме. Однако проделанная нами работа оказалась напрасной. Маршал, согласившись теоретически на созыв консилиума, на практике откладывал его со дня на день. Наконец, устав, по-видимому, от нашего давления, согласился.
Доступ к Пилсудскому врачи получили лишь 25 апреля.
День рождения панны Ягоды
Вечером я сидел в своей комнате и работал над книжечкой для молодежи, которая была издана позже под названием «От Сибири до Бельведера». Это была моя последняя работа, которую я писал с одобрения Маршала. Когда я сообщил ему ее название, он бросил: «У вас голова приспособлена для придумывания названий…» К сожалению, этой книги он уже не успел прочитать.
Как только я приготовился ужинать, раздались шаги и ко мне вошел Маршал. Через мою комнату проходила «дорога» в ванную, и он частенько заходил ко мне. Сейчас, однако, пришел «просто так», возможно, со скуки, а может быть, чтобы услышать человеческий голос в тех глухих инспекторских комнатах. Пришел и стал перед моим столом, опираясь о него обеими руками. С минуту молча глядел на мой ужин, затем начал смеяться своим тихим смехом, во время которого у него смеялось все лицо, а в особенности глаза. У Маршала было два способа смеяться. Один глубокий, уверенный, как бы выходящий из глубины легких, а другой — именно такой, каким он смеялся тогда у моего стола. Смеясь, он все время обращал мой взгляд на тарелку с сухой колбасой.
— Скажите мне, в состоянии ли вы все это переварить?
— Как-то справлюсь, пан Маршал.
Маршал не переставал смеяться.
— Подумать, — изрек он наконец, — что и я когда-то едал столько…
— Но и сейчас у Вас с этим не так уж плохо, пан Маршал.
— Но и не хорошо. А знаете ли, что было со мной в Вильно?
Маршал снова засмеялся.
— Я съел целую тарелку ветчины.
— О, это, наверное, могло повредить пану Маршалу.
— И я так думаю, но знаете, она была так хороша. Очень удалась эта ветчина пану воеводе.
А через минуту:
— Вы, как всегда, пишете. А что же вы пишете?
— Описываю различные фрагменты из жизни пана Маршала. Об этом я уже Вам докладывал. Хочу назвать эту книжечку «От Сибири до Бельведера».
Маршал поднялся над столом и, уже отходя, бросил: «Горазды выдумывать названия».
Ужинал Маршал обычно в восемь часов вечера. Трапеза длилась долго, около часа. Правда, само потребление пищи редко занимало больше, чем десять минут, однако время чаепития тянулось до бесконечности. А затем — папироса, одна и другая…
И тогда было так же. Это было время, когда физическая слабость еще не выбила Маршала из русла многолетних привычек.
Минуло уже десять часов, когда я услышал зов Маршала. Часто вместо того чтобы звать по фамилии, званию или должности. Маршал подзывал меня веселым окриком: «Хоп, хооп!»
Я быстро подскочил к спальне, отзываясь еще издалека: «Есть, пан Маршал!»
Я застал его, удобно развалившегося в кресле, вытянувшего ноги, с папиросой в руке. Серая куртка была расстегнута. Перед ним стояли пустой стакан и блюдечко с киселем, который был уже наполовину съеден.
— Пан Маршал приглашал меня? — спросил я.
— Да, да.
У Маршала было удовлетворенное и веселое выражение лица. Позавчерашнее вечернее настроение, вызванное работой, как-то затерялось в других, более приятных мыслях. Во всяком случае, это был уже один из последних дней Маршала, когда настоящее еще не находилось под прессом все более отчетливого будущего. Он взял колоду карт и начал их тасовать. Он часто так делал, прежде чем сказать то, что хотел сказать, медлил и канителил. То прикуривал, то начинал раскладывать пасьянс, то снова пил чай. Медлил так и сейчас. Я знал об этой привычке, поэтому стоял спокойно и ждал.
Карты были уже разложены, когда Маршал решился отозваться.
— Сегодня в Бельведере, — сообщил он, — большое торжество.
Говорил и усмехался.
Я не знал, что это за торжество, поэтому спросил:
— По-видимому, это какое-то семейное торжество?
— Да, именно семейное. Ягоде исполнилось пятнадцать лет.
— О, она уже совсем взрослый человек.
— Ну, пожалуй.
Это слово «пожалуй» Маршал произнес исключительно серьезно. И минуту спустя добавил:
— Страшно подумать, что дети так быстро растут. Мне кажется, еще вчера она была вот такой маленькой…
— Я не знал об этой годовщине, — вклинился я, — иначе зашел бы поздравить панну Ягоду.
Маршал Пилсудский пожал плечами.
— Не с чем поздравлять. Я уже говорил всем об этих глупых, бессмысленных годовщинах, — сказал он, — я ее тоже не поздравил и даже сказал, что предпочитал бы стократ, чтобы ей было сейчас пять лет. Вы не представляете себе, какой это был прелестный ребенок.
Уже второй раз в течение нескольких дней мне не удавалась беседа о годовщинах.
Маршал Пилсудский задумался и устремил взгляд в какую-то точку перед собой. Наверное, он вспоминал о временах десятилетней давности, когда его младшей дочери было пять лет, а он сам находился в Сулеювеке.
— Естественно, — отозвался он через минуту, — мои дочери всегда соперничали между собой. Каждая хотела быть лучшей. Однажды, например, в Сулеювеке я долго наблюдал за Ягодой, которая демонстративно прохаживалась вдоль куста, просто роящегося от слепней.
Я умышленно не спрашивал, зачем она это делает, ожидая, что она сама все объяснит. «Видишь, папочка, — сказала она, — я совершенно не боюсь слепней, а Ванда говорит, что я маленькая».
Маршал прервал свой рассказ и спросил: «И что вы об этом думаете?»
— Деловая девочка, — отозвался я.
— Ну, думаю я, моя дочь!
Маршал продолжал: «А еще был случай — бедняжка споткнулась и упала и, видя смеющуюся Ванду, сразу же заявила, что не упала, а только «так себе — легла на животик».
Маршал Пилсудский смеялся весело уже только при упоминании о приключениях своих «паненок», как он обычно называл дочерей.
— Определенно лучше никого не поздравлять по случаю дня рождения, — добавил он еще.
Я возвратился в свою комнату, торжественно обещая себе, что уже никогда не буду выскакивать перед Маршалом с предложениями о каких-либо годовщинах. Вспоминал при случае, что уже перед этим Маршал набросился на меня за напоминание о том, что 1-й полк Легионов собирается отметить свою двадцатую годовщину. Маршал сказал тогда:
— По бедности могу признать десятую и двадцать пятую годовщины, но никогда двадцатую Что это за годовщина? Почему не девятнадцатая, а?
В подходящее время я сообщил о том тогдашнему командиру 1-го полка Легионов, ну и, понятно, двадцатая годовщина не отмечалась особенно торжественно.
Антони Иден
2 апреля 1935 года
О дате визита английского министра Антони Идена[225] я знал уже достаточно давно и очень беспокоился, состоится ли он из-за состояния здоровья Маршала.
В день визита Маршал побрился и постригся, распорядился, чтобы во время приема были поданы чай и печенье, и заявил, что прибудет в Бельведер непосредственно перед прибытием англичанина. Как всегда перед важной встречей, он был задумчив. По своей привычке громко говорил сам с собой, время от времени крепко ударяя ладонью по столу.
Министр Иден прибыл в сопровождении посла X. Кеннарда[226] и еще двух человек. Министр Бек приехал перед ним. Следовало признать, что оба государственных деятеля своим внешним видом делали честь народам, которые представляли. Однако мы с удовлетворением отмечали, что не обменяли бы Бека на Идена.
Английский министр иностранных дел любил подчеркивать, что был офицером, капитаном. Может быть, поэтому он держался просто и во внешности имел что-то рыцарское. Высокий, худощавый, с коротко подстриженными усами и милой улыбкой, он вызывал симпатию. С особым интересом мы, адъютанты, разглядывали его безукоризненно скроенное представительское обмундирование, а кто-то из бельведерских вахмистров заметил позднее:
— Такой костюмчик как пить дать злотых четыреста стоит.
Прием продолжался недолго, около получаса. Впоследствии министр Бек рассказывал мне, что Маршал был в то время в плохой физической форме и что его охватил большой испуг за него. Позже я слышал также, что министр Иден в отчете об этом визите характеризовал состояние здоровья Маршала как плохое, подозревая у него опасную болезнь — уремию. Этот диагноз был ошибочным. Какими-то неизвестными мне путями содержание отчета стало известно в определенных французских кругах, а оттуда — вернулось в Польшу. Это была первая тревожная весть о здоровье Маршала, которая дошла до политических кругов за границей. У нас, в Польше, ей в целом не верили.
Как только Иден покинул порог салона, я сразу же побежал в Угловую комнату. Маршал медленно двигался через комнату княгини Лович[227] в спальню и уже в моем присутствии прилег, а точнее, упал на кровать. Я с испугом смотрел на него. Он производил впечатление очень изнеможенного и бессильного человека. Желая подавить собственное беспокойство, я сказал:
— Очень приятно, что такой визит уже завершен.
Маршал ничего не ответил и только, несколько отдышавшись, сел на кровати и бросил: «Да, да, после завершения переговоров с англичанами всегда чувствуешь себя очень приятно».
В этот же день мы возвратились в инспекторат.
Отъезд в Сулеювек
6 апреля 1935 года я проснулся раньше, чем обычно. Стояла хорошая погода. На улице 10 градусов тепла. Маршал удовлетворенно кивнул головой.
— В полдень на солнце будет 20 градусов. В таком случае, поеду в деревню.
В солнечном свете, заливающем комнату, Маршал выглядит плохо. У него серая кожа, впалые щеки и очень худая шея. Ведь он уже был тяжело болен. Однако он не ложился в постель, рано вставал, надевал свою обычную серую куртку, усаживался за рабочим столом, принимал людей, давал поручения. Его исхудавшие руки все еще крепко держали бразды правления. Одно движение этих дрожащих рук, одно сжатие этих все чаще искривленных болью губ — это приказ, который выполнялся слепо, без минуты раздумий. О состоянии его здоровья в то время в Польше мало кто знал. Да и тот, кто знал, не был болтлив. Поэтому страна спала спокойно.
Маршал выпил в постели чай, читая газету, затем медленно, с трудом начал одеваться.
— Ну, так я еду. Чтобы только снова не подступила эта дурацкая тошнота.
Непроизвольно у меня сорвалось с губ:
— Все утро прошло хорошо, по-видимому, и дальше будет так же.
Маршал поморщился.
— Снова утешаете меня. Обойдусь без ваших утешений. Я — не моя панна, не Ягода, не Вандка. Успокаивайте их, сколько хотите, но не меня. Я не нуждаюсь в утешениях.
Однако уже при самом воспоминании о «своих пани», как называл он жену и дочерей, туча сползла с чела Маршала. Он усмехнулся:
— Едем.
Мы сели в автомобиль и двинулись. Я сидел, как обычно, рядом с Маршалом и старался что-нибудь говорить, чтобы оторвать его от грустных мыслей.
Ехали по аллее Шуха, затем Аллеями Уяздовскими. На улице Новый Свят я обратил внимание Маршала на то, что женщины уже ходят в весенних платьях. Маршал усмехнулся:
— Ну, теперь уже точно будет весна.
И по своей привычке добавил совсем неожиданно:
— Что должно делаться сейчас в душах этих женщин! Как же они должны беспокоиться и стараться, чтобы перевоплотиться в такие весенние создания…
На углу Аллеи 3 Мая мы остановились у перекрестка. На остановке группа людей ожидала трамвая. При виде Пилсудского она пришла в волнение, оживилась. Мужчины сорвали фуражки с голов и застыли, женщины несмело протискивались ближе к окнам. Маршал смотрел вперед и старался ничего не видеть, но, когда подошел солдат и отдал честь, ответил ему воинским поклоном.
Мы двинулись дальше.
Через Аллею 3 Мая и мост Понятовского пролетели, как ветер. Висла уже освободилась от ледостава, но еще кое-где были видны запоздавшие льдины. Маршал всегда интересовался состоянием рек, поэтому с интересом присматривался к Висле.
— Вот была бы история, — сказал он, — если бы в этом году она так и не замерзла.
— Э-э, вероятно, этого не может быть, — выразил я сомнение.
— Ну, ну, не колдуйте. В Польше относительно климата известно одно, и то не очень достоверно, что в июле и августе не будет снега. Кроме этого, все возможно.
Едем длинной улицей Гроховской, минуем Вавер и выходим на шоссе, вдоль которого много камней, уложенных в симметричные кубы. Видны люди, оборудование, ведутся приготовления к работам.
— Наконец, — говорю, — у нас будет неплохая дорога в Сулеювек.
Маршал поддакнул.
К сожалению, он не воспользовался хорошей дорогой к своему дому и в последний раз ехал по выбоинам и ямам, наносящим большой ущерб варшавским повятам.
Наконец мы приехали в Сулеювек.
Медленным шагом, опираясь на трость, Маршал двинулся в сад. Миновал дом и задержался у островка кустов. Внимательно осмотрел лопавшиеся почки, затем наклонился и сорвал маргаритку, несмело сидящую в траве.
— Принесите мне кресло, — произнес Маршал, увидев меня, — я посижу немного на солнце.
Вместе с вахмистром мы принесли большое кресло и поставили его в широком круге солнечного света. Пилсудский сел, укрыл ноги меховым пледом и прищурил глаза.
Тем временем откуда-то из-за горизонта надвинулись белые потрепанные облака и начали заслонять солнце движущейся прозрачной шторой.
Усевшись рядом с Маршалом на ступеньках веранды, я глядел на его прекрасный рыцарский профиль, так изменившийся сейчас из-за болезни. И вновь, во второй раз за день, сердце мое сжалось от боли
Маршал открыл глаза.
— Вы здесь? — спросил он.
— Так точно, пан Маршал.
— Это хорошо, дитя, что находитесь здесь.
Маршал долго молчал, наконец отозвался:
— Я часто думаю о той минуте, которая будет предшествовать смерти, когда я уже ничего не буду ощущать из внешнего мира, кроме цвета. Разные цвета будут еще живо стоять в моих глазах, хотя я сам… буду уже у порога…
— Пан Маршал! — чуть ли не закричал я, и горло мое сжалось, как будто бы его кто-то перетянул бечевкой.
Маршал совершенно не обратил внимания на мой выкрик.
— Меня интересуют, — продолжал он, — эти цвета. Вот сейчас вижу сквозь ресницы розовый и голубой. Откуда этот голубой? Это ведь цвет моей куртки.
Маршал зашевелился в кресле и повернул голову ко мне.
— Эти дурные…
Я вскочил.
— Вам плохо, пан Маршал?
Маршал небрежно махнул рукой.
— Уже лучше.
И через минуту:
— Я уже не переживу этот год.
Я выдавил из себя легкомысленный смешок, хотя вместо сердца чувствовал в себе глыбу льда.
— Что Вы говорите, пан Маршал?
Маршал долго двигал плечами и разводил руками, как бы разговаривая сам с собой, после чего сказал:
— Чего же вы хотите, это ведь обычное дело.
Что-то изнутри больно сдавило меня. Как же я горжусь сейчас, что ответил тогда, не теряя спокойствия:
— Вероятно, это будет тот первый случай, когда пан Маршал ошибется.
Маршал начал снова разводить руками и пожимать плечами.
— Я хорошо знаю, что вы — крикун, — сказал он, — и не надо хвалиться этим.
Перед тем как сесть в автомобиль, Маршал привстал на минуту, повернулся и посмотрел на тихий, белый дворик, на засохший дикий виноград, оплетающий крыльцо, на ковер травы, на сосны…
15 апреля
В 14.30 Маршал поехал в Сулеювек. Возвратился в 17.00. По пути на него вновь напала тошнота.
Генерал Складковский сидел в моей комнате, молчаливый и грустный.
— Слушайте, — обратился он ко мне. — Вы, вероятно, видели, как рвало коменданта?
— Видел, пан генерал.
— А… а не было ли в этой рвоте крови?
Генерал смотрел на меня строго, как бы боясь, что я совру.
— Крови не видел, но она была цвета ржавчины.
Генерал Складковский беспокойно заерзал.
— Говорите, ржавчины?
В это время генерал Роупперт[228] вклинился в нашу беседу фразой, смысл которой я понял только позднее.
— Это мы ведь исключили, не о чем говорить.
Генерал Складковский кивнул головой и задумался.
Тогда я не знал, что эти два верных солдата Маршала решили не говорить людям из его ближайшего окружения о витающей в инспекторских комнатах тени злокачественной опухоли — рака. Не хотели, чтобы их подавленность, вытекающая из сознания этого факта, отразилась на настроениях окружающих, которые ведь до самого конца должны были чувствовать себя безмятежно.
Страстная неделя 1935 года
Вторник
Было 12 часов ночи. Возвратившись из города, я взял только что доставленные иллюстрированные журналы и пошел к Маршалу. Он сидел сгорбленный над кучей смешанных пасьянсных карт и смотрел куда-то вперед невидящим взглядом. В ярком электрическом свете его серая кожа приобрела желтый оттенок, а худые руки, лежащие на зеленом сукне столика, были почти прозрачными. Увидев меня, он слабо улыбнулся.
— Дитя, вы принесли мне письма, что там?
— Пан Маршал, есть «Vu», «Illustration», «Berliner Illustrirtes Blatt», «Wiener Illustrirtes Blatt» и «London News».
Такой обычай сложился в течение многих лет. Около 12 часов ночи, когда Маршал переставал уже думать о политических делах, я приносил ему горы иллюстрированных журналов, которые поступали со всего мира. Пан Маршал так привык к этому, что, когда случилось, что я, не помню уж, по какой причине, не принес их, на другой день отчитал меня с укоризной.
Маршал взял журналы, выбрал английский «London News» и спросил:
— Где мое пенсне?
Маршал часто вместо «очки» говорил «пенсне». Пользовался им только во время чтения. Были это обычные стекла в черной оправе. Они всегда плохо держались на носу, и чаще всего Маршал придерживал их рукой. У нас постоянно было по несколько очков, но их и так все время недоставало. Вначале велись поиски, затем они обнаруживались в книгах, бумагах, карманах.
На этот раз пенсне нашлось в коробке от папирос. Маршал надел его и начал громко читать английские подписи под иллюстрациями.
— Что касается меня, — отозвался я, — то я понимаю едва лишь пятое через десятое.
А Маршал в ответ:
— Я переведу вам, что здесь написано.
Некоторое время Маршал переводил. Наконец углубился в текст и забыл обо мне. Поэтому я удалился в комнату, где было радио, и попытался поймать какую-нибудь заграничную радиостанцию. Это мне удалось. Я услышал мелодию какого-то танго, приглушил звук и включил репродуктор в комнате Маршала. Музыка не мешала ему ни читать, ни думать, а наиболее приятной была для него во время раскладывания пасьянса.
Пошел второй час ночи, но для Маршала и для меня еще был только вечер. Я уселся за столом и приступил к работе. Вдруг я заметил, что на бумагу упала тень. Поднял голову. Передо мной стоял Маршал. В доме он всегда ходил в домашних тапочках, а так как пол у нас был застлан коврами, мог подойти совершенно беззвучно.
Я встал.
По своей привычке Маршал оперся двумя руками о стол.
— Что же нового вы там мастерите? — спросил.
— Пишу о Персии.
— Ну и сумасшедший…
Я показал Маршалу новые русские книги о России. Он с интересом полистал их, затем спросил:
— А в Гонолулу вы были?
— Нет, пан Маршал.
Маршал махнул рукой.
— Тогда никудышный из вас путешественник.
В 1904 году Маршал Пилсудский совершил путешествие из Сан-Франциско в Японию, а по пути посетил Гонолулу на Гавайских островах. Об этом путешествии он рассказывал несколько раз, удивляя меня обстоятельностью описания и гаммой полученных впечатлений.
Маршал взял одну из моих книг и вернулся к себе.
Полчетвертого. Это поздно даже для нас, жильцов одинокого уютного Дворца на Аллеях Уяздовских. Я подошел к кабинету и сказал:
— Уже поздно, пан Маршал.
Маршал взял папиросу.
— Хорошо, хорошо, — ответил, — сейчас иду, только выкурю папиросу.
Я зажег свет в спальне, но только через некоторое время услышал, что Маршал идет и что-то вполголоса шепчет. Знал, что этот шепот конечно же означает недовольство. Это повторялось почти ежедневно.
Вначале он садился на кровать и докуривал папиросу. В это время я приносил из кабинета пасьянсные карты, так как Маршал иногда любил уже в постели разложить «пирамидку» или «елочку». Рядом с картами клал на ночном столике часы, очки и револьвер. Пилсудский всегда любил иметь под рукой револьвер.
Я сходил еще раз в кабинет, чтобы выключить свет. Через минуту возвратился и сообщил, что комнатный термометр показывает 17 градусов тепла по Реомюру. Маршал не признавал Цельсия, ему всегда нужно было давать температуру по восьмидесяти градусной шкале, а температурой на улице и в помещении он очень интересовался. Кроме того, Маршал очень не любил ветра и всегда спрашивал, дует или не дует на улице.
Хотя Маршал был уже в постели, я не отходил. Присел у окна и ждал, пока он не уснет. Делал так я всегда, а позднее потихоньку, на цыпочках выходил в свою комнату. Но Маршал и не думал спать. Курил и что-то обдумывал. Было уже начало пятого, у меня слипались глаза, но я держался. В это время Маршал сел на постели и заявил:
— Слушайте, на завтра нужно будет пригласить Бека.
Я знал, что Маршал очень не любил сам назначать время приемов, поэтому быстро сказал:
— Наверное, лучше будет в шесть вечера.
Ни спрашивал, ни утверждал, использовал какую-то среднюю форму.
Маршал кивнул головой: «Перед обедом пусть придет Каспшицкий»[229].
Перед обедом — это я уже знал — значило в 13.00.
Я вышел на минуту в свою комнату, чтобы сделать пометку о планируемой встрече. Маршал все еще не спал, но уже готовился ко сну. Прилег на правый бок, опершись головой о ночной столик. В такой позе он спал целыми часами и обычно только утром укладывался нормально на подушку. Эту привычку он перенял от матери.
Еще минута — и я услышал, что Маршал начал спокойно, глубоко дышать. Уснул. Я поднялся и, старательно обходя хорошо известные мне скрипящие плитки паркета, пошел в свою комнату.
Свет в комнате Маршала я не выключал, обычно он оставался включенным на всю ночь.
Великая среда
Я пришел из города в 14.00. Обычно спокойный капитан Миладовский поздоровался со мной, проявляя признаки волнения. Уже на пороге он сказал то зловещее слово, от которого леденело сердце и которое все чаще повторяли люди из ближайшего окружения Маршала. Он сказал: «Плохо».
Я снял пальто и пошел к Маршалу. Застал его в спальне, в удобном кожаном кресле с высокой спинкой, у низкого столика, за которым он обычно обедал и ужинал.
— День добрый.
Маршал посмотрел на меня, но не ответил. Несмотря на то что я видел его ежедневно, все же замечал, как с каждым днем он худел, больше уставал, как наступал большой упадок сил. Вот и сейчас он тяжело опирался о столик всем телом.
Мое появление несколько его оживило.
— Хорошо, — сказал он, — что вы пришли. Будете раскладывать (!) пасьянс.
Я уселся напротив Маршала, взял карты и начал укладывать их в форме «часов». Маршал внимательно присматривался к этому и поправлял меня, ибо я всегда был никудышным пасьянщиком. В определенный момент он отозвался:
— Человече, куда вы кладете семерку?
Прошел час, второй. Маршал уже давно не смотрел на карты. Но я не отходил, зная, что он не может остаться один. Сразу же беспокоился, звал. Я перестал раскладывать пасьянс и остался сидеть в бездействии. У Маршала были широко открытые, будто бы незрячие глаза. На его недвижимом, каменном лице не отражалось какой-либо мысли. Я не знал, о чем он думал, но допускал, что в своих, всегда точных расчетах он считался уже с Великим Неизвестным…
Нас разделял маленький деревянный столик, укрытый серой салфеткой. И колода карт — символ гадания. Вспомнился в то время рассказ Маршала о цыганке из Сибири, гадалке, которая, посмотрев на его ладонь, воскликнула: «царем будешь» и, испугавшись собственных слов, убежала.
Маршал с трудом встал, медленно подошел к окну, отодвинул занавеску и выглянул на улицу. На Аллеях Уяздовских движение было слабым, на остановке несколько людей ожидали трамвая. Надвигался вечер.
В слабом свете умирающего дня Маршал выглядел, как когда-то раньше. Не было заметно серости кожи, худобы, потухшего взгляда, бессильно упавших плеч. На какое-то мгновение я забыл о последних нескольких месяцах, забыл о его бессонных ночах, приступах невралгии, подавленности. Казалось, что через минуту раздастся низкий, подавленный смех, что сгорбленная фигура выпрямится, что он поднимет голову, расправит плечи…
Маршал зашевелился в кресле, взял в слабые ладони колоду карт и хотел было их потасовать, но карты выпали из его рук и рассыпались по полу. Он беспомощно посмотрел на них и сказал:
— Слаб я, оставим это.
Недавнее несколькочасовое голодание без ведома врачей давало свои плоды
Наконец Маршал открыл глаза, с минуту молча глядел на меня, после чего сказал:
— Слушайте, поедемте в Вильно.
Я с ужасом посмотрел на него. Хорошо знал, что состояние его здоровья очень тяжелое, что любая простуда, лишние усилия, усталость могут закончиться катастрофой. Но одновременно знал, что возражение Маршалу почти никогда не давало результатов. Тем не менее считал своей обязанностью протестовать.
— Пан Маршал, — сказал я, — как же мы можем поехать в Вильно? Вы еще очень слабы, да и погода сейчас весенняя, ненадежная.
Маршал был задумчив, уставился взглядом в какую-то точку, находящуюся за мной. Непроизвольно обернувшись, я заметил, что Маршал смотрел на фотографию своей матери, висевшую над кроватью. Это была фотография из ее девичьих лет, сделанная в 1855 году в Берлине. Когда-то Маршал рассказывал мне, что мать выезжала туда для проведения операции на ноге. Из рамки смотрела красивая пятнадцатилетняя паненка в шляпочке с ленточками и в кринолине. Маршал упорно смотрел на нее и, не отрывая взгляда от фотографии, изрек:
— Именно потому, что я себя плохо чувствую, я хочу поехать в Вильно. В этом году Пасха приходится на те же дни, что и в 1919 году.
Я попытался протестовать снова.
— Можно было бы отложить выезд до Троицы. Погода будет лучше, да и здоровье, определенно, поправится.
Я продолжал говорить, но заметил, что Маршал совершенно меня не слушает. Перекладывал по-своему руки и пожимал плечами. Я крутился как на горячих углях, на лбу выступил пот, однако чувствовал себя бессильным.
Вскоре Маршал отозвался. Его голос звучал приглушенно, как бы выходил из глубины груди.
— Хочу последний раз в жизни, — сказал, — принять виленский парад…
И сразу добавил:
— Только прошу не утешать меня… Узнайте, в какой день виленский гарнизон будет отмечать годовщину взятия Вильно, в Великую субботу или Великое воскресенье. Я уже не хочу ожидать…
Голос Маршала уже звучал нормально, был чистым и спокойным.
Я с трудом ответил: «Есть, пан Маршал!», но сейчас, в свою очередь, не узнал своего голоса. Казалось мне, что это отозвался кто-то другой, а не я. Ведь мой голос не мог быть таким хриплым…
Маршал Пилсудский смотрел на меня доброжелательно и, видимо, заметил что-то в моем лице, поскольку сказал:
— Ну и сумасшедший вы, дитя мое. Это ведь естественное дело.
Но это были только грезы.
Я хотел тихонько зажечь свет, но Маршал не разрешил.
— Пусть этот час остается серым, — бросил он и возвратился к своему креслу с высокой спинкой.
Долго не двигался, молчал. Я встал и хотел тихо пройти в свою комнату.
— Останьтесь.
Я включил свет и снова присел.
В семь часов возвратилась пани с дочерьми. Она отсутствовала несколько часов. Три пары глаз вопросительно смотрели на меня.
— Пан Маршал, Вы еще ничего не ели, — сказал я, — может быть, паненки предложили бы что-нибудь?
А в это время паненки, как обычно, наперегонки бежали в кабинет к отцу. Я услышал, как они сказали «день добрый, папочка» и затем одновременно начали что-то рассказывать.
Вместе с супругой Маршала мы прошли в мою комнату. Там как раз были генерал доктор Роупперт, доктор Мозолевский и санитарка.
Врачи заявили: «Ситуация безнадежная». Пани все еще не могла в это поверить. А наша сердечность не позволяла возразить, вырвать у нее еще теплившуюся надежду.
В одиннадцать часов я снова остался один на один с Маршалом.
Великий четверг
В эту ночь Маршал не спал совсем. Даже не раздевался. Шторы я поднял еще час назад, поскольку Маршал сказал: «Не стоит делать ночь, когда не спится». Поэтому я «сделал» день, и сейчас мы сидели за маленьким столиком: Маршал, откинувшийся назад и опиравшийся головой о спинку кресла, и я — при пасьянсе, бесполезно пытающийся ухватить его сложную суть.
Ночь была тяжелой. Мы сидели уже полных шесть часов. Сон, казалось, уже вот-вот наступающий, снова уходил, как мираж, чтобы до утра не появиться вовсе. Я чувствовал огромную усталость, хотя был более чем на тридцать лет моложе Маршала, и, кроме того, был здоров, а он болен. Скорбно, украдкой поглядывал я на его уставшее, исхудавшее и измученное лицо, но ни на минуту не сбрасывал с себя маски равнодушия. Ведь я хорошо знал, что Маршал терпеть не может сострадания и «сочувствия» по отношению к себе. Поэтому, зная о его усталости, понимая, сколь утомительной была для него ночь, я ничего не говорил на эту тему.
На завтрак Маршал ел очень мало, тем более сейчас…
«Обязательно необходимо каким-то образом возбудить у него аппетит», — говорил вчера генерал Роупперт полковнику Мозолевскому. А тот ответил: «Необходимо воздействовать на слух, на зрение и даже на воспоминания».
Я подсовывал Маршалу горячий чай и разнообразную пищу. Но он выпил только чай и съел одно домашнее песочное пирожное, приготовленное его супругой. Чай оживил его. Он поднялся из кресла, потянулся, широко зевнул и подошел к окну.
— Полнейшее безветрие, — сказал я.
Маршал поддакнул с удовлетворением. Он не переносил ветра.
— Коль скоро мы начали день, — сказал он, — необходимо его продолжать. Буду умываться.
Ванная находилась через две комнаты, требовалось пройти через комнату доктора и через мою спальню. Маршал отодвинулся от окна и неожиданно, вместо того чтобы идти дальше, оперся о кресло.
— Слушайте, — сказал он, — у меня нет сил даже на три гроша. Бедный Зючек…
Испугавшись, что Маршал упадет, я пододвинулся прямо к нему.
— Буду умываться, — повторил Маршал, — возьмите меня под руку, как панну, и проводите.
Маршал улыбался, но его улыбка была неестественной.
Мы шли медленно, шаг за шагом. Около моего стола Маршал задержался. По своей привычке оперся о него обеими руками.
— У вас, как всегда, свалка, — сказал он.
Я начал оправдываться, но Маршал прервал меня.
— Я совсем не утверждаю, плохо это или хорошо. Я всегда был неряшлив. Вот моя Ягода аккуратна. Она — мой любимый ребенок. Она не выносит беспорядка, у нее все должно быть разложено.
Маршал вошел в ванную, сел около умывальника и открыл кран с теплой водой. А я стоял около дверей и боялся даже дышать, чтобы не пропустить мимо ушей его зов. Только не мог удержать шума мыслей, которые плыли безудержным потоком. Сейчас в моей черепной коробке наиболее громко звучала одна: как плохо должен был себя чувствовать Маршал, когда решил произнести эти слова: «Возьмите меня под руку…» Нужно было видеть усилия, какие он прилагал, чтобы не показать страдания или слабости, и только тогда можно было понять, чего стоили ему эти слова. К сожалению, позже он повторял их ежедневно. Сам не знаю, не было ли это счастьем, что дней тех осталось уже чуть более двадцати…
Продолжительная тишина в ванной вызвала во мне беспокойство. Маршал уже умылся и сидел, держа полотенце на коленях и невидящим взглядом уставившись на узкую струйку воды, которая сочилась из крана. Мое появление вывело его из состояния задумчивости.
— Идемте, — сказал он.
И снова медленно, шаг за шагом я вел Маршала через большие комнаты. Мы вошли в кабинет. Я подал ему газету. Маршал старательно подсунул под нее руку, спросил: «Что там снова нацарапали…» — и безотчетным движением руки начал искать очки на столике.
Теперь уже я привел себя в порядок: умылся, побрился, позавтракал. Было начало одиннадцатого. Появились врачи, пришел генерал Роупперт и сразу же с порога спросил: «Ну, как там?»
К сожалению, мне нечего было сказать утешительного. Беседа завязалась вокруг проблемы привлечения известного специалиста из-за границы. Маршал уже согласился на это, но строго предупредил, чтобы это было сделано «после Лаваля». А французский министр должен был приехать только в начале мая[230]. Я предложил организовать приезд специалиста сейчас, несмотря на отсутствие однозначного согласия Маршала. Генерал Роупперт тоже склонялся к этому, но боялся, что Маршал будет раздражен.
— Подождем еще пару дней, — сказал он.
Мы были печальны, подавленны. Генерал говорил что-то вполголоса, долго и растянуто. Я ничего из его слов не понимал, но чувствовал, что он хотел таким образом заглушить столь грустные мысли.
Позвонил жандарм и доложил:
— Пани поднимается наверх.
Я открыл двери, поприветствовал ее. Первые слова, вырвавшиеся из уст супруги, звучали вопросительно: «Как там Зюк?» Ведь она не видела его несколько часов. Я сообщил, что он не спал, что отказывается есть.
Большие глаза пани еще больше расширились. Она была угнетена, но тем не менее полна самых лучших надежд.
— Ведь все не так уж плохо. Вы помните весну 1932 года? Было значительно хуже.
И внимательно, с беспокойством смотрела на меня. Может быть, боялась, что я возражу, что скажу: «Сейчас хуже». Однако я не сказал этого, только выдавил: «Мне кажется, что дела плохи».
Мы вошли в кабинет. Маршал уже закончил читать газету. При виде жены улыбнулся. Отходя, я слышал, что велась речь о Ванде и Ягоде.
Великая пятница
Ночь выдалась тяжелой. Правда, Маршал несколько раз засыпал, но сразу же пробуждался. Начиная с полночи до десяти утра я неподвижно сидел у его постели. Каждый раз, когда я вставал, чтобы на минутку отлучиться, Маршал говорил: «Лучше останьтесь», и я оставался.
Уже со вчерашнего дня Маршал ни словом не упоминал о выезде в Вильно. По-видимому, он чувствовал себя очень плохо. Не отвечал, не делал замечаний по раскладыванию пасьянсов, был осунувшийся и хмурый. Впервые сам вспомнил о докторе:
— Хотел бы наконец узнать, что там с этой болезнью. Потому что бывают ведь разные «раки» и «не раки».
Ни до этого, ни позднее об этой болезни он в беседах со мной не вспоминал.
Итак, выезд в Вильно не состоялся. Я радовался этому, зная слабость Маршала. Более того, знал, что ближе к полудню мы должны были отправиться в Бельведер на празднование Пасхи, поэтому о виленском параде уже совершенно не могло быть речи. Позднее Маршал также не напоминал мне об этом. Так оказалось, что последний парад Маршал принял на Мокотовском поле в Варшаве 11 ноября 1934 года.
Войдя в кабинет ближе к полудню, я не застал Маршала, как обычно, сидящим за маленьким столиком, а обнаружил его за большим письменным столом, где он всегда занимал место во время более официальных приемов.
Заметив меня, Маршал отозвался, как бы отвечая на мой вопрос.
— Ну хорошо, подпишу вам пару фотографий.
Так уж сложилось в течение ряда лет, что перед Рождеством, Пасхой и перед выездом на летний отдых в Пикелишки Маршал оставлял автографы на своих фотографиях для тех, кто этого просил. За несколько дней до этих дат я обычно приготавливал на столе стопку таких фотографий, отмечая на обратной стороне, кому они предназначены. В зависимости от настроения Маршал или интересовался, для кого он подписывает фото, или же говорил:
— Ладно, даю вам эти фотографии в аванс, делайте с ними что хотите.
В целом же Маршал делал это весьма неохотно. И это нежелание постоянно усиливалось. Однажды, когда я был особенно навязчив, Маршал сказал:
— Я не примадонна и не Кепура[231], чтобы раздавать автографы. Что за глупости вы мне предлагаете.
Сейчас, однако, Маршал хотел подписать. А я не знал, что именно сейчас, 19 апреля 1935 года, около полудня, Юзеф Пилсудский последний раз в жизни брал в руки перо…
Я сказал:
— Благодарю Вас, пан Маршал, вот люди порадуются.
Маршал пожал плечами:
— Не понимаю, чему они могут радоваться, но пусть себе…
Сейчас Маршал подписывал «авансом». Он без надобности обмакивал мое вечное перо в чернила дрожащей рукой и выводил свою фамилию. Но уже после нескольких подписей устал.
Тогда я сказал:
— Может быть, пан Маршал подпишет еще одну фотографию для сына генерала Соснковского — и все.
Маршал оживился.
— Для сына генерала Соснковского, говорите? Для которого? У него ведь их куча с прицепом.
— Для того, из кадетского корпуса, пан Маршал.
Маршал долго смотрел в окно, после чего начал говорить, как бы сам себе:
— Вот, например, ребенок. Начинает идти по ступенькам жизни. Топочет ножками по своей дороге… Все выше, выше, дальше, наконец ближе. А затем… конец.
Маршал забыл о фотографиях, а может быть, и о моем присутствии.
Говорил дальше:
— Ребенок Соснковского… Моего шефа… А что из него получится?
И, как бы отвечая себе, добавил:
— Должен вырасти хорошим.
Маршал наклонился и оставил последнюю в своей жизни подпись.
Медленно, осторожно спускался Маршал ступеньками черного хода к ожидающему у дверей автомобилю. Я шел так близко, что касался его плеча. Он не позволил мне поддерживать его. Когда я обхватил его, он гневно проворчал:
— Оставьте, не делайте представления.
Подойдя к автомобилю, Маршал всем телом оперся о меня и о дверцы и тяжело, с трудом втиснулся в него и упал и а сиденье. Молчал.
Задами пристроек Генерального инспектората мы двинулись к Бельведеру. Однако на этот раз не подъехали к главному входу, как это делали обычно. Маршал приказал притормозить у дверей, через которые, как правило, входила и выходила его супруга. Вероятнее всего, он не хотел показываться в плохой физической форме в вестибюле, где располагалась комната для посетителей.
Я проводил Маршала в Угловую комнату, в которой он обычно проводил время в окружении жены и дочерей, а сам пошел в бельведерскую адъютантуру. Меня окружили коллеги-адъютанты. В их глазах я прочитал то же, что перед этим читал в глазах генералов Смиглы, Роупперта, Складковского и всех тех наиболее близких к нему людей, которые в течение нескольких часов не имели сведений о состоянии здоровья Маршала. Не ожидая вопросов, сказал: «Очень плохо».
В Великую пятницу я еще раз увидел Маршала. Пришел в Бельведер около полуночи с различными иллюстрированными журналами. Тихонько открыл дверь в комнату княгини Лович и заглянул в Угловую. Маршал сидел на канапе, но сейчас опирался на подушки, которые подложила заботливая рука супруги. Он был одет, рубашка расстегнута. Не спал. По-видимому, кто-то — панна Ягода или же панна Ванда — раскладывали пасьянс. В кресле сидела пани и читала. Я вошел, поздоровался и положил перед Маршалом несколько журналов. Он всегда читал их старательно, но сейчас не протянул даже руки, не бросил на них взгляда. Смотрел равнодушно куда-то вперед и что-то нашептывал.
— Смотри, Зюк, — отозвалась супруга, — сколько интересных журналов принес Лепецкий. О-о-о, есть и французские, и английские.
Но Маршал не хотел говорить. Для приличия я, однако, спросил, как это делал обычно:
— Пан Маршал, будут ли какие-либо указания на завтра?
Маршал отрицательно кивнул головой.
— Нет, — ответил, — я уже начал праздновать, вместе с паннами.
И перестал обращать на меня внимание.
Великая суббота
Проснувшись, я сразу же побежал в Бельведер, чтобы узнать, как Маршал провел ночь, и справиться о его самочувствии.
В адъютантуре мне сказали, что Комендант находится в парке. Я пошел в Угловую комнату, откуда есть выход в парк. Двери в нее были широко распахнуты, а на крылечке, на солнце я увидел пана Маршала, сидящего в кресле, укрытого пледами и обложенного подушками. Около него находились дочери. Они нe пошли в школу, так как уже начались праздники. У крыльца, на аллее я увидел рассыпанную горсть гороха, а вокруг него несколько голубей. Маршал любил иногда бросить зернышек и с интересом присматривался, как живо клевали почтовые свой излюбленный корм.
Я поздоровался и стал рядом с Маршалом. Он посмотрел на меня и движением головы, а также глазами указал на стоящий перед ним столик. На нем я увидел блюдечко с клубникой. Знал, как всегда интересовали и радовали Маршала любые признаки приближающегося лета, и сразу догадался, что он хотел показать: вот, есть уже и свежие ягоды.
— Свежая клубника, — сказал я.
Маршал кивнул головой.
— Понюхайте.
Она действительно пахла великолепно.
Паненки говорили о школе, о чем-то спорили и поминутно обращались к папочке, словно к арбитру. Но Маршал вместо ответа лишь молча улыбался. Выглядел он очень плохо. Чрезвычайно высох, кожа была бледной, а на солнце напоминала цветом белую бумагу.
О чем думал Маршал? Мне показалось, что о ничтожности жизни. Спорадически усмехался, иногда беспомощно разводил руками либо пожимал плечами. Молчал.
В последние месяцы я всегда очень боялся тех мыслей Маршала. Знал, что позже он будет вспоминать о том, о чем уже дважды говорил мне, что это «естественное дело». Я всегда, когда у меня только хватало на это смелости, прерывал подобные рассуждения. Поступил так и сейчас.
— Пан Маршал, мы сейчас проводим в инспекторате генеральную уборку. Как бы Вы удивились, если бы увидели сейчас, свой кабинет.
Неожиданно Маршал отозвался своим прежним, густым голосом:
— Это вы делаете там ежегодно накануне Пасхи?
Признаюсь, я тогда чуть не потерял дар речи. Хотел ответить, что нет, что чаще, но неожиданно заметил в глазах Маршала прежние, милые огоньки веселой укоризны. Я сердечно рассмеялся.
К еде Маршал не притронулся. Он полулежал, молча и недвижимо. На его каменном, неподвижном лице не отражалось ни единой мысли. Он всегда был для меня большой загадкой. Пребывая в гуще пышущей жизнью весны, сейчас был закатом осени. Укрытый пледами, лежащий на веранде, он показался мне каким-то неестественно, а точнее, естественно большим. Неожиданно повернулся и что-то сказал, обращаясь к дочерям. Девочки забеспокоились, одна из них побежала в глубь Дворца. Я быстро возвратился на веранду и подал Маршалу кусок льда.
Спросил: «Вам плохо?»
Маршал бросил на меня взгляд, от которого замерло сердце.
— Мне уже не хочется жить, — сказал он.
Пасха
Для Маршала источником всех обычаев и традиций были воспоминания детских лет в Зулуве и Вильно. Когда обсуждался вопрос о том, как должна выглядеть елка на Рождество, какие в этих случаях поются колядки, а прежде всего, что нужно освятить на Пасху, Пилсудский вмешивался и всегда начинал со слов: «У нас, в Литве, в Зулуве это…» Самым высоким авторитетом в этих вопросах для него была мать, пани Мария. Те ее советы, которые запомнились, были для него святыми. А помнил он многое. Мальчику из Зулува Пасха, несомненно, казалась одним из важнейших событий года. Разнообразие и количество яств, обычно приготавливаемых к этому и другим праздникам, должны были возбуждать впечатлительность здорового, как молодой дубок, Зюка. Не удивительно, что Маршал отлично сохранил в памяти зулувские традиции, о чем много раз рассказывал.
Зулувский дом был полностью деревянный, но стоял на фундаменте. Большой, с многими просторными комнатами, он был свидетелем целого ряда торжеств и праздников. Традиции, старые обычаи срослись с ним и составляли его неразрывное целое. К ним относилась необходимость освящения.
— У нас в Литве, в Зулуве, — говорил как-то мне Маршал, — пасхальный обед должен был быть очень обильным. Необходимо было приготовить больше еды, чем могли съесть все домочадцы вместе с гостями. Вы не представляете себе, сколько там всего было. А прежде всего — целый поросенок, индейки, телятина, ветчина, колбасы. Отдельное место занимали бабки и мазурки. Бабки были, естественно, покрыты глазурью и разноцветным маком.
Рассказы о «зулувеких» временах всегда оживляли Маршала и побуждали его к дальнейшему разговору. Так случилось и сейчас, Маршал продолжал.
Скатерть должна быть украшена травой, называемой вилколаком, ветчина — гвоздиками, а фигурка агнца стоять вместе с флажком на тарелке с нежными побегами пророщенного овса или же сердечника. Яйца дворцовые девушки раскрашивали в самые разнообразные цвета, используя для этого какие-то чудодейственные способы.
Так как я знал привязанность Маршала к традициям, то тоже старался продолжать их везде, где Маршалу это могло броситься в глаза. Помнил прежде всего об инспекторате. Конечно, не надо было заставлять там стол запеченными поросятами или индейками, достаточным казалось оборудовать уголок с освященными искусственными фигурками из марципана. Праздники Маршал проводил, конечно, с семьей в Бельведере, но любил, чтобы традиция «заглядывала» также, как он говорил, и на место его работы, то есть в инспекторат. Говорил: «Пусть будет и здесь что-то псевдоосвященное». Аналогично высказывался он и перед Рождеством, когда речь шла о елочке: «Пусть будет!..» Следовательно, обычным явлением на рабочем месте были елка на Рождество и марципановые освященности — на Пасху.
Наблюдалась также за Маршалом привычка делиться пасхальным яйцом. Не знаю, как это происходило раньше, но он любил и соблюдал эту невинную традицию.
Последнюю Пасху Маршал провел, как и много предыдущих, в Бельведере. Он покинул инспекторат в Великую пятницу, в полдень. Дорогу провел в автомобиле, пока еще имел для этого силы…
Первый день праздника — настолько торжественный и слишком семейный, чтобы я осмелился своим присутствием его как-то нарушить. Поэтому я посетил Маршала только во второй день, ближе к полудню. Застал у него несколько членов его семьи.
Пани вручила мне пасхальное яйцо. Я пожелал всем благополучия какими-то дежурными словами, не формально, а от всего сердца сказав: «Наилучшие пожелания». В глазах каждого я мог прочитать, что под «наилучшими пожеланиями» понималось здоровье борющегося с болезнью Маршала. Настроение было печальным. Лишь супруга по-прежнему не теряла надежды на отступление болезни и выздоровление. Она говорила: «Сегодня Зюк съел два желтка с сахаром, блюдечко клуцек, пил молоко и вино. Присмотритесь к нему повнимательнее, он выглядит гораздо лучше».
Я с удивлением смотрел на пани. Какая же сила чувств и вера должны были умещаться в ее сердце, чтобы высказать эти слова! Ведь Маршал был уже почти тенью. Все чаще впадал в состояние, граничащее с потерей сознания. Не отвечал на вопросы, был равнодушен и апатичен. Исхудал так, что, когда однажды потерял равновесие и оперся на меня, я легко поднял его и посадил в кресло. Однако веру супруги в выздоровление Маршала нельзя было подорвать ничем. Я часто думал об этом и по служебной обязанности повторял: «Очень плохо, пани», зная в то же время, что ее вера сильнее сомнений. Пробуждала она во мне дремлющую где-то в глубине души надежду. А может… А вдруг железный организм Маршала выдержит? Но одновременно во мне появлялся страх перед тем, что и она надломится. Поэтому я поменял тему беседы.
— По возвращении из Египта пан Маршал, — сказал я, — болел очень тяжело и как-то…
Все жадно подхватили эти слова.
— Дядя наверняка скоро поправится, — говорила панна Мария Юхневнч с непоколебимой уверенностью в голосе.
Я заглянул в Угловую комнату. Маршал в полудреме сидел в кресле, ежеминутно открывая глаза. Перед ним сидела панна Ванда и читала книгу. Была также супруга. Сделалось шумно. Маршал улыбался, но на вопросы либо не отвечал, либо отвечал шепотом. Он был очень слаб, неохотно протягивал руку за папиросой и совершенно не раскладывал пасьянсов: они его слишком утомляли.
Я поздравил Маршала, так же как это сделал минуту назад, обращаясь к его семье. Сказал: «По случаю праздника желаю пану Маршалу и его паннам здоровья и успехов». А Маршал в ответ: «Вы льстите мне, упоминая о паннах. Какой хитрый».
Панна Ягода принесла откуда-то карты и сказала:
— Я разложу папочке «пирамидку».
Маршал в ответ: «Да, да, да», а дочь уселась вблизи него и со свойственными ей почтительностью и сочувствием разложила карты.
Чрезмерное сборище людей в комнате угнетающе действовало на Маршала. Все мы видели это, поэтому вышли из Угловой, оставив пани с дочерьми. Лишь только я переступил порог комнаты, как Маршал кивнул мне и сказал: «Слушайте».
Я подошел ближе.
— Все ли в порядке у вас в инспекторате? Тепло?
Я ответил утвердительно, сказал, что инспекторат подготовлен, что пан Маршал в любую минуту может туда приехать.
— В любую минуту мне не надо. Мне надо завтра.
Я добавил еще: «Очевидно, будет 17 градусов тепла»— и вышел.
Уже из соседней комнаты я заметил, что пан Маршал наклонился над пасьянсом, который раскладывала панна Ягода, и внимательно следил за движениями этих маленьких пальчиков, искусно перебиравших карты.
Возвращение в Генеральный инспекторат
Еще в первые дни апреля было принято решение, что к Маршалу необходимо пригласить одного из специалистов медицины с мировым именем в области внутренних болезней. Ни доктор Войчиньский, ни я не знали, кого именно, но оба мы отлично понимали, что Маршал будет решительно сопротивляться этому предложению. Доктор Войчиньский даже заявил: «Я не очень верю, что это удастся. Попробуйте Вы уговорить Коменданта». Итак, я начал предпринимать попытки. Пока же, однако, мои напоминания и даже наиболее прозрачные намеки оставались совершенно безответными. Однажды я поделился своими заботами с полковником Казимежем Глабишем. «Вы знаете, — сказал он тогда, — я вам скажу, кого надо пригласить» и назвал доктора Бергмана из Берлина.
— Отличный доктор, — говорил он о нем, — лечил английского короля, а из наших знакомых военного атташе при германском правительстве.
Вначале Маршал согласился на Бергмана, однако позже мы договорились о том, что должен будет приехать знаменитый австрийский врач, доктор Венкенбах. Супруга окончательно склонила Маршала дать согласие на приезд иноземного доктора.
Вместе с генералом Роуппертом мы пошли встретить доктора Венкенбаха на главный вокзал Варшавы. Это был достаточно худой, высокий пожилой господин, со свежим, серьезным, как бы несколько озабоченным лицом и сосредоточенным взглядом. Доктору Венкенбаху было около семидесяти лет, но он выглядел гораздо моложе. Поэтому неудивительно, что на вопрос пани о его возрасте я ответил: «По-видимому, немногим более пятидесяти».
С вокзала доктор поехал в отель «Европейский», а я направился в Бельведер, чтобы доложить о приезде «этой знаменитости», как высказывался о нем Маршал.
Первое посещение должно было состояться лишь около 6 часов вечера и носить характер знакомства. Собственно, обследование Маршал отложил до следующего дня, и оно в конце концов должно было состояться не в Бельведере, а в инспекторате.
В шесть часов мы, адъютанты, собрались в полном составе. Прибыл Венкенбах, но Маршал его не принял. Сказал, что сделает это на следующий день в восемь утра в инспекторате. Доктор поговорил с пани, после чего возвратился в отель. Уже перед этим его предупредили, что состояние здоровья и сам визит должны держаться в полном секрете. Он согласился на это и, кажется, сдержал слово.
Около семи часов я и капитан Пахольский двинулись в Угловую комнату. Маршал курил, а когда я снова предстал перед ним, сказал: «Не хочу впускать в Бельведер эту паршивую медицинскую атмосферу. Это мои панны придумывают бог знает что и сразу же хотят управлять мной. Лучше всего не впускать сюда эту атмосферу, провонявшую лекарствами и докторами. Противные эти доктора».
Маршал никогда не упускал случая сказать что-либо плохое о врачах. Всем сердцем ненавидел их.
Спустя несколько минут Пахольский доложил, что автомобиль подан. Тогда Маршал сказал: «Вы оба поможете мне сесть в него».
Маршал с трудом поднялся с кресла; для того чтобы он встал на ноги, я должен был крепко поддержать его. Не хотел застегиваться, приказал проводить его в таком виде, в каком сидел в комнате. Мы крепко взяли его под руки. Медленно передвигая ногами, почти не поднимая их, Маршал двигался через Угловую, через комнату княгини Лович и еще через две большие комнаты, отделявшие его кабинет от «домашнего» выхода.
Когда мы вышли на веранду у крыльца, мне бросилось в глаза испуганное лицо стоявшего в стороне жандарма. Слухи о болезни Маршала уже ходили по Бельведеру, но то состояние, в котором обнаружил его сейчас бедный солдат, должно было произвести на него угнетающее впечатление. Я помню все эти минуты последних месяцев жизни Великого Маршала, помню даже то, что тогда жандарм, бывший на службе, забыл отдать честь. Смотрел неподвижный и даже не верил глазам своим. Таковы уж были у нас приказы: то, что касалось личности Маршала, было абсолютно секретным. К этому относилось и требование держать в большой тайне состояние здоровья Маршала, чтобы не возбуждать и так кружащих сплетен о якобы его большой физической слабости. Поэтому не удивительно, что жандарм, несущий службу у ворот, ничего не знал о том, что делалось в закрытых комнатах Бельведера или же Генерального инспектората.
Тихо, с выключенным внутри лимузина светом, мы пересекли Аллеи Уяздовские и задержались у ныне закрытого наглухо входа самого маленького здания в комплексе застройки инспектората, служащего Маршалу рабочим кабинетом, а в последнее время и вторым домом.
Тогда, 22 апреля, около семи часов вечера Маршал Пилсудский последний раз пересекал его порог. Самостоятельно покинуть инспекторат Маршалу уже не было суждено…
По приезде из Бельведера Маршал лег в постель. Мы помогали ему снять серую, известную каждому поляку куртку без каких-либо знаков отличий, которую позднее он уже не надевал…
Доктор Ф. К. Венкенбах
С бьющимся сердцем я открывал дверь доктору Венкенбаху. Врачи начали советоваться, а я тем временем пошел к Маршалу.
В спальне был полумрак, так как часть окон была закрыта шторами. Маршал лежал в постели в свежем белье, как обычно — в двух рубашках. Курил. Спросил: «А что?» «Знаменитость пришла», — ответил я. Маршал нахмурился и начал бормотать что-то вроде «что за бессмыслица, глупость».
— Спросите его, — сказал, — на каком языке он предпочитает говорить: на немецком или французском? Скажите ему, что для меня это не имеет значения.
Оказалось, что доктор Венкенбах хорошо знал оба эти языка и выбор оставил за Маршалом.
Я знал, что Маршал неохотно соглашался на осмотр, и не удивлялся, что сейчас он тянул и некоторое время хотел даже отменить визит. «Этот ваш Венкенбах, — сказал он тогда, — наверное, такой же дурень, как и другие доктора. Мудрецы!» Если бы я тогда пикнул хотя бы одно слово в защиту врачей, то, убежден, доктор Венкенбах никогда бы не увидел Маршала. Но я предусмотрительно молчал. Наконец Маршал велел позвать врачей.
Я пошел к ним и официально заявил: «Пан Маршал просит».
Врачи вошли в спальню.
Доктор Венкенбах начал беседу на французском языке. Маршал ответил по-немецки: «Wie Sie wollen». Беседа пошла на французском.
Мне вспомнились столь недалекие времена, год 1931-й, когда, тяжело заболев гриппом во время пребывания в Румынии, Маршал подозвал меня к постели и сказал: «Дитя, возьмите браунинг и палите в лоб каждому доктору, который будет ко мне лезть». Тогда, несмотря на высокую температуру и слабость, Маршал абсолютно владел собой. Не так, как сейчас.
Консультация продолжалась, вероятно, около часа. Врачи вышли и закрылись в своей комнате. Совещались.
Я пошел в комнату, дал Маршалу лед и присел у кровати.
— Слава богу, — отозвался Маршал. — Наконец они ушли. Почему эти паскудники не оставят меня в покое?
Маршал был раздражен. Бросал все более острые эпитеты по адресу врачей. Пытаясь оторвать его от мыслей, связанных с консультацией, я сказал: «На улице пасмурно, по-видимому, будет дождь». Маршал велел поднять штору на окне напротив кровати и начал с интересом посматривать на небо. «Облачность, — изрек он языком, которым обычно передают метеорологические сообщения, — от двухсот до трехсот метров» и рассмеялся. После, как бы вспоминая что-то: «Спросите у этой… знаменитости, не повредит ли мне курение».
Услышав движение в своей комнате, я пошел узнать о результатах консилиума. Однако генералы скрыли от меня правду. Сегодня я знаю, что был неправ, обижаясь тогда на них, знаю, что это доктор дал категорическое распоряжение не информировать окружающих о безнадежном состоянии больного. Не хотел создавать вокруг него обстановку подавленности.
Мои размышления прервал зов:
— Адъютант?
Я побежал в спальню.
В этот день Маршал уже не поднялся. Не вставал и в последующие дни. На укол для исследования печени Маршал согласился с большой неохотой. Уже во время приготовления шептал: «Мерзавцы, лодыри!»
Он никогда не соглашался ни на какие уколы и уступить нелюбимым докторам считал для себя особо неприятным.
Укол оказался болезненным. Маршал ойкнул и повернулся к присутствующим спиной. Когда все вышли, он жалобно обратился ко мне: «Дитя мое, почему они меня так мучают? Скажите, почему? Я ведь иду на смерть совершенно спокойно». Что-то кольнуло во мне. В эту минуту в Юзефе Пилсудском я не видел Великого Маршала, творца независимости Родины, а видел бедного больного, которого я очень любил. С жалостью я смотрел на его исхудавшую фигуру — почти тень того, что было несколько месяцев назад.
Маршал лежал беспокойно, все время ворочался, в, поскольку был слаб, как дитя, голова его постоянно падала на подушки. Я еле мог сказать:
— Уколы помогут организму бороться. Такой укол для человеческого организма — все равно, что солидный резерв для первой линии.
Но эти мои слова разгневали Маршала:
— Еще чего не хватало, чтобы вы начали агитировать за докторов. Берегитесь, чтобы я не подвергнул вас шельмованию.
Супруга принесла для «Зюка» какие-то яства. Я пошел обедать. Службу принял капитан Миладовский. С этой службой все как-то запуталось. Мы перестали обращать внимание на часы, дни и ночи. Сидели круглосуточно, чаще всего оба, ночи проводили без сна, не раздевались. Для меня эта тяжкая служба была единственной радостью. Казалось, что, будучи не в состоянии помочь Маршалу восстановить здоровье, я хотя бы таким образом способствую облегчению его участи.
Последние дни в инспекторате
Дни с 24 апреля по 4 мая были последними днями Маршала, проведенными в Генеральном инспекторате. В течение этих десяти дней Маршал уже не вставал самостоятельно, не ходил, а в конце даже не мог без посторонней помощи перевернуться на другой бок. Однажды он сказал: «Есть такие коляски… для больных». Говоря это, Маршал смотрел не на меня, а куда-то в сторону. Я ответил: «Слушаюсь»— и заметил, что мои глаза тоже начали избегать его глаз.
Я направился куда-то на склад медицинского оборудования и выбрал самую хорошую коляску. Маршалу я сказал: «Естественно, лучше передвигаться в коляске, зачем тратить силы на ходьбу. Так пан Маршал быстрее восстановит здоровье».
Маршал махнул рукой: «Глупости говорите».
Итак, Маршал начал делить свое время на лежание в постели, сидение в кресле и переезды из комнаты в комнату в коляске. Велел подвозить его в различные уголки комнат, к картинам. В комнате доктора Войчиньского над канапе висела фотография Маршала от 1926 года. Это был известный портрет Маршала, пышущего физической силой и энергией. Он попросил подкатить коляску к этой фотографии и смотрел. Лица — с портрета и живого человека — были одни и те же и вместе с тем очень отличались. Не знаю, о чем тогда думал Маршал, знаю только, что он сказал. Эти слова больно поразили мой слух. Он сказал: «Был такой сильный, красивый Зюк, и… нет его».
Он говорил спокойно, почти что с улыбкой. Это спокойствие привело меня в ужас. Как же так? Маршал знал о своем тяжелом состоянии, знал, что оно ухудшается со дня на день, что силы как бы поспешно покидают его и в то же время ни разу не надломился, даже в бреду не попросил помощи, не показал ни тени беспокойства, слабости духа. Шел к своему предназначению, как и по всей жизни, с высоко поднятой головой, собранный и спокойный. То, что других наполнило бы тревогой и надломило, не изменило в нем ни малейшей черты характера. С необычной настойчивостью он оставался верен своим привязанностям и привычкам. Читал утром и вечером газеты, питался, а точнее, ничего не ел, в одно и то же время. Раскладывал или же наблюдал за раскладыванием пасьянса, хорошо — как и тогда, когда он еще пребывал во здравии — отзывался обо всем и обо всех. Болезнь ни в чем не изменила его отношения к делам и людям. Его не покидала трезвость мысли. Глубокое понимание ответственности за государственные дела иногда вызывало в нем беспокойство, и тогда он приглашал министра Юзефа Бека. А в политике в то время разыгрывались серьезные дела. Ведь это был период установления дружественных связей Франции с СССР — через несколько дней предстояла поездка министра Пьера Лаваля в Москву. Лаваль должен был также посетить Варшаву для того, чтобы встретиться с Маршалом. Визит к нам был намечен после посещения Москвы. Маршал сказал тогда кратко: «Если он, этот Лаваль, поедет вначале в Москву через Варшаву, а потом захочет встретиться здесь, то я его не приму. Пусть поступает, как хочет, но тогда пусть с ним разговаривают другие».
Ну и Лаваль согласился вначале провести беседы в Варшаве, а потом в Москве. К сожалению, встреча с Маршалом уже не могла состояться — не позволило его здоровье.
Министр иностранных дел Юзеф Бек, помимо Прыстора, был последним официальным лицом, с которым Маршал Пилсудский обсуждал государственные дела. 29 апреля Маршал пригласил его и беседовал с ним в течение сорока минут. Я не присутствовал на этой беседе, но о ее содержании мне рассказывал министр. Тогда он сказал: «Это удивительно, что, находясь в столь тяжелом физическом состоянии, Комендант сохраняет такую четкость мышления и память». Но одновременно он говорил, что его поразил внешний вид Маршала. Я знал о глубокой, сыновией любви Бека к Маршалу и понимал состояние его души. Так же, как и пани, он не мог и все еще не хотел верить в самое худшее. Однако его верное сердце уже пребывало в состоянии беспокойства и волнения.
Сегодня Маршал Пилсудский покинул инспекторат (4 мая 1935 г.)
Маршал уже самостоятельно не вставал с постели — совершенно утратил силы. С трудом даже удерживал в руках ложку. Сегодня, как ни закрываю глаза, вижу немой укор во взгляде Маршала, брошенный как-то мне в момент, когда из его дрожащей руки выпал стакан. Он сказал тогда: «Ну, видите сами… Нет Зюка», А я в ответ: «Такое с каждым может случиться, пан Маршал». Но думал иначе.
Думал я о том, святая Мария, что Маршал Пилсудский и на этот раз не ошибается, что уже слышны шаги приближающейся Перемены. Хорошо помню ту ночь. Сквозь окно в комнату несмело просочился свет пробуждающегося дня. Из соседней комнаты доходил приглушенный шепот. С санитаркой беседовал капитан Генрик Цянцяра, дежуривший в ту ночь вместе со мной. Я сидел у ночного столика у кровати Маршала и раскладывал пасьянс. Маршал уже даже не смотрел, но старая привычка делала для него этот факт приятным. Молчал и только временами ойкал. В какой-то момент поднял руку и показал на висящую над кроватью фотографию своей матери. «Панна Биллевич, — сказал он. Это была девичья фотография панн Марии Пилсудской. — Любимая мамочка, очевидно, уже ждет своего Зючка. И тетя Зуля ждет и Бронись ждет… И столько моих солдат готовится к параду…»
До сих пор я всегда старался плохие мысли Маршала перевести на шутку. То смеялся, то говорил что-то, из чего вытекало, что мне они казались совершенно вздорными. Но сейчас абсолютно не нашел нужных слов, а улыбнуться боялся, чтобы вместо улыбки не вылезла на моей физиономии какая-нибудь нелепая грнмаса. Просто сидел молча, только голову наклонил низко, чтобы не показать Маршалу своей бессильной боли.
В это время Маршал начал что-то бормотать и по привычке разводить руками. Это продолжалось долго. Наконец он повернул голову и сказал, обращаясь ко мне:
— Нужно переехать в Бельведер.
И больше — ничего. Обычные слова. Он говорил мне их много раз, но сегодня они для меня прозвучали, как погребальные колокола. Я сразу понял их смысл. Они означали: «Хочу умереть в Бельведере».
Ведь я досконально знал обычаи и привычки Маршала, знал, что всегда, когда он чувствовал себя нездоровым, он сразу же старался убежать из Бельведера, чтобы, как он сам говорил, не привлекать в свой дом атмосферу болезни. Желание возвратиться к порогу этого дома во время такой тяжелой болезни не могло быть не чем иным, как уверенностью, что последний час приближается… Для меня этот сигнал был так многозначителен, что я немедленно сообщил о нем генералу Смиглы и докторам. Надежда, которая жила во мне единственно благодаря пани Пилсудской, полной глубокой веры в выздоровление, тогда полностью надломилась.
Доктора решили, что сейчас переезжать в Бельведер очень опасно, нужно обождать хотя бы некоторого улучшения. В конце концов сам Маршал повторил свое пожелание еще несколько раз. Пани тоже считала, что в Бельведере будет лучше.
В этот день, вечером. Маршал должен был навсегда покинуть порог Генерального инспектората Вооруженных сил…
В вечерних сумерках к черному входу подъехала санитарная карета, управлял которой вместо шофера начальник автоколонны инспектората.
Я зашел к Маршалу и сообщил, что через минуту мы переезжаем в Бельведер. Маршал молча кивнул головой, но даже не поинтересовался, как это будет выглядеть. А я не в состоянии был сказать, что его повезут на носилках в санитарной карете… Боялся, что Маршал будет возражать, захочет одеться и поехать обычным автомобилем. Но он, казалось, совершенно не интересовался тем, что происходит. Неподвижно лежал в постели и блуждал взглядом по комнате, время от времени что-то нашептывая. Впрочем, мои опасения, как я узнал впоследствии, оказались напрасными. О способе переезда Маршала проинформировала его супруга.
Мы принесли носилки — обычные солдатские носилки. Я очень боялся смотреть на Маршала. Ведь носилки, это зримое свидетельство его физического истощения, должны были плохо подействовать на больного. Думал, что он, возможно, разгневается и выгонит нас всех вместе с этими носилками. Знал, что мы ушли бы без слов. Но Маршал не рассердился, не выгнал нас, а наоборот, повел бровями и улыбнулся. При этом указал движением головы на носилки:
— Хорошо, хорошо, только выкурю папиросу.
Я подал ему «Маршалковскую», которую готовили специально для него. Он курил спокойно, молча. Если бы не чрезвычайно исхудавшее лицо, бледность и потухший взгляд, я мог бы обольститься, что Маршал остается таким, как пару месяцев назад, — здоровым. Однако лишь один взгляд на носилки в спальне развеивал иллюзии и возвращал мысли к унылой действительности.
Мы, адъютанты и доктора, подняли с постели почти неподвижного Маршала и положили его на носилки. Старательно укрыли его меховым пледом. Маршал все время молчал и постоянно сохранял как бы удивленное выражение лица. Только один раз тихонько ойкнул, но и тогда не опустил поднятых ко лбу бровей.
Никто не видел этого трагического переселения, и только мы были его единственными свидетелями.
Каждый из нас все еще старался держать в тайне болезнь маршала Пилсудского, как об этом нам было приказано ранее, — раз и навсегда. Поэтому мы не останавливались перед фронтоном Дворца, где всегда вертелись слуги, жандармы и много гражданских лиц, а через боковые ворота, которыми ранее не пользовались, подъехали к тыльной стороне Дворца, со стороны парка, под самые двери Угловой комнаты. Туда мы внесли Маршала и положили его на кровать, предварительно подготовленную супругой. Как раз на ту, на которой несколько дней спустя он закончил свою жизнь.
«Я должен, должен…»
Дни болезни Маршала легли на мои плечи грузом многих лет. Сегодня мне кажется неправдоподобным, что от трагического переезда из инспектората в Бельведер до смерти прошло всего лишь восемь таких дней.
Состояние Маршала оставалось тяжелым, и лишь дважды наблюдалось некоторое улучшение. Однако это были только иллюзии. Большой боли Маршал не ощущал, и это было нашим единственным утешением в бездне грусти, подавленности и самых горьких предчувствий, которые превратились позже в неумолимую уверенность.
Когда в высших кругах убедились в том, что болезнь опасно прогрессирует, было решено опубликовать коммюнике, чтобы подготовить общественное мнение к удару, который вскорости должен был постичь польский народ. Коммюнике должно было появиться в понедельник, 13 мая, либо во вторник… Вместо него, к сожалению, появилось уже другое коммюнике…
И так бежали дни в Бельведере — в грусти и подавленности. Позднее я узнал, что один из докторов договорился с ксендзом Владиславом Корниловичем, чтобы тот все время не выходил из дому, дежурил у телефона, был готов к вызову в любую минуту.
Наступило 10 мая.
Маршал начал впадать в полуобморочное состояние, то кому-то грозил, то на кого-то кричал, гневался, то его снова охватывала жалость. «Бедный Зюк, Зючек…», — повторял он. Мы стояли бессильные и ненужные. Сестра утешала нас: «Такое состояние для больного самое хорошее, он не страдает». Но мы знали, что для него не смерть была страшной, а состояние бессилия. Но мы не говорили этого: пусть ей кажется так, как кажется.
Протекали часы, а из Угловой комнаты все еще доносился голос Маршала. Пани Александра почти не отходила от постели, все еще была преисполнена верой и лучшими надеждами. Я восхищался ее непоколебимой уверенностью в том, что «Зюк и не такое выдержит». Никто уже не отбирал у нее этой веры, этого чахлого ростка надежды.
Когда вечером я начал вслушиваться в уже бессвязную путаницу слов Маршала, я заметил, что в их хаосе все время выделялись слова: Лаваль, я должен, Россия.
— Я должен, должен… — повторял он с твердостью и раздражением.
Я догадывался, что Маршал имеет в виду несостоявшуюся встречу с министром иностранных дел Пьером Лавалем, который как раз находился в Варшаве, а оттуда должен был поехать в Москву.
Я предложил наугад:
— А может быть, пан Маршал, пригласить Бека?
Маршал моментально успокоился.
— Да, да, да, Бека.
И затем снова начал гневаться, как бы за то, что мы раньше не додумались до этого.
Я соединился по телефону с квартирой министра. Отозвался ординарец:
— Пан министр на месте?
— Да, пан капитан, но у нас идет прием. Мы принимаем этого Лаваля.
— Ничего, пригласите пана министра к телефону.
Через минуту я услышал в трубке:
— Алло, это Бек.
Я представил суть вопроса, попросил, чтобы министр приехал сейчас же, — это, несомненно, немного успокоит Маршала.
— Хорошо, выезжаю.
Через несколько минут министр Бек был уже в Бельведере. Приехал, в чем был, то есть во фраке с какой-то лентой, при орденах. Покинул прием незаметно, чтобы не возбуждать каких-либо домыслов в связи с несостоявшейся аудиенцией Лаваля у Маршала. В Варшаве и так не было недостатка в сплетнях на эту тему.
Увидя входящего министра, в сыновних чувствах и привязанности которого Маршал был абсолютно уверен, Пилсудский весь засиял:
— Любимый, любимый Бек.
Бек наклонился к Маршалу и начал сообщение о беседах с Лавалем. Старался говорить свободно, силился даже выдавить из себя улыбку, но я видел, как у него дрожали губы.
Ночь с 10 на 11 мая была тяжелой. Успокоительный сон не появлялся. Маршал постоянно просыпался, бредил, говорил повышенным тоном, то звал адъютантов, то снова выгонял их, хотел пить, а получив напиток, не хотел его даже пригубить; то просил усадить его в больничную коляску, то снова уложить в постель, жаловался на неудобные подушки и снова начинал страшно сердиться на что-то, о чем мы не могли догадаться. Бедную, изнеможенную пани мы ни за что не могли упросить отдохнуть.
Адъютанты, хотя у нас и были смены дежурств, сидели вместе. Пани Пилсудская прислала нам черный кофе и вино. Постоянно присутствовал один из врачей, а генерал Роупперт заходил днем и ночью.
Пани держала дочерей в своей комнате; Маршал очень часто звал то одну, то другую, то сразу обеих. Бедные девочки! Бледные, подурневшие, почти онемевшие, с болью и, наверное, с тяжелым сердцем смотрели они на отца.
День родился и наконец появился в полном свете, а в Угловой бледная тень Маршала все металась бессильно в постели.
11мая
Уже раньше к пани обращался генерал Венява-Длугошовский, хотел чем-либо быть полезным, что-то сделать для Коменданта. Знал, что Маршал не выносил чужих лиц. «Посижу, — говорил он, — порассказываю анекдоты, — может быть, он хотя бы на мннутку и забудет о болезни». Встретив меня пару дней назад, также повторил это. Сегодня я позвонил ему и попросил: «Пан генерал, приходите». Когда он пришел, я пригласил его в комнату княгини Лович, а сам пошел в Угловую комнату. Маршал лежал на тележке. Был гораздо спокойнее, чем ночью и утром. Только днем он выглядел еще более осунувшимся, и это угнетало.
— Пан Маршал, пришел Венява, может ли он войти?
Маршал смотрел на меня невидящим взглядом и ничего не отвечал.
Я снова спросил.
В глазах Маршала вспыхнула какая-то искорка, а на губах появилась бледная, слабая улыбка.
— Венява… — прошептал он.
Мне показалось этого достаточно, чтобы привести Веняву.
Вид изменившегося лица Маршала, по-видимому, произвел на генерала Веняву потрясающее впечатление, поскольку вместо того, чтобы рассказывать веселые истории, он молча застыл на месте, поглядывая с ужасом на тень своего Коменданта. Я, ежедневно наблюдая прогрессирующую болезнь, менее ощущал изменения, но человек, который не видел Маршала почти два месяца, должен был быть потрясен. Никогда не забуду выражения отчаяния в глазах бедного генерала.
Какую-то минуту Маршал смотрел на него, как на чужого. Я думал, что, может быть, он его уже не узнает. Но нет… Скоро его лицо прояснилось:
— Венява…
Генерал уже опомнился. Щелкнули каблуки. Оживилось лицо.
— Слушаю, Комендант.
Тем временем неожиданно Маршал задумался. Я знал, что в последнее время путалось в его мыслях, поэтому без труда догадался, что он имеет в виду.
— Пан Маршал все еще думает о Лавале и французах.
— Да, именно.
Венява, казалось, уже полностью восстановил равновесие.
— Комендант, не надо ни о чем беспокоиться. Юзеф {Бек} там уже занимается ими. Видимо, он уже обо всем Вам докладывал.
Маршал с трудом шевельнулся.
— Да, докладывал. Ведь это его обязанность.
Генерал Венява начал что-то рассказывать. Маршал лежал неподвижно и только время от времени улыбался. В какой-то момент его голова съехала в сторону. Я поднял подушку, поправил на ней голову. Маршал посмотрел на меня и сказал:
— Дорогое дитя…
Это были последние слова, с которыми обратился ко мне Маршал Пилсудский.
За прахом матери
Последней волей Маршала Пилсудского было перенесение в Польшу праха его матери, покоившейся в местности Сугинты в Литве. Мне выпала честь исполнить это желание. Министр Бек дал распоряжение послу в Риге Зигмунту Бечковичу[232], чтобы он поговорил по этому вопросу с литовским послом. Как известно, в то время между Варшавой и Ковно не было непосредственных дипломатических отношений, и необходимо было воспользоваться таким кружным путем[233]. После нескольких дней размышлений пришел ответ: «Литовское правительство не возражает против того, чтобы капитан Мечислав Лепецкий в сопровождении Чеслава Каденацы {сын старшей сестры маршала Пилсудского — Зофьи} прибыл в Литву для проведения эксгумации останков Марии Пилсудской (ур. Биллевич)». Поскольку возникли сомнения, смогу ли я пребывать на территории Литвы в офицерском мундире, снова был послан запрос в Ригу. Ответ был положительным, но сразу же на следующий день литовское правительство отменило разрешение, беспокоясь, что возможна «порча этого мундира людьми, недоброжелательно относящимися к Польше». В итоге я поехал в гражданском.
В Ковно мы приехали на автомобиле через Ораны и Алитус (Олиту), прибыв на место в конце мая 1935 года. В это время в Ковно находился пан Тадеуш Кательбах[234], корреспондент «Газеты Польской», исполнявший роль польского дипломатического агента. Вместе с ним мы нанесли визиты: министру внутренних дел Ионасу Рустейко, а также его заместителю. Оба сановника бегло говорили по-польски, и в нашей беседе не было потребности в каком-либо другом языке или же в переводчике. Нас приняли с пониманием, но холодно, так, что это не делает чести литовскому гостеприимству. Пан Каденацы, как член семьи Пилсудских, нанес протокольный визит во дворец президента республики, оставил запись в Книге гостей. После выполнения всех формальностей на третий день пребывания в Ковно мы направились в Сугинты. Нас сопровождали пан Кательбах и Казимеж Нарутович — брат президента Габриеля Нарутовича, землевладелец в Жмуди. После обеда мы покинули Ковно и накануне прибытия в Сугинты провели ночь в гостевой комнате семейства Бжозовских. Старопольская атмосфера этого благородного двора, где лучшие рыцарские традиции переплетались с традициями польской мартирологии последних полутора веков, зримо показывали, какой все еще оставалась Литва.
В Сугинты мы прибыли 1 июня в восемь утра. Литовские власти встретили нас у местного костела. На кладбище начальник повята заявил на хорошем польском языке, что он находится здесь в качестве ассистента, а не представителя власти. У старательно ухоженной могилы матери Маршала Пилсудского собралась многочисленная группа представителей всех польских обществ в Литве, ближайшего земства, значительной группы представителей польского населения из Ковно.
Ксендз Адольф Бельски, седой старичок, взволнованный пожертвованием тысячи литов на нужды костела, старался, чтобы церемония получилась как можно более торжественной. Литовец произнес как у могилы, так и в костеле польскую проповедь, чем возбудил живую благодарность собравшихся поляков.
Акт эксгумации был произведен между 9.30 и 11.30, после чего останки были помещены в тот же металлический гроб, в котором тело Маршала перевозилось из Варшавы в Краков…
Перенесение останков из Сугинт к польской границе отмечалось необычайной торжественностью. Длинная вереница автомобилей, возглавляемая автомобилем академической корпорации Лауда, движущимся с развернутым флагом, перевязанным лентой, тянулась через тихие литовские деревушки, — как будто отдаленным эхом напоминая подобные траурные церемонии в Варшаве и Кракове.
На границе колонна литовских поляков задержалась. Ноющая рана — литовская граница — стояла между ними и плотными рядами польских войск, молча отдающих честь.
* * *
Как известно, останки Марии Биллевич-Пилсудской вместе с сердцем Маршала были погребены на кладбище Росса в Вильно под надгробной плитой с волнующей надписью «Мать и сердце сына».
1 сентября 1939 года я спросил пани Пилсудскую, не стоит ли перенести сердце из Вильно.
— Пусть будет среди солдат, пусть им поможет защищаться, — ответила она.
«Человеческое лицо истории»
Юзеф Пилсудский (1867–1935) — сложная и противоречивая фигура.
В переживаемый сегодня нашими народами переломный исторический момент в обеих странах резко возрос интерес к истории в целом, а к событиям начала века, 20-м и 30-м годам в особенности. В этих условиях советские и польские историки работают над прояснением так называемых «белых пятен», вокруг которых, как отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, «порой складываются представления, основанные больше на эмоциях, чем на строгом научном знании.
Путь к истине здесь один — исследование фактов, спокойное сопоставление точек зрения, научные дискуссии.
Историю переиграть невозможно, но из нее можно и нужно извлекать уроки» [235].
Эта работа требует преодоления однозначности оценок, воссоздания многоцветной картины прошлого, освещения не только проблем, но и фигур умолчания, в том числе и личности Юзефа Пилсудского. Именно этот пробел в знаниях советского читателя должна восполнить предлагаемая книга.
Миф о Юзефе Пилсудском прочно вошел в историческое сознание поляков. «Больше всего проблем существует из-за легенды о Маршале, которая, как и прежде, жива в нашем обществе, — пишет современный польский автор Е. М. Новаковский. — Поляки, так бурно живущие историческими мифами, не любят, когда смывают позолоту даже тогда, когда, счищая ее, стоят на совершенно объективных позициях»[236].
Еще более оживился никогда не утихавший интерес польского общества к этой личности в наше время. На страницах польских газет и журналов, и не только научных, развертывается полемика об исторической роли Пилсудского. Его политический портрет, лидерство в ППС, возникновение мифа вокруг и около этого имени, его деятельность с середины 90-х годов прошлого века до середины 30-х годов нашего столетия, тесно связанная с польской историей, — вот далеко не полный перечень проблем, привлекающих внимание как специалистов, так и публицистов, литераторов, широкие круги общественности. Сталкиваются противоположные взгляды, возрождаются старые легенды, созданные в свое время пилсудчнковской пропагандой о Пилсудском как истинном социалисте, демократе и величайшем политике Польши на протяжении всей ее истории, в полный голос звучат и негативные оценки его деятельности. О повышенном интересе сегодняшних соотечественников Маршала к его личности говорят и данные проведенного в Польше в 1986 году социологического опроса, согласно которым Пилсудский занимает первое место среди наиболее известных поляков прошлого и настоящего. Небезынтересно, что в 1988 году даже было создано общество памяти Пилсудского. Таков поток информации о Ю. Пилсудском, хлынувшей на польское общество в 80-е годы.
С исторической дистанции прожитых лет и накопленного опыта всматриваются поляки в сложную фигуру человека, ставшего диктатором Польши, и разобраться в этой политической судьбе, всплетенной в историю народа, помогает написанная историками Дарьей и Томашем Наленч его биография.
Важной заслугой польских авторов является их попытка спокойно и без пристрастия проанализировать эмоции, груз которых лежит на имени Пилсудского. Читая эту книгу, мы сможем увидеть его роль как в истории, так и в самосознании польского народа, лучше понять прошлое народа, так сильно волнующее его сегодня, народа, судьба которого всегда была и остается тесно связана с нашей историей.
На жизни и деятельности, на личности Пилсудского, как в осколке от масштабного зеркала истории, четко отразилось бурное время, переживаемое Европой тех лет, особенно богатые войнами и революциями первые десятилетия нашего столетия, ставшие поворотными в развитии польских земель. В свою очередь, его личность и мировоззрение, характер влияли на формирование межвоенной истории Польши, поскольку в возрожденном в 1918 году польском государстве он обладал властью, ставшей с мая 1926 года неограниченной. Поэтому понимание всех разворотов этой политической судьбы возможно только на широком историческом фоне. А время действия героя книги Д. и Т. Наленч было очень непростое и разнообразное. В нем, не вдаваясь в детали, можно сразу увидеть три периода.
В первом из них местом действия являлись разобщенные польские земли.
Насильственно разделенный в конце XVIII века польский народ развивался в рамках сразу трех различных и могущественных, с абсолютистской формой правления держав: Австро-Венгрии, кайзеровской Германии и царской России.
В отдельных частях польских земель в XIX веке, где раньше, где позже, утверждался капитализм. До сих пор в польской историографии ведутся споры о том, как оценивать с точки зрения развития угнетенной нации прошлое столетие. Главным же нам в данном случае представляется одно — сохранение национальной самобытности в таких сложных условиях было заслугой всего народа. Тем более важной заслугой, если вспомнить о том, что в последние десятилетия XIX века этот народ подвергся усиленной германизации и русификации, вызывавшим его активное противодействие, вплоть до тайного обучения в подпольных польских школах.
Процесс превращения польского народа в буржуазную нацию шел под национальными лозунгами. Развитие капитализма и создание новой социально-классовой структуры, распространение культуры и просвещения, рост общественной активности масс — все это способствовало формированию самосознания польской нации.
Национально-освободительные восстания, носившие по преимуществу шляхетский характер, обогатили поляков осознанием зависимости решения польского вопроса от складывания международной ситуации. К рубежу XX века идея восстановления собственного независимого государства охватила уже широкие слои польского общества, став волей народа. При этом, конечно, имеется в виду, прежде всего, политически активное большинство нации.
В результате утвердившегося мирным путем капитализма во всех трех частях Польши государственный строй, сохранив феодальные реликвии — власть монархов, сословность, бесправие трудящихся и национальный гнет, приобрел и новые буржуазные черты: представительные органы, легальные и нелегальные политические партии, общественные организации и профессиональные союзы.
В рамках такой эклектичной политической системы главной действующей силой в польских землях стали партии, в основе образования которых оказалось не только социально-классовое деление общества, но и идея христианской солидарности, приверженность католическим традициям, а также решение вопроса о том, каким путем идти к национальному освобождению: ориентироваться ли на помощь России или Австро-Венгрии и Германии, или же идти самостоятельно. Прибавим к тому же своеобразный характер польских политических сил Галиции, или Королевства Польского или прусских земель.
Во всей политической многоликости польского общества единственной общей идеей для всех почти партий была идея национальной независимости. А ведь именно она составила основной политический багаж Пилсудского.
Мифологизация его личности была в непосредственной связи с «неповторимой атмосферой», царившей в польских землях с началом первой мировой войны. Надежды на обретение в ее результате свободы, несмотря на свою иллюзорность в условиях разгоревшейся империалистической бойни за передел сфер влияния, охватили все польское общество — от консерваторов до радикалов. Следует отметить, что опасения братоубийственной войны, когда поляки оказались подданными обеих воюющих сторон, еще более усиливали необходимость консолидации нации, способствовали усилению национально-освободительных тенденций.
На польских территориях разворачивался театр крупных военных действий или они были непосредственным тылом для армий. В экстремальной по существу ситуации поляки, настроенные на вооруженную борьбу за независимость в благоприятных, как им казалось, для этого условиях начавшейся войны между угнетавшими их державами, ощутили потребность в вожде. Понимая это, многие политические деятели способствовали созданию такого образа в лице Юзефа Пилсудского, и по сути своей чрезвычайно сложное явление мифологизации его личности только отчасти было стихийным и произвольным. На основании фактического материала и мемуаров Наленч убедительно показывают, что рождение легенды вокруг его имени было в большей степени результатом сознательной пропаганды. Ведь в 1914 году Пилсудский и не мог быть широко известен, поскольку его конспиративная деятельность как лидера ППС и организатора тайных вооруженных формирований исключала возможность популярности, а как создатель польских стрелковых подразделений под эгидой Австро-Венгрии он если и был известен, то только в Галиции. Поэтому включение в начале войны машины культа его личности было прежде всего делом его соратников.
Выбор был достаточно удачным. Ответ на вопрос, почему именно он смог стать необходимым героем, мы видим в богатой к тому времени самыми разнообразными событиями жизни Пилсудского: случайная связь с народовольцами, ссылка в Сибири, лидерство в ППС, арест, побег из тюрьмы, конспиративная деятельность, руководство сформированными им польскими вооруженными подразделениями. На основании такой жизни люди разных политических взглядов создавали, каждый по-своему, образ вождя. Как подчеркивает Наленч, «богатая и таинственная биография Пилсудского давала широкие возможности для различного рода интерпретаций». Немаловажным являлось также и то, что Пилсудский соответствовал данной роли, поскольку был человеком действия, военачальником польских формирований, как легальных так и конспиративных. «Политические программы, концепции интересовали Пилсудского постольку, поскольку могли пригодиться в практической деятельности», — пишет Е. М. Новаковский, предлагая убедиться в том, что он был теоретик никакой, на основе изучения его писем, статей и т. п., изданных в десяти томах.
В этом его, так сказать, «теоретическом наследии» недостает какой-либо более или менее стройной концепции[237].
Эмоционально-психологический настрой польского общества на «героя», послуживший основой создания культа личности Пилсудского, во многом определил его популярность последующего времени, что выразилось прежде всего в том, что с этим именем стали связываться надежды на освобождение. «Кроившейся на вырост славе» Пилсудского в объективной реальности соответствовала его деятельность по формированию и руководству польскими стрелками, а потом входившими в австрийскую армию легионерами.
С точки зрения международной постановки и решения польского вопроса акции стрелков и легионеров ожидаемых результатов не принесли. Единственной уступкой со стороны центральных держав, на которые ориентировался Пилсудский, был Акт от 5 ноября 1916 года, на основе которого было создано непопулярное в народе правительство, находившееся под немецкой опекой. К тому же на появление этого Акта решающее влияние оказало развитие военных действий на фронте: наступление русских на Волыни и явное падение военного престижа Австро-Венгрии, требовавшее укрепления ее армии польскими силами.
Необходима оценка вооруженных подразделений и с военной точки зрения. На основе подробного анализа численности и состояния войск Австрии, России, Германии, Англии и Польши польский историк М. Гертых аргументированно показал, что польские легионы Пилсудского военного значения не имели[238]. Многие польские авторы придерживаются того же мнения. Так, например, К. Дживановский даже пишет, что идея легионов потерпела фиаско и что хуже того — легионы были ошибкой[239].
Подтверждением вывода М. Гертыха является то, что вошедшая в историю легионов как наиболее значительное сражение битва на Волыни под Костюхновкой (июнь 1916 г.) закончилась тяжелым, с большими потерями поражением австрийской армии, в том числе и польских легионов.
Таким образом, объективно реального значения для независимости Польши акции стрелков и легионеров не имели и даже не могли иметь. В то же время последствия военной деятельности Пилсудского были заметными для дальнейшей польской истории. Почему так произошло?
Идея восстановления независимого польского государства была понятна многим в силу ее близости традиции польских восстаний, поэтому базой для формирования сторонников Пилсудского были достаточно широкие слои общества. Тем более что акция стрелков, как подчеркивает польский автор А. Фришке, совпала с оживлением патриотизма и сильным идеологическим течением, особенно среди интеллигенции, в целях реабилитации польской традиции романтизма и независимости[240].
В дальнейшем, в годы войны, уже работала пропагандистская машина культа его личности и идей, что играло немаловажную роль в привлечении людей. Тем самым имя Пилсудского становилось известным во всех польских землях, а число его сторонников росло и консолидировалось в сложный социальный организм — лагерь пилсудчиков. Сказать только, что они выражали мелкобуржуазные взгляды, значит почти ничего о них не сказать.
Пилсудчиками были прежде всего стрелки и легионеры, то есть военные люди, а современная социология только начинает исследовать такой трудноподдающийся изучению социальный организм, как армия. О ретроспективной же социологии можно только мечтать. Политические взгляды большинства из них выражались, если слегка упростить проблему, в полной уверенности в правильности решений Пилсудского. Именно перекладывание задачи политического мышления на пользующегося безусловным доверием вождя, что облегчало существование, было свойственно пилсудчикам.
Если не отказываться от принципа альтернативности в изучении истории, то можно со всей очевидностью сказать, что не будь ни Пилсудского, ни его легионеров, все равно в ноябре 1918 года мечта о независимой Польше стала бы реальностью, что подтверждает сам ход событий в польских землях, освобождение которых от немецких оккупантов началось осенью. В это время сам Пилсудский являлся «магдебургским узником», а большинство его легионеров все еще были интернированы. Однако полностью отрицать их влияние на решение польского вопроса мы не можем.
Вооруженные подразделения поляков стали активными выразителями стремления народа к независимости, которое в условиях войны нельзя было не учитывать при формировании европейской политики. А ведь вместе с сохранением самобытности польской нации активная воля народа к освобождению являлась необходимым, хотя и недостаточным в той международной обстановке условием восстановления собственной государственности.
В результате такого сложного сплетения объективных и субъективных реальностей Пилсудский в годы войны стал символом стремления поляков к независимости. Однако в силу причин исключительно субъективного характера, убедительно раскрытых в этой книге (сильные романтические традиции в польском обществе, эмоционально-психологический настрой на культ героя, пропаганда пилсудчиками вождя и его идей), большинство поляков символичность личности Пилсудского, как и акции его стрелков и легионеров, не осознавало. Именно ему присваивалась главная роль в приближении независимости. Тем более что объяснение освобождения Польши гением великого соотечественника Пилсудского было понятнее и приятнее польскому сердцу.
Субъективно-психологическая атмосфера польского общества, способствовавшая возвеличиванию Пилсудского, аргументированно представлена в книге Д. и Т. Налеyч. Во многом культ Пилсудского основывался на эмоциях, чувствах поляков, а сложившийся на этой основе стереотип мышления действовал уже сам по себе и имел ощутимые последствия для дальнейшей политической судьбы Пилсудского, игравшего заметную роль после того, как в ноябре 1918 года почти все партии выступили за передачу ему власти в польском государстве, создававшемся в благоприятный исторический момент, обусловленный кардинальными переменами в европейских международных отношениях. Только революционный 1917 год в России продвинул решение польского вопроса. Февральская буржуазно-демократическая революция открыла перспективу независимой Польши. В дальнейшем под влиянием идей Октября в Центральной и Юго-Восточной Европе складывалась новая ситуация. Нараставший подъем революционной и национально-освободительной борьбы, рост антивоенных выступлений в воевавших странах — все это были проявления процесса, начатого в 1917 году в России и ознаменовавшегося осенью 1918 года революциями в Австро-Венгрии и Германии, процесса, определившего исход войны не в пользу Центральных держав и изменившего облик Европы. В этих условиях восстановление польского государства стало неотвратимым.
В такой исторический период развития польских земель сложились легенда и судьба Пилсудского.
Второй период польской истории, рассматриваемый в книге, связан со становлением буржуазного парламентаризма, в рамках которого функционировало до мая 1926 года возвращенное на карту Европы польское государство.
Возродившаяся Речь Посполитая изначально была отсталым, со значительными пережитками феодализма, особенно в деревне, с преобладанием крестьянского населения, среднего уровня капиталистического развития государством, созданным к тому же из трех разрозненных частей с отличающимся социально-экономическим и политическим обликом каждой из них. Необходимый процесс унификации всех польских земель осложнялся тем, что определивший советско-польскую границу Рижский мир 1921 года означал образование многонациональной Польши, поскольку в ее состав вошли Центральная Литва, Западная Украина и Западная Белоруссия.
Осуществление мечты поляков о независимости не разрешило социальные проблемы, как в это верили многие наивные души. Острота классовых противоречий требовала серьезных преобразований. Уровень радикализации трудовых масс в создававшейся в революционной части Европы Польше был высоким.
Манифест Люблинского правительства, образованного 7 ноября 1918 года на освобожденной от немцев польской территории, обещая глубокие социально-экономические преобразования, удовлетворял чаяния многих, снимая тем самым в некоторой мере накал классовой борьбы. Однако выступавшее от имени рабочих и крестьян правительство уже 10 ноября отдало власть в руки Пилсудского, от которого как от Начальника государства с этого момента стало зависеть многое. Пилсудский же классовыми категориями не мыслил, экономикой не интересовался, и проведения последовательных преобразований было и невозможно от него ожидать, тем более что капиталистический строй его вполне устраивал — увлечение социализмом осталось в прошлом.
Пилсудский был прежде всего политиком: четко зная, чего хотел, всегда настойчиво добивался своей цели — независимой и сильной Польши во главе с собственной персоной.
«Раскрывая пропорции между его личными мотивациями и общественными делами, вопросами большой политики», авторы показывают, как в рассматриваемый период Пилсудский боролся за власть, опираясь на своих сторонников и на сложившуюся также в годы войны популярность собственного имени. Его противником был Сейм, с которым многие поляки связывали свои надежды на радикальные преобразования.
Представлявшие партии депутаты обладали в то же время значительной свободой, являясь, согласно конституции 1921 года, представителями всей нации. Такая их двойственность еще более усиливала разноголосицу мнений, осложняя тем самым первые робкие шаги буржуазного парламентаризма в Польше. К тому же многочисленные партии, имевшие в Сейме право голоса, с образованием государства только начали превращаться из кадровых в массовые.
Отсутствие единства в лагере буржуазии, в крестьянском и рабочем движении, радикальные настроения широких масс, существование тайных организаций, продолживших традиции конспиративных вооруженных польских формирований пилсудчиков, имевших через их членов влияние на многие партии, а также масоны — все это существеннейшие штрихи к сложной политической жизни межвоенной Польши. Тем не менее утвердить свою единоличную власть в парламентарной республике Пилсудский не мог в принципе, хотя и пытался это сделать. В результате он решил временно отойти от политики, а в дальнейшем ничего иного, чем обыкновенный государственный переворот, придумать не смог.
Майский переворот 1926 года изменил существо внутриполитического устройства Второй Речи Посполитой, оставив без изменения буржуазно-парламентарную форму функционирования государственной власти. Интересно, что широкие круги польского общества еще какое-то время питали иллюзию демократического развития страны. В действительности же установился антидемократический режим личной власти. С 1926 года Пилсудский стал диктатором Польши. В таких новых исторических условиях развивались исторические события, рассмотренные в последней главе книги.
Дарья и Томаш Наленч — профессиональные историки, авторы ряда работ по началу XX века и межвоенной истории Польши. Это вторая аналогичная по форме их совместная работа. Тема первой — положение рабочего класса в конце XIX — начале XX века. Причем оба произведения отличаются пониманием конкретно-исторической действительности в связи с эмоциональнопсихологической атмосферой в польском обществе тех лет.
Думается, что такой пласт истории представляет широкий читательский интерес. Тем более что для советской исторической литературы это непротоптанная тропинка, привлекающая в сегодняшнее время придания «человеческого лица истории» внимание многих.
Интерес к личности и ее месту в историческом процессе — вот главная забота наших авторов. В случае же, когда в поле зрения крупный политический деятель, более выпукло и четко видится взаимосвязь человека и истории. В судьбе и политическом портрете Пилсудского нашло отражение его время, а во влиянии на конкретноисторические события польской истории тех лет проявилась, в свою очередь, его личность.
Книга познакомит советского читателя с малоиспользуемым у нас жанром серьезной исторической публицистики, хорошее владение которым делает чтение увлекательным. При этом наши биографы основывались на многочисленных источниках и литературе, в том числе и на вышедших в последнее время работах. Хотя в силу жанра научный аппарат остался за скобкой, он четко просматривается в тексте и в краткой библиографии.
Авторы включили также богатый материал философского потенциала. При осмыслении биографии Пилсудского высвечивается вся гамма проблем, связанных с культом личности: его возникновение, механизм возвеличивания, становление диктатора и др. Феномен власти привлечет внимание думающего читателя.
Интересную проблему поднимают Наленч, утверждая, что диктатура в Польше с ее культом и мифом Пилсудского отличалась исключительным для XX века патриархальным и старосветским характером, отделявшим правящую верхушку от всего остального польского общества чудовищной пропастью. Сложность и неисследованность данной темы не позволяют нам определенно высказаться, был ли профашистский режим санации, установленный в Польше после военного переворота в мае 1926 года, исключительным, и если был, то в чем, в сравнении хотя бы с фашистскими диктатурами в Германии, Италии, Испании. Таким образом, польские историки вышли на неосвоенную тему режимов личной власти, господствовавших в те годы во многих странах Европы. Чтобы в ней разобраться, надо с этой точки зрения изучить судьбы народов межвоенных лет, прежде всего каждую в отдельности, и данное исследование — одна из ступенек на подступах к осмыслению столь важного вопроса: почему в европейской истории межвоенного двадцатилетия во многих странах утвердились диктаторские режимы?
Биография Пилсудского богата тайнами, о которых можно только гадать. Особенно это касается его личной жизни (первая и последняя женщины, с которыми его связывали взаимные чувства, трагически погибли в молодом возрасте при неясных обстоятельствах). Авторам удалось органично показать его эмоционально-психологические состояния в различные жизненные моменты и их влияние на принятие политических решений, а также показать, как обстоятельства его личной жизни обрастали легендами, использовались для возвеличивания Пилсудского и наоборот. Тем более что его культ в значительной мере строился на эмоциях.
Заслуга авторов предлагаемой книги — в раскрытии на конкретно-историческом материале в научно-популярной форме крупной фигуры польской истории первой трети XX века — личности Юзефа Пилсудского в ореоле легенд и фактов. Вместе с тем Дарья и Томаш Наленч были менее внимательны к условиям объективной необходимости, объяснявшим наравне с психологической мотивацией решения Пилсудского.
Иронический тон, в котором написана их работа, — одно из свидетельств, насколько по-разному подходят к фигуре Пилсудского в Польше. Выдержки из книг З. Залуского и М. Лепецкого, публикуемые в качестве приложения, наверняка помогут сделать более объемным представление о личности Пилсудского.
Исторический фон, опущенный авторами в надежде на осведомленность польского читателя о прошлом собственного народа, при чтении на русском языке, мы надеемся, восполнят краткие комментарии.
Марина Бобрик,
кандидат исторических наук
Иллюстрации
Братья Юзеф (Зюк) и Бронислав.
Документ полиции «Государственный преступник Иосиф Пилсудский».1887 год.
Ю. Пилсудский на охоте в Полесье. 1893 год. Эта фотография часто публиковалась как якобы относящаяся к пребыванию Пилсудского в Сибири.
Группа деятелей ППС в Лондоне 1896 год. Сидят (слева направо) Игнацы Мосьцицкий, Болеслав-Антон Енджеевский, Юзеф Пилсудский, Александр Добский. Стоят: Болеслав Миклашевский и Витольд Йодко-Маркевич.
Фотографии Ю. Пилсудского после ареста его в Лодзи. 1900 год.
Мария Пилсудская — первая жена Юзефа Пилсудского.
Юзеф Пилсудский 1913 год.
В окопах 4-го пехотного полка Легионов. Район Рудка Мыринска на Волыни. Сентябрь 1916 года. За Юзефом Пилсудским — Альбин Флешар и Болеслав Венява Длугошовский.
Руководители Польской военной организации. Варшава, весна 1917 года. Сидят (слева направо): Валеры Славек, Генрик Крок-Пашковский, Казимеж Соснковский, Юзеф Пилсудский, Тадеуш Каспржицкий, Ян Войснар-Опелинский. Стоят: Конрад Либицкий, Януш Гансиоровский, Вацлав Енджеевич, Богуслав Медзиньский, Станислав Хемнель, Адам Скварчиньский.
Встреча Юзефа Пилсудского в Варшаве 12 декабря 1916 года. Эту фотографию часто ошибочно относили к 10 ноября 1918 года, когда Пилсудский прибыл в Варшаву из Магдебурга.
На фронте в 1920 году. Слева направо: полковник Тадеуш Кутшеба, Юзеф Пилсудский, генерал Эдвард Рыдз-Смиглы.
Смотр войск после вручения Юзефу Пилсудскому маршальского жезла. 14 ноября 1920 года.
Юзеф Пилсудский и Винценты Витос. 1921 год.
Студенты Ягеллонского университета приветствуют маршала. 1921 год.
Юзеф Пилсудский и Габриель Нарутович. Декабрь 1922 года.
Юзеф Пилсудский с офицерами в Сулеювке. 15 ноября 1925 года.
На мосту Понятовского. 12 мая 1926 года. На первом плане (слева направо): подполковник Казимеж Стамировский, поручик Зебровский, генерал Густав Орлич-Дрешер, Юзеф Пилсудский, майор Влодзимеж Ярошевич, поручик М. Галиньский.
В день президентских выборов 31 мая 1926 года. На первом плане (справа налево): полковник Юлиан Стахевич, майор Александр Прыстор, Юзеф Пилсудский, полковник Болеслав Венява Длугошовский.
Маршал Пилсудский разговаривает с депутатами Сейма: «Я очень люблю беседовать с панами». Рисунок из журнала «Муха». 1927 год.
С семьей. Март 1928 года.
С дочерьми в Гдыни. Июль 1928 года. Слева направо: Ванда, Ядвига, за ними Александр Прыстор.
«Теперь попробую при помощи нового Сейма выйти в открытое море». Рисунок из журнала «Муха» (№ 11 от 16 марта 1928 года).
На Мадейре. Рядом сидит врач Евгения Левицкая.
На отдыхе.
Любимый пасьянс. Мадейра. 1931 год.
Юзеф Пилсудский 1932 год.
Последняя фотография Юзефа Пилсудского. Возвращение из Вильно, где он участвовал в похоронах сестры Зофьи Каденацовой. 21 марта 1935 года.
Примечания
1
Маршал, Комендант, Бригадир, «гетман», магдебургский узник, отшельник из Сулеювка, вождь, отец народа — в ореоле всех этих образов в разные периоды жизни представал Ю. Пилсудский перед глазами современников.
(обратно)2
Вацлав Енджеевич (1893—?) — политический деятель правящего после мая 1926 года лагеря санации, подполковник. Во время первой мировой войны служил в польских легионах, был членом тайной Польской военной организации. С 1918 года служил в польской армии. В 1934–1935 годах — министр по делам религии и народного просвещения. С началом второй мировой войны эмигрировал. Автор книг «Юзеф Пилсудский. 1867–1935. Жизнеописание» (Лондон, 1982) и «Хроника жизни Юзефа Пилсудского. 1867–1935» (т. 1–5. Лондон, 1977).
(обратно)3
Гедимин (?—1341) — великий князь литовский, своими современниками называвшийся королем. Дед короля Ягелло.
(обратно)4
Речь идет о польско-литовской Унии 1385 года, на основании которой Литва вошла в состав Речи Посполитой. Тем самым уменьшалась угроза обоим государствам со стороны Ордена крестоносцев, создавались возможности вернуть потерянные земли. Владислав II Ягелло {1350–1434) — с 1386 года польский король, основатель новой королевской династии Ягеллонов (1386–1572). При нем значительно возросло влияние польских магнатов и шляхты, что вызвало в Литве в среде литовско-русской знати энергичную оппозицию, о которой и говорится в памфлете.
(обратно)5
Здесь упомянут широко известный роман «Крестоносцы», в котором дается впечатляющая картина борьбы рыцарской Польши с Орденом крестоносцев. Его автор — Генрик Сенкевич (1846–1916) — один из самых больших мастеров исторического романа в польской и мировой литературе. За роман из времени Нерона «Quo vadis?» («Куда идешь?»), показывающий упадок Римской империи и триумф христианства, он был удостоен в 1905 году Нобелевской премии по литературе.
(обратно)6
Фелициан Славой-Складковский (1885–1962) — легионер, генерал, член Польской социалистической партии (ППС). (Аббревиатуры как в тексте, так и в комментариях даются от польских названий партий и организаций в соответствии с утвердившимися в отечественной исторической литературе обозначениями.), в 1926–1929 и 1930–1931 годах — министр внутренних дел, в 1936–1939 годах — премьер-министр. С 1939 года — в эмиграции.
(обратно)7
Сморгоне — деревня в Западной Белоруссии (Гродненская область). Здесь Наполеон потерпел 24 ноября 1812 года полное поражение и, бросив остатки своих войск, переодевшись в форму польского офицера, тайно бежал в Париж.
(обратно)8
Бронислав Пилсудский (1866–1918) — участник революционного движения в России. 15 лет прожил в ссылке на Сахалине, где учительствовал и стал этнографом, исследователем культуры айнов.
(обратно)9
Адам Пилсудский (1869–1935) — брат Юзефа. С 1901 года работал на электростанции, в 1909–1932 годах — главный бухгалтер в магистрате города Вильно (Вильнюс). В 1932 году ушел на пенсию. В 1932–1934 годах — финансовый делегат в городском управлении Вильно. 11 октября 1934 года был избран вице-президентом Вильно, а 4 октября 1935 года — сенатором.
(обратно)10
Перники — вид пряников. — Прим. перев.
(обратно)11
Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866) — в 1863–1865 годах — виленский генерал-губернатор, прославился жестокостью в подавлении польского восстания 1863 года в Литве, в связи с чем его называли Муравьев-Вешатель.
(обратно)12
В последней трети XIX века в Королевстве Польском усиленно проводилась политика русификации. Так же, как и германизация западных польских земель, входивших в состав Германии, эта политика вызывала активное противодействие поляков, способствовала росту самосознания нации, укрепляла национально-освободительные тенденции.
(обратно)13
Alma mater — в дословном переводе с латыни «кормящая, питающая мать». Это выражение употребляется как почтительное наименование студентами своего университета.
(обратно)14
Адам Мицкевич (1798–1855) — великий польский поэт, представитель романтизма, творчество которого имело большое значение для пробуждения глубокого патриотизма и освободительных идей, для складывания национальной культуры. В наиболее известных его поэмах «Дзяды» и «Конрад Валленрод» воспевается бунт в защиту свободы народа. Мицкевич был в дружеских отношениях с А. С. Пушкиным. С 1832 года жил в эмиграции.
(обратно)15
Юлиуш Словацкий (1809–1849) — наряду с А. Мицкевичем великий поэт польского романтизма, а также создатель романтической драмы. В своем творчестве он утверждал общественный прогресс как бунт духа «вечного революционера», способствовал развитию национальной культуры, утверждению национально-освободительных идей.
(обратно)16
Стефан Жеромский (1864–1925) — писатель, создатель современной польской прозы, патриот, общественный деятель. Воспевал чувства связанности с традицией борьбы за независимость (роман «Пепел»), автор поэтической прозы и драм, а также публицистических работ. Его «Дневники» (1925) — пример тонкого психологического самоанализа.
Название упомянутого произведения Жеромского «Сизифовы труды» связано с аналогичным выражением, означающим тщетные сверхчеловеческие усилия. Согласно греческой мифологии, Сизиф, как указывает его имя, был олицетворением мудрости, изобретательности, хитрости, за что боги и наказали его. Попав в число мучеников подземного царства, он должен был вечно вкатывать на гору громадный камень: едва последний достигал вершины, неведомая сила увлекала его вниз, и Сизиф должен был снова вкатывать камень в гору. В философском смысле миф утверждал бессилие человека в его тщетных попытках путем хитрости и тонкости ума перейти границы познаваемого, о наказании беспокойного ума.
(обратно)17
Дерпт (русский Юрьев) — современный эстонский город Тарту. С 1632 года здесь находится знаменитый университет.
(обратно)18
Здесь и далее переводы стихотворений сделаны В. А. Федоренко. — Прим. ред.
(обратно)19
Бронислав Антони Шварц (1834–1904) — участник январского восстания 1863 года, член созданного в 1862 году в период подготовки к борьбе Центрального Национального Комитета, деятель левого крыла «красных», как называлась революционная партия, окончательно взявшая курс на восстание (в отличие от «белых», или «умеренных»).
(обратно)20
Мария Юшкевич (1865–1921) — урожденная Коплевская, первая жена (с 1899 года) Ю. Пилсудского, училась на Бестужевских курсах в Петербурге. В 1883–1887 годах была замужем за инженером Марианом Юшкевичем, вскоре после рождения дочери Ванды этот брак распался. Была популярна среди деятелей ППС и стрелков. В годы войны участвовала в деятельности Лиги женщин, оказывала помощь легионерам.
(обратно)21
Роман Дмовский (1864–1939) — один из основателей и руководитель Национально-демократической партии, ее теоретик, писатель-публицист, главный идеолог польских имущих классов. В 1914 году возглавил в Петербурге Польский национальный комитет, а затем в 1917 году одноименный комитет в Париже. Всегда был противником Пилсудского.
Национально-демократическая партия (НД) (сокращенно эндеция, а ее члены — эндеки) — наиболее сильная польская буржуазно-помещичья партия, основанная в 1897 году; в решении национальных задач рассчитывала на царизм, а в дальнейшем на Запад. Аналогичный характер имела буржуазная партия реальной политики, вследствие чего обе эти партии и еще схожая с ними прогрессивная партия в ноябре 1914 года образовали в Варшаве Польский национальный комитет. В августе 1917 года НД создала Польский национальный комитет (ПКН) в Париже.
(обратно)22
«Великий Пролетариат» — первая рабочая партия в польских землях, просуществовавшая с 1882 по 1886 год. В ее состав входили молодые рабочие, студенты, было много женщин. В своей деятельности они в значительной степени опирались на марксистскую идеологию. Сотрудничали с русской «Народной волей».
(обратно)23
Имеются в виду принявшие особенно широкий размах первомайские выступления 1892 года в Лодзи, которые переросли во всеобщую забастовку. К 11 мая стачка была жестоко подавлена.
(обратно)24
Программа Заграничного союза польских социалистов предусматривала борьбу за независимость Польши, включавшей в их понимании и белорусские, и украинские, и литовские земли, за самостоятельную демократическую республику и за социальную революцию без уточнения ее целей. Этой программе оставалась верна литовская секция ППС, в которой действовал Пилсудский.
(обратно)25
Станислав Мендельсон (1857–1913) — деятель рабочего движения, публицист. В 1875–1878 годах участвовал в создании социалистических кружков в Варшаве. С 1878 года находился в эмиграции в Швейцарии, был одним из основателей партии «Второй Пролетариат» (1888–1893). В 1889 году участвовал в образовании ІІ Интернационала, в 1892 году был инициатором съезда польских социалистов в Париже.
(обратно)26
Необходимо уточнить, что в марте 1893 года в Варшаве была создана ППС, или, как ее еще называли, старая ППС, раскол которой произошел летом того же года: часть членов выступила против программы Парижского союза и образовала Польскую Социал-демократическую партию — будущую Социал-демократию Королевства Польского (СДКП), с 1900 года называвшуюся СДКП и Литвы (СДКПиЛ), тесно сотрудничавшую с партией В. И. Ленина. Ее деятели пропагандировали идею социалистической революции в союзе с пролетариатом других государств. Некоторые ее члены во главе с Розой Люксембург не видели возможности восстановления польского независимого государства.
ППС признавала парижскую программу, продолжала традиции борьбы за независимость, стремилась нацелить польский пролетариат исключительно на эту борьбу в изоляции от революционного рабочего движения в России и одновременно старалась основываться на марксистской идеологии, учитывать социальные требования и сотрудничать с между на родным и революционными силами. Таково было происхождение и характер ППС — партии, с которой до 1914 года был связан Ю. Пилсудский.
(обратно)27
В конце XVIII века Речь Посполитая была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Галиция — западноукраинские земли (современные Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) и часть польских земель — стала австрийским владением, в котором проживало 4 млн поляков. В части, отошедшей к Пруссии, проживало 3,5 млн, а в Королевстве (Царстве) Польском, принадлежавшем России, — 9,5 млн поляков (данные на качало XX века).
(обратно)28
Нелегальная газета. — Прим. перев.
(обратно)29
Станислав Войцеховский (1869–1953) — один из основателей ППС, ее активный деятель. В 1917 году — председатель Польского Совета межпартийного объединения в Москве. В 1919–1920 годах — министр внутренних дел, в 1922–1926 годах — президент Польши, после майского переворота ушел с этого поста.
(обратно)30
Александр Сулкевич (1867–1916) — псевдоним Михал и др. — социалист, член «Второго Пролетариата», один из создателей ППС, а потом член ППС-революционная фракция.
(обратно)31
Владислав Побуг-Малиновский (1899–1962) — историк, публицист, сторонник Пилсудского, деятель санации, с 1939 года — в эмиграции в Лондоне.
(обратно)32
Болеслав Антони Енджеевский (псевдонимы — Анатоль, Бай, Кароль и др.) (1867–1914) — член партии «Пролетариат» и один из основателей Заграничного союза польских социалистов и ППС, деятель ее правого крыла.
(обратно)33
Витольд Иодко-Наркевич (1864–1924) — социалист, деятель «Второго Пролетариата», ППС, ППС-революционная фракция, близкий соратник Пилсудского, с 1918 года — дипломат. В 1918–1919 годах — вице-министр иностранных дел, затем посланник в Константинополе и Риге.
(обратно)34
Оставшаяся в зале основная часть партии приняла название ППС-левица. В декабре 1918 года ППС-левица объединилась с СДКПиЛ в Коммунистическую рабочую партию Польши.
(обратно)35
Карл Клаузевиц (1780–1831) — прусский генерал, военный теоретик и историк. Его труды составили этап в развитии военной мысли XIX века. Пользуясь диалектическим методом Гегеля, он глубоко раскрыл многие явления войны: природу и сущность войны, вооруженные силы, что есть оборона и наступление, план войны и др. Ему принадлежит широко известная идея о том, что «война есть продолжение политики военными средствами» («война есть орудие политики»). Участвовал в войнах с Францией. В 1812–1813 годах находился на русской службе.
(обратно)36
Бурская (англо-бурская) война (1899–1902) — захватническая война Великобритании против южноафриканских бурских республик — Трансвааля и Оранжевой Республики, завершившаяся поражением буров, оккупацией и включением территорий бурских республик в состав Британской империи. Осмысление войны имело важное значение для развития военно-теоретической мысли. В ее ходе были применены некоторые новшества (обмундирование защитного цвета и др.).
(обратно)37
Майкл Коллинз (1890–1922) — ирландский политический деятель, один из руководителей партии Шин Фейн, участник Дублинского восстания 1916 года. В декабре 1921 года подписал в Лондоне соглашение о создании Свободного Ирландского государства. В 1922 году — председатель Исполнительного совета, затем президент. Погиб в стычке с противниками соглашения с Англией.
(обратно)38
Александра Пилсудская (1882–1963) — урожденная Щербиньская, вторая жена Ю. Пилсудского. В 1903 году окончила торговые курсы в Варшаве. С 1904 года — член ППС, с 1906 года — член ППС- революционная фракция. С 1912 года служила в женском отряде Союза стрелков, одна из основательниц Общества опеки над политическими узниками. В годы войны работала в разведывательно-курьерском отделе 1 Бригады Польских легионов комендантом курьерской службы. С ноября 1915 по ноябрь 1916 года находилась в немецкой тюрьме.
После освобождения участвовала в деятельности Лиги женщин и других общественных организаций. После смерти мужа политической роли не играла. В сентябре 1939 года вместе с дочерьми Вандой и Ядвигой перебралась в Англию. В 1960 году издала свои мемуары.
(обратно)39
Михал Сокольницкий (псевдоним — Черный Лешек) (1880–1967) — политический деятель, дипломат, историк, легионер, член ППС. В 1920–1922 годах — посол в Финляндии, в 1931–1936 годах — посол в Дании, в 1936–1945 годах — посол в Турции. Автор многих исторических работ по проблемам XIX века и мемуаров «Четырнадцать лет» (1936) и «Ансарский дневник 1939–1943» (1965). Умер в эмиграции.
(обратно)40
Леон Василевский (1870–1936) — деятель и теоретик ППС, публицист, историк, дипломат, одна из известных его работ — «Очерки из истории ППС».
(обратно)41
Александр Малиновский (1869–1922) — деятель ППС, инженер, с 1906 года — член ППС-революционная фракция.
(обратно)42
Валеры Славек (1879–1939) — легионер, создатель и председатель Беспартийного блока («ББ»), политик санации, в 1930–1931 годах и в 1935 году — премьер-министр. Один из авторов конституции 1935 года. В 1938 году — маршал Сейма.
(обратно)43
Станислав Леопольд Бжозовский (1878–1911) — философ и теоретик культуры, литературный критик и публицист. Был связан с социалистическим движением. Критиковал политический конформизм и консерватизм, боролся со шляхетской традицией в идеологии и культуре, выступал против эстетизма и декадентских тенденций «Молодой Польши». В своем мировоззрении прошел путь от философии индивидуализма к «философии действия», преобразованной под влиянием марксизма в «философию труда».
(обратно)44
ПСДП — Польская Социал-Демократическая партия Галиции — существовала с 1892 года, в 1897 году, расширив свое влияние, стала ПСДП Галиции и Силезии. В ПСДП преобладали реформистские тенденции. С 1897 года ее представители заседали в парламенте. ПСДП имела влияние среди рабочих, отчасти ремесленников и интеллигенции.
(обратно)45
Закопане — горный курорт, центр туризма и зимних видов спорта на юге Польши, у подножия Татр.
(обратно)46
Зигмунт Балицкий (1858–1916) — политический деятель, публицист, социолог, один из руководителей и теоретиков национальной демократии.
(обратно)47
Основываясь на традиции восстаний, сторонники движения независимости видели путь освобождения польских земель в вооруженной борьбе поляков. В это движение входили пилсудчики (до сентября 1915 г.), такие левые независимые партии, как ПСДП. ППС-фракция и группы людовцев, образовавшиеся в 1915 году. ПСЛ-«Вызволене», а также часть отделившихся от своей партии эндеков, В 1912 году они создали Временную Комиссию Объединенных Независимых Партий, о которой подробнее см. дальше.
(обратно)48
Казимеж Соснковский (1885–1969) — генерал, политик, связанный с Пилсудским, в 1920–1924 годах — военный министр, в 1927–1939 годах — инспектор армии, с 1939 года — в эмиграции, противник генерала Сикорского и соглашения с СССР. Был заместителем президента и премьер-министра. В 1943–1944 годах — Главнокомандующий вооруженными силами. В ноябре 1944 года переехал в Канаду, где и умер.
(обратно)49
Берлинский конгресс 1878 года, в котором приняли участие делегации России, Англии, Австро-Венгрии, Германии, Франции, Италии и Турции (Балканские государства были приглашены, но не участвовали в нем), завернулся подписанием трактата, основная часть положений которого сохраняла силу вплоть до Балканских войн 1912–1913 годов. Однако, оставив нерешенными важнейшие узлы противоречий на Балканах и обострив русско-австрийское и сербо-болгарское соперничество, Берлинский трактат стал исходным моментом, а Балканы — очагом конфликтов, которые привели к началу первой мировой войны 1914–1918 годов.
(обратно)50
Виктор Чернов (1873–1952) — один из руководителей и теоретиков партии эсеров. Во Временном правительстве (1917 г.) занимал пост министра земледелия. С 1920 года жил в эмиграции во Франции.
(обратно)51
Владислав Мицкевич (1838–1926) — сын великого польского поэта, библиотекарь, владелец книжных магазинов, публицист, биограф отца, издатель и редактор его произведений, материалов о жизни и деятельности отца, переводчик, а также автор монографии «Польская эмиграция 1860–1890 гг.».
(обратно)52
Юзеф Хласка (1856–1934) — журналист, с 1887 года сотрудник «Глоса», а после 1918 года — «Газеты Варшавской», был членом Польской Лиги, а потом Национальной Лиги — либеральных буржуазных партий, предварявших появление национально-демократической партии.
(обратно)53
Владислав Яворский (1865–1930) — консервативный политик, юрист, публицист, профессор Ягеллонского университета в Кракове. В 1914–1916 годах — председатель Главного национального комитета (НКН). С 1918 года занимался только наукой. Главный национальный комитет был образован в начале войны краковскими консерваторами. Польские интересы они связывали с Австрией. Они рассчитывали на присоединение к Галиции, пользовавшейся автономией. Королевства Польского и превращение дуалистичной монархии Габсбургов в триалистичную Австро-Венгро-Польшу.
(обратно)54
Януш Енджеевич (1885–1951) — легионер, политик санации, в 1931–1934 годах — министр по делам религии и народного просвещения, проводил школьные реформы, в 1933–1934 годах — премьер-министр.
(обратно)55
Польска организация войскова (ПОВ) — тайная военизированная организация, созданная в начале первой мировой войны по инициативе и при ближайшем участии Пилсудского в Королевстве Польском. Позднее ее ответвления появились на территории Украины и России, где члены ПОВ вели диверсионную работу в тылу русских войск. ПОВ занимала крайне враждебную позицию по отношению к революционному движению; впоследствии сыграла большую роль в утверждении диктатуры Пилсудского. В годы войны ПОВ возглавлял близкий соратник Пилсудского Рыдз-Смиглы.
(обратно)56
Александр Дембский (1857–1935) — деятель рабочего движения, участвовал в создании партии «Великий Пролетариат», а потом ППС, в 1899–1919 годах — деятель союза польских социалистов в США, сторонник Пилсудского.
(обратно)57
Игнацы Мосьцицкий (1876–1946) — деятель санации, в 1926–1939 годах — президент II Речи Посполитой (так называлась межвоенная Польша). Химик, профессор Львовского политехнического института. В 1939 году был интернирован в Румынии.
(обратно)58
Игнацы Дашиньский (1866–1936) — социалист, один из главных представителей реформистского течения в ППС, политический деятель, глава Люблинского правительства (ноябрь 1918 г.). После мая 1926 года противник Пилсудского. В 1928–1930 годах — маршал Сейма.
(обратно)59
Владислав Сикорский (1881–1943) — премьер-министр и министр внутренних дел (1922–1923), начальник Генерального штаба (1921–1922), военный министр (1924–1925). Будучи противником Пилсудского, вел борьбу с ним за влияние в армии. В 1939–1943 годах — премьер-министр эмигрантского правительства. Погиб в авиакатастрофе над Гибралтаром.
(обратно)60
Временный государственный совет, функционировавший с 6 декабря 1916 по 26 августа 1917 года, — польский совещательный орган оккупационных властей, сформированный на основе Акта от 5 ноября 1916 года о создании польского государства. Практически предполагалось возникновение буферного государства. Согласно Акту ни территория, ни административное устройство его не были определены.
(обратно)61
Артур Сливиньский (1857–1953) — политический деятель, историк, публицист, соратник Пилсудского, в 1922 году — премьер-министр.
(обратно)62
Богуслав Медзиньский (1891–1972) — легионер, политический деятель, в 1926–1929 годах — министр почты и телеграфа, в 1929–1932 годах — редактор «Газеты Польской», представитель правых сил санации. В 1938–1939 годах — маршал Сената, с 1939 года — в эмиграции.
(обратно)63
Владислав Зигмунт Пражмовски-Белина (1888–1938) — полковник, до первой мировой войны входил в Союз стрелков, затем был легионером, командовал 1-м полком улан (т. н. «белиняцы»). В 1918–1920 годах командовал кавалерийской бригадой. В 1929–1933 годах — президент города Кракова, в 1933–1937 годах — Львовский воевода.
(обратно)64
Регентский совет, образованный в сентябре 1917 года, — государственный орган, замещавший монарха. Кроме того, подобием представительного органа был Государственный совет. Находясь под германской опекой, они были крайне непопулярны в народе. Одним из трех реакционных политиков, образовавших Регентский совет, был князь Здзислав Любомирский (1865–1941) — общественный и политический деятель, бывший в 1916–1917 годах президентом Варшавы.
(обратно)65
Ханс Гартвич фон Безелер (1850–1921) — немецкий генерал; будучи варшавским генерал-губернатором (1915–1918), проводил политику оккупационных властей на территории бывшего Королевства Польского.
(обратно)66
Адам Коц (1891–1969) — легионер, полковник, политик санации, редактор «Газеты Польской», в 1928–1938 годах — посол Сейма, с 1928 года — деятель «ББ», в 1939–1942 годах — министр финансов эмигрантского правительства.
(обратно)67
Тадеуш Людвик Пыскор (1889–1951) — генерал, основатель Союза активной борьбы в Бельгии (1908), легионер, в 1926–1931 годах — начальник Главного штаба, в 1931–1939 годах — инспектор армии. Во время Сентябрьской кампании 1939 года командовал первоначально армией «Люблин», а затем группой, которая после нескольких дней борьбы капитулировала 20 сентября под Томашув-Любельски. В 1939–1945 годах находился в немецком плену. Умер в эмиграции.
(обратно)68
Освобождение польских земель от оккупантов началось осенью 1918 года под влиянием революционных событий в Центральных державах (в октябре революция произошла в Австро-Венгрии, а в ноябре — в Германии). В этих условиях и возникло в оставленном австрийскими частями городе Люблинское правительство. Его образовали деятели левых «независимых» партий: ППС, ПСДП, ПСЛ-«Вызволене» и ПОВ во главе с галицийским политиком, лидером ПСДП И. Дашиньским. Блок этих партий представлял собой группировку социал-реформистов и ПСЛ-«Вызволене», в годы войны тесно сотрудничавших с пилсудчиками. Именно в кругу созданной пилсудчиками конспиративной «Организации А» первоначально решался вопрос о создании Люблинского правительства. На специальном совещании в Варшаве первое слово принадлежало замещавшему Пилсудского на посту коменданта ПОВ его соратнику Рыдз-Смиглы. Сам Пилсудский в это время был интернирован.
(обратно)69
Енджей Морачевский (1870–1944) — политический деятель, один из руководителей ПСДП. В конце 1918— начале 1919 года — премьер-министр, в 1919–1925 годах — вице-маршал Сейма.
(обратно)70
Правительство Морачевского называлось народным и рабочим, поскольку было сформировано в основном из «независимых» левых партий. Оно декретировало некоторые меры в социальной области, ранее объявленные в Люблине.
Объявив о свержении Регентского совета, Манифест Люблинского правительства провозгласил Польшу народной республикой с высшими законодательными органами, избираемыми на основе всеобщего, равного, прямого, пропорционального избирательного права при тайном голосовании, с большим объемом демократических прав и политических свобод. Было заявлено о намерении осуществить национализацию важных отраслей экономики и крупной земельной собственности, провести аграрную реформу, реорганизовать административную систему и просвещение, ввести 8-часовой рабочий день и развивать социальное законодательство. Многим полякам эта программа представлялась достойным завершением их национально-освободительной и революционной борьбы.
(обратно)71
Эдвард Рыдз-Смиглы (1886–1941) — военный и политический деятель, близкий соратник Пилсудского, руководитель фашиствовавшей части лагеря санации. В 1939 году был интернирован в Румынии. В 1941 году вернулся в Польшу.
(обратно)72
Бельведер — дворец в стиле классицизма, построенный в 1818–1822 годах на месте старого замка XVII века. С 1918 года здесь располагалась государственная резиденция.
(обратно)73
Мариан Янушайтис (1889–1973) был одним из организаторов неудавшегося государственного переворота (1919 г.) против Пилсудского, в 1941–1942 годах участвовал в создании польской армии в СССР, а после войны жил в эмиграции.
(обратно)74
Эистахы Кастан Сапега (1881–1963) — князь, политический деятель и дипломат. В 1919 году — первый польский посол в Великобритании, в 1920–1921 годах — министр иностранных дел. Первоначально был связан с эндецией, после переворота 1926 года перешел в лагерь санации. В 1928–1930 годах — посол Сейма. С 1944 года — в эмиграции.
(обратно)75
Назначение премьер-министром И. Падеревского (1860–1941) — пианиста с мировой славой, композитора, человека, снискавшего признательность поляков за свой действенный патриотизм, к тому же официально беспартийного, удовлетворяло многих, в том числе и эндеков. Достигнутый таким образом компромисс с национальной демократией приблизил признание Пилсудского Западом, считавшим до этого польским государством созданный в Париже эндецией Польский национальный комитет (ПНК), членом которого был Падеревский. В 1919–1920 годах Падеревский был премьер-министром и министром иностранных дел. Он также представлял Польшу в Лиге Наций. В 1940–1941 годах — председатель Национального Совета эмигрантского правительства в Лондоне.
(обратно)76
Давид Ллойд Джордж (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 годах.
(обратно)77
Винценты Витос (1874–1945) — галицийский лидер, основатель и руководитель ПСЛ-«Пяст», премьер-министр (1920–1921, 1923, 1926), один из инициаторов консолидации сил оппозиции в Центролев (1928), а также объединения крестьянского движения путем создания в 1931 году крестьянской партии Стронництво людове. Был осужден в ходе Брестского процесса. В 1933–1939 годах находился в эмиграции в Чехословакии, поддерживая связь со Стронництво людове и оказывая определенное влияние на ее политику. В 1939 году вернулся в Польшу, был арестован немцами. В 1945 году был избран в Крайову Раду Народову (КРН), однако из-за болезни не принял участия в ее работе. Оставил мемуары.
(обратно)78
Польская крестьянская партия ПСЛ-«Вызволене» (по названию печатного органа) была образована в декабре 1915 года на территории бывшего Королевства Польского. Она продолжала традицию более ранних подпольных организаций и выступала против клерикального и националистического влияния в деревне, пропагандировала радикальные и демократические идеи.
(обратно)79
Малая конституция 1919 года определяла высшую власть в стране, доверяя Пилсудскому пост Начальника государства до принятия основного закона. Это был нормативный акт переходного характера.
(обратно)80
На улице Вейской в Варшаве находилось здание польского Сейма. Сейм РП располагается в том же здании.
(обратно)81
Адольф Новачиньский (1876–1944) — сатирик, драматург, публицист, в молодости был связан с литературным течением «Молодая Польша», в межвоенный период сблизился с эндецией, стал выразителем крайнего национализма. Автор сатирических сборников «Обезьяны зеркало» (1902), «Меандры» (1912) и др. комедий и литературно-политической публицистики.
(обратно)82
Юзеф Халлер (1873–1960) был комендантом Восточного легиона, в 1918–1919 годах стоял во главе польской армии во Франции, в 1940–1943 годах был членом эмигрантского правительства.
(обратно)83
Владислав Броневский (1897–1962) — революционный поэт. Его творчество восходит к традиции польского романтизма. Он также был переводчиком российской литературы.
(обратно)84
Анджей Струг (1871–1937) — писатель, деятель ППС, легионер, масон. Его творчество представлено циклами новелл на исторические темы — о восстании 1863 года, о первой мировой войне, о первых годах независимости, а также повестями из жизни польских революционеров.
(обратно)85
Понятие Пястовская Польша произошло от имени первой польской королевской династии Пястов, правившей до 1370 года, и означает включенность в состав страны западных польских земель. Ягеллонская Польша — по имени королевской династии Ягеллонов (1386–1572) — подразумевает вхождение в Речь Посполитую «восточных земель», то есть украинских и белорусских.
(обратно)86
Версальский мирный договор завершил первую мировую войну. По нему Германия признавала независимость Польши, отказывалась в ее пользу от части Верхней Силезии. Вопрос об остальной ее части и о некоторых округах Восточной Пруссии должен был решиться путем народного голосования. Определялась западная граница Польши. Германия отказывалась от прав на г. Данциг (Гданьск) с округом, которые объявлялись вольным городом под защитой Лиги Наций. Обозначенная в Версале восточная польская граница стала впоследствии называться «линией Керзона». Она проходила по линии Гродно — Яловка — Немиров — Брест-Литовск — Дорохуск — Устилуг, восточнее Грубешова через Крылув, далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат.
(обратно)87
Федеративные планы Пилсудского, как и концепция Дмовского, были обращены в прошлое, к традиции сильного польского государства и не учитывали того, что в начале XX века ситуация в Европе была во всех отношениях иная, чем в конце XVIII века.
Февральская буржуазно-демократическая революция, свержение царизма открыли историческую перспективу для освобождения польских земель. 16 марта 1917 года Временное правительство опубликовало воззвание к польскому народу, в котором как в международного значения документе впервые был поставлен вопрос о независимом польском государстве, хотя и ограниченном военным союзом с Россией. Без оговорок, однозначно всегда рассматривали необходимость возрождения Польши только большевики, исходившие из права наций на самоопределение. Поэтому победа Октябрьской революции и образование первого в мире социалистического государства имели особое значение для польского народа; демократический внешнеполитический курс Советской России способствовал справедливому решению польского вопроса. Отказ Советского правительства в Брест-Литовске от суверенитета над Королевством Польским (7 февраля 1918 г.) и ленинский декрет об аннулировании в одностороннем порядке всех трактатов о разделах Польши (29 августа 1918 г.) создали международно-правовые основы для возвращения Польского государства на карту Европы.
(обратно)88
Юзеф Кшыштоф Лесьневский (1867–1921) — генерал, профессиональный военный. В звании майора участвовал в русско-японской войне. В годы первой мировой войны — командир бригады гренадеров и 8-й дивизии сибирских стрелков в звании генерал-майора. В июне 1917 года перешел в I Польский корпус, где командовал 3-й дивизией стрелков. В 1919–1920 годах — военный министр и член Совета обороны государства.
(обратно)89
Мариан Кукель (1885–1973) — генерал, военный историк, возглавлял Польскую военную академию. В 1940–1942 годах командовал І Польским корпусом. В 1942–1944 годах — член эмигрантского правительства. С 1946 года — директор Института им. Вл. Сикорского в Лондоне.
(обратно)90
Польско-советская война 1920 года — см. приложение: Залеский З. Путь к достоверности.
(обратно)91
Грюнвальдская победа, одержанная в 1410 году польско-литовско-русской армией над Тевтонским орденом, как и разгром турецких войск под Веной в 1683 году, завершивший войну Речи Посполитой с Турцией, вошли в историю.
(обратно)92
Вепша — правый рукав Вислы в среднем ее течении.
(обратно)93
Имеется в виду образованный национальной демократией в августе 1917 года в Париже Польский национальный комитет (ПКИ) во главе с Романом Дмовским.
(обратно)94
Тадеуш Розвадовский (1866–1928) — генерал, в 1918–1920 годах — начальник Генерального штаба Польской армии, в 1921–1926 годах — генеральный инспектор кавалерии. Во время государственного переворота (май 1926 г.) руководил правительственными войсками.
(обратно)95
12 октября 1920 года был подписан советско-польский прелиминарный договор, а 18 марта 1921 года РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польша, с другой, подписали Рижский мир, устанавливавший советско-польскую границу значительно восточнее «линии Керзона»: к Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия.
(обратно)96
Замок — имеется в виду Королевский Замок в Варшаве. В межвоенное двадцатилетие здесь находилась резиденция президента II Речи Посполитой.
(обратно)97
Александр Каковский (1862–1938) — кардинал, член Регентского совета.
(обратно)98
Орден Военных заслуг, более известный под латинским названием, повторяющим его девиз — virtuti militari — воинской доблести, был учрежден королем Станиславом Августом в 1792 году. Восстановлен Александром I в 1815 году в Королевстве Польском.
(обратно)99
Все политические партии Польши — левые, правые, центр, а с ноября 1922 года и национальных меньшинств — были представлены в парламенте. Послы объединялись в партийные фракции и образовывали парламентские клубы. Соблюдение анахроничной юридической формулы о представлении депутатом всей нации, делавшее его свободным от связи со своей партией, облегчало постоянные расколы, перегруппировки и слияния клубов Сейма, приводившие даже к созданию новых партий. Все это осложняло и без того трудную работу Сейма.
Политическую разноголосицу мнений должен был координировать совещательный орган Президиума Сейма — конвент старейшин, в который входили маршал Сейма, его заместители, председатели парламентских клубов и кооптированные в него послы. При многопартийной системе осуществлявший сотрудничество клубов Сейма Конвент был необходим.
(обратно)100
Станислав Мариан Шептыцкий (1867–1950) — генерал, руководитель Польских легионов в 1916–1917 годах, в 1918 году возглавлял Генштаб Польской армии, в 1923 году — военный министр, в 1923–1926 годах — инспектор армии. Автор работы «Литовско-белорусский фронт. 10 марта 1919—30 июля 1920» (1925).
(обратно)101
Мартовская конституция 1921 года носила буржуазно-демократический характер, приняла республиканскую форму государства и парламентарно-кабинетный строй. Сейму и Сенату принадлежала высшая законодательная власть в стране, президенту и правительству — высшая исполнительная власть. Провозглашались независимые суды и широкие права граждан, которые на практике были ограничены. Это был шаг вперед в политическом развитии нации.
(обратно)102
Войцех Корфанты (1873–1939) — силезский политический деятель, член христианской демократии, один из руководителей Силезских восстаний. Противник Пилсудского. В 1923 году — премьер-министр. В 1930 году оказался в Брестской тюрьме. С 1934 года — в эмиграции. В 1939 году вернулся в Польшу.
(обратно)103
Стефан Пшановский (1874–1938) — инженер-механик, в 1918 году — министр снабжения в правительстве, созданном Регентским советом.
(обратно)104
Фольварк — помещичье хозяйство, небольшая усадьба.
(обратно)105
Роман в шести томах «Потоп» Генрика Сенкевича — одна из составных частей известного цикла. В романе односторонне и с большой долей идеализации раскрывается образ жизни и исторические события в Польше XVII века.
(обратно)106
Польская, литовская, жмудская и всея Руси хроники историка и поэта Мачея Стрыйковского (1547–1582) представляют собой свод Длугоша, Меховиты и др., составленный им в 1582 году и включавший многочисленные вставки в стихах.
(обратно)107
Ян Пилсудский (1876–1950) — брат Юзефа, юрист. В 1930–1931 годах вице-маршал Сейма, в 1931–1932 годах — министр финансов, в 1932–1937 годах — вице-президент Польского банка. Принадлежал к Беспартийному блоку сотрудничества с правительством, от которого в 1928 и 1930 годах избирался в Сейм и Сенат. В 1940–1941 годах находился в московских тюрьмах (на Лубянке и в Бутырках). После освобождения выехал в Англию.
(обратно)108
Венява Болеслав Длугошовский (1891–1942) — генерал, легионер, тесно связанный с Пилсудским, с 1938 года находился на дипломатической службе (в 1938–1940 гг. — посол в Италии, в 1940–1942 гг. — посланник на Кубе), поэт и переводчик стихов.
(обратно)109
Габриель Нарутович (1865–1922) — первый президент Польши, инженер-конструктор, с 1908 года — профессор Политехнического института в Цюрихе, в 1920–1921 годах — министр общественных работ, в 1922 году — министр иностранных дел. В 1922 году был убит крайним националистом Е. Невядомским.
(обратно)110
Игнацы Матушевский (1891–1946) — в 1918 году член Военного Союза поляков в России, после майского переворота — один из лидеров правого крыла санации, в 1932–1936 годах — главный редактор «Газеты Польской».
(обратно)111
Преемником Пилсудского стал Э. Рыдз-Смиглы, в сентябре 1939 года — главнокомандующий польской армией.
(обратно)112
Бартек Победитель — главный герой одноименной новеллы Генрика Сенкевича о тяжелой судьбе крестьянина, вынужденного бороться за чуждое ему дело.
(обратно)113
Имеются в виду завоевание Львова, федеративный план Пилсудского, его военные походы на Вильно и Киев, а также конференция стран Антанты в Спа (Бельгия, июль 1920 г.), на которой в связи с обращением Польши было решено срочно усилить военную помощь в войне против Советской России; кроме того был предпринят дипломатический демарш; министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон послал телеграмму правительству РСФСР с предложением заключить перемирие и установить советско-польскую границу по линии, ставшей известной как «линия Керзона».
(обратно)114
Адам Кшижановский (1873–1963) — профессор политической экономии в Ягеллонском университете (с 1912 года). В межвоенный период был советником правительства и оказывал влияние на финансовую политику государства. В 1928 и 1930 годах избирался в Сейм от Беспартийного блока. В 1931 году вышел из «ББ» в знак протеста против ареста депутатов от Центролева. В народной Польше был депутатом Сейма. Автор работ по теории экономики, экономической истории и этике.
(обратно)115
ПСЛ-«Пяст» была образована в результате раскола в 1913 году галицийской крестьянской Польской народной партии (ПСЛ) на более умеренную, тяготевшую к националистам ПСЛ-«Пяст» (по названию печатного органа) и более радикальную ПСЛ-«левицу», близкую ПСДП.
(обратно)116
Мариан Сейда (1879–1967) — политический деятель, один из руководителей НД в прусских землях, член ПКН в Париже, в 1923 году — министр иностранных дел, в 1939–1944 годах — член эмигрантского правительства.
(обратно)117
Мачей Ратай (1884–1940) — деятель крестьянского движения, член ПСЛ-«Пяст», публицист, в 1922–1928 годах — маршал Сейма, был одним из создателей Центролева, а также инициатором объединения крестьянского движения и образования партии Строництво людове, которую возглавлял в 1935–1939 годах. В 1918–1927 годах вел дневники, которые сохранились.
(обратно)118
«Пеовяки» — члены Польской военной организации. — Прим. перев.
(обратно)119
Аббревиатура Христианского национального единства. — Прим. ред.
(обратно)120
Влодислав Грабский (1874–1938) — общественный и политический деятель, связанный с эндецией. В 1920, 1923–1925 годах — премьер-министр и министр финансов. С 1925 года занимался только научной работой, организовал институт социологии деревни.
Правительство Грабского, несмотря на изменения, продержалось два года. В этот период в Польше была проведена успешная валютная реформа 1924 года, остановлена инфляция. Был издан Закон о земельной реформе 1925 года, были предприняты меры по социальному обеспечению на случай безработицы, упорядочена административная система. В 1925 году правительство подписало конкордат с Ватиканом. Понимая необходимость развития польско-советских отношений в духе реализма, В. Грабский в августе 1925 года заключил в Москве договор с СССР о прекращении пограничных споров.
(обратно)121
Александр Скшиньский (1882–1931) — политический деятель, дипломат, в 1922–1923 и 1924–1926 годах — министр иностранных дел, в 1925–1926 годах — премьер-министр.
(обратно)122
Генрик Колодзейский (1884–1953) — публицист, экономист, по образованию историк. С молодости участник борьбы за независимость Польши. В межвоенной Польше был одним из основателей Института социального хозяйства (1920) и Библиотеки Сейма (1920), директором которой был до 1939 года. В дальнейшем был активным деятелем народной Польши.
(обратно)123
Казимеж Свитальский (1886–1962) — политический деятель, легионер, в 1928–1929 годах — министр по делам религии и народного просвещения, в 1929 году — премьер-министр, в 1933–1935 годах — маршал Сейма, в 1939–1945 годах находился в немецком плену, в 1945 году вернулся в Польшу.
(обратно)124
Густав Дрешер (псевдоним — Орлич) (1889–1936) — генерал, политический деятель, сторонник Пилсудского, в 1914–1917 годах воевал в I бригаде Польских легионов, с 1918 года — в польской армии, с 1930 года — инспектор армии, а с 1936 года стал также и инспектором воздушной обороны. Погиб в авиакатастрофе.
(обратно)125
В «Организацию А» вошли деятели левых независимых партий и представители радикальной интеллигенции. Планировалось также создать аналогичную конспирацию и из правых сил общества. Однако НД привлечь не удалось, и «Организация Б» не состоялась. Очевидно, что в основе создания подобного рода организаций было стремление влиять на все партии с помощью установления неформальных конспиративных связей с их членами.
(обратно)126
Александр Мейштович (1864–1943) — политический деятель, в 1921–1922 годах — председатель Временного правительства Центральной Литвы, в 1926–1928 годах — министр справедливости.
(обратно)127
Люциан Желиговский (1865–1947) — генерал, во время первой мировой войны был организатором и руководителем польской дивизии в России. В 1919 году по приказу Пилсудского занял Вильно и создал так называемую Центральную Литву. В 1925–1926 годах — военный министр. В 1926–1927 годах — инспектор армии. В годы второй мировой войны находился в эмиграции.
(обратно)128
Рембертув — район Варшавы. До 1957 года был самостоятельным городом.
(обратно)129
Вилянув — дворец в стиле барокко, построенный польским королем Яном III Собеским (1629–1696), принадлежавший впоследствии королям, а затем крупным магнатским родам. С 1945 года — музей. В настоящее время одноименное название носит и жилой район Варшавы, в котором находится дворец.
(обратно)130
Казимеж Бартель (1882–1941) — политик санации, математик, профессор Политехнического института во Львове. В 1919–1920 годах — министр железных дорог, в 1926–1930 годах — троекратно премьер-министр, в 1926–1927 годах — министр по делам религии и народного просвещения. Убит гитлеровцами.
(обратно)131
Болеслав Язвиньский (1882–1928?) — генерал бригады. Принимал участие в русско-японской войне. В 1913 году окончил Военно-инженерную академию. Во время первой мировой войны сражался в I Польском корпусе Добур-Мусницкого. В польской армии занимал высокие посты. После майского переворота был арестован, но в начале 1927 года освобожден и вскоре умер.
(обратно)132
Влодзимеж Загурский-Остоя (1882–1927?) — генерал, до первой мировой войны — австрийский офицер, в 1914–1917 годах служил в Польских легионах, был начальником штаба Комендатуры легионов, командовал 3-м пехотным и артиллерийским полками. Вместе с В. Сикорским выступал против начинаний Пилсудского. В польской армии занимал высокие посты. Во время майского переворота 1926 года выступал против Пилсудского. Был посажен в тюрьму, погиб при невыясненных обстоятельствах (скорее всего, был убит).
(обратно)133
Владислав Андерс (1892–1970) — генерал. В 1939–1941 годах был интернирован в СССР. После подписания советско-польского соглашения в 1941 году командовал Польской армией, созданной в СССР. В 1942 году увел ее на Ближний Восток. В 1942–1943 годах — командующий Польской армией на Востоке, в 1943–1945 годах — командующий II Польским корпусом. Умер в эмиграции.
(обратно)134
Бездань — маленькая безызвестная местность в Литве, а в Несвиже находился замок княжеского рода Радзивиллов, построенный в XVI–XVІІI веках, монастырь XVI века и иезуитский костел XVI века. В настоящее время город Несвиж — районный центр в Минской области.
(обратно)135
Станислав Цат-Мацкевич (1896–1966) — журналист, писатель, политический деятель, основатель и редактор издававшегося в Вильно «Слова», консерватор, в 1940–1941 годах — член Национального Совета эмигрантского правительства, в 1964–1955 годах — премьер-министр так называемого лондонского правительства, в 1956 году вернулся в Польшу, писал полемического характера исторические очерки.
(обратно)136
Национальное собрание — совместное заседание Сейма и Сената. Двухпалатный парламент, являясь результатом компромисса, имел своеобразный характер. Левые партии отстаивали демократический принцип однопалатного парламента. Правые же добивались наряду с Сеймом создания и высшей палаты — Сената, который обладал бы широкими полномочиями и состоял бы как из избираемых, так и из назначаемых в соответствии с занимаемыми ими высокими должностями лиц. В результате конституция 1921 года предусмотрела Сенат, но он был целиком избираем, как и Сейм, демократическим путем. Правом выбора в Сейм пользовались граждане с 21 года, быть избранными — с 25 лет, в Сенат соответственно с 30 и 40 лет. Причем Сенат мог быть ликвидирован по решению Сейма следующего созыва 3/5 голосов и не обладал широкими полномочиями. Например, он был лишен законодательной инициативы, мог лишь приостановить принятый в Сейме закон на 60 дней.
(обратно)137
Изменение августовской новеллой соотношения между законодательной и исполнительной властью в пользу последней практически ставило деятельность правительства вне зависимости от Сейма, а вся власть в стране сосредоточилась в руках Пилсудского, поскольку президент находился под его безраздельным влиянием.
(обратно)138
Станислав Цар (1882–1938) — политик санации, юрист, деятель «ББ», один из составителей конституции 1935 года. В 1935–1938 годах — маршал Сейма.
(обратно)139
Так называемый конституционный прецедент достигался формальным следованием букве основного закона при извращении его духа.
(обратно)140
С экономической точки зрения период 1926–1929 годов был самым светлым в истории II Речи Посполитой. В эти годы возрос экспорт польского каменного угля, поскольку появились новые заграничные рынки для его сбыта; кроме того, были получены иностранные займы (так называемый стабилизационный заем), а также успехи в сельском хозяйстве.
(обратно)141
Политический режим, действовавший после майского переворота 1926 года, официально получил название «санации» («оздоровление») Провозглашая «надпартийные и надклассовые интересы», оставляя в забвении жгучие социальные вопросы, волновавшие всех и каждого, Пилсудский ловко подменял их демагогическими обещаниями покончить с коррупцией и злоупотреблениями, оздоровить нравственный климат в государстве.
В действительности в Польше в мае 1926 года установилась автократическая диктатура Пилсудского, слегка прикрытая ширмой буржуазного парламентаризма.
(обратно)142
Крестьянская партия (Стронництво хлопске) была создана в январе 1926 года в результате отделения части деятелей ПСЛ-«Вызволене». Они выступали за «классовую политику крестьян», признавали необходимость рабоче-крестьянского правительства, ратовали за земельную реформу без выкупа. ПСЛ-«Вызволене», ПСЛ-«Пяст» и Крестьянская партия оказывали наибольшее влияние на польскую деревню.
(обратно)143
Мировой экономический кризис 1929–1933 годов потряс все капиталистические страны. Для экономики Польши, в которой переплетались высокие формы организации капиталистического производства — картели и тресты, со значительным по своему удельному весу мелким производством и полуфеодальными отношениями в сельском хозяйстве, кризис оказался более глубоким, чем для экономики других среднего уровня развития капитализма стран.
(обратно)144
Национальная рабочая партия (НПР) — партия рабочего класса, массовую базу которой составляли националистические профсоюзы. Значительная часть пролетариата в ее рядах социальные требования (постепенного обобществления производства, планирования экономики, государственного контроля над монополиями) рассматривала сквозь призму национального солидаризма.
(обратно)145
Адам Прухник (1885–1951) — псевдоним Генрик Свобода, деятель рабочего движения, легионер, в 1928–1930 годах — посол Сейма, публицист, историк, учитель. Автор работ по всеобщей истории, истории Польши XVIII века и по истории рабочего движения, в том числе книги «Первые пятнадцать лет независимой Польши. 1918–1933».
(обратно)146
Окраины, или «восточные кресы» — исторический термин, под которым подразумевались западноукраинские и западнобелорусские земли, входившие в состав Речи Посполитой.
(обратно)147
Мария Домбровская (1889–1965) — писательница, представительница реалистической общественно-бытовой и психологической прозы, ею написаны эпический цикл повестей «Ночи и дни из жизни шляхты и интеллигенции в Польше 1864–1914», произведения исторической драмы, литературные очерки.
(обратно)148
Тадеуш Желеньский (псевдоним Бойа) (1874–1941) — сын известного композитора Владислава Желеньского, литературный и театральный критик, публицист, переводчик, по образованию врач. Написал ряд очерков о французской и польской литературе, о «Молодой Польше». Убит гитлеровцами.
(обратно)149
Антони Слонимский (1895–1976) — поэт и публицист, один из основателей группы «Скамандр», в 1946–1948 годах руководил секцией ЮНЕСКО. Его лирика связана с польским романтизмом, автор ряда поэм («Черная весна», «Пепел и ветер»), повестей, сатирических комедий, фельетонов.
(обратно)150
Юлиан Тувим (1894–1953) — известный польский поэт, один из основателей литературного направления «Скамандр», связанного с выступлением молодого поколения периода обретения независимости Польши против модернизма и авангардизма, за связь поэзии с современностью, за сближение поэтического языка с разговорным.
(обратно)151
Мартин Войчиньский (1870–1944) — полковник, легионер, с 1926 года — личный врач Ю. Пилсудского. Погиб во время Варшавского восстания.
(обратно)152
Александр Прыстор (1874–1941) — политический деятель, соратник Пилсудского. В 1929–1930 годах — министр труда и общественной опеки, в 1930–1931 годах — министр промышленности и торговли, в 1931–1933 годах — премьер-министр, в 1935–1938 годах — маршал Сената.
(обратно)153
Юзеф Бек (1894–1944) — политик санации, близкий соратник Пилсудского, в 1932–1939 годах — министр иностранных дел, проводил политику враждебности к СССР и сближения с Германией, которая привела к изоляции Польши в 1939 году. Умер в Румынии.
(обратно)154
Юзеф Кордиан Заморский (1890–1983) — генерал бригады, легионер, был заместителем начальника Генерального штаба, в 1938–1939 годах — главный комендант полиции.
(обратно)155
Вацлав Гонсеровский (псевдоним — Веслав Склавус) (1869–1939) — писатель, публицист. Автор исторических повестей «Ураган», «Пани Валевская», «Год 1809» и др.
(обратно)156
Януш Радзивилл (1880–1967) — политический деятель, консерватор, помещик, председатель «Левиафана».
(обратно)157
26 января 1934 года в Берлине в атмосфере секретности, окружавшей предшествовавшие ему переговоры, было подписано польско-германское соглашение «О мирном разрешении споров» сроком на десять лет. Этот пакт был расценен во всем мире как сговор о далеко идущей взаимной поддержке в территориальных притязаниях к третьим странам, сговор, направленный прежде всего против Советского Союза, а также Австрии, Чехословакии и Литвы.
(обратно)158
Пилсудский имел в виду русскую императрицу Екатерину II и прусского короля Фридриха II, участвовавших в первом разделе Речи Посполитой (1772 г.).
(обратно)159
Внешнеполитическая концепция «двух врагов» определяла стремление ІІ Речи Посполитой балансировать между Советской Россией и Германией, не доверяя обеим, стараться в отношениях с ними сохранять дистанцию.
(обратно)160
Рапалльский договор был подписан 16 апреля 1922 года между РСФСР и Германией, а его действие было распространено впоследствии и на другие советские республики. Согласно ему, восстанавливались дипломатические отношения, Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности в РСФСР, договорились развивать торгово-экономические отношения на основе принципа наибольшего благоприятствования.
(обратно)161
Советско-польский договор 1932 года был заключен на три года с продлением на два года в отсутствие предупреждения о денонсации (отказе от договора) за шесть месяцев до истечения срока действия. Польское правительство неоднократно нарушало договор. В январе 1934 года, отвергнув предложение СССР о заключении пакта о взаимопомощи, оно поставило страну под удар гитлеровской Германии.
(обратно)162
Ханс Адольф фон Мольтке (1884–1943) — граф, посол Германии в Польше в 1931–1939 годах.
(обратно)163
Леон Козловский (1892–1944) — политический деятель, по специальности археолог, профессор Львовского университета, в 1934–1935 годах — премьер-министр. Как ученый, исследовал каменный и бронзовый века в Польше.
(обратно)164
Береза Картузкая расположена в Брестской области. В настоящее время так называется железнодорожная станция вблизи г. Береза.
(обратно)165
Бронислав Перацкий (1895–1934) — политик санации, полковник, с 1931 года — министр внутренних дел. Убит украинским националистом.
(обратно)166
Зофья Каденацова (1865–1935) — старшая сестра Ю. Пилсудского. Мать Чеслава Каденацова (1896—?), Зофьи и Марии Каденацовых.
(обратно)167
Вавель — возвышающаяся над Вислой гора в Кракове с монументальным ансамблем старинных зданий, в том числе королевским Замком, построенным в XIII–XIV веках, готическим собором XIV века, в склепах которого — надгробия королей и заслуженных поляков. Здесь была одна из резиденций королей. В новое время Вавель представляет собой музейно-исторический центр города.
(обратно)168
Казимеж Вежиньский (1894–1969) — поэт, один из основателей поэтической группы «Скамандр». С 1939 года — в эмиграции в США. В поэзии перешел от оптимизма молодости к историко-философской рефлексии. Сборник его стихов посмертно издан в Польше.
(обратно)169
Войцех Ястшембовский (1884–1963) — художник, график, профессор Академии художеств в Варшаве.
(обратно)170
«Зыгмунт» — знаменитые часы на здании ратуши на Вавеле.
(обратно)171
Адам Сапега (1867–1951) — кардинал, архиепископ Краковский.
(обратно)172
Молодая Польша — литературное течение, существовавшее в 1890–1918 годах и прошедшее в своем развитии путь от модернизма до возрождения романтизма и реализма.
(обратно)173
Юзеф Домбровский (1876–1926) — деятель ППС, историк, публицист, организатор польского судопроизводства в межвоенное двадцатилетие, судья Верховного Суда, автор работ «История польского народа» (1909), «Год 1863» (1913), «Современная Польша в цифрах и фактах» (1912), «Современная история. 1871–1914» (1919) и др.
(обратно)174
Густав Даниловский (1872–1927) — сын активного участника январского восстания 1863 года Владислава (1841–1878), поэт, писатель и публицист, деятель ППС, легионер. Свое творчество посвятил теме независимости и революции, наиболее известны его повести «Яхулка» (1907) и «Из дней минувших» (1902).
(обратно)175
Вертеп, кукольное сатирическое представление. — Прим. перев.
(обратно)176
Речь идет о национально-освободительной борьбе поляков. Восстание Костюшко 1794 года, названное так по имени возглавившего его генерала Тадеуша Костюшко (1746–1817), будучи направлено сразу против Пруссии и России, охватило наиболее обширную территорию. Оно носило характер революционной войны. Поражение восставших повлекло за собой третий раздел Речи Посполитой (1795). Восстания 1830 и 1863 годов, разразившиеся в Королевстве Польском, имели преимущественно шляхетский характер. Они были жестоко подавлены самодержавием.
Видный деятель польского рабочего движения Болеслав Дробнер (1883–1968) вспоминает также расправу, учиненную царизмом в 1886 году над членами партии «Великий Пролетариат», а также бурные события 1905–1907 годов в Королевстве Польском, когда почти каждый поляк принял активное участие в первой русской революции.
(обратно)177
Феликс Кон (1864–1941) — известный историк, публицист, видный деятель польского и международного рабочего движения.
(обратно)178
Ян Хемпель (1877–1937) — деятель польского рабочего движения, литератор, публицист.
(обратно)179
Очевидно, имеются в виду Домбровский и Понятовскнй. Ян Генрик Домбровский (1755–1818) — генерал, участник восстания Костюшко 1794 года, создатель в 1797 году Польских легионов в Италии, участник войны с Австрией в 1809 году и войны с Россией в 1812–1813 годах, автор «Дневника генерала Генрика Домбровского». Князь Юзеф Понятовский (1763–1813) — племянник последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, генерал, военный министр и главный вождь Варшавского княжества, маршал Франции, участник войны 1792 года, восстания 1794 года, наполеоновских кампаний 1809 и 1812–1813 годов; погиб во время переправы через реку Эльстер при отступлении французской армии. После смерти Юзефа Понятовского вокруг его имени в Польше развился своеобразный культ, тесно связанный с легендой о Наполеоне. С 1819 года его останки покоятся в кафедральном соборе Вавеля.
(обратно)180
Вацлав Серошевский (1858–1945) — генерал, политический деятель, писатель (писал о Сибири и Дальнем Востоке), публицист.
(обратно)181
Юлиуш Каден-Бандровский (1885–1944) — легионер, в дальнейшем публицист и писатель, автор известных повестей, таких как «Генерал Барч», «Черные крылья» и «Матеуш Бигда».
(обратно)182
Тадеуш Жулиньский (1889–1915) — соратник Пилсудского, с 1908 года активно участвовал в движении стрелков, в 1914–1915 годах возглавлял тайные вооруженные подразделения поляков в Королевстве Польском и в России.
(обратно)183
Из произведения «Сон о шпаге» С. Жеромского. — Прим. перев.
(обратно)184
Фуражка. — Прим. перев.
(обратно)185
С оставлением в ходе военных действий русскими войсками Королевства Польского поляки разделились на два лагеря: те, кто выступал за сотрудничество с оккупационными властями, назывались активистами в отличие от их противников — пассивистов. Соответственно активистский лагерь составляли прежде всего галицийские консерваторы и пилсудчики, а к лагерю пассивистов принадлежала основная часть сторонников прорусской ориентации во главе с НД
(обратно)186
Для лучшего понимания спора между В. Сикорским и Ю. Пилсудским важно отметить, что на издание царским правительством Акта 1916 года решающее влияние оказало развитие военных действий на Восточном фронте: наступление русских на Волыни и обозначившееся в связи с этим падение военного престижа Австрии. Таков же был и исторический момент, кода разгорелась рассматриваемая авторами дискуссия.
(обратно)187
Самозванец. — Прим. перев.
(обратно)188
Карл Ламберт (1815–1865) — русский генерал, наместник Королевства Польского с 23 августа по 26 октября 1861 года. Объявил военное положение в Варшаве, с тем чтобы избежать патриотических демонстраций. Торжественные мессы в варшавских костелах 15 октября 1881 года в годовщину смерти Т. Костюшко привели к многочисленным арестам жителей столицы, и Ламберт потребовал немедленного освобождения арестованных, вступив в конфликт с генерал-губернатором Александром Герстенцвейгом. Конфликт завершился дуэлью и смертью генерал-губернатора. В конце октября Ламберт выехал на Мадейру, где и умер.
(обратно)189
Антони Пониковский (1878–1949) — политический и общественный деятель, ректор Политехнического института в Варшаве. Первоначально был связан с эндецией. С 1928 года — член Христианско- демократической партии. В 1917–1918 годах — министр просвещения в правительстве Регентского совета. В 1918 году — одновременно премьер-министр. В 1921–1922 годах — премьер-министр и министр просвещения.
(обратно)190
В действительности Пилсудский учитывал радикальные настроения народных масс периода обретения независимости, с чем и были связаны состав и деятельность левых правительств.
(обратно)191
До последнего гроша. — Прим. перев.
(обратно)192
Аббревиатура из начальных букв «[Ch] rzešcijaňska [Je] dnošć [Na] rodowa — гиена. — Прим. перев.
(обратно)193
Христианский союз национального единства — так назывался блок, созданный национально-демократической партией, христианской демократией и христианско-национальными группами.
(обратно)194
Поэтическая вольность (дат.). — Прим. перев.
(обратно)195
Имеется в виду правительство, созданное летом 1922 года объединенными силами правых и центра, когда Христианский союз национального единства выступил в блоке с крестьянской партией «Пяст». В польском парламенте межвоенного периода широко применялось деление депутатов на правых, левых и центр. Причем никакого эмоционально-оценочного значения в эти определения не вкладывалось.
(обратно)196
Напомним, что это был пятый из двенадцати подвигов Геркулеса (Геракла). По просьбе царя племени эпеев в Элиде Авгия, владевшего бесчисленными стадами скота, Геракл вычистил его много лет не убиравшийся скотный двор за один день, отведя протекавшие неподалеку реки Алфей и Пеней и направив их так, что они смыли все нечистоты.
(обратно)197
Владислав Конопчиньский (1880–1952) — историк, публицист, профессор Ягеллонского университета в Кракове, занимался историей Польши XVII и XVIII веков, а также XX века.
(обратно)198
Польши. — Прим. авт.
(обратно)199
Пилсудский. — Прим. авт.
(обратно)200
Болеслав I Храбрый (966—1025) — с 922 года польский князь, с 1025 года — король, его внутренняя и внешняя политика способствовали усилению Польши, он успешно воевал с немцами, признавшими при нем (1000 г.) независимость польских земель.
(обратно)201
Станислав Жулкевский (1547–1620) — канцлер и гетман великой короны, активно участвовал в завоевательных походах короля Сигизмунда III Вазы.
(обратно)202
Ромуальд Траугутт (1826–1864) — генерал российской армии, участвовал в венгерской и крымской кампаниях, ушел в добровольную отставку. В истории Польши это имя связано с национально-освободительным восстанием 1863 года, одним из руководителей которого он был, став в трудных условиях спада борьбы «красным» диктатором, единственным членом тайного народного правительства восставших.
(обратно)203
Доленча Тодеуш Мостович (1898–1939) — писатель, автор популярных сенсационного характера повестей, написанных в жанре бытовой сатиры, — «Карьера Никодима Дызмы» (1932), «Знахарь» (1937), «Дневник пани Ханки» (1939) и др. Большинство произведений Мостовича экранизированы.
(обратно)204
В историческом очерке речь идет о событиях польской истории, связанных с проявлением кризиса шляхетской демократии, начавшегося в конце XVI века и определившего рост анархии в польском государстве в XVII и XVIII веках, когда магнатские роды организовывали многочисленные мятежи против королевской власти. Об одном из них и идет речь — о мятеже 1665 года Ежи Станислава Любомирского (1616–1667) против короля Яна II Казимежа (1609–1672), поддержанного только королевой Марией Людовикой (1611–1667). Ян II Казимеж — король Польши в 1648–1568 годах — вел войны с казаками, татарами, венграми, Россией и Швецией. В 1643 году вступил в орден иезуитов и был избран кардиналом. Безуспешно пытался провести государственные реформы, укрепить королевскую власть. После отречения от престола уехал во Францию. Мария Людовика Неверская, из рода Гонзага, с 1646 года была женой Владислава IV, а с 1649 года — Яна II Казимежа. При жизни Владислава IV заметной политической роли не играла. Выйдя замуж за Яна II Казимежа, создала при дворе сильную профранцузскую группировку, оказавшую сильное влияние французской культуры на Польшу.
(обратно)205
«Потоп» — так поляки часто обозначают нашествие шведов. Этот сильный художественный образ почерпнут из исторического романа Генрика Сенкевича «Потоп» (1886).
(обратно)206
Дефензива (разг.) — политическая полиция в буржуазной Польше; в русском языке есть близкое по значению слово «охранка».
(обратно)207
Габриель Чехович (1876–1938) — политик режимa санации, установившегося после мая 1926 года, в 1926–1928 годах — министр финансов.
(обратно)208
Юлиан Стахевич (1890–1934) — генерал, легионер, участник Польской военной организации. В 1923–1924 годах и с 1926 года — шеф Военно-исторического бюро, с 1928 года — генеральный секретарь исследовательского института по новейшей истории Польши.
(обратно)209
Луций Квинций Цинциннат — древнеримский политический деятель: консул (460 г. до н. э.) и диктатор (458 г. до н. э.). Согласно античной традиции, изложенной у Тита Ливия и других римских авторов, Цинциннат считался у римлян образцом скромности, доблести и верности гражданскому долгу.
(обратно)210
A. Garlicki. Józef Piłsudski. 1867–1935. Warszawa, 1988.— Прим. ред.
(обратно)211
Zbigniew Załuski. Drogl do pewnošci. Warszawa, Iskry, 1986.
(обратно)212
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 324–325.— Прим. ред.
(обратно)213
Тухачевский М. И. Избранные произведения. М., 1964. Т. 1. С. 168.— Прим. ред.
(обратно)214
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 321.— Прим. ред.
(обратно)215
Mieczyslaw Lepecki. Pamiętnik adiutanta Marszalka Piłsudskiego. Warszawa, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1987.
(обратно)216
Старшая сестра Ю. Пилсудского. — Прим. перев.
(обратно)217
Второй отдел — разведывательный отдел Генштаба.
(обратно)218
Мариан Зындрам-Косцялковский — генерал, президент города Варшавы, министр внутренних дел в 1934–1935 годах, премьер-министр в 1935–1936 годах.
(обратно)219
Кракус, или Крак — легендарный основатель Кракова. Согласно одной из легенд, победитель вавельского дракона.
(обратно)220
Ванда — легендарная краковская княжна, дочь Крака. Согласно одной из легенд, не согласилась на замужество с немецким князем и, бросившись в воды Вислы, предотвратила войну с немцами.
(обратно)221
Леон Стшелецкий (1895–1968) — полковник, легионер, в сентябре 1939 года командовал кавалерийской бригадой.
(обратно)222
Чеслав Ярнушкевич (1888—?) — генерал бригады, легионер.
(обратно)223
Праздник Трех Королей отмечается 6 января. Согласно западным вариантам перевода евангельской истории, три короля принесли дары младенцу Иисусу Христу. В славянском переводе — поклонение трех волхвов.
(обратно)224
Речь идет об одном из приездов Германа Геринга «на охоту» в Польшу. В ходе визита Геринг вел беседы с польскими государственными деятелями. Согласно записи вице-министра иностранных дел Шембека, Геринг «подал мысль о совместном германо-польском походе на Россию, указывая на выгоды, которые эта акция дала бы Польше на Украине».
(обратно)225
Речь идет о поездке министра по делам Лиги Наций (у Лепецкого — министр иностранных дел) Антони Идена в Варшаву и Москву в апреле 1935 года.
(обратно)226
Ховард Кеннард (1878–1955) — посол Великобритании в Польше в 1935–1939 годах.
(обратно)227
Княгиня Лович — морганатическая супруга (с 1820 г.) великого князя Константина Павловича (1779–1831), главнокомандующего польской армией и наместника Королевства Польского, до замужества — графиня И. Грудзиньская. Из-за женитьбы на польской графине Константин в 1823 году отрекся от права наследования престола.
(обратно)228
Станислав Роупперт (1887–1945) — генерал бригады, легионер, начальник департамента здравоохранения военного министерства.
(обратно)229
Тадеуш Збигнев Каспшицкий (1891–1978) — генерал дивизии, легионер, близкий соратник Ю. Пилсудского, его главный адъютант, первый заместитель военного министра в 1932–1935 годах, в 1935–1939 годах — военный министр.
(обратно)230
Речь идет о поездке министра иностранных дел Франции Пьера Лаваля в Москву для подписания советско-французского договора о взаимной помощи. Договор был подписан 2 мая 1935 года.
(обратно)231
Ян Кепура (1902–1966) — польский эстрадный и оперный певец.
(обратно)232
Зигмунт Бечкович (1887—?) — политический деятель, юрист и дипломат. С 1933 года — посол в Риге, после смерти Ю. Пилсудского — сенатор.
(обратно)233
Город Каунас (Ковно) явлился столицей буржуазной Литвы после захвата Пилсудским Вильнюса (автономная республика Центральная Литва). Этот конфликт Польши и Литвы привел к тому, что дипломатические отношения между ними не были установлены.
(обратно)234
Тадеуш Кательбах (1897–1978) — корреспондент «Газеты Польской» в Каунасе.
(обратно)235
Правда, 1988, 12 июля.
(обратно)236
Nowakowski Е. М. Mit Marszalka. — Tygodnik Polski, 1985. R. 4. N 20. S. 12.
(обратно)237
Nowakowski Е. М. Op. cit. S. 12.
(обратно)238
Gierlych М. Dmowski — Piłsudski. — Lad, 6, 10, 11 1985.
(обратно)239
Przegląd powszechny, 1985, № 9.
(обратно)240
Friszke A. Piłsudski Wiéz. Warszawa, 1985, 5/6. S. 139.
(обратно)
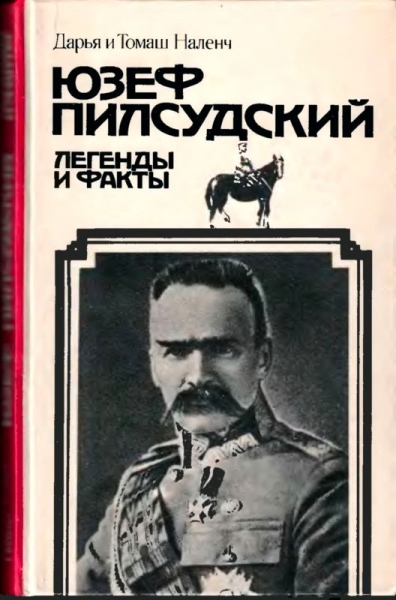



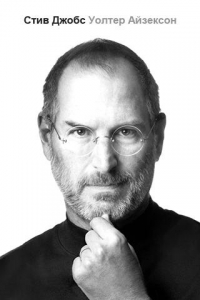

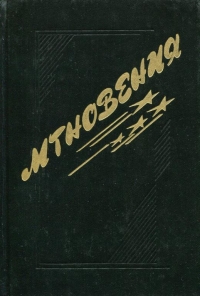

Комментарии к книге «Пилсудский», Дарья Наленч
Всего 0 комментариев