Н.Н. Покровский Последний в Мариинском дворце. Воспоминания министра иностранных дел
© С.В. Куликов. Сост., вступ. статья, комментарии, 2015
© Д.Н. Шилов. Статьи «Археографическое послесловие» и «От священника до министра: краткие заметки из семейной истории Покровских», 2015
© ООО «Новое литературное обозрение». Оформление, 2015
Ученый во власти. Н.Н. Покровский – государственный деятель и мемуарист
Некоторые государственные деятели Российской империи малоизвестны, а то и вовсе забыты лишь потому, что пик их карьеры пришелся на канун Февральской революции 1917 г., отбросившей густую тень на предыдущую эпоху. Один из них – Николай Николаевич Покровский, в 1916 – начале 1917 г. последовательно занимавший посты государственного контролера и последнего министра иностранных дел Российской империи[1]. Личность Н.Н. Покровского, однако, интересна и даже уникальна прежде всего тем, что из всех министров предреволюционного периода, отмеченного проводившейся либеральной оппозицией кампанией по дискредитации царского правительства, он – едва ли не единственный, кто сумел тем не менее сохранить безупречную репутацию.
В отзывах о Н.Н. Покровском современников мы находим только положительные оценки его интеллектуальных, деловых и нравственных качеств. Покровский, по воспоминаниям его многолетнего друга В.Б. Лопухина, являл собой «личность исключительно светлую, редкую по сочетанию качеств ума, души и сердца, при выдающихся способностях и исключительной просвещенности». Лопухину Покровский запомнился как «большой умница и очень талантливый», «педантически честный человек»[2]. Журналист Е.Н. Шелькинг подчеркивал, что Покровский отличался «здравым смыслом и проницательностью», а также «честностью»[3]. В марте 1916 г. императрица Александра Федоровна называла Покровского «славным» и «самым симпатичным» из либеральных сановников[4]. Министр торговли и промышленности князь В.Н. Шаховской был «высокого мнения» о Покровском, ибо знал «его тактичность, осторожность и высокий ум»[5]. «Покровский, – вспоминал его подчиненный по Министерству иностранных дел Г.Н. Михайловский, – имел репутацию человека умного и честного, опытного бюрократа»[6]. «Покровский, – сообщал супруге 1 декабря 1916 г. депутат IV Государственной думы октябрист А.Н. Аносов, – человек очень умный, честный»[7]. В речи, произнесенной на заседании IV Думы 14 февраля 1917 г., В.М. Пуришкевич назвал Покровского «кристально чистым и благородным»[8]. Французский посол Ж.М. Палеолог характеризовал Покровского как «человека осторожного, умного и трудолюбивого»[9].
Николай Николаевич Покровский родился 27 января 1865 г. в Петербурге. Он был сыном действительного статского советника Николая Николаевича Покровского и Марии Александровны, урожденной Кушинниковой (подробнее о родословии Покровского см. с. 425–432 настоящего издания). Дед Покровского, Николай Гаврилович Покровский, служил офицером конной артиллерии и женился на Наталии Антоновне Эрдман, дочери отставного полковника армии Царства Польского, очевидно польке, во всяком случае с тех пор Покровские имели многочисленную польскую родню. Возможно, в этом одна из причин той особенности общения Покровского с окружающими, которая нашла свое выражение в поговорке «мягко стелет, да жестко спать» и которую современники, в зависимости от степени близости с ним, оценивали кто положительно, кто отрицательно. «Что было особенно ценно в Николае Николаевиче, – вспоминал В.Б. Лопухин, – это проявлявшееся им исключительное уважение к человеческой личности. Предупредительно вежлив был он со всеми и каждым, безразлично к положению, полу и возрасту. И в равной мере ко всем был благожелателен. Все, что только от него зависело, он для ближнего делал, не жалея ни хлопот, ни усилий»[10]. «Сквозь любезность его, – описывал Покровского журналист Ю.С. Карцов, – просвечивала ирония: “Видали мы таких, как ты”. “Хитрый хохол”, – отзывался о Покровском адмирал Е.И. Алексеев»[11]. Особенности поведения Покровского имели, однако, и иные причины.
Отец деда Покровского по отцу происходил из духовного звания, и, таким образом, по своему сословному происхождению Николай Николаевич являлся потомственным разночинцем. «Разночинец, – указывал писатель С.Я. Елпатьевский, – это дворянин, ушедший из своего дворянства; поповский сын, не пожелавший надеть стихаря и рясы; купец, бросивший свой прилавок; мужик, ушедший от сохи и приобщившийся к образованию; генеральский сын, чиновничий сын»[12]. Покровский, подчеркивал итальянский дипломат Л. Альдрованди-Марескотти, не имел «ни аристократического вида, ни претензий на аристократизм»[13]. Он, справедливо писал Г.Н. Михайловский, представлял собой «сановника не из придворных или светского общества, а из трудолюбивого и малозаметного чиновничества»[14]. Занимаясь государственной деятельностью, Покровский едва ли не горел на службе. «Служба, вопреки столь же распространенному, сколько глубоко неверному в обобщениях и несправедливому мнению о синекурах бюрократии, была для Николая Николаевича, – по наблюдениям В.Б. Лопухина, – отнюдь не синекурою, а упорным, подчас непосильным, надрывным трудом. И отдавал Николай Николаевич этой службе все свои силы, все свое разумение и способности»[15]. «Для всех нас, привыкших иметь дело с петроградским бюрократическим сановным и чиновным миром, – отмечал Г.Н. Михайловский, подразумевая своих сослуживцев по Министерству иностранных дел, – Покровский, как тип чиновника, после долгой выслуги получившего видное положение, не представлял ничего нового»[16]. Действительно, сановник-разночинец, достигший высокого статуса своими трудами, опиравшимися на труды его предков, являл собой достаточно типичное явление в России конца XIX – начала XX столетия[17].
Сравнительная скромность сословного происхождения Покровского подтверждается и его имущественным положением – какой-либо земли, полученной по наследству, он не имел, обладая лишь небольшой приобретенной недвижимостью, которую составляли: имение Борткунишки в Ковенском уезде, под Кейданами, а также общее с крестьянами пастбище в Поневежском уезде Ковенской губернии[18]. Жена Покровского, Екатерина Петровна Волкова, сочетавшаяся с ним браком в 1892 г. и подарившая мужу трех сыновей – Николая (1893 – не ранее 1917), Петра (1894 – не ранее 1917) и Георгия (1897 – не ранее 1917), не имела приданого в виде земли. Содержание, получаемое им на государственной службе, было для семьи Покровского единственным источником существования, более того, «служебный заработок для него являлся источником средств не только для существования его семьи в тесном смысле этого слова, т. е. жены и детей, – свидетельствовал В.Б. Лопухин, – но и для поддержания его родителей, а также матери жены, и для оказания посильной помощи, равным образом, другим близким людям. Небольшая земельная собственность в Ковенской губернии служила лишь подспорьем к заработку. Доход от нее преимущественно шел, как это обычно водилось в то время, на уплату процентов в земельный банк, в котором земля была заложена. Дело, в конце концов, сводилось к наличию собственной самоокупавшейся дачи на летнее время»[19].
Хотя в течение почти тридцатилетней службы Покровского главным источником существования его семьи было жалованье, он оставался абсолютно чуждым коррумпированности. Ж.М. Палеолог удивлялся тому, что за всю карьеру Покровского «его никогда не коснулась даже тень подозрения»[20]. Таким образом, еще одна черта, характерная для Покровского как типичного представителя бюрократической элиты Российской империи начала XX в., – принадлежность к «служилой интеллигенции» с ее культом бессребреничества[21].
Поведение Покровского, помимо его личных качеств, объяснялось и полученным им образованием. В августе 1884 г. он поступил на юридический факультет Московского университета (в то время семья Покровских жила в Варшаве), однако после назначения отца в Петербург, в декабре 1886 г., находясь на третьем курсе, Николай подал прошение о переводе в Петербургский университет. В отношении ректора Московского университета указывалось, что при «очень хорошем» поведении он на последних переводных экзаменах получил пятерки по всем предметам, кроме богословия (удовлетворительно), а по политэкономии – даже пять «с крестом», т. е. «с плюсом». Итак, уже на студенческой скамье определились научные приоритеты Покровского (экономические науки), повлиявшие на его дальнейшую карьеру. В мае 1888 г. Покровский получил диплом, из которого следует, что экзамены почти по всем предметам сданы им на отлично и лишь судебная медицина – на хорошо и богословие – на достаточно[22].
За время обучения Покровского в университете был введен новый Университетский устав 1884 г., заменивший собой более либеральный Устав 1863 г., но соотношение между выпускными свидетельствами образца 1863 и 1884 гг. менялось очень медленно, поскольку новый Устав вводился постепенно, и Покровский выпускался еще по старой системе[23]. Согласно Уставу 1863 г. выпускник обязывался в течение года представить кандидатское сочинение, в ином случае он кончал учебу лишь со званием действительного студента, а не кандидата соответствующих наук и мог поступить на государственную службу только с чином 12-го (а не 10-го) класса, что означало задержку в продвижении по лестнице чинов и в служебной карьере на несколько лет. Покровскому не потребовалось и полугода, и уже в ноябре 1888 г. он был утвержден Петербургским университетом в степени кандидата прав. Таким образом, в это время Покровский являлся молодым ученым, который, однако, отдал предпочтение не научной, а чиновничьей карьере – несомненно, по причине своей бедности. Тем не менее научная закваска, полученная Покровским в университете, проявляла себя на протяжении всей его государственной деятельности. «По каждому делу, – писал В.Б. Лопухин, – Николай Николаевич вел большую подготовительную работу, изучая прецеденты, историю вопроса, научную его трактовку, соответствующее иностранное законодательство, подбирая материал для согласования проводимой новой меры с системою соприкасавшихся с нею законоположений»[24].
Покровский как государственный деятель воплощал собой идеальный тип «ученого во власти», представители которого в конце XIX – начале XX в. активно завоевывали петербургские канцелярии[25]. «Большая эрудиция, начитанность Николая Николаевича и усвоенные им знания в области политической экономии и финансового права, – подчеркивал друг Покровского, – были поистине изумительные. Ему могли в этом отношении позавидовать квалифицированные академики и профессора»[26]. Свидетельство В.Б. Лопухина подтверждает отмеченную выше тенденцию, затронувшую на рубеже XIX–XX вв. личный состав столичных канцелярий, где, вспоминал младший современник Покровского, И.И. Тхоржевский, который также окончил юридический факультет Петербургского университета со степенью кандидата прав, «кроме представителей русской знати, было уже немало и людей моего типа, т. е. прошедших высшую научную школу и приобретших в ней, кроме знаний, привычку быстро и объективно разбираться в сложных вопросах. Служилый Петербург, как бы предчувствуя предстоящую ему преобразовательную работу, уже запасался людьми: стягивал к себе, обирая профессуру, свежие умственные силы»[27]. Впрочем, и ранее высокий уровень образования являлся в России одной из основных предпосылок карьеры.
Современники видели в Покровском едва ли не крупнейшего в предреволюционной России специалиста в области финансовой науки, причем не только в практическом, но и в теоретическом аспекте. А.Н. Аносов считал, что Покровский – человек, «самый сведущий в финансовых вопросах», выступающий в качестве «единственного знатока русских финансов»[28]. Покровский, вспоминал его коллега, министр торговли и промышленности князь В.Н. Шаховской, был известен как «большой знаток финансовых и экономических вопросов»[29]. Покровский, констатировал Г.Н. Михайловский, «заслуженно считался одним из лучших финансистов». Научные интересы Покровского определили его первые шаги на поприще государственной службы.
В июле 1889 г. с чином коллежского секретаря Покровский поступил в Министерство финансов и начал исправлять должность помощника бухгалтера Департамента окладных сборов, в декабре того же года получив утверждение в этой должности. Способности Покровского были замечены довольно быстро – уже в июле 1890 г. он получил чин титулярного советника, а в сентябре 1891 г. – должность столоначальника Департамента окладных сборов. Здесь непосредственным начальником Покровского с февраля 1892 г. являлся вице-директор Н.Н. Кутлер, с которым впоследствии Покровского связывали «прекрасные личные отношения»[30]. Впрочем, эти отношения отразились на карьере последнего несколько позже, поскольку в январе 1893 г. Покровский перешел из Министерства финансов в Канцелярию Комитета министров, став поначалу сверхштатным помощником начальника отделения Канцелярии, в июне указанного года заняв штатную вакансию, а в июле получив чин коллежского асессора.
Канцелярия Комитета министров, председателем которого был выдающийся представитель правительственного либерализма Н.Х. Бунге, тоже «ученый во власти», являлась одним из самых элитарных ведомств Российской империи. Личный состав Канцелярии, отличавшийся крайней малочисленностью, «очень замкнутый, пополнялся людьми, – вспоминал И.И. Тхоржевский, – не нуждавшимися ни в жаловании, ни в быстрой карьере. Приманки там были другие: 1) сравнительно легко было получить придворное звание и 2) так как все министры, проводившие свои дела через Канцелярию, быстро становились знакомыми, то через несколько лет иным из Канцелярии удавалось попадать в то или другое министерство уже на видное положение». В петербургском обществе чинов Канцелярии за их элитарность полушутя называли «штатскими гусарами»[31]. Школу Канцелярии прошли, помимо Покровского, такие будущие министры царствования Николая II, как министр земледелия граф А.А. Бобринский, министр народного просвещения П.М. фон Кауфман-Туркестанский, министр финансов (позднее – торговли и промышленности) И.П. Шипов. К Покровскому, однако, прозвище «штатского гусара» явно не шло – для него на первом месте стояло не придворное звание (так им и не полученное), а ревностное исполнение своих обязанностей, что способствовало дальнейшему развитию карьеры молодого чиновника. В октябре 1893 г. «за трудолюбие и способности»[32] управляющий делами (т. е. начальник Канцелярии) Комитета министров А.Н. Куломзин, еще один «ученый во власти», выдвинул Покровского на должность начальника отделения Канцелярии, в которой его утвердили в июне 1896 г. Должность начальника отделения вполне соответствовала работоспособности Покровского. «Несомненно, – описывал ситуацию конца XIX в. князь В.А. Оболенский, – в Петербурге было перепроизводство чиновников, и многие из них на низших должностях не имели достаточно работы. Работали по-настоящему высшие должностные лица, начиная с начальников отделений, а министры были перегружены работой»[33].
В мае 1896 г., в честь коронации Николая II, в церемонии которой Покровский участвовал со своими сослуживцами, он получил чин надворного советника, а в июле 1898 г. – чин коллежского советника. Помимо исполнения своих прямых обязанностей Покровский занимался историко-статистическими исследованиями[34], что еще больше сблизило его с А.Н. Куломзиным (также не чуждавшимся историко-статистических штудий) – для него Покровский даже составлял важнейшие всеподданнейшие доклады[35]. Впрочем, на ход последующей карьеры молодого чиновника повлияли отношения не с А.Н. Куломзиным, а с Н.Н. Кутлером, поскольку в июне 1899 г. Покровский вернулся в Департамент окладных сборов Министерства финансов, став его вице-директором. Современники полагали, что в данном случае Покровского «выдвинул» всесильный министр финансов С.Ю. Витте[36], но, учитывая, что Покровский сменил на этом посту Кутлера, одновременно назначенного директором Департамента окладных сборов, ходатаем за Покровского был, очевидно, именно Кутлер. Деловое сотрудничество с ним Покровского оценили по достоинству – в июле 1902 г. он получил чин статского советника. Впрочем, если Кутлер являлся другом Покровского, то непосредственный начальник обоих, товарищ министра финансов В.Н. Коковцов, «хорошо знавший Николая Николаевича по его службе в Министерстве финансов и правильно его оценивший»[37], стал новым, после Куломзина, покровителем Покровского, который с этого времени превращается в «человека Коковцова». А.А. Поливанов вспоминал, что Покровский был известен «как опытный и неутомимый сотрудник В.Н. Коковцова»[38]. «Мой друг и долголетний сотрудник по Министерству финансов» – так охарактеризовал Покровского сам Коковцов[39].
Новый виток карьеры Покровского был обусловлен его служебными связями именно с Коковцовым, который в апреле 1902 г. занял пост государственного секретаря, т. е. начальника Государственной канцелярии, ведавшей кодификацией и делопроизводством Государственного совета. По приглашению Коковцова в январе 1903 г. Покровский перешел в Государственную канцелярию на должность статс-секретаря Государственного совета по Департаменту промышленности, наук и торговли. «Это, – вспоминал В.Б. Лопухин, – был первый случай назначения вице-директора на статс-секретарскую должность, по рангу соответствовавшую должности товарища министра». Иными словами, с должности 5-го класса (вице-директора) Покровский сразу перешел на должность 3-го класса (статс-секретаря). Описывая реакцию чиновников на возвышение коковцовского протеже, В.Б. Лопухин отмечал: «Государственная канцелярия нахмурилась»[40]. И неудивительно – как и Канцелярия Комитета министров, Государственная канцелярия, хотя и более многочисленная, также являлась одним из самых элитарных ведомств Российской империи. «Государственная канцелярия, – вспоминал чиновник Министерства финансов, а затем Министерства торговли и промышленности А.И. Ивановский, – была нечто вроде чиновничьей гвардии, и лица, пользующиеся наибольшей протекцией, старались устроиться именно здесь на службу. Таким значением Государственная канцелярия пользовалась до думской эпохи, с которой она потеряла свой парадный характер»[41]. «Государственная канцелярия, – по наблюдениям И.И. Тхоржевского, – пополнялась главным образом людьми с громкими русскими фамилиями, с высшим образованием, а иногда уже и с учеными именами и с наследственной прочной культурностью»[42]. Покровский весьма удачно вписался в личный состав элитарного ведомства, поскольку его «выдающиеся способности», равно как «исключительная образованность, ум и громадная трудоспособность снискали ему на первых же шагах службы в Государственной канцелярии всеобщее уважение. А его скромность, – отмечал В.Б. Лопухин, – приветливость и доброта завоевали ему и всеобщие симпатии». Этому способствовала и тактичность Покровского, «ни в малейшей степени не проявлявшего себя начальником не только по отношению к князю, но и к канцелярской молодежи»[43]. Несомненно, что благодаря общению с бюрократами, подобными Покровскому, чиновники Государственной канцелярии казались И.И. Тхоржевскому, выступавшему в данном случае в роли компетентного эксперта, вращавшегося и в правительственных, и в оппозиционных сферах, «самыми культурными, самыми дисциплинированными и наиболее европейскими изо всего, что было тогда в России»[44].
«Фаворитизма, продвижения по протекции, – характеризовал ситуацию в Государственной канцелярии служивший в ней В.И. Гурко, – по крайней мере, на ответственные должности, не было, да оно и было невозможно: работа Канцелярии требовала значительного умственного развития, большого навыка и немалого труда»[45]. И здесь опять в полной мере выявился стиль бюрократической деятельности Покровского. «Усидчивость и работоспособность его были изумительные, – восхищался другом В.Б. Лопухин, одновременно с Покровским служивший в Департаменте промышленности, наук и торговли. – Он мог писать, не отходя от стола днями и ночами. Как сейчас помню первые его шаги в Государственной канцелярии в должности статс-секретаря. После памятного одного заседания, на котором проходил особо спешный законопроект, Николай Николаевич безотлагательно принялся за составление журнала в служебном кабинете, не думая о возвращении домой, в Царское Село, где он в то время жил с семьею. Просидел за работою весь день и всю ночь до утра, пока не закончил объемистый обстоятельный журнал… Исключительная добросовестность Николая Николаевича сама по себе умножала и осложняла его работу. Он много и усидчиво работал в нашем Департаменте»[46]. Впрочем, с января 1904 г. Покровский стал статс-секретарем по другому департаменту – государственной экономии.
В феврале 1904 г. Коковцов был назначен министром финансов и «переманил» к себе Покровского, который перешел на более низкую по рангу должность 4-го класса. В апреле 1905 г., будучи еще сравнительно молодым, Покровский получил чин действительного статского советника.
В центре внимания Покровского как директора Департамента окладных сборов оказалось кардинальное реформирование налоговой системы с целью переноса центра тяжести с косвенных налогов, как менее справедливых, на прямые, более справедливые, и подготовка в связи с этим соответствующих законопроектов. Общая идея, объединявшая все эти предположения, состояла «в возможном сообразовании податной тяготы с доходностью облагаемых объектов и впоследствие сего в устранении неуравнительности обложения»[47]. Итогом намечавшихся преобразований должно было стать введение прогрессивного подоходного налога, трактовавшегося как экономический аналог политической конституции[48]. Сам вопрос о введении подоходного налога неоднократно обсуждался в бюрократических верхах еще в XIX в.[49], и постановка этого вопроса весной 1905 г. лишь отчасти объяснялась необходимостью поддержать устойчивость государственного бюджета, несколько поколебленную Русско-японской войной и начавшейся революцией 1905–1907 гг.
Едва ли Коковцов мог найти лучшего разработчика проекта подоходного налога, нежели Покровский, которому было свойственно широкое понимание данной проблемы. В подоходном налоге он видел не просто техническое средство исправления дефектов налоговой системы, но и способ «облегчить бремя существующих налогов для менее состоятельных классов населения. В этом – социальное назначение данного налога, которое в настоящее время едва ли менее важно, нежели фискальное; только меры этого порядка, – подчеркивал Покровский, – способны и впредь поддержать на твердых основаниях те правовые и экономические устои, на которых зиждется современный общественный строй, основанный на признании неприкосновенности частной собственности и развитии индивидуального хозяйства». Следовательно, введение подоходного налога Покровский расценивал как едва ли не единственное средство сохранения капитализма в том виде, в каком он существовал в начале XX в. Покровский относился скептически к тотальному огосударствлению экономики посредством создания казенных монополий. Признавая, что «некоторые монополии ввести удастся», он подчеркивал: «Мы сомневаемся, однако, в возможности очень широко использовать этот способ обложения, связанный с отчуждением в пользу казны целых отраслей народного труда и производительности. Кроме того, введение монополий, особенно в значительном числе, без сомнения, вызовет у нас, как и везде, очень сильное сопротивление заинтересованных кругов, так что в результате на очень широкое распространение их рассчитывать едва ли возможно»[50].
Впервые проект закона о введении подоходного налога рассматривался в мае 1905 г. в Комиссии при Министерстве финансов под председательством Н.Н. Кутлера, причем, естественно, главную роль в ней играл Покровский. Разработка экономических реформ происходила параллельно с подготовкой и осуществлением политических реформ, главной из которых современники считали Манифест 17 октября 1905 г. В нем император Николай II предписывал правительству подготовить предоставление россиянам гражданских прав и свобод (личности, совести, слова, собраний и союзов), расширение избирательного права и преобразование законосовещательной Государственной думы, учрежденной Манифестом 6 августа 1905 г., в законодательную. Покровский, будучи сторонником и политических реформ, как и многие другие либеральные сановники, полагал, что «в том виде, в котором Манифест увидел свет, он удовлетворит широкую общественность и наступит успокоение». На следующий день, 18 октября, В.Б. Лопухин, служивший и в этот период под началом Покровского, явился на очередное заседание совещания по подоходному налогу. «Николай Николаевич, – вспоминал Лопухин, – встретил меня словами: “Ну, теперь беспорядкам конец. Теперь все успокоится”. Он не ожидал, что в тот же день “беспорядки” вспыхнут с новою силою»[51]. Между тем 14 марта Николай II утвердил Меморию Совета министров 7 марта 1906 г., содержавшую программу налоговых реформ[52]. Покровский справедливо смотрел на эти реформы «не как на нечто неожиданное, не как на ответ запуганного правительства на требование левых партий, а как на естественный и необходимый вывод из всей предшествующей нашей податной истории»[53].
В конце мая – начале июня 1906 г. под председательством Покровского заседало Особое совещание по вопросу о сборе дополнительных сведений относительно доходов, подлежащих обложению подоходным налогом. Роль Покровского в деле реформирования налоговой системы была такова, что в июле 1906 г. Коковцов провел его в товарищи министра финансов, ведающего в том числе и Департаментом окладных сборов.
В должности товарища министра Покровский довел законопроект о подоходном налоге до окончательной редакции. На заседании Совета министров 24 октября 1906 г. Покровский лично доложил кабинету П.А. Столыпина содержание законопроекта, получившего, хотя и не единогласное, одобрение правительства[54]. Особый журнал Совета министров «По вопросу о введении в России подоходного налога» Николай II утвердил 26 января 1907 г.[55], и уже 23 февраля, через три дня после открытия II Государственной думы, Коковцов внес законопроект о подоходном налоге в нижнюю палату[56]. Кроме того, правительство, с последовавшего 15 февраля 1907 г. одобрения монарха, внесло в Думу и два других, не менее важных в социально-экономическом смысле налоговых законопроекта, также разработанных под непосредственным руководством Покровского, – о преобразовании налогов с наследств и с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках[57].
Сформированные по новому избирательному закону 3 июня 1907 г. III и IV Думы оказались намного более работоспособными, чем две первые, но законопроект о подоходном налоге рассматривался слишком медленно, в результате чего осуществление данной реформы затормозилось на 10 лет. Объясняя причины этого, Покровский писал: «Податные реформы, особенно такие, как подоходный налог, бьют по карману представителей состоятельных классов, к какой бы политической партии они ни принадлежали. Этот налог затронет интересы и землевладельцев, и фабрикантов, и капиталистов, и представителей свободных профессий, которые до сих пор, кроме ничтожного сравнительно квартирного налога, никаких прямых налогов не платили. Поэтому трудно с какой-либо стороны ожидать поддержки такому преобразованию, если нет для этого внешних и притом настоятельных побуждений»[58]. Для народного представительства Российской империи «внешними и настоятельными» побуждениями стали обстоятельства, порожденные Первой мировой войной.
Другим направлением деятельности Покровского как товарища министра финансов являлась подготовка бюджета. Подразумевая именно это, Коковцов вспоминал, что при окружавшем его «прекрасном личном составе Министерства» и при таких «выдающихся сотрудниках по бюджетному делу», как Покровский, «самое сложное дело спорилось у нас». Сам П.А. Столыпин «с завистью» говорил Коковцову: «Вот, если бы у меня были такие сотрудники, и я бы так же работал, как работают в Министерстве финансов»[59].
Помимо законопроектов о налоговых реформах и бюджетах, Покровский играл руководящую роль и при подготовке других реформаторских законопроектов, исходивших от финансового ведомства. «Все крупные законопроекты по Министерству финансов, – отмечал А.Н. Аносов, – выработаны им, когда он был товарищем Коковцова»[60].
С 1913 г. Покровский стал курировать еще одно направление экономической политики – внешнюю торговлю, возглавив Комиссию при Редакции периодических изданий Министерства финансов по пересмотру торговых договоров, срок которых близился к завершению. В апреле 1913 г. Покровский получил чин тайного советника.
Сотрудничество Покровского и Коковцова закончилось в январе 1914 г., в связи с увольнением министра финансов и премьера. Уход Коковцова явился для Покровского огромной потерей, не только служебной, но и человеческой: не случайно 6 февраля 1914 г., при прощании Коковцова с чинами Министерства финансов, именно Покровский произнес прощальную речь. «Мы расставались, – сказал Покровский, – не только с вами, кого мы так любили и почитали, но и с нашею ведомственною гордостью, со всем нашим прошлым, в котором было так много справедливости и в котором так ясно ценили всегда один труд и одни дарования и не допускали иных мотивов к возвышению»[61]. Покровский вместе с другими товарищами министра финансов – С.Ф. Вебером и И.И. Новицким – решил не служить при новом министре П.Л. Барке и просил Коковцова помочь ему стать членом Государственного совета. Во время последнего всеподданнейшего доклада Коковцов обратился к Николаю II с ходатайством об устройстве судьбы подчиненных, аттестовав их службу в «горячих выражениях» и рекомендовав назначить их членами Государственного совета, с чем соглашался его председатель М.Г. Акимов. В ответ на сомнение царя относительно того, «как же обойдется Барк без таких опытных сотрудников», Коковцов предложил назначить их членами верхней палаты, но «повелеть им продолжать свои занятия по Министерству финансов до тех пор, когда Барк найдет им достойных преемников»[62]. Николай II полностью учел совет Коковцова: в феврале 1914 г. Покровский стал членом Государственного совета, однако до июня этого года, пока заседали законодательные учреждения, временно исполнял обязанности товарища министра финансов. Как правило, товарищи министров (кроме высших чинов Военного и Морского министерств) назначались в верхнюю палату, уже имея звание сенатора, которое, по воспоминаниям Л.М. Клячко, «было обязательно для невоенных сановников перед назначением в Государственный совет»[63]. Поскольку Покровский попал в верхнюю палату, не имея сенаторского звания, это было проявлением к нему особой царской милости. Следствием ее стало и назначение Покровского в марте 1914 г. товарищем председателя Романовского комитета для воспособления делу призрения сирот сельского населения без различия сословий и вероисповеданий.
С началом Первой мировой войны Покровский полностью отдался благотворительной деятельности. Человек, чуждый Двору, он, однако, стал пользоваться благоволением не только Николая II, но и Александры Федоровны, поскольку с августа 1914 г. являлся членом от Государственного совета находившегося под председательством императрицы Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Одновременно Покровский становится членом Совета другой организации, которой покровительствовала Александра Федоровна, – Попечительства об охране материнства и младенчества. Впрочем, и в Верховный совет, и в Совет Попечительства Покровский попал по протекции своего двоюродного брата Г.Г. фон Витте, заведовавшего делопроизводством в обоих учреждениях. С апреля 1915 г. Покровский состоял еще и при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А.П. Ольденбургском. В конце 1914 г. по всеподданнейшему докладу вице-председателя Госсовета И.Я. Голубева о личном составе его назначенной части на 1915 г. Николай II повелел «призвать к присутствованию в Государственный совет Покровского» и, кроме того, сделать его членом 2-го Департамента верхней палаты[64], занимавшегося рассмотрением отчетов финансово-кредитных учреждений и делами о строительстве железных дорог и об отводе и продаже участков казенной земли.
В 1915 г. для Покровского большее значение приобрела не только благотворительная, но и политическая деятельность в Государственном совете, поскольку, став его присутствующим членом, он вошел в руководимый Коковцовым Кружок внепартийного объединения. Покровский «придерживался умеренных взглядов»[65] и имел, подчеркивал Е.Н. Шелькинг, «открытый, умеренно либеральный образ мыслей»[66]. Вступление Покровского в Кружок внепартийного объединения подтверждало либеральный характер его политических воззрений, так как эта фракция верхней палаты состояла из деятелей, настроенных «если не определенно прогрессивно, то, во всяком случае, либерально»[67], ориентировавшихся на Группу левых (или Академическую) – оплот кадетской партии в Государственном совете. Характерно также, что в 1915–1916 гг. Покровский посещал салон журналиста В.А. Бонди, одного из столпов либеральных «Биржевых ведомостей»[68]. Впрочем, в 1914 и 1915 гг. Покровский являлся (в качестве приглашенного эксперта) участником 10-го и 11-го съездов Объединенного дворянства, а также членом Экономической комиссии его Постоянного совета, в которой сделал доклад об условиях развития российского экспорта[69]. Однако Объединенное дворянство не отличалось политической однородностью – наряду с черносотенцами оно включало в себя и кадетов, а потому причастность Покровского к деятельности этой организации нельзя расценивать как доказательство его консервативности. В августе 1915 г., с образованием в обеих палатах оппозиционного царскому правительству Прогрессивного блока, Кружок внепартийного объединения присоединился к нему, а Коковцов и Покровский стали влиятельными лидерами оппозиции в Государственном совете. Не случайно в марте 1916 г. Александра Федоровна называла Покровского «известным левым» и «последователем Коковцова и “Блока”»[70]. Тем не менее Покровский продолжал пользоваться благосклонностью царицы, впрочем, как и авторитетом у коллег по Государственному совету и министров.
В августе 1915 г. Покровский был избран членом от Государственного совета в Особое совещание по продовольствию. На заседании правительства 19 августа 1915 г. вопрос о вывозе золота в США для обеспечения внешнего долга министры решили обсудить в Комитете финансов «с участием сведущих лиц», прежде всего – Покровского[71]. В январе 1916 г. по рекомендации министра финансов П.Л. Барка Николай II ввел Покровского в Комитет финансов и формально. Ранее, в октябре 1915 г., он возглавил Комиссию для установления мер по упорядочению железнодорожного движения, в которую входили представители четырех особых совещаний – по обороне государства, по продовольствию, по перевозкам и по топливу, а также министерств военного, земледелия, торговли и промышленности, внутренних дел и Государственного контроля (аналога Счетной палаты)[72]. Как член Особого совещания по продовольствию Покровский уделял большое внимание решению продовольственного вопроса. Наконец, Покровский опубликовал статью, посвященную подоходному налогу[73]. Очевидно, что проведение этой реформы он по-прежнему считал делом своей жизни.
В 1916 г. карьера Покровского достигла пика: 25 января Николай II назначил его государственным контролером, а 30 ноября – министром иностранных дел. Весьма подробно о деятельности на упомянутых постах Покровский поведал в главе 5 публикуемых мемуаров, потому останавливаться на этом мы здесь не будем. Более чем годичное пребывание Покровского в Совете министров Российской империи закончилось после победы Февральской революции в Петрограде.
Хотя 28 февраля 1917 г. царского правительства фактически не существовало, Покровский и в этот день пытался исполнять свои служебные обязанности. Принимая утром послов Д.У. Бьюкенена и Ж.М. Палеолога, экс-министр сообщил им о последних событиях, а также о том, что Николай II отправил в столицу генерала Н.И. Иванова в качестве облеченного чрезвычайными полномочиями нового командующего Петроградским военным округом. Покровский выразил сомнение в успехе миссии Н.И. Иванова, поскольку «в руках повстанцев все железные дороги», между тем как «все полки» столицы «перешли на сторону революции». В заключение он флегматично заметил: «И теперь я жду своей участи». «Он, – описывал Ж.М. Палеолог эту драматическую сцену, – говорит ровным голосом, таким простым, полным достоинства, спокойно-мужественным и твердым, который придает его симпатичному лицу отпечаток благородства»[74].
Утром 2 марта Покровский сложил с себя обязанности министра иностранных дел, передав управление МИД А.А. Нератову[75]. «Моя роль кончена, – сказал он послу Франции. – Председатель Совета министров и все мои коллеги арестованы или бежали. Вот уже три дня, как император не подает признаков жизни. Наконец, генерал Иванов, который должен был привезти нам распоряжения его величества, не приезжает. При таких условиях я не имею возможности исполнять свои функции; итак, я расстаюсь с ними, оставив дела моему товарищу по административной части. Я избегаю, таким образом, измены моей присяге императору, так как я воздерживаюсь от всяких сношений с революционерами»[76]. Только 4 марта, после отречений Николая II и великого князя Михаила Александровича, Покровский встретился с новым министром иностранных дел П.Н. Милюковым, который навестил экс-министра на его служебной квартире[77], где вплоть до этого дня революционеры Покровского «вовсе не трогали»[78]. Сыграло роль то, что до Февральской революции Н.Н. Покровский пользовался доверием лидеров оппозиции, которые возглавили революцию, а после ее победы пришли к власти.
В конце марта 1917 г. Покровский был уволен от должности состоящего при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А.П. Ольденбургском, однако в связи с этим ему назначили пенсию в 14 000 руб. в год[79], т. е. почти министерский оклад (18 000), так что последовавший в мае перевод Покровского, в числе других назначенных членов Государственного совета, за штат не ухудшил его материальное положение. Покровский не слишком демонстративно, но вполне определенно поддерживал Временное правительство. Когда В.Б. Лопухин попытался перейти с должности директора 1-го Департамента МИД на частную службу в Русский для внешней торговли банк, Покровский отговорил его от этого шага. «Банки, – объяснил Покровский, – заинтересованы в укреплении Временного правительства. Старшим должностным лицам правительственного аппарата следует помочь правительству укрепиться. В этом отношении немедленный уход кого-либо из них со службы представляется нежелательным. Когда же правительство окрепнет, вас возьмут в банк»[80].
В апреле 1917 г. Покровский был избран товарищем председателя Центрального военно-промышленного комитета[81], несомненно – по рекомендации Н.Н. Кутлера, занимавшего этот пост ранее. Тогда же Покровский стал председателем Правления Сибирского банка и членом Совета Русского для внешней торговли банка, председателем Русско-Американского комитета для содействия экономическому сближению России и США и Подготовительной комиссии при Особом совещании по обороне государства по пересмотру плана строительства новых заводов Военного ведомства. К маю 1917 г. Покровский еще и товарищ председателя Совета съездов представителей горной промышленности Урала, председателем которого являлся тот же Кутлер[82]. В августе 1917 г., в связи с болезнью графа П.Н. Игнатьева, председателя Главного управления Российского общества Красного Креста, по инициативе комиссара Временного комитета Государственной думы по Красному Кресту князя И.С. Васильчикова Покровский был включен в состав членов Главного управления, избран товарищем его председателя и начал временно исполнять обязанности председателя[83].
Бюрократическая карьера Покровского закончилась после победы Октябрьской революции – 14 декабря 1917 г. постановлением Совнаркома вместе с остальными членами Государственного совета его окончательно уволили со службы. Однако уже 18 декабря Покровский входит в состав Комиссии для разработки проекта договора между Россией и Финляндией, которая, впрочем, так и не приступила к работе. В марте 1918 г. Покровского избрали товарищем председателя Союза защиты интересов русских кредиторов и должников в Германии, образованного в связи с заключением Брест-Литовского мирного договора, причем об образовании Союза, писал он В.Н. Коковцову, избранному его председателем, было «заявлено куда следует», т. е., очевидно, Совнаркому[84]. Тогда же Покровский посещал заседавшую при Совете съездов представителей промышленности и торговли Комиссию под председательством Б.Э. Нольде по Брест-Литовскому договору, где Покровский являлся принципиальным оппонентом Нольде, который, как убежденный германофил, в одном из своих докладов попытался отыскать в «похабном мире» нечто выгодное для России. Оппонируя барону, Покровский заявил, что считает основной ошибкой доклада «оптимизм в переоценке сил Германии и пессимизм в недооценке сил союзников». «Разве сильная Германия, – мотивировал он выдвинутый тезис, – могла бы потерпеть в России большевизм, при котором ни политические, ни экономические русско-немецкие отношения не смогут наладиться? Сам союз монархической Германии с большевизмом указывает на безвыходность военного положения Германии <…>. Я уверен в победе союзников над Германией, – сказал далее Покровский, – но я не уверен в их отношении к нам», и при этом ядовито улыбнулся. В ответ на слова присутствовавшего тут же Г.Н. Михайловского о «немецком иге» Покровский холодно добавил: «Иго может быть и не немецкое, а все же иго», а затем сделал вывод, что подведение итогов войны заставит союзников «отыграться либо на Германии, либо на России, а вернее – на двух вместе»[85]. Нельзя не отдать должное проницательности Н.Н. Покровского, который, несмотря на свое антантофильство, весьма трезво оценивал перспективы отношений России с Антантой.
В мае 1918 г. Покровский – председатель Комиссии по денежному обращению при Центральном народно-промышленном комитете (бывший Центральный военно-промышленный комитет), в июле того же года – Совета Союза международных торговых товариществ. Участие Покровского во всех этих официальных и полуофициальных организациях, существовавших как бы с согласия большевиков, отнюдь не означало, что он признал их власть. Будучи принципиальным противником большевизма, Покровский в данном случае выступал как эксперт, а не политический деятель, более того, он одновременно поддерживал отношения с деятелями нарождавшегося Белого движения. В конце 1917 – начале 1918 г. Покровский входил в «какую-то организацию, установившую связь с Югом» и даже, кажется, сносился через посредников с находившимся на Дону председателем IV Думы М.В. Родзянко[86]. Точно известно, что в первой половине 1918 г. Покровский входил в Петроградское отделение антибольшевистского подпольного «Национального центра». Председателем Петроградского отделения являлся бывший лидер правых в Государственном совете, а впоследствии – крупный предприниматель В.Ф. Трепов, на квартире которого и происходили заседания отделения. На одном из них обсуждался вопрос о претендентах на российский престол, и в связи с этим председатель заявил о необходимости делать ставку на «русских Орлеанов». «Да кто же и где же они, эти русские Орлеаны?» – недоуменно спросил Покровский. В ответ Трепов указал на одного из организаторов и участников убийства Г.Е. Распутина великого князя Дмитрия Павловича, что со стороны Покровского возражений не вызвало[87].
Лето 1918 г. семьи Покровских и Лопухиных проводили в Павловске, где Покровский делился с В.Б. Лопухиным своими размышлениями о будущем России. Покровский полагал, что «большевистский режим нежизнеспособен, а потому недолговечен», и, «в конце концов, большевики уйдут». «Не скоро, – уточнял он, ссылаясь на исторический опыт Европы. – Нечто подобное тому, что произошло у нас, случилось в Средние века в Чехии и там продержалось четырнадцать лет. Инерция нашей страны больше. Процесс будет длительнее. Сроки будут больше»[88]. Неизвестно, какие конкретно сроки Покровский планировал для России, но и здесь нельзя отказать ему в проницательности – большевики продержались не две-три недели и даже не два-три года, которые первоначально пророчили им большинство противников, а более семидесяти лет. Антибольшевистские настроения Покровского не остались тайной для ЧК – в 1919 г. он подвергся непродолжительному аресту, что побудило его к эмиграции сначала в Таллин, в Эстонию, затем в Каунас (бывший Ковно), столицу независимой Литвы, где Покровский осел в 1920 г. Приезд именно в Каунас объяснялся тем, что здесь он имел родственников по отцовской линии и являлся землевладельцем Ковенской губернии – его права на имение Борткунишки были подтверждены правительством Литвы.
Восстанавливая разрушенное войной хозяйство имения, Покровский одновременно преподавал – Литовский университет пригласил его на должность доцента кафедры финансов факультета права этого университета[89]. В 1925–1926 гг. на русском и литовском языках Покровский опубликовал читавшийся им университетский курс финансовой науки[90]. В 1926 г. Покровский был назначен исполняющим обязанности профессора по кафедре финансов, более того, он становится еще и советником Министерства финансов Литвы, а также избирается почетным председателем Совета Общества русского мелкого кредита. Наконец, в официальном журнале министерства «Lietuvos Ukis» («Экономика Литвы») он поместил несколько статей[91]. Итак, круг замкнулся – только в эмиграции Покровский превратился в ученого, кем он был, в сущности, и тогда, когда находился во власти. В 1929 г. Покровский оставил университет по состоянию здоровья, как бы предчувствуя кончину, которая последовала в Каунасе 12 декабря 1930 г.
Характеристика Покровского будет неполной, если не упомянуть о его мемуарах. Первые четыре главы его воспоминаний написаны в 1919 г., еще в Советской России, пятая – в 1922 г., в эмиграции (подробнее см. в Археографическом послесловии).
В начале XX в., особенно после революции 1917 г., писалось немало чиновничьих мемуаров[92]. Однако воспоминания Покровского выделяются среди них своей информативностью, точнее, подробным бытописанием. Обычно этим отличаются мемуары чиновников невысокого ранга, которые, обладая литературным дарованием, но не сделав карьеры, уделяют сугубое внимание деталям службы и своим коллегам. Их авторы за деревьями не видят леса, довольствуясь описанием мелочей канцелярского быта. Чем выше статус мемуариста, тем менее его интересуют детали и рядовые чиновники, тем больше он склонен к отвлеченным рассуждениям о выдающихся событиях и государственных деятелях, в результате уже из-за леса не видно деревьев. Покровскому же удалось соблюсти баланс между этими сферами. Он не избегает отвлеченных рассуждений, но и не приносит в жертву им эмпирические факты. Несомненно, что Покровский читал последнюю работу старшего коллеги по Канцелярии Комитета министров Н.Х. Бунге, который в предисловии к ней писал, что «знание приобретается не верою в догматы теории, выдаваемой за нечто несомненное, а тщательным анализом явлений, правильными выводами из бесспорных основных положений и осторожными обобщениями (заключениями от частных случаев к общему правилу)»[93].
Весьма характерно для Покровского-мемуариста отношение к «распутинской легенде», как называл ее он сам: если большинство мемуаристов слепо верили в истинность этой легенды, то Покровский постоянно указывает, воспроизводя слухи о Г.Е. Распутине и его отношениях с семьей Николая II, на статус интересовавших общество слухов: «Не берусь сказать, правда это или нет», «Опять-таки, повторяю, фактов, подтверждающих все эти рассказы, у меня нет», «Я опять-таки не берусь об этом судить, не зная никаких фактов, и здесь мне приходится ограничиться передачей рассказов того времени, и лишь некоторых, доходивших до меня и оставшихся у меня в памяти» (с. 167, 168 настоящего издания). Аналогичным образом, в отличие от большинства мемуаристов, писавших о Николае II даже тогда, когда лично его не знали, Покровский осторожен, давая характеристику последнему самодержцу. «Я, – признавался Покровский, – конечно, слишком мало видал Государя, чтобы дать полную его характеристику, поэтому ограничусь лишь своими личными впечатлениями» (с. 186). Впрочем, в 5-й главе воспоминаний можно найти во многом опирающиеся на слухи отрицательные оценки личности Николая II как государственного деятеля, обвинения его в слабоволии, зависимости от Александры Федоровны и т. д. Однако, посылая в 1922 г. рукопись 5-й главы главному редактору издававшегося в Париже альманаха «Русская летопись» С.Е. Крыжановскому для публикации в этом альманахе, Покровский по собственной инициативе наметил карандашом возможные сокращения критических по отношению к монарху и ряду сановников мест, указав в письме, что «исключил те места, которые не желательно было бы мне видеть теперь в печати»[94]. Дело в том, что в 1920 г. А.Ф. Романов[95], член президиума Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, и следователь ЧСК В.М. Руднев[96] огласили результаты деятельности комиссии в отношении Николая II и Александры Федоровны. Эти результаты полностью опровергали скандальную репутацию, закрепившуюся за венценосцами в общественном сознании накануне Февральской революции. Несомненно, что отчеты А.Ф. Романова и В.М. Руднева, с которыми Покровский мог ознакомиться на страницах вышедшей как раз в 1922 г. 2-й книги «Русской летописи», заставили его откорректировать свои оценки Николая II и Александры Федоровны.
Общеизвестно, что отличительной чертой мемуаров, одновременно положительной и отрицательной, является их субъективизм. Читателю всегда интересно знать личное отношение мемуариста к описываемым им событиям и людям, хотя, с другой стороны, это личное отношение чаще всего лишено беспристрастия и в случае с государственными деятелями выражает стремление оправдаться перед потомством, изобразив в отрицательном виде своих политических оппонентов либо соперников по службе. Субъективизм Покровского и в данном случае проявился не вполне типичным образом: с одной стороны, царских сановников конца XIX – начала XX в. и воплощавшийся ими самодержавный режим он оценивает, учитывая провал деятелей Временного правительства. Вместе с тем в характеристиках, даваемых Покровским коллегам по Совету министров, сказывается его принадлежность к прогрессивной группе кабинета, во многом ориентировавшейся на Прогрессивный блок. В августе 1915 – феврале 1917 г., в период существования Прогрессивного блока, членами прогрессивной группы были 17, их оппонентами – 14 министров[97]. Как правило, Покровский настроен не так пристрастно по отношению к своим единомышленникам по группе (граф П.Н. Игнатьев, А.Н. Наумов, А.А. Поливанов), как к министрам, не являвшимся ее членами (граф А.А. Бобринский, А.Д. Протопопов, Б.В. Штюрмер) или находившимся на ее периферии (П.Л. Барк, М.А. Беляев, князь В.Н. Шаховской). Впрочем, характеризуя более правых министров, Покровский, даже вынося обвинительные вердикты, пытается хотя бы отчасти уравновесить их оценками иного порядка – служебная, да и человеческая этика не позволяла ему поступать иначе, тем более что его оппоненты стали подвергаться политическим репрессиям еще при Временном правительстве, не говоря уже о большевистском режиме.
Наиболее сложны мотивы отношения Покровского-мемуариста к оппозиционной общественности, прежде всего – к лидерам кадетской партии. На протяжении своей чиновничьей карьеры он постоянно позиционировал себя как либерального бюрократа, чьи симпатии в 1906–1917 гг. принадлежали именно либеральным партиям, а среди них – кадетской, во всяком случае ее правому крылу. Как уже отмечалось выше, в 1915–1916 гг. Покровский входил в прокадетский Кружок внепартийного объединения Государственного совета. Не случайно также, что именно Покровскому, как это признает он сам, в октябре 1916 г. и в феврале 1917 г. правительство поручало вести переговоры с лидерами кадетов. Однако неудача кадетов и их союзников по Прогрессивному блоку, не сумевших совладать с властью, оказавшись у ее кормила в результате Февральской революции, обусловила полное разочарование Покровского в них. Отсюда та плохо скрываемая горечь, которая наполняет его рассуждения всякий раз, когда они касаются кадетов и представителей других оппозиционных партий. Хотя и тут являет себя с еще большей очевидностью тот факт, что перед нами мемуары, написанные не просто государственным деятелем, но «ученым во власти», склонным беспристрастно поверять партийные доктрины данными исторического опыта.
В заключение считаем долгом выразить искреннюю признательность Т.Г. Чеботаревой (Нью-Йорк, Бахметьевский архив Колумбийского университета) и П.А. Трибунскому (Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына), благодаря которым была получена копия пятой главы, и С.Е. Эрлиху (Санкт-Петербург, издательство «Нестор-История»), который профинансировал создание Д.Н. Шиловым электронной версии всех пяти глав. Большое значение имели для публикатора замечания, сделанные при обсуждении рукописи воспоминаний ее рецензентами – доктором исторических наук С.К. Лебедевым и кандидатом исторических наук Ф.А. Гайдой, сотрудниками отдела новой истории России Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии наук, а также профессором Б.Н. Мироновым – на заседании отдела 19 февраля 2015 г. Рукопись была утверждена к печати 24 февраля на заседании Ученого совета СПбИИ РАН (председатель – доктор исторических наук Н.Н. Смирнов).
С.В. КуликовВоспоминания последнего министра иностранных дел Российской империи
Глава 1 Несколько слов о русской политике в Литве
Связи мои с Литвою начались очень давно, так как дед мой, офицер Конной артиллерии[98], попавший туда на стоянку после польского восстания 1830 г.[99], женился на дочери местного помещика, отставного полковника польских войск[100]. В те времена, несмотря на только что окончившееся подавление восстания, отношения в крае к русским были совершенно другие, чем после мятежа 1863 года[101]. Много даже лет спустя после этого мятежа брак польки с русским казался ее близким чуть ли не изменой отечеству и религии. Польская помещичья среда старалась держаться далеко от русских чиновников и офицеров. Не то в 30-х годах: судя по рассказам моей бабушки, помещичьи дома были открыты для русских офицеров: приемы, балы, обеды следовали один за другим. В свою очередь, офицерство в своих собраниях принимало охотно местное дворянство. При таких условиях брак русского офицера с полькою казался вполне нормальным.
Добрые отношения с литовскими родственниками продолжали поддерживаться нашею семьею и много лет спустя, так что с детства я неоднократно бывал по летам в имении сестры моей бабушки. Муж ее, помещик старого закала, при освобождении крестьян[102] был мировым посредником[103], а потому в 1863 г., при самом начале восстания, был арестован и посажен в тюрьму вместе со всеми прочими мировыми посредниками. Это принудительное удаление имело ту хорошую сторону, что имение его не было конфисковано. Дом оставался на руках его жены, у которой был малолетний еще сын. Положение было крайне беспокойное и опасное. В имение приходили то повстанцы, то казаки. Симпатии помещиков были, естественно, на стороне повстанцев: ведь в их рядах было много близких, родных людей. Являлись они отрядами, но что это были за отряды! Достаточно сказать, что ружья были большею частью охотничьи, да и те без курков. Нельзя было отказать в пище и одежде этим несчастным. Но затем являлись казаки и военное начальство: начинался допрос дворни, крестьян, и каждое неосторожное показание о том, что принимали повстанцев, могло погубить или пустить по миру. Много имений было конфисковано именно на этом основании. В свою очередь, и повстанцы допрашивали о казаках, грозили виселицею. Много нужно было присутствия духа и дипломатии, чтобы выходить из трудного положения.
Конечно, нельзя слишком строго судить участников этого восстания. Но самые условия, в которых оно было предпринято, и последствия его показали, что дело это было легкомысленное и безрассудное. Реальных сил не было никаких, восстание производили одни помещики, крестьянская масса, только что получившая свободу от русской государственной власти, почти в нем не участвовала. Я знал одного из наиболее горячих инициаторов его на Литве, мирового посредника Гейштора, который чуть не насильно вербовал самую зеленую молодежь, почти гимназистов, которых потом избивали и ссылали. Сам Гейштор, оставивший интересные мемуары[104], был приговорен к смертной казни, но помилован и отправлен в каторжные работы. После его освободили, и я уже встретил его в Варшаве, где он открыл книжную антикварную торговлю. Это был человек необыкновенно живой, увлекающийся и увлекательный; говорил без конца и мешал отвечать своему собеседнику, хватая его за плечи и даже усаживая. Очень некрасивый, он увлекал женщин своим энтузиазмом. И вот такие фантазеры, хотя, быть может, и очень симпатичные, тянули польскую молодежь в восстание, не думая о том, что из этого может выйти. Много горьких слез было пролито из-за них бедными родителями, но еще больше горя натерпелась их родина.
Я вполне понимаю строгие меры, принятые для подавления восстания: в общем, чем такие меры решительнее, тем скорее оканчивается подобное бедство. Но меры подавления, превращающиеся в хроническую политику борьбы против известной части или против[105] всего населения данной местности, вызывают только раздражение и дают повод к новым вспышкам беспорядков.
После подавления мятежа 1863 г. все польское поместное дворянство Западного края было признано a priori неблагонадежным. К нему присоединено было и католическое духовенство. Возникла имеющая историческое обоснование теория, что Литва – искони русский край, ныне ополяченный и подлежащий обратному обрусению. Если часть Литвы действительно заселена белорусами, то о Ковенской, напр[имер], губернии сказать этого совершенно нельзя: крестьяне-литовцы католического исповедания ничего общего ни по происхождению, ни по культуре с русскими не имеют. Конечно, для того, чтобы привязать их к русской государственности, следовало принять необходимые меры. Но меры эти, к сожалению, заключались главным образом в ограждении от полонизации. С этою целью созданы были ограничительные правила о польском землевладении: полякам было запрещено приобретать земельную собственность в крае[106]. Когда впоследствии был учрежден Дворянский банк[107], операции его не были распространены на польских помещиков; напротив, русским предоставлены ссуды на особо льготных условиях для покупки земель у поляков[108]. Нельзя, конечно, отрицать, что благодаря этим мерам некоторая часть польских земель перешла в русские руки. Но количество их, по крайней мере, в Ковенской, ближе мне известной губернии, не очень велико: значительная часть имений, принадлежащая там ныне русским, приобретена из конфискованных после мятежа земель или, как, напр[имер], имения графов Зубовых возле Шавель, пожалована им из казенных имений задолго до 1863 г.[109] Разумеется, есть имения и купленные непосредственно у поляков. Но польский характер поместного землевладения, в общем и целом, сохранился здесь в полной силе, несмотря на более чем полстолетия, протекшие после мятежа.
Ослепление борьбою с польским землевладением доходило до того, что все преимущества, предоставленные русским и православным, были в равной мере распространены на немцев и лютеран[110]. Благодаря этому немцы свили в Ковенской губернии прочные гнезда. Для примера возьму имение Кейданы. Это имение было конфисковано в 1863 г. у графа Чапского и затем продано за очень недорогую цену генерал-адъютанту графу Тотлебену. Гр[аф] Тотлебен оказал России несомненные и огромные услуги во время Крымской кампании и в войне 1877/8 гг.[111] Этого, конечно, никто отрицать не станет. Но по происхождению и воспитанию это был чистейший немец. Такою была и его супруга. Я помню время уже ее хозяйства, когда сам граф Тотлебен скончался: все управляющие, от самого главного до второстепенных, все служащие, кроме простых рабочих, все это были сплошь немцы, некоторые даже германские подданные. Нечего и говорить, что все делопроизводство и счетоводство в имении Кейданы велось на немецком языке, и разговорный язык в имении был всегда немецкий. Даже лес был поделен на участки со столбами, на которых было написано: «erstes Forstrevier, zweites Forstrevier»[112] и т. д. И таких немецких владений было немало в Ковенской губернии.
Ограничительные меры, примененные к польскому землевладению, имели, между тем, как раз обратные результаты против тех, которые ожидались их авторами: сохранение земли в польских руках сделалось патриотическим долгом, продажа русским считалась чуть ли не изменою родине. Продолжались и польские покупки, но подыменные, на имя лиц, пользовавшихся правом приобретения земельной собственности в крае: настоящий покупатель обеспечивал свои интересы обыкновенно закладною на покупаемое имение. Впоследствии все такие закладные были признаны недействительными и подлежащими ликвидации в десятилетний срок[113].
Операции Дворянского банка, с его дешевым и льготным кредитом, без сомнения поставили бы польское землевладение в зависимость от государственной власти. Но они были недоступны для поляков. Зато вместо Дворянского банка стал действовать чисто польский Виленский земельный банк[114], который, несмотря на участие в его правлении представителя Министерства финансов, сделался орудием охраны и спасения польского землевладения. На это очень часто указывали в своих отчетах местные губернаторы и генерал-губернаторы, но действительных средств борьбы так и не было изыскано. Думаю, что и не могло быть изыскано: если бы даже Виленский банк был закрыт, то нашлись бы, при создавшейся сплоченности польского землевладения, другие, менее очевидные, но не менее действительные источники кредита. Когда несколько позднее задумано было насаждать в крае русское крестьянское землевладение, и Крестьянский поземельный банк[115] стал скупать для этого земли, то немедленно же образовались кредитные союзы, которые спешили вырывать продававшиеся земли у Крестьянского банка для перепродажи их крестьянам-литовцам. Эти покупки земель для русских поселенцев, давшие сравнительно ничтожные результаты, восстановили против русской власти и крестьянское население.
После революции 1905 г. право покупки и приема в залог земель было возвращено полякам, но лишь в отношении имений, уже раньше принадлежавших лицам польского происхождения[116]. Эта мера, окончательно оградившая польские имения от перехода в непольские руки, вместе с тем привлекла в Литву новых польских помещиков из Царства Польского, сильно повысила стоимость земель и их кредитоспособность. Но все эти блага не распространились на русских помещиков в крае: они оказались в совершенно обездоленном положении. Свои земли они могли продавать только русским, но охотников приобретать такие неполноправные имения было мало. Кредит для русских помещиков также оказался очень сокращенным по сравнению с их соседями-поляками. В результате русские, никогда не участвовавшие в восстании 1863 г. и привлеченные в край особыми привилегиями[117], очутились прямо в тяжких условиях существования.
Вообще, в области земельной политики в крае мы увлеклись немецким примером в Познани; но ведь и там, при всей систематичности и последовательности германского правительства, результаты оказались не особенно существенными[118]. Что же говорить о наших мероприятиях, где одной рукой уничтожалось нередко то, что делалось другою!
Другим объектом ограничительных мероприятий явилась католическая церковь. При установленной законом официальной веротерпимости ограничениям подвергалось не исповедание католической религии, но проявление в католической церкви польского и литовского сепаратизма. В результате, однако, ограничения эти сводились к стеснениям в самом исповедании католической религии. Так, напр[имер], запрещалось произнесение проповедей на польском языке; запрещалось польское дополнительное богослужение, куда стремились в некоторых местностях ввести русский язык; не дозволялось никаких церковных процессий вне костельной ограды. Ксендзам воспрещалось, под угрозою штрафа, переезжать из одного прихода в другой, даже в гости на несколько часов, без специального разрешения полиции[119].
Конечно, все меры этого рода вызывали только раздражение и усиление фанатической привязанности к церкви как к представительнице национального объединения. В конце концов получались такие эксцессы, как столь много нашумевшие беспорядки в Крожах, где уже не помещики, а простой народ восстал против властей и пришлось пустить в ход оружие[120]. Разумеется, вся эта политика только разжигала вражду к России и православию, не давая, в смысле ограждения от полонизации и слияния с русской государственностью, решительно никаких результатов.
Не меньшее раздражение вызывало преследование польского и литовского языков[121]. Конечно, русский язык должен быть государственным на всем пространстве России, на нем должно вестись все делопроизводство государственных учреждений и вся в них переписка; язык этот должен быть обязательным предметом обучения во всех учебных заведениях, казенных и частных; в казенных учебных заведениях он должен быть, кроме того, и языком преподавания всех вообще предметов, кроме Закона Божия и родного языка учащихся, а также кроме низших классов в начальных школах. Этого совершенно достаточно для целей государственного объединения. Всякие дальнейшие ограничения в употреблении населением родного языка вызовут всегда одно раздражение и не принесут практической пользы. Между тем, польский язык в Западном крае был изгнан из всех общественных и частных учреждений и даже просто из общественных мест: на вокзалах, на почте вывешены были надписи: «По-польски говорить воспрещается». Тут мы опять обезьянничали немцев, идя даже дальше, чем они[122]. А между тем, именно пример немцев мог бы убедить в том, что родной язык населения задушить невозможно. Я часто живал по летам в Цоппоте близ Данцига[123]. Это местность вполне, казалось бы, онемеченная, следы славянского происхождения населения видны разве в фамилиях, нередко оканчивающихся на ский. И, тем не менее, несмотря на немецкую школу, несмотря на немецкую культуру, давно привитую в этом крае, простой народ славянского происхождения – кашубы[124] – до сих пор говорит на своем родном языке, очень близком к польскому: я, как славянин, отлично понимал местных крестьян и свободно объяснялся с ними.
Но одно из наиболее слабых мест русской политики в Западном крае было пополнение состава служащих[125]. Местные уроженцы, поляки и литовцы, были признаны a priori неблагонадежными. Их можно было встретить разве только на самых низших канцелярских должностях; все остальные замещались исключительно лицами русского происхождения или немцами. Такие условия требовали привлечения в край особенно выдающихся людей, чтобы хоть этим способом примирить население с такими ограничениями. На деле имело место как раз обратное: обособленность служащих от местной жизни, которая была естественным последствием такого положения, отбивала у хороших кандидатов охоту служить в этом крае. Те, которые случайно попадали сюда, пользовались всяким удобным случаем, чтобы вернуться в Россию. Оставались те, что были похуже, а такого состава, который сумел бы заставить, по крайней мере, уважать русскую государственность, не образовалось вовсе. После 1863 года дворянские выборы[126] были совершенно отменены, и предводителей стали назначать по усмотрению правительства[127]. Сперва, впрочем, обращались иногда и к местным уроженцам[128]. Так, в Виленской губернии долгие годы предводителем был граф Плятер, в Гродне – Урсын-Немцевич. В Ковно назначен был граф Н.Н. Зубов, но это был крупнейший и старинный местный землевладелец, пользовавшийся симпатиями дворянства; зато правительство смотрело на него, как на полякующего. Среди уездных предводителей я помню в Ковенской губернии только одного поляка – Пусловского.
Впоследствии, однако, перешли к замещению всех предводительских должностей русскими, нередко не имевшими связи не только с местным землевладением, но даже с дворянским сословием: я помню в одном из уездов предводителя, который раньше был почтальоном. Немало было совершенно безземельных предводителей. Для таких лиц интересы местного дворянства были, очевидно, совершенно чужды. А так как они, ради жалованья, назначались одновременно председателями съезда мировых посредников[129] (после – земских начальников[130]), то, в сущности, оказывались чиновниками, стоявшими во главе крестьянского управления. Между тем, правительство держалось политики защиты интересов крестьян против помещиков, и в результате такие предводители становились не дворянскими, а антидворянскими.
Остальные местные служащие были в этом же роде. Конечно, бывали и блестящие исключения. На первом месте я должен поставить П.А. Столыпина. Он появился в Ковенской губернии совершенно молодым человеком. Его отец купил в этой губернии имение Калноберже, кажется, от ген[ерал] – ад[ъютанта] Кушелева, к которому оно перешло после восстания 1863 г. из конфискованных имений графа Чапского. Старик Столыпин бывал в своем имении только наездами, но по зимам проживал в Вильне, где П.А. и окончил гимназию[131]. Таким образом, он воспитывался в среде отчужденного от местной польской интеллигенции русского общества и не мог не подпасть влиянию взглядов, господствовавших среди этого общества. Женитьба его могла лишь содействовать укреплению этих взглядов, так как супруга его, несмотря на московское свое происхождение, с особенною силою усвоила все крайности полонофобства[132]. Сам П.А., разумеется, по-польски не говорил. Водворился он в имении вскоре после своей женитьбы. Это было, помнится, в 1888 г., когда я впервые с ним познакомился[133]. Конечно, Столыпины как помещики не могли совершенно баррикадироваться от своих соседей. Но отношения ограничивались церемонными визитами, причем вопреки местным обычаям лошади не распрягались и в течение всего визита стояли у подъезда. Виделись Столыпины чаще только с немногими русскими землевладельцами, причисляя к ним и графов Тотлебен. Эта обстановка жизни, без сомнения, во многом отразилась на последующей деятельности П.А. Столыпина как председателя Совета министров: ей мы в значительной степени обязаны возникновением, под ближайшим давлением П.А. Столыпина, партии националистов[134], почти беспочвенной во внутренних губерниях России и поддерживавшейся главным образом деятелями из чиновников Западного края; ею же навеян был и проведенный при резкой оппозиции Государственной думы[135] и вопреки решению Государственного совета[136] Закон о западном земстве с его куриями, разъединявшими отдельные национальные и сословные группы[137].
Но в деятельности П.А. Столыпина в Ковенской губернии в качестве сперва уездного, а потом губернского предводителя дворянства[138] была и другая сторона, поставившая его в особое положение среди местных русских деятелей. Это был, во-первых, джентльмен в лучшем смысле этого слова; затем, что едва ли не гораздо важнее, это был неутомимый, талантливый труженик в каждом деле, за которое он брался, старавшийся добиться наилучших результатов для того края, где ему приходилось работать. Воспитанный в Западном крае, он любил его вопреки своему национализму; его имение Калноберже было для него наиболее любимым, хотя он владел имениями и во внутренних губерниях[139]: сюда он рвался и тогда, когда был первым министром[140]. Любопытно, что и его супруга всей душой разделяла эти его симпатии; а когда Столыпиным пришлось переехать сперва в Саратов, а потом в столицу, то они взяли с собою много прислуги из Ковенской же губернии. По должности губернского предводителя П.А. Столыпин председательствовал и в местном сельскохозяйственном обществе[141]. Это время было эпохой особого процветания этого общества, при котором, кажется, его же заботами, были учреждены в разных местах губернии сельскохозяйственные склады. От работы в этих учреждениях он не устранял местных людей, но сам входил во все подробности дела. Я помню, что после его ухода из Ковенской губернии наступила в управлении складами даже некоторая растерянность: так все привыкли к его властному руководству, к его целесообразным распоряжениям. Неудивительно, что сельскохозяйственное общество приобрело вскоре значение местного земства, стремившегося самочинно захватить всю хозяйственную жизнь губернии в свои руки. В этом любители видели новую польскую крамолу. А между тем секрет был в талантливом и деятельном русском руководителе. Все эти положительные свойства снискали П.А. Столыпину среди местного польского общества если не сердечные симпатии, то чувства глубокого и всеобщего уважения. Можно себе представить, насколько более сильными были бы эти чувства, если бы полезная деятельность его не имела привкуса тех проявлений отчуждения, которыми П.А. Столыпин был заражен окружавшею его средою русского чиновничества.
Конечно, кроме П.А. Столыпина были в Западном крае и другие русские люди, понимавшие необходимость привязать этот край к России своею деятельностью на его пользу, да, кроме того, старавшиеся держать себя ближе к местному населению. Но это были исключения: общая масса держала себя враждебно, в роли завоевателей. Это искупалось бы до некоторой степени, если бы в деятельности завоевателей были достоинства, приближающие ее к данному П.А. Столыпиным образцу. К сожалению, дело обстояло далеко не так. Наиболее культурными были, как и везде, представители судебного ведомства, которые всегда пользовались и наибольшим уважением[142]. Чины Министерства финансов держали себя также довольно нейтрально. Но уже представители учреждений, прикосновенных к крестьянскому делу – мировые посредники, земские начальники, чины ведомства землеустройства[143] – выступали воинствующими борцами с местными польскими помещиками. Правительство в Западном крае держалось совершенно иной политики в этом отношении, нежели в русских губерниях. Считалось необходимым опираться на крестьянские массы, защищая их от притязаний помещиков и тем ограждая от влияния последних. Без сомнения, во многих случаях это могло быть и необходимым. Но в междуклассовой борьбе правительственная власть не должна никогда выступать стороною, а лишь справедливым решителем споров, строго опирающимся на веления закона. Между тем, если в этой области допустить административное усмотрение, то легко перейти должные границы, вызвать классовую вражду и дать почву для развития настоящего междоусобия. Так оно и случилось: литовское крестьянское население вовсе не привязалось к русской государственной власти благодаря отстаиванию ею его интересов, а все более и более стало убеждаться в допустимости и достижимости всяких своих притязаний. Не заметили также и того, что в среде католического духовенства крестьяне стали постепенно вытеснять дворян, которые в последнее время совсем перестали переходить в духовное звание. Эти более интеллигентные крестьяне-ксендзы оказались в особенности склонными к социалистическим учениям и к так называемой литвомелии, т. е. литовскому сепаратизму. Своим влиянием на паству они восстанавливали ее и против помещиков, и против правительства.
Но для враждебного отношения к последнему достаточно было и деятельности того органа, который непосредственно близок и к помещику, и к крестьянину. Я говорю о полиции. В Ковенской губернии ее деятельность может быть охарактеризована как сплошное не только взяточничество, но даже вымогательство. Пристав и исправник[144], которые не брали взяток, считались каким-то восьмым чудом света. К каждому прошению бывало приложение в виде трехрублевой или пятирублевой бумажки – своего рода гербовый сбор. Бравшие предлагаемые взятки считались честными людьми. Но были и прямые вымогатели, посылавшие урядников[145] по имениям и деревням за поборами, как деньгами, так и натурою, напр[имер], сеном и т. п. Поводов для вымогательства была масса: нашли утопленника на берегу, соседям можно было сделать много неприятностей и следственной волокиты; поставлен крест на дороге или починен (то и другое строго воспрещалось, и эти кресты являли картину полного разрушения) – за это тоже надо было заплатить. Изобретательности конца не было. О размерах поборов шел обыкновенно самый беззастенчивый торг. Конечно, в оправдание чинов полиции приходится сказать, что, при совершенно ничтожном содержании и дороговизне, они, так сказать, были вынуждены брать взятки. Но некоторые жили благодаря этому так, что ничем не стеснялись: держали прекрасных лошадей, ели и пили в свое удовольствие. Не отставали от них и так называемые сельские, т. е. казенные врачи. Здесь главным источником доходов было предоставление льгот по воинской повинности[146]. Установлена была за это чуть ли не такса, и все более или менее зажиточные молодые люди освобождались. Я знал врача, в общем, казалось, очень порядочного человека, который в короткий срок составил этим способом состояние в несколько десятков тысяч рублей. Развращающим элементом в деле взяточничества оказывались, главным образом, евреи. Когда чиновник средней руки приезжал в уезд, обыкновенно почти без всякой обстановки, евреи принимали его с распростертыми объятиями и предоставляли ему самый широкий кредит, снабжая всем необходимым. Когда же наступал момент расплаты, а денег не было, то приходилось идти на сделки со своею совестью, и мало-помалу порядочный и интеллигентный человек становился взяточником.
Чтобы закончить характеристику способов управления в этом крае, я должен сказать, что земских учреждений в губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской не было вовсе, общественное самоуправление ввести здесь считалось опасным, и все местное хозяйство сосредоточено было в руках администрации в виде разных распорядительных комитетов и присутствий, куда иногда приглашались и помещики, но больше для объяснений[147]. Несмотря на это, дорожное дело в крае было поставлено лучше, чем во многих земских губерниях. Так, по крайней мере, утверждали многие, которые побывали и здесь, и там. Приписываю это отчасти тому, что в Западных губерниях продолжала действовать натуральная повинность исправления дорог, очень неуравнительная, но весьма действительная в смысле результатов. Но зато медицинская часть была в бедственном положении: лечебниц было крайне мало, сельских врачей и фельдшеров, медикаментов также. А.А. Куломзин, назначенный ковенским губернатором, бывший ранее уездным предводителем дворянства в Костромской губернии, приходил прямо в ужас от такого положения медицинской части. Про учебную часть я ничего сказать не берусь, так как вовсе не случалось мне с нею знакомиться. Но по размерам ассигнованных на это земских средств надо думать, что и она слабо процветала.
Однако очень больших нареканий на такое положение земского дела среди местных людей не было. Последние были даже рады, когда на три северо-западные губернии не было распространено столыпинское земство: в политическом отношении они в нем не видели никаких преимуществ, обложение же земель[148] должно было бы чрезвычайно возрасти, а так оно было сравнительно весьма необременительным.
Политика, преследовавшаяся правительством в Северо-Западном крае, в видах его воссоединения с русскою государственностью, фактически привела к совершенно противоположному результату: за пятьдесят лет, протекших с последнего польского восстания, мы сумели оттолкнуть от себя и польское дворянство, и литовское крестьянство. Не могу не высказать по этому поводу некоторых собственных моих соображений. Есть две системы управления покоренными инородными местностями: германская и английская. Обе во главу угла ставят превосходство своей культуры над покоренным населением. Немцы давят своей культурой: они требуют ее восприятия во всех частностях местной жизни. Ничто местное не находит у них не только уважения, но и пощады. Это политика вытравления местных особенностей. Представители покоренной народности должны или превратиться в немцев, или уступить последним свое место. Эта политика имеет свою положительную сторону: в край вносятся элементы немецкой, действительно высокой культуры, немецкая организованность и дисциплина. Превратившийся в немца инородец приобретает этим путем нечто весьма определенное и весьма положительное взамен своей национальности и культуры. Стонут, но не могут не признать, что приобрели все-таки известные преимущества.
Однако эта политика даже в руках немцев далеко не имеет того успеха, на который они претендуют; кроме стремления к культурности, организованности и дисциплине у инородцев есть свои потребности: влечение к сохранению своих национальных особенностей, своего языка, своей, хотя бы и низшей, культуры. Начинается ожесточеннейшая борьба, приводящая нередко к эксцессам и никогда не примиряющая побежденного с победителем. Иногда этот пожар как будто и гаснет, но под пеплом продолжает тлеть огонь, который всякую минуту может вспыхнуть снова, огонь ненависти ко всему немецкому. Вспомним Чехию[149] и Познань[150].
Другая система названа мною английскою, но не совсем правильно: Англия применяет ее далеко не ко всем своим колониям. В Индии она придерживается другого образа действий[151]. Я называю эту систему, применявшуюся и Франциею, напр[имер], относительно Эльзаса[152], английскою – для противоположения ее германской. За этими оговорками, система эта заключается в том, что завоеватель, по окончательном замирении края, принимает самые целесообразные меры к тому, чтобы привлечь население покоренной страны к своей культуре не силою, а добровольно, в силу очевидных преимуществ этой культуры. Все национальные особенности остаются в силе и уважаются, но английский быт, английские интересы постепенно становятся своими для инородцев, пользующихся в своем быту полным самоуправлением. В нынешнюю войну 1914–1918 гг.[153] мы все были свидетелями успехов этой политики: давно ли, кажется, была жестокая война против буров, где они защищались против англичан со всем мужеством отчаяния и привлекли к себе симпатии всего цивилизованного мира[154]. Но прошло несколько лет, и мы видим тех же буров, с одушевлением идущих защищать свою метрополию против немцев, так как она сумела уважать их интересы и приучила ценить английскую культуру[155]. То же мы видим и в других колониях Англии: в Австралии, в Канаде. Можно было думать, что война послужит удобным для них поводом отложиться от метрополии. Но они заявили себя глубоко с нею солидарными, так как сумели оценить все выгоды ее покровительства. О подобных отношениях германских колоний к своей метрополии мы что-то не слыхали[156].
То же и с Эльзасом и Лотарингией. Там, особенно в Эльзасе, чисто немецкое по корню своему население. Однако отторжение этих провинций от Франции в 1871 г. похоже было на отнятие младенца от груди матери. Это чувство сохранилось почти столь же живо и до сих пор, его не сумело заглушить сорокалетнее немецкое владычество. В 1916 году, в разгар войны, я встретил в Париже[157] священника-эльзасца немецкого происхождения и члена германского Рейхстага[158], сохранившего горячий французский патриотизм. В то время был там и другой такой же член Рейхстага. Оба они ни минуты не сомневались в грядущем воссоединении Эльзаса с Францией. И здесь одна из главных причин, почему Франция, несмотря на полное истощение, не шла ни на какие компромиссы в этом вопросе. Германии никогда не дождаться таких привязанностей: железный кулак будет крепко держать, пока он имеет силу сжиматься. Но как только ослабеют железные пальцы – никто их не поддержит, и развал будет тем сильнее, чем связь кажется крепче и беспощаднее.
И вот, выбирая между двумя системами, мы, русские, остановились на германской, вероятно потому, что вообще привыкли подражать немцам. Разница была, однако, очень существенная. Немцы приносили на окраины свою высшую культуру; мы же являлись не только не с высшею, но иногда и с более слабою, напр[имер], в Царстве Польском. Мало того, мы посылали на окраины не лучших наших людей, а состав более слабый, потому что для лучших и дома было много дела. Этим-то деятелям и поручалось русское дело в крае. Они, естественно, понимали его в том смысле, что должны защищать русских от инородцев, а не внедрять русскую культуру, на что не имели ни средств, ни способов. Отсюда вся та система отчужденности от всего местного, которая не только не привлекала инородцев к общению с русскою государственностью, но как бы нарочно держала их вне ее: никакие должности в крае не были доступны местным жителям, местный язык изгонялся из государственных и общественных учреждений; церковь подвергалась ограничениям и преследованию. Что же удивляться, если местное население стало держать себя в стороне от русских, а русские баррикадировались от поляков и литовцев? О том, чтобы привязать окраины к России, не было и мысли. И только теперь, когда Литва и Польша у нас отняты[159], мы можем начать надеяться на возникновение симпатий к России, по контрасту с надвигающеюся немецкою опасностью. И в самом деле, плохо приходилось при русской власти, а при немецкой будет несомненно гораздо хуже. За время русского господства было много тяжелого, но национальная самостоятельность и культура остались неприкосновенными, потому что русские, чуждаясь и даже нередко оскорбляя национальное чувство инородцев, не наносили им никаких действительно серьезных ударов. Кроме того, в деятельности русских в крае была масса непоследовательности. В общем числе враждебно настроенных к полякам и литовцам русских деятелей было довольно много исключений, которые смягчали общую резкость отношений, не обращали строгого внимания на отступления от тех или иных ригорозных правил, выражали даже прямую симпатию к местному населению. Бывали и такие острые моменты, когда само правительство начинало вдруг отступать от принятого направления. Так, в 1905 г. было, как я уже говорил, разрешено полякам покупать польские земли. Тогда же постановлено возобновить дворянские выборы, хотя это последнее постановление так и не было приведено в исполнение: с наступлением успокоения спохватились, что сошли с принятого пути[160]. Стали разрешать говорить по-польски и вести внутреннее делопроизводство на польском языке в общественных учреждениях. Но этим разрешением удалось воспользоваться, кажется, одному только Ковенскому сельскохозяйственному обществу[161]. Эта непоследовательность, не сближая окраины с Россией, все же смягчала резкости. От немцев дождаться этого, разумеется, не придется.
За всем тем я остаюсь при убеждении, что наша политика в Западном крае после мятежа 1863 г. была в своей основе не только несправедлива, но и нецелесообразна, а потому и результаты ее оказались отрицательными. И я уверен, что если бы мы, не задаваясь какими-то фетишами, посылали в край избранных деятелей, задача которых заключалась бы в строгом соблюдении законности; если бы там были допущены к действию русские учреждения в наилучшей их форме, притом на одинаковых с внутренними губерниями основаниях: земство, городское самоуправление[162], суд присяжных; если бы мы не отгораживались от местного населения, а старались, напротив, привлечь его к деятельности на пользу родного края; если бы мы бросили преследование местных языков и церкви, а требовали бы только должного места для государственного языка и православия; одним словом, если бы в основу своей политики в крае мы положили принцип: жить самим и давать жить другим, – результаты получились бы совершенно другие.
Я боюсь, что взгляды, высказанные мною по поводу русской политики в Литве, дадут повод назвать меня полякующим. Будут, конечно, говорить, что по своим родственным отношениям с местными поляками я не мог иначе смотреть на вещи, как через призму польских симпатий и антипатий[163]. Не стану оправдываться и возражать, что мною руководили исключительно мотивы справедливости и политической целесообразности в русских, а не в польских интересах. Полагаю, однако, что полная неудача нашей окраинной политики, которая в трагическую минуту русской истории привела к тому, что все инородцы не только не почувствовали себя спаянными с Россиею, но наперерыв стремились от нее отмежеваться – эта неудача в достаточной мере, к несчастью, подтвердила правильность моих взглядов[164].
Глава 2 КОМИТЕТ МИНИСТРОВ И ЕГО КАНЦЕЛЯРИЯ В 1890-Х ГГ
Я перешел на службу в Канцелярию Комитета министров[165] в начале 1893 г. и пробыл там до середины 1899 г., т. е. более шести лет. Канцелярия эта была в то время очень своеобразным учреждением. Маленькая по составу, она распадалась на две группы: людей белой и черной кости. К белой кости относились начальники отделений, их помощники и причисленные; к черной – так называемая экспедиция. Экспедиция – это была группа чиновников, специально предназначенных для письменной части. Во время оно, и даже очень незадолго до моего поступления в канцелярию, все журналы Комитета переписывались от руки и в этом виде шли на утверждение Государя. Нередко это были целые томы, переписывавшиеся несколькими лицами, притом так, что почерк везде был почти одинаковый. Эти писцы выбирались особо из имевших так называемый «царский» почерк. Они всю жизнь сидели только на этом деле, и все их служебные успехи сводились к тому, что их повышали в классе должности, производили в чины и украшали орденами. Когда введено было печатание журналов, значение писцов с «царским» почерком очень упало; тогда им стали поручать хранение дел, журнальную часть каждого отделения, хотя все-таки требовалась и переписка всеподданнейших докладов, некоторых особо секретных журналов и т. п. Высшею должностью, до которой могли достигнуть чины экспедиций, была должность экспедитора, их непосредственного начальника, на котором лежала ответственность за порядок делопроизводства во всей Канцелярии, за безошибочность переписки бумаг и т. д. Это была должность V класса[166], и занимавшие ее доходили до чина тайного советника.
Отношение чинов черной кости к чинам белой кости было чрезвычайно самостоятельное и независимое: они составляли свой собственный мир, хотя и были распределены по отделениям; в отделениях некоторое, деловое только, подчинение имело место относительно начальника отделения; на прочих, более молодых, старые чины экспедиции смотрели в лучшем случае покровительственно – они ведь были настоящими хранителями традиций Канцелярии. Некоторые даже к начальникам отделения относились с нескрываемым пренебрежением, не стеснялись высказывать им свое мнение о них, предъявлять им ультимативные требования и т. п. Что касается экспедиторов, то они с полным основанием могли смотреть свысока на молодых начальников отделений, которые во многом от них зависели и получали нередко нахлобучки. Нечего говорить, что образовательный ценз чинов черной кости был у всех самый незначительный.
Чины белой кости, напротив, были все с высшим образованием. Управляющий делами Комитета А.Н. Куломзин, сам университетский, не давал особого предпочтения лицеистам[167] и правоведам[168]; университетских было поэтому довольно много. Эта часть Канцелярии была своего рода гвардией гражданского ведомства. Полковой характер взаимных отношений проявлялся во всем: за очень немногими исключениями, все были друг с другом на «ты», а постоянное общение не только на службе, но и вне ее еще более поддерживало эту близость. Взаимная подчиненность выражалась только в распределении занятий: от начальника отделения зависело поручить то или иное дело своему помощнику или причисленному и наблюсти за их исполнением, так как он отвечал за отделение. Но за этими пределами никакого подчинения уже не было, даже несмотря на различие возраста.
Во многом такие отношения зависели, конечно, от высшего начальства в лице А.Н. Куломзина и его помощника Э.В. Шольца. Они, бесспорно, дополняли один другого. Э.В. Шольц был человек в высшей степени добрый и благожелательный: всякий из нас мог найти у него помощь и добрый совет. Он никогда не терял самообладания и в моменты особого напряжения предупреждал ошибки и прорухи; в минуты же чрезмерного увлечения, к которым был так склонен А.Н. Куломзин, умел быть весьма полезным тормозом, сдерживавшим такие увлечения.
Полную ему противоположность представлял сам А.Н. Куломзин: стремительный и увлекающийся, он в отношениях к подчиненным держался чисто патриархального взгляда. Принимал он в Канцелярию с большими затруднениями, иногда огорошивая кандидатов самыми неожиданными вопросами. Но раз кандидат был принят, он становился чем-то вроде сына А.Н. Куломзина, который считал себя вправе даже проникать в его домашнюю жизнь, наблюдать за его поведением, журить и т. д. Иной раз он кричал на своих подчиненных в очень резкой форме, но никто на это не обижался: в этом крике было что-то отеческое и отнюдь ничего оскорбительного. Но зато забота о подчиненных была у А.Н. Куломзина постоянная, забота без напоминаний с их стороны. Он предугадывал их материальные и служебные потребности и изощрялся в изобретении способов удовлетворения последних. Я десятки раз испытал это на себе самом: тут было действительно использование рабочей силы, но зато эта сила выставлялась вперед и не заслонялась ради личных интересов, как это бывает очень и очень часто. С.Ю. Витте характеризовал А.Н. Куломзина бюрократом[169]. Да, это был бюрократ, но в самом лучшем значении этого слова: он не только не мешал хорошим начинаниям, напротив, он всемерно им содействовал: настойчивая его работа в деле сооружения Сибирской железной дороги[170] и развития связанных с нею вспомогательных предприятий, в особенности церковного и школьного строительства, не останется забытой. Будучи сам до конца ногтей и до корня волос совершенно порядочным и честнейшим человеком, А.Н. Куломзин умел узнавать и выдвигать на государственную работу талантливых людей и высоко держал знамя порядочности в сфере бюрократии. Вот почему такие люди, как Н.Х. Бунге, дарили его своим полнейшим доверием и уважением.
Чтобы покончить с Канцелярией Комитета министров, я должен сказать еще несколько слов о характере ее работы. Впоследствии мне приходилось немало работать в различных учреждениях, работать много серьезнее и основательнее, но никогда у меня не было такого нервного труда, как там. Достаточно изложить его внешнюю сторону. Заседания Комитета министров происходили всегда по вторникам. Доклад дел, впрочем, в форме прочтения заглавий, лежал на начальниках отделений: А.Н. Куломзин и Э.В. Шольц только наблюдали за докладом, сидя за отдельным столом, слева от общего полукруглого стола Комитета. После заседания сходились в кабинет А.Н. Куломзина, где получали будто бы указания, как писать журналы, но таких указаний, в сущности, вовсе не было: «Ну, вы там сами знаете», «Ученого учить – только портить», «Надо, чтобы было хорошо» и т. п. С этим багажом отправлялись домой писать.
Журналы разделялись на общий, куда по рядовым делам заносились сравнительно кратко постановления и суждения Комитета, и на особые – по делам исключительной важности, когда суждения излагались с особою подробностью и представлялись Государю по каждому делу отдельно. В принципе, особые журналы должны были быть сравнительно редким исключением. Но А.Н. Куломзин любил обращать всякое мало-мальски сложное дело в особый журнал. По правилам общий журнал должен был представляться Государю до следующего заседания Комитета, т. е. в шестидневный срок, а особые журналы могли быть представляемы когда угодно, по мере их изготовления. Но А.Н. Куломзин подвел и особые журналы под правило общих. В силу этого начальники отделений обязаны были представлять ему написанные ими и перебеленные журналы не позже, как в четверг вечером, т. е. на третий день после заседания. А ведь иногда по напечатании такие журналы занимали 20–30 страниц большого формата. Благодаря этому по крайней мере одну ночь в неделю не приходилось ложиться спать вовсе. Это было поистине мученье: журналы Комитета – это были не протоколы – от нас требовалось творчество – надо было в уста каждого говорившего ввести не только то, чтó он говорил, но и то, чтó он мог сказать, и притом в наиболее изящной форме. А так как разные министры говорили вещи нередко совершенно противоположные, то писавшим журналы приходилось проникаться в одинаковой степени самыми различными точками зрения на один и тот же предмет. Легко понять, насколько трудна была эта задача. Это было своего рода умственное деторождение и высшая школа софистического искусства, в котором доходили до своего рода спорта.
Не было случая, чтобы журнал не был готов к сроку. А.Н. Куломзин ограничивался самыми ничтожными поправками в журналах: начальники отделений обязаны были писать хорошо. Ночью в четверг журнал отсылался в Государственную типографию[171] и на утро пятницы корректура была уже готова. Тогда происходил ее просмотр и предварительный доклад дел следующего заседания, сперва А.Н. Куломзину, потом председателю. К последнему отправлялись целым пансионом, предварительно отослав ему корректуры журналов. Н.Х. Бунге читал журналы с большим вниманием и делал в них много исправлений; преемник его И.Н. Дурново ограничивался вставкою одного или двух слов. После этого журналы приводились окончательно в порядок и рассылались членам Комитета на просмотр. Замечания последних давали повод к личным объяснениям, иногда очень нелегким, где авторитет А.Н. Куломзина играл большую роль; затем журналы окончательно отпечатывались для представления Государю.
И так шло каждую неделю. Наконец, это длинное писание стало очевидно утомлять Государя[172], который всегда очень добросовестно прочитывал комитетские журналы. Первый подметил это министр народного просвещения граф И.Д. Делянов: он стал представлять доклады совершенно короткие. Спохватился и А.Н. Куломзин и стал перечеркивать наши писания и требовать от нас короткого изложения. Легче от этого работа не стала, так как все-таки А.Н. Куломзин требовал полноты содержания, а известно, что писать длинно легче, нежели коротко. Но справились и с этим препятствием.
Эта работа, и без того забиравшая решительно все время, осложнялась еще совершенно исключительными поручениями, возникавшими и по делам Комитета, и помимо них. По делам А.Н. Куломзин постоянно требовал составления разного рода справок, законодательных и статистических, нередко направленных к тому, чтобы подсказать то или иное решение членам Комитета. В большинстве случаев это был совершенно напрасный труд: справки читали, удивлялись работе, но решали дела по совершенно другим соображениям. Иногда такие справки достигали размера целых книг. Затем, предпринимались и самостоятельные издания, напр[имер] сводов высочайших отметок по отчетам губернаторов. Особенно тяжелую работу пришлось мне понести по составлению английской книги: «Statesman’s Handbook for Russia»[173], которую А.Н. Куломзин задумал поднести молодой императрице Александре Феодоровне, для просвещения ее в русских делах. Эту книгу я писал, разумеется, по-русски, а ее уже переводили на английский язык. Тема была громадная: надо было исчерпать и историю, и статистику, и законодательство чуть ли не по всем вопросам государствоведения. А.Н. Куломзин думал, что эту работу можно закончить в несколько месяцев, но она потребовала двухлетнего усидчивого труда. Отдельные главы просматривались такими авторитетами, как Н.Х. Бунге и К.П. Победоносцев. Но в результате книга все-таки запоздала, и императрица, конечно, успела ознакомиться с нашими порядками из других источников.
Подобные же работы выполнялись и по другим отделениям, жестоко осложняя наше существование. Страда продолжалась обыкновенно до середины июня, когда наступал вакант[174] в Комитете, заседания прекращались на два с половиною месяца, и мы имели возможность отправиться на все четыре стороны. Обыкновенно Канцелярии Комитета и Государственной канцелярии[175] завидовали, что они располагают таким вакантом; но по совести могу сказать, что без этого мы совершенно не были бы в состоянии работать: только и живы были, что надеждою на летний отдых.
Я, быть может, слишком долго остановился на внутренней жизни Канцелярии Комитета министров, но мне кажется, что ее своеобразный характер не лишен интереса для изучающих наш прежний строй и его порядки. Перехожу к составу самого Комитета и к его деятельности.
Председателем Комитета я застал Н.Х. Бунге. Этот замечательный человек еще недостаточно оценен у нас[176]. Время его управления финансами многие склонны характеризовать как эпоху господства теории над практикою, не выведшего нас из трудного положения. Ему противополагают время И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте, которые, напротив, отличались необыкновенною практичностью и довели наши финансы до большой устойчивости и прочности. С последним, конечно, никто спорить не станет. Но основы многого из того, что было восполнено при С.Ю. Витте и даже позднее, при В.Н. Коковцове, были, несомненно, заложены Н.Х. Бунге. По крайней мере, сам С.Ю. Витте открыто указывал[177], что принципы многих из его реформ, напр[имер], денежной[178], были указаны Н.Х. Бунге. В области податной первые преобразования в промысловом обложении, которые положили начало постепенному переходу к окладной системе[179], были осуществлены при Н.Х. Бунге; при нем же отменены последние остатки подушного обложения[180]. В других областях никто, как он, положил основу нашему рабочему законодательству[181] и широкому развитию народных сбережений[182]. Наконец, при нем создан Крестьянский банк, т. е. дано основание аграрному законодательству, которое, при дальнейшем планомерном развитии, сохранило бы основы экономического и социального строя. Если все эти меры были основаны на строго продуманных научных воззрениях и принципах, то видеть в этом их недостаток едва ли справедливо: эпоха Н.Х. Бунге будет всегда занимать в истории наших финансов и государственной экономии самое почетное место. Здесь, конечно, не место для ее подробной оценки.
Как личность Н.Х. Бунге производил впечатление самое обаятельное: даже его внешность, глубокий взгляд, ласковое, всегда ровное обращение были необыкновенно привлекательны. Как старый профессор самого лучшего типа он любил молодежь, любил ее общество. Многих из нас, и не один раз, приглашал он к себе обедать, совершенно запросто, en tête-á-tête[183], и беседовал как с равными, вызывая на совершенно откровенное выражение своего мнения. Мы гордились своим председателем. После оставления министерского поста Н.Х. Бунге продолжал пользоваться уважением Императора Александра III, который особенно ценил в нем его душевную чистоту и кристальную честность. Но, без сомнения, взгляды его существенно расходились с правительственными воззрениями того времени, хотя, по моим наблюдениям, Н.Х. Бунге был убежденным сторонником исторического нашего государственного строя и, конечно, был далек от всяких тенденций, разрушающих и подтачивающих корни государственного здания: он видел полную возможность перестроения многих неудовлетворительных сторон нашей жизни именно сверху, а не снизу. В области же социального строя его взгляды ярче всего могут быть охарактеризованы следующими его же словами[184]*: «Мнение, высказанное большинством (а это большинство были Министерство внутренних дел и согласные с ним члены Государственного совета[185]), что личная собственность служит средством для обогащения немногих более состоятельных лиц, а равно что личная крестьянская собственность не играет существенной роли в обеспечении всей массы крестьянского населения, противоречит всем общепринятым положениям экономической науки, которая доселе полагала, что распространение личной собственности есть одно из главных условий народного богатства и благосостояния. Блестящие исследования по этому предмету таких корифеев, как Сисмонди, Джон Стюарт Милль, Бруно Гильдебрандт, казалось, не оставляли ни малейшего сомнения и нашли подтверждение в положении современной Франции, где личная земельная собственность более всего распространена, и где благосостояние в сельском населении оказывается наиболее всеобщим, а земледельцы наиболее чужды социализму вообще и революционному в особенности».
«Положение, что крестьянство стоит к земле всего ближе, – говорит Н.Х. Бунге в другом месте, – и что ему она всего нужнее, по меньшей мере неточно: все землевладельцы, которые сами ведут хозяйство, стоят к земле близко, она им равно нужна, будут ли они крестьяне или дворяне. Большинство, конечно, не имело в виду, что из его слов естественно следует вывод о каких-то особых правах крестьян на землю; однако такой вывод напрашивается сам собою и указывает на преимущественное право крестьян на землю пред другими сословиями»[186].
Предоставляю судить читателю, кто был ближе к социализму: «большинство» или Н.Х. Бунге. Как бы то ни было, при господствующем влиянии этого большинства в конце царствования императора Александра III политическое значение Бунге должно было отойти на второй план.
20 октября 1894 г. скончался в Крыму император Александр III. С большим волнением ожидал Петербург вестей о ходе его болезни: умирал монарх несомненно сильный характером, крепко поддерживавший устои самодержавия и мир в Европе и создавший новые связи России с Францией[187], обеспечивавшие нас, казалось, от германской угрозы. Преемника его знали мало, знали его немногие. Притом наследник не был еще женат, а следующий за ним брат, вел[икий] князь Георгий Александрович, страдал неизлечимою болезнью. Еще 23 сентября на телеграмму Комитета министров с пожеланиями скорейшего выздоровления Государь ответил: «Очень тронут и сердечно благодарю всех присутствовавших». Однако вести получались все более и более тревожные; помощь врачей была недостаточна, в Крым был вызван о[тец] Иоанн Кронштадтский, но и духовная помощь не спасла болящего.
Одновременно с вестью о кончине Государя узнали, что накануне, по его воле, состоялось обручение наследника с принцессою Алисою Гессенскою[188]. Прибытия тела в Петербург ожидали одновременно с приездом нового императора и его невесты. Я не присутствовал на похоронах императора Александра III, но А.Н. Куломзин предоставил нам возможность быть на свадьбе императора Николая II в церкви Зимнего дворца[189], последовавшей вслед за погребением его отца[190]. Рассказать об этом зрелище я могу очень немного: я был в толпе, в задних рядах, видел торжественное шествие, совершавшееся с обычным церемониалом. Многие отметили тогда трогательное спокойствие вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, которая, только что потеряв горячо любимого мужа, не могла не видеть в церемонии брака своего отхождения на второй план.
Н.Х. Бунге возлагал, по-видимому, особые надежды на новое царствование в смысле изменения в направлении внутренней политики. Выражая нам свою печаль по поводу кончины императора Александра III, он прибавил тут же, что падать духом не следует, что надо, напротив, надеяться на новое царствование, открывающее и новую эру государственной жизни. Он, несомненно, имел в виду возможность и своего более непосредственного влияния на дела управления. Говорили, будто покойный Государь даже рекомендовал сыну советоваться с Н.Х. Бунге. Но и помимо этого императора Николая II влекло к Н.Х. Бунге его личное к нему уважение: ведь Н.Х. был его профессором экономических наук и пользовался его особым расположением. И действительно, в начале царствования Государь постоянно совещался с Н.Х. Бунге, который имел у него одно время ежедневные утренние доклады. Влияние его в этот период времени было, по-видимому, очень большое; соответственно изменилось и отношение всех министров, заметное даже в их внешних к нему обращениях: с ним стали советоваться по всем важнейшим делам. Еще большее впечатление произвело увольнение министра путей сообщения А.К. Кривошеина, состоявшееся по настояниям Н.Х. Бунге[191]. И в других случаях Н.Х. Бунге не стеснялся прямо высказывать свои взгляды и останавливать мероприятия, которые казались ему вредными или исходящими из личных соображений.
Особенное внимание Н.Х. обратил на дела просвещения. Во главе Министерства народного просвещения стоял тогда граф И.Д. Делянов. О нем здесь уместно сказать несколько слов, тем более, что он, как старший член Комитета министров, нередко исполнял обязанности председателя в отсутствие последнего. Это был очень уже старый человек, и как министр – в полном смысле слова гасильник: никакая живая мысль, никакое серьезное начинание не могли рассчитывать на его поддержку. Он держал себя как бы даже вне своего министерства; о нем ходили в этом отношении самые легендарные анекдоты: будто бы просителям он говорил, что сам того-то и того-то не может сделать, а советует обратиться к Н.М. Аничкову, директору Департамента[192]: «Сильный человек в министерстве» – прибавлял он ради большей убедительности. Мне не раз приходилось бывать на докладах нашей Канцелярии у графа И.Д. Делянова: он не только не читал докладываемых дел, но даже форменно спал на докладах. В министерские же свои дела он не вносил никакой жизни, всецело подчиняясь течениям, какие казались ему наиболее удобными в данную минуту. Благодаря этому К.П. Победоносцев имел у нас в делах просвещения такое преобладающее влияние.
Личность К.П. Победоносцева не может быть очерчена здесь несколькими словами: это слишком крупная величина в нашей истории того времени. Притом я не был настолько знаком с его предшествующею деятельностью, чтобы иметь о ней вполне беспристрастное суждение. Могу лишь изложить здесь некоторые мои воспоминания.
Уже самая наружность К.П. Победоносцева производила неотразимое впечатление: все, кто его видел, помнят, конечно, его худощавую фигуру, глубоко ввалившиеся глаза в черепаховых очках и умный лоб. Казалось, этому человеку пристало носить не вицмундир, а тогу или сутану католического прелата. Чемто аскетическим веяло ото всей его внешности. Но еще большее впечатление производила его речь: он никогда не бил на ораторские эффекты, в заседаниях он говорил совершенно так же, как говорил дома с кем-нибудь с глазу на глаз. Однако речь его была сильнее речей многих заправских ораторов своей выкованной логичностью, глубиной знания и силою убеждения. Говорил он в заседаниях Комитета чрезвычайно редко, но тем сильнее была его речь, когда он считал нужным с нею выступить: чувствовалась за его словами огромная умственная и нравственная сила.
С убеждениями его, с его политическими воззрениями можно было не соглашаться, но нельзя было не уважать их последовательности и прямоты. Непоколебимый защитник идеи самодержавной власти, он, вместе с тем, не был настолько мелочен, чтобы преклоняться, как многие, перед пустыми ее проявлениями, чтобы «оцеживать комара и поглощать верблюда»[193]. Однако в искании путей к укреплению власти и авторитета он пошел по несомненно ошибочному пути: этот путь видел он, кажется, в том, чтобы ограждать народ от знания и от познания своих человеческих прав; он, как однажды и выразился по поводу проекта С.Ю. Витте о необходимости приступить к коренному пересмотру законодательства о крестьянах, особенно опасался возвести крестьянина в «персону», так как «персона» эта, без сомнения, стала бы претендовать на права, ей не принадлежащие[194]. Не хотел он видеть того, что ограждение крестьянина от знания правительственными средствами не оградит его от проникновения социалистических учений; что «персона», наделенная правами и их понимающая, будет иметь личный интерес в защите этих прав и в отстаивании того государственного строя, под покровительством которого эти права находятся. Он был инициатором церковно-приходских школ и школ грамоты[195], но только для того, чтобы вырвать школу из рук опасных, по его мнению, элементов; в его же школах, особенно в школах грамоты, по отзывам очень многих, ничему почти не обучали, они нередко числились только на бумаге. Нельзя, конечно, отрицать, и последующая история доказала это с очевидностью, что и наша псевдоинтеллигенция, беспочвенная, малорелигиозная и слабопатриотичная, была очень плохим руководителем в деле народного просвещения. Но тогда надо было создать настоящую школу не по названию только, а по существу; этого же церковные школы К.П. Победоносцева не дали вовсе.
Н.Х. Бунге смотрел с огромным опасением на состояние нашего народного образования. На эту сторону нашего государственного бытия было, поэтому, прежде всего обращено самое бдительное его внимание. От Министерства народного просвещения с графом И.Д. Деляновым, от церковно-школьного ведомства[196] с К.П. Победоносцевым он не надеялся ни на какую помощь и содействие. Он пошел прямою дорогою, напролом. Государю представлен был проект предисловия к первому в его царствование сборнику высочайших отметок на губернаторских отчетах. В этом проекте, с одобрения Н.Х. Бунге, были изложены начала как бы программы нового царствования во внутренней политике, преимущественно же в области просвещения[197]. На корректуре проекта, представленной Государю, последовала отметка: «Хорошо». Экземпляр этот должен храниться или у А.Н. Куломзина, или в архиве Комитета министров.
Затем начались и практические меры: в ведении Вольно-экономического общества[198], под общим руководством Министерства государственных имуществ[199], находились Комитеты грамотности[200], учреждения очень старые и почти потерявшие всякое значение. Возник, сколько помню, вопрос о передаче их в учебное ведомство[201], и Н.Х. Бунге воспользовался этим случаем, чтобы преобразовать эти комитеты в особое общество, которое вывело бы народную школу из того тупика, где она находилась. Составлен был проект Устава этого общества, и думаю даже, что Н.Х. Бунге заручился предварительным согласием Государя на эту реформу. Но К.П. Победоносцев усмотрел в ней опаснейшую затею и поехал с особым по этому делу докладом в Царское Село. Дело было приостановлено[202]. С горьким чувством увидел Н.Х. Бунге, что был лишен доверия в самом важном, по его глубокому убеждению, деле, на которое им было положено столько мысли и заботы. Печально, что это впечатление унес он и в могилу: вскоре после этого он занемог, хворал очень коротко и скончался в Царском Селе в начале лета 1895 года.
Грустно нам было его хоронить. Его повезли на Александровскую станцию Варшавской железной дороги и оттуда в Киев, в сопровождении некоторых чинов Канцелярии с Э.В. Шольцем во главе. Киев Н.Х. Бунге всегда считал своим родным городом: там он был долго профессором, там у него был дом, там же похоронил он и наиболее дорогое для себя существо – свою мать; портрет старушки был всегда на той чашке, из которой он пил кофе. В Петербурге Н.Х. считал себя гостем: в Министерстве финансов занимал только немного комнат внизу, а после назначения председателем Комитета министров нанимал на Екатерининском канале, близ Фонарного переулка, меблированную квартиру, на лето же переезжал в Царское Село, в один из дворцовых домов. Он всегда мечтал вернуться в Киев – и вернулся, но только после смерти.
Похоронная процессия была очень торжественная, была дивная погода; мне, помнится, пришлось нести на подушке медаль, которую Н.Х. Бунге получил за крестьянскую реформу[203]. На вокзал прибыли Государь, императрица и другие члены Императорской фамилии. Среди них стоял новый председатель И.Н. Дурново, на которого мы смотрели с нескрываемой антипатией: слишком велика была разница между этими людьми.
Однако антипатия к И.Н. Дурново едва ли имела достаточные основания. Конечно, это был полнейший контраст Н.Х. Бунге: тип губернского предводителя[204], большого барина, он относился к делам Комитета министров очень поверхностно. Доклады продолжались по-прежнему, но никогда не слышали мы от И.Н. Дурново никакого мнения или указания. Он считал только своим долгом громко провозглашать на заседаниях составленные Канцеляриею справки, но личного его отношения не видно было даже и к этим справкам.
Но обращение его с чинами Канцелярии было изысканно любезное; он, очевидно, стремился привлечь к себе наши симпатии, выжить же старался только А.Н. Куломзина, что и удалось ему в день столетия Комитета министров[205]. Но и сам И.Н. Дурново очень недолго оставался после этого председателем: на юбилее он уже едва ходил и вскоре после того скончался.
Кроме министров и главноуправляющих, членами Комитета были наследник цесаревич Николай Александрович и некоторые великие князья, которые почти никогда не бывали; наследник же не пропускал почти ни одного заседания, но, сколько помню, никогда в прениях не участвовал. Затем постоянными членами Комитета были председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич и председатели департаментов Государственного совета. Наиболее видную из них роль играл председатель Департамента государственной экономии[206] граф Д.М. Сольский. Самая наружность его была очень примечательна: большая, умная голова с высоким лбом и окладистой седой бородой возглавляла довольно грузное тело, едва державшееся на двух подагрических ногах и двух палках, на которые он опирался и без которых не мог ходить. Поистине, это было олицетворение приходившего к концу нашего государственного строя: наверху очень просвещенное, умудренное опытом и вместе равнодушное к жизни правящее общество, опирающееся на безразличное, огромное государственное тело, которое, в свою очередь, держалось на крайне ненадежных низах: подкосились ноги, и упало грузное тело и мудрая голова. Карьера Д.М. Сольского была блестящая: еще очень нестарым человеком Д.М. Сольский был назначен государственным секретарем[207], а затем государственным контролером[208]; последнюю должность занимал он много лет, проявив на ней большие знания в области финансов. Уже тогда, по-видимому, он сумел завоевать в правящих сферах тот авторитет, которым неизменно пользовался до самой смерти. «Комиссия Сольского» – это было какое-то нарицательное слово: стоило возникнуть какому-нибудь более или менее сложному вопросу в области финансов, кредита, государственной экономии, а впоследствии – и государственного строительства вообще – и тотчас для его рассмотрения образовывалась высшая комиссия или комитет из министров и других сановников под непременным председательством графа Д.М. Сольского. К этим комиссиям относились с особым уважением ввиду авторитета их председателя, мнение которого имело обыкновенно решающее значение. Относились ли к нему с особой симпатией наверху, этого я не знаю, но, конечно, выслушивали с должным почтением. Самая походка его, опираясь на две палки, внушала уважение. Я помню, впоследствии, в Департаменте государственной экономии члены при входе его вставали и стояли, пока он проходил к своему месту, «посолонь»[209], т. е. поворачиваясь лицом к нему по мере его прохождения. Граф Д.М. Сольский был, несомненно, очень умный, знающий и опытный сановник. Но за многие годы, что мне пришлось его видеть в разных коллегиальных учреждениях, я не припомню, чтобы слышал от него самостоятельные мнения. Он умел выслушать всех ранее говоривших, умел выбрать из их речей то, что казалось ему наиболее в данную минуту подходящим; а это определялось множеством соображений, часто зависевших и от личности говорившего. Когда же точка зрения была им выбрана, он брал слово и с необыкновенною авторитетностью умел облечь чужую мысль в такую форму, что это казалось чем-то новым. Нового же тут обыкновенно не было почти ничего. Этот блестящий, чисто председательский талант – делать резюме – был применяем гр[афом] Д.М. Сольским и в Комитете министров, где он являлся только членом. Но всегда выходило так, будто его последнее слово и решало окончательно вопрос. Впоследствии, после революции 1905 г., граф Д.М. Сольский принимал деятельное участие в разработке оснований нового строя[210] и был назначен председателем Государственного совета, но, если память мне не изменяет, председательствовал только в одном заседании преобразованного Совета: голоса его не было почти слышно, и он немедленно же отказался от дальнейшего несения этих высоких функций[211]. Жизнь его была слишком связана с прежним строем, с высшими учреждениями старого порядка. Прекращение работы в них равносильно было прекращению этой жизни, и действительно, граф Д.М. Сольский очень скоро скончался.
Из прочих членов Комитета министров того времени я остановлюсь только на виднейшем – на С.Ю. Витте. Характеристика остальных, по необходимой ее краткости, не представила бы особого интереса, о некоторых же министрах я говорил выше. Я увидал С.Ю. Витте впервые на одном молебне в 1889 или 1890 году, когда он был еще директором созданного им самим Департамента железнодорожных дел Министерства финансов[212]. Уже тогда стали говорить о нем, как о чем-то новом и совершенно необычном. Рассказывали, что в свое время он начал службу с должности начальника маленькой станции, потом быстро выдвинулся и стал во главе Юго-Западных дорог[213]. Там он и сблизился с И.А. Вышнеградским, который, оценив его огромные способности, вызвал его в Петербург сразу на должность директора департамента. В то время это считалось совсем поразительным. С необыкновенной энергией С.Ю. Витте организовал порученный ему департамент, собрав вокруг себя ряд талантливых людей с такой же необычной карьерой, как и он сам. И.А. Вышнеградский продолжал выдвигать С.Ю. Витте и, когда потребовался кандидат в министры путей сообщения, рекомендовал государю Александру III его же; опять произошло нечто необыкновенное – недавно сделанный директором департамента, едва только произведенный в действительные статские советники[214] и получивший первый орден – станиславскую звезду[215] – С.Ю. был прямо назначен министром[216]. Чопорный круг высших сановников был очень шокирован этим назначением, да и не одним назначением: С.Ю. Витте находили грубым, неотесанным; в заседаниях он сидел, развалившись, с обоими локтями на стол и говорил каким-то совершенно необычным языком, с каким-то странным акцентом и необыкновенными ударениями. После многие так к этому привыкли, что, передразнивая, стали и постоянно говорить так, как говорил С.Ю.: «ходатáйство», «они говорять» и т. п. И вот, не прошло нескольких месяцев, и С.Ю. Витте был назначен на важнейший пост – министра финансов. Тут уже все окончательно растерялись, конечно, признали совершившийся факт и с ним постепенно примирились.
Характеристика С.Ю. Витте будет дана гораздо более полная его будущими биографами: слишком крупная это была личность, именем которой можно будет назвать целый период русской истории. Я сообщу, поэтому, только личные свои впечатления, которые, быть может, будут полезны этим биографам как материал.
Несомненно, прежде всего, что С.Ю. Витте был головою выше большинства своих современников. Как у всех больших государственных деятелей, у него, конечно, были крупнейшие ошибки, принесшие немало вреда. Но исправить их было почти невозможно, до того все действия его были глубоко жизненны. Чувство жизни и ее потребностей было нервом деятельности С.Ю. Витте. Эту деятельность нельзя ограничить какою-либо областью: она касалась всех сторон государственного нашего бытия, прежде всего, конечно, сторон экономической и финансовой. С.Ю. Витте был далек от всякой теории, потому что научно не был вовсе к ней подготовлен. Он брал жизнь, как она есть, и искал наиболее действительных решений для выдвигаемых ею практических вопросов. Так, в Комитете министров или, вернее, через его соединенное присутствие с Департаментом государственной экономии, он с необыкновенной энергией провел ряд дел по выкупу в казну крупных железнодорожных сетей, напр[имер], Главного общества[217], Юго-Западных[218] и т. п. Но это вовсе не означало, что он был принципиальным сторонником казенного железнодорожного хозяйства. Напротив, рядом с этим, при его поддержке создалось несколько новых крупнейших железнодорожных обществ – в зависимости от соображений целесообразности. В податном деле теория в особенности ему претила: вопреки ей он, опять-таки по соображениям целесообразности, отдавал решительное предпочтение косвенному обложению перед прямым: в бóльшую уравнительность последнего он не верил, а бóльшая простота и доходность первого казалась ему очевидной. В этой области осуществлена им громаднейшая реформа – введение казенной продажи питей[219]. На нее нападали очень много, упрекали С.Ю. за наш «пьяный» бюджет; мало того, он сам оказался неожиданным противником ее, когда задумал свергнуть В.Н. Коковцова, который с усердием, достойным лучшей участи, стал без всяких уступок отстаивать его же творение[220]. В конце 1914 г. винная монополия, под влиянием увлечения идеею трезвости, была уничтожена, к великому восторгу нашей интеллигенции[221]. И что же? По всей вероятности, ее придется рано или поздно восстановить, как единственно целесообразный способ получения питейного налога. Но, относясь с известного рода пренебрежением к прямым налогам, как источнику государственных доходов, С.Ю. Витте идет очень решительно по пути реформы промыслового налога, преднамеченной Н.Х. Бунге, на началах окладного обложения[222]. Вполне сознавая политическое значение прямых налогов, он, в особенности в области крестьянского обложения, является с энергичной поддержкой таких преобразований, как отмена круговой поруки и изменение порядка взимания окладных сборов[223]. Противник подоходного налога, и противник очень убежденный, он переходит на его сторону, когда начинает видеть в нем серьезный способ для поддержания наших финансов во время войны[224]. Не говорю о блестяще выполненной им реформе денежного обращения, выполненной вопреки довольно яростной оппозиции многих членов Государственного совета; чтобы побороть ее, С.Ю. Витте не стесняется испрошением высочайшего указа, не опасаясь нарушения этим путем нормального порядка и принимая всю ответственность на себя.
Вообще, как настоящий государственный человек, С.Ю. Витте не боялся никогда ответственности, потому что именно этот страх всегда тормозил у нас всякие реформы. К формам он относился с пренебрежением, особенно в начале своей государственной работы; впоследствии он, мне кажется, стал придавать им бóльшую цену, усвоив их значение для поддержания государственного строя.
Не меньшее значение имела экономическая политика С.Ю. Витте. Здесь он явился энергичнейшим поборником всякой промышленной инициативы, которая за его время сделала больший шаг вперед, чем за 50 предшествующих лет. Когда я поступал в Канцелярию Комитета министров, число акционерных уставов, проходивших через Комитет, не превышало 12 в год, а до меня уставы считались еще большею редкостью. В последние же годы моей там службы, следовательно, через 5–6 лет, в год проходило свыше 400 уставов. Конечно, в числе этих предприятий были и дутые, но, в общем, русская промышленность сделала при содействии С.Ю. Витте громаднейший шаг вперед. Не в одном, однако, крупном капиталистическом производстве видел он спасение: он отлично понимал, что база экономической жизни России есть благосостояние сельского населения, основанное на его самодеятельности и на определенности его прав. Вопрос о пересмотре законодательства о крестьянах был поставлен С.Ю. Витте еще в 1898 или 1899 г. в Комитете министров[225], но встретил решительные возражения со стороны К.П. Победоносцева, который, как я уже упоминал, был против превращения мужика в «персону», наделенную одинаковыми с другими правами.
Затем С.Ю. Витте все-таки возобновил этот вопрос и добился учреждения под своим председательством Особого сельскохозяйственного совещания, которое открыло в губерниях местные комитеты[226]. Эти комитеты вскрыли ряд темных сторон в нашей местной жизни, вскрыли их настолько ярко, что вся работа совещания признана была небезопасною в политическом отношении, и оно было закрыто[227]. Но С.Ю. Витте, со своим инстинктом жизни, понимал, что именно здесь корень нашего неустройства и поле для тех преобразований, которые должны были вывести нас из этого неустройства. Дело, им начатое, было остановлено, его передали в Земельный комитет И.Л. Горемыкина[228], а за пересмотр крестьянского законодательства взялось Министерство внутренних дел[229]. Но семена были брошены, и вместо того, чтобы расти нормально, они получили неестественное направление, которое и привело, в связи с другими обстоятельствами, к революции 1905 г.
С 1902 г. С.Ю. Витте был в опале: его уволили из министров и назначили на не отвечавшую его свойствам пассивную должность председателя Комитета министров[230]. Началась несчастная японская война[231]. Я не знаю роли С.Ю. Витте в этом деле. Его иногда обвиняют в том, что его дальневосточная политика – проведение Восточной Китайской железной дороги[232] и создание Порт-Артура[233] – была основною причиною этой войны. Тут есть доля правды. Но мог ли он останавливаться на половине пути, мог ли удерживаться перед тем, чтобы довести до логических последствий начатое предприятие постройки Сибирской дороги и оживления всего нашего Востока? Войны же ему удалось бы, конечно, избегнуть своевременным разделением сфер влияния между Россией и Японией, чего именно и не было сделано. Мы переоценивали себя и недооценили Японии; однако тут С.Ю. Витте, по-видимому, не при чем. Когда после войны пришлось заключать мир с Японией, обратились не к дипломатам, а к С.Ю. Витте[234]. В Портсмуте, по рассказам его спутников (И.П. Шипова, И.Я. Коростовца и др.), он сыграл совершенно исключительную роль: не он, представитель побежденной стороны, а японские делегаты оказывались в роли слабейших, добивавшихся уступок. Стóит взглянуть на фотографию конференции, чтобы сразу убедиться, что ее главою и руководителем был С.Ю. Витте. Он сумел в самый короткий срок привлечь к себе такие симпатии американцев, что они явились его помощниками. И это все достигалось почти без всякого знания языков, исключительно личным его обаянием. С.Ю. Витте обвиняют в уступке половины Сахалина, с насмешкою называют графом Полусахалинским. Но пусть смеющиеся указали бы способ заключить мир на более приемлемых условиях[235]. Если к этому прибавить, что благодаря финансовой политике С.Ю. Витте и его денежной реформе экономическая жизнь России перенесла несчастную войну без особых потрясений, то заслуга С.Ю. Витте и в этом деле скажется несомненно.
После войны началась политическая разруха[236]. С.Ю. Витте, бесспорно, ее предвидел. Его мысль – поставить на очередь пересмотр крестьянского законодательства и мероприятия по усовершенствованию нашего сельского хозяйства и всего сельского быта в самом широком масштабе – свидетельствовала о ясном понимании тех основных причин, которые могли довести Россию до революции. Но, как я говорил, мысль эта была отстранена, признана опасною. Не мысль, однако, и не реформа была опасна. Опасно было положение, на которое закрывали глаза.
Когда начались первые признаки политической разрухи, С.Ю. Витте не мог оставаться в тени даже в пассивной роли председателя Комитета министров. Здесь, в Комитете министров, впервые разрабатываются положения 12 декабря 1904 г., давшие начало целому ряду актов в деле реформы нашего внутреннего уклада[237]. Когда же в октябре 1905 г. началась революция[238] – обратились опять к С.Ю. Витте, при участии которого и составлен был Манифест 17 октября 1905 г.[239], причем на него же, со званием председателя Совета министров, возложено было и проведение этого манифеста в жизнь. Здесь, в этой новой роли правителя государства, но правителя, навязанного обстоятельствами и уже не пользовавшегося полным доверием, С.Ю. Витте, по общему отзыву, растерялся и не сумел взять надлежащий тон. Революция была на ущербе, войска в громадной своей массе оставались не поколебленными, а при этих условиях не было основания играть двойную роль. Эта двойная роль, как рассказывают, довела почти до того, что неизвестно было, кто кого арестует: Витте Хрусталева или Хрусталев Витте. Поэтому министр внутренних дел П.Н. Дурново, вовремя понявший необходимость решительных действий, взял первый шаг и заслонил С.Ю. Витте[240], которого вместе со всем его кабинетом уволили[241] накануне открытия Первой Государственной думы[242]. С этого момента карьера его была окончена, и он сам стал мало-помалу ветшать. В роли члена Государственного совета он не раз привлекал к себе всеобщее внимание своими выступлениями по разнообразным вопросам. Казалось даже, что он ищет случая говорить по всякому поводу, напомнить о себе, но все это было тщетно: антипатия к нему в высших сферах была настолько сильна, что о возврате к активной работе, а он об этом, без сомнения, мечтал все время уже по свойству своей натуры, нечего было и думать.
Я старался в сравнительно коротком очерке дать общую характеристику С.Ю. Витте как государственного деятеля, в той мере, в какой мне это было известно. Как человека я наблюдал С.Ю. Витте сравнительно нечасто и никогда не был к нему близок. Мне кажется, что обычные мерки вообще неприменимы к такому характеру; масштабы должны быть совершенно другие. Его политические противники взводят на него самые резкие обвинения: упрекают его в безнравственности и фальшивости, даже в простой нечестности. Последнее представляется мне совершенно неосновательным. Никогда и ни от кого из лиц, близко знавших С.Ю. Витте, я не слышал, чтобы он в какой-либо мере был нечестным человеком. Средства у него были и помимо каких-либо неблаговидных путей: одними наградами за совершенные под его руководством кредитные операции он получил, как говорят знающие люди, свыше 700 000 рублей. Явными признаками его состоятельности были разве только прекрасный и отлично обставленный особняк и приданое, которое он дал за дочерью. Но и приданое это, и другие расходы так потрясли его средства, что он стал очень нуждаться в деньгах. Было время, что он хотел даже бросить службу и пойти в частное предприятие, и не сделал этого только потому, что Государь признал неудобным, чтобы его статс-секретарь[243] переходил на частную службу. Тогда он стал просить через В. Н. Коковцова денежной поддержки, которая, в конце концов, и была ему оказана[244]. Упоминаю об этом, чтобы ответить на рассказы о громадном богатстве С.Ю. Витте. В политической деятельности его, действительно, трудно назвать образцом корректности. Весьма нередко приближал он к себе людей далеко не первой нравственности: он даже, пожалуй, предпочитал их, как людей, с которыми легче иметь дело, что не мешало ему в то же время отдавать должное людям честным и порядочным. Заявляя громко, даже в официальных бумагах, о своей солидарности с людьми совершенно сомнительными, С.Ю. Витте, не колеблясь, предает в 1906 г. своего долголетнего сотрудника Н.Н. Кутлера. По собственным указаниям С.Ю. Кутлер, будучи главноуправляющим земледелия в его кабинете, составил проект принудительного отчуждения помещичьих земель[245]. Проект был просмотрен С.Ю. Витте и разослан, кому следует. По содержанию своему он не мог не вызвать самых решительных протестов. Дело могло принять опасный для самого С.Ю. Витте оборот. Тогда он решил свалить все дело на Н.Н. Кутлера: он-де, Витте, прочитал проект, будучи крайне утомленным, и не обратил поэтому на него должного внимания, иначе никогда не позволил бы его рассылать; самая же мысль, следовательно, принадлежала Н.Н. Кутлеру, а не ему. В результате Н.Н. Кутлер получил полную отставку.
Человек по природе своей страстный, С.Ю. Витте привязывался к людям, но затем так же окончательно забывал, если человека не было близко. Вообще, страстность была, несомненно, одной из отличительных черт характера С.Ю. Витте: он умел сильно желать и добиваться своих целей во что бы то ни стало, но если охладевал, то нередко уже совсем забывал о том, чего желал раньше.
Поэтому и в вопросах общего характера С.Ю. Витте также не церемонился переменять высказываемые им мысли в зависимости от обстоятельств[246]. Об одном таком случае с питейною монополией я уже упоминал. В другой раз он боролся против министра внутренних дел И.Л. Горемыкина и добивался замены его другим лицом. И.Л. Горемыкин в то время был сторонником распространения земских учреждений и широкой постановки местного самоуправления. Витте же выступил с запискою резко противоположного характера, высказываясь даже принципиально против земских учреждений, как противоречащих идее самодержавия[247].
Во время революции 1905 г. С.Ю. Витте, будучи председателем Совета министров, не стеснялся принимать у себя и вести переговоры с самыми темными представителями Совета рабочих депутатов[248]; в то же время в Совете министров он шел рука об руку с П.Н. Дурново. Все эти шатания мысли и действий не внушали доверия наверху, а в обществе также вызывали основательные сомнения.
Оратор С.Ю. Витте был своеобразный: он говорил всегда очень страстно и увлекательно, но по форме далеко не изящно и тем своеобразным языком, о котором я упоминал выше. Речи его всегда обращали на себя внимание и приковывали, несмотря на то, что в последние годы он выступал слишком много и слишком часто, все в надежде опять быть призванным к делу; тут нередко старался он встать на точку зрения людей, далеких от него по своим убеждениям, стремился быть услышанным и наверху – но все напрасно: доверие было явно и окончательно им утрачено.
Писать С.Ю. Витте совершенно не умел, кроме разве резолюций на бумагах своим странным и трудно разборчивым почерком. Вообще, не любил он, по-видимому, и читать дел, ограничиваясь выслушиванием устных докладов. Только по самым важным вопросам требовал он к себе корректуры представлений и делал иногда пометки на полях. Большинство же представлений подписывал, совершенно не читая. Когда однажды в Комитете министров заметили ему, что между его словами и собственным его представлением – явное противоречие – он не постеснился ответить, что вовсе не отвечает за всякий вздор, какой чиновники министерства могли написать от его имени. На докладах С.Ю. Витте говорил немного, делал редкие замечания. Впрочем, мне лично приходилось очень редко бывать на этих докладах. Но помню, что два или три раза, когда мне пришлось докладывать С.Ю. Витте с глазу на глаз, отношение его становилось иным: если дело шло о каком-либо вопросе, могущем иметь более широкое значение, он ухватывал его с полуслова и немедленно давал мысли докладчика самое широкое развитие, рисуя целые перспективы будущих мероприятий и поручая выполнять целые программы работ. Выполнялась, конечно, десятая доля: по свойственной людям лени и за обремененностью другой работой – поручения прятались в долгий ящик, а сам он, отвлеченный уже другими мыслями, о них забывал.
В личных отношениях С.Ю. Витте был, скорее, резок и груб, особенно с постоянными своими сотрудниками; такова была уж его природа. Но когда хотел, он мог быть тем, что французы называют: «un charmeur»[249].
В последнее время я видел С.Ю. Витте ближе в 1914 и 1915 гг., т. е. накануне его смерти. Он не верил, не допускал возможности всемирной войны, считая ее гибелью для России. В этой мысли жил он в Биаррице, где весть о войне поразила его, как громом. Поспешно вернулся он в Россию через Италию и, кажется, Салоники[250]. Но это был уже не прежний С.Ю. Витте: на нем лежала печать близкой кончины. Являлся он и на общественные собрания, например, в Совет съездов промышленности и торговли[251] – по вопросам о подоходном налоге, о золотопромышленности. Приглашался и в Особую комиссию государственного контролера П.А. Харитонова, образованную для обсуждения способов сведения росписи на 1915 г.[252] Речи его, довольно бледные, как будто убитые, выслушивались с почтением, но всеми чувствовалось, что это уже конченый человек. Скончался он после недолгой болезни весной 1915 г.[253] и к счастью своему не видел конца войны и крушения той государственности, которую тщетно пытался обновить.
На моем горизонте государственной и общественной жизни я не могу указать более выдающейся фигуры, как граф С.Ю. Витте: при всех его недостатках между ним и прочими деятелями этого времени – громадное расстояние. Оценка его принадлежит будущей истории и, конечно, не может быть сделана в такой заметке, как эта.
Закончив личные характеристики, обращаюсь к самой деятельности Комитета министров того времени. Граф М.М. Сперанский говорил в 1826–1827 гг., что Комитет министров обратился в присутственное место, где разбирались всякие дела, важные и неважные[254]. Эта характеристика совершенно отвечает тому, чем был Комитет и в мое время, т. е. в конце 90-х гг. прошлого столетия. Созданный с целью объединения деятельности разных министерств, он вскоре перестал выполнять эту роль и сделался тем учреждением, куда министры стали вносить такие вопросы и предположения свои, за которые не желали брать ответственности исключительно на себя. К такой роли Комитет министров был приведен и самым существом тогдашнего нашего государственного строя. В монархии самодержавной, где вся полнота власти сосредотачивается в лице монарха, не должно быть места учреждению, конкурирующему с этой властью. Комитет, который объединял бы всю деятельность министерств, т. е. был бы фактически кабинетом, как его понимают в государствах конституционных, был бы в самодержавной монархии своего рода коллективным визиратом. Если бы председателем такого комитета было лицо особенно сильное и влиятельное, то оно превратилось бы силою вещей в великого визиря восточных деспотий, всецело заслоняя собой особу монарха. В подзаконной же самодержавной монархии, где источником права и власти должен быть только монарх, не должно быть места ни единоличному, ни коллективному визирату: все учреждения высшего государственного управления могут иметь только совещательный характер в пределах своей компетенции. Равным образом, ни один министр не может иметь всей полноты власти в делах управления: он может быть только докладчиком по своему ведомству и проявлять власть лишь в пределах данных ему верховной властью полномочий. Поэтому никакое учреждение или лицо, кроме самого монарха, не может быть призвано к объединению деятельности отдельных министров. Вот почему Комитет министров, задуманный, быть может, с целью такого объединения, не мог выполнить этой задачи: этого не желали ни министры, которым гораздо приятнее было идти со всеми более интимными вопросами непосредственно к Государю, ни Государь, который совершенно правильно видел бы в таком объединяющем Комитете ограничение своих прав. Только уже с образованием представительных учреждений создан был настоящий Совет министров, но и то не без очень серьезных трений. А тогда наша конституция, по меткому выражению, кажется, графа Валуева, заключалась в разногласиях министров[255]: было бы очень опасно, если бы эти разногласия получали согласование не в лице монарха, а в лице которого-либо из них или даже учреждения, составленного из одних министров. Другая побудительная причина – создать из Комитета министров такое присутственное место, которое представляло бы Государю коллективные доклады по таким делам, где каждый отдельный министр не желал брать ответственности всецело на себя одного – создала постепенно известный круг дел, которые уже постоянно вносились в Комитет; так образовалась, мало-помалу, компетенция его, как совещательного при монархе органа по делам верховного управления. Естественно, что эта компетенция, по самому существу своему, не могла не быть чрезвычайно разнообразной: сюда стали поступать, как справедливо указывал уже граф М.М. Сперанский, и крупные, и совершенно мелкие дела.
В мое время эти дела могли быть подведены под следующие главные категории. На первом плане стояли дела железнодорожные, рассматривавшиеся в соединенном присутствии Комитета министров и Департамента государственной экономии Государственного совета[256]. Это были, в большинстве, очень крупные вопросы, связанные с многомиллионными интересами: о выкупе железнодорожных предприятий в казну, о разрешении новых железнодорожных обществ и т. д. Они сосредоточивали на себе и значительное общественное внимание. На них я подробно останавливаться не могу, так как ими я лично не занимался: они входили в компетенцию другого отделения Канцелярии.
К моему ведению относились дела менее видные, но более многочисленные: об учреждении акционерных компаний[257], по всеподданнейшим отчетам и др. Как я уже упоминал, в течение сравнительно немногих лет, что я был в Канцелярии, акционерное дело, благодаря политике С.Ю. Витте, развилось у нас чрезвычайно. Раньше акционерный устав был событием в Комитете; теперь их проходило по 12-ти и более в одно заседание. Так как в законе не было нормального устава, то он, естественно, был выработан практикой: уставы различались, в сущности, только первыми статьями, где излагалась цель компании, дальше шло трафаретное повторение одинаковых для всех обществ постановлений. На Канцелярии лежала обязанность считывать эти уставы, т. е. сверять их текст с ранее утвержденными и в случае отклонения докладывать об этом Комитету. Кроме первых статей, были, однако, и другие, в которых замечалось нередко разнообразие и около которых сосредоточивались споры. Это статьи политического характера, касавшиеся разного рода ограничений, преимущественно национального характера. Наше законодательство содержало в себе, как известно, множество ограничений в отношении производства промыслов и владения недвижимыми имуществами для евреев и иностранцев[258]. Эти ограничения могли быть легко обойдены путем учреждения акционерного общества, особенно с акциями на предъявителя: стоило, напр[имер], евреям основать такое общество, формально не ограниченное в правах по землевладению, и они могли бы приобретать земли под его фирмою. Поэтому первоначальные ограничения в уставах заключались в том, что акции на предъявителя были совершенно запрещены. Это правило попало в X т[ом] Зак[онов] гражд[анских][259]. Но жизнь очень скоро показала совершенную его непрактичность и нецелесообразность: именные акции создают крайние затруднения для развития акционерного дела, так как с большими трудностями могут переходить из рук в руки[260]. Акции предъявительские не нуждаются для этого ни в каких формальностях – достаточно простой их передачи. С именными акциями был крайне затруднен и кредит: в случае просрочки уплаты выданной под них ссуды банк или иной залогодержатель не мог произвести немедленной продажи залога.
Вот почему очень скоро начались в отдельных уставах исключения из общего запрещения акций на предъявителя, и к статье Х тома прибавили примечание о том, что в отдельных случаях допускаются и акции на предъявителя[261]. Жизнь, однако, шла своим чередом: вскоре исключение сделалось общим правилом, а общее правило – исключением. Но тогда естественно возник другой вопрос: как же быть с ограничениями, установленными в законе для производства разных промыслов и для землевладения. Здесь практика пошла с большими колебаниями: в местностях военного управления – в Туркестане, в казачьих областях – местные начальства, поддерживаемые Военным министерством, не желали делать никаких уступок и решительно отказывали в допущении обществ с акциями на предъявителя. Спорить с ними было трудно: уж очень далеко было для дополнительных сношений и переговоров. Здесь поэтому были почти исключительно компании с именными акциями, и, конечно, акционерное дело развивалось чрезвычайно вяло; должно быть, на этих далеких окраинах чувствовали меньшую в этом потребность и, напротив, крайне опасались проникновения евреев и иностранцев. Но в местностях общего управления дело стояло не так. Министерство финансов, заинтересованное экономическим развитием страны, очень решительно отстаивало свободу акционерного дела, а Министерство внутренних дел недостаточно энергично настаивало на противоположной точке зрения. Однако обход законов об ограничениях был все-таки явный, и надо было изобрести способы борьбы с ним. Способы были различные. Для некоторых видов промышленности, связанных с владением землею, сохранено было требование выпуска только именных акций. Впоследствии стали вносить во все уставы ограничение, сводившееся к воспрещению акционерным обществам владеть землями и арендовать их в местностях, где такое владение или аренда воспрещены евреям и иностранцам.
Такое ограничение было, несомненно, очень стеснительным: общества, в уставы которых были включены подобные ограничения, были ограничены в своих действиях только определенными местностями; они не могли производить операций в Западных губерниях, потому что там было запрещено иностранное землевладение; не могли они устраивать промышленных заведений и вне черты городов, так как там воспрещение земельного владения и пользования распространено было на евреев. При таких условиях не могли возникать акционерные компании сахарных заводов, существующих по преимуществу в Западных губерниях и в сельских местностях. Да и другие также. Тогда стали придумывать новые обходы: признано было, что владение известным количеством земли, напр[имер], 200 дес[ятинами], не представляется опасным, хотя бы в числе акционеров были евреи или иностранцы[262]. Но такое ограничение для многих производств, нуждавшихся в большем количестве земли, представляло также явные затруднения.
В конце концов, после очень продолжительной борьбы Министерства финансов, представлявшего интересы торговли и промышленности, с другими министерствами, охранявшими или государственный порядок, как Министерство внутренних дел, или интересы земледелия, как Министерство земледелия и государственных имуществ, пришли к следующему выводу, едва ли оправдываемому законами логики, но находившему основания в требованиях целесообразности: признано было, что опасность еврейского и иностранного землевладения и землепользования заключается вовсе не в правовом титуле, не в том, что тот или иной еврей или иностранец имеет право владения данным участком земли, а в том непосредственном отношении, которое, благодаря такому владению, создается между владельцем и окрестным населением. Акционер, хотя и владеющий, при посредстве своей акции, земельным имением или имеющий на него арендные права, фактически ни в каком отношении к этому имению не находится и влиять на соседних крестьян в опасном для государства смысле не может. Напротив, опасно будет, если фактические распорядители делами такой акционерной компании – члены правления, кандидаты к ним, директора-распорядители и заведующие ее недвижимыми имуществами – будут евреи или иностранцы: они, действительно, управляя непосредственно имениями, могут оказаться очень нежелательным элементом. На основании этих весьма натянутых соображений из уставов стали исключать запрещение владеть и арендовать недвижимости и начали заменять его ограничением состава администрации только русскими подданными христианских исповеданий. Допускались и разные другие комбинации: напр[имер], те общества, которые желали иметь какого-либо еврея в правлении, – лишались права приобретать и арендовать земли вне городов или получали это право только в ограниченном размере; другие, в состав администрации которых входили иностранные подданные, лишались права владения землями в Западной приграничной полосе и т. п. Вскоре, однако, началось подтачиванье и этой комбинации, не принципиальное, а, так сказать, количественное: признано было, что принцип не будет нарушен, если иностранцы и евреи будут допущены в правление только в меньшинстве; полное же их исключение было сохранено только для должностей директоров-распорядителей и управляющих и заведующих недвижимыми имуществами[263].
Все эти изменения в уставах были произведены очень постепенно, путем практики: никакого законодательного акта издано по этому поводу не было. Министерство финансов мало-помалу вносило в уставы одно исключение за другим, и если какое-либо изъятие однажды прошло через Комитет, оно уже являлось прецедентом для последующих. Канцелярия Комитета, приставленная хранить установившийся порядок, была часто в крайне затруднительном положении: по существу против предлагаемых послаблений спорить было очень трудно, так как цель их заключалась в облегчении положения нашей промышленности; с формальной же стороны наша обязанность состояла в том, чтобы обращать внимание Комитета на все подобные отступления и тем как бы тормозить дело. Все это требовало от Канцелярии сугубой осторожности: мы должны были докладывать о всяком изменении в нормальном уставе, чтобы нас не обвинили в умышленных послаблениях и даже не заподозрили во мздоимстве.
Происходило это, конечно, от самой системы проведения уставов: каждый устав, получая отдельное высочайшее утверждение, имел для данной компании характер сепаратного закона. Было бы много предпочтительнее, если бы существовал нормальный акционерный устав, и общества обязаны были бы только регистрироваться для получения права на существование; в Комитет же министров поступали бы только вопросы о более или менее значительных изъятиях из нормального устава[264]. Однако до настоящего времени, даже несмотря на революцию, остался прежний разрешительный порядок[265]. И любопытно, что когда заходил более серьезно вопрос о замене его регистрацией и нормальным уставом, сами представители торговли и промышленности решительно высказывались за сохранение прежнего порядка. В самом деле, при ограничениях, существовавших в законе относительно разных видов промышленности и торговли, национальностей, землевладения и т. п., нормальный устав, по необходимости, заключал бы в себе максимум этих ограничений; исключений же достигнуть было бы тогда очень трудно – для этого потребовалось бы всякий раз специально мотивированное представление в Комитет. Гораздо легче было вносить прямо туда весь устав, где, в числе массы других параграфов, проходили легче и желательные для учредителей изъятия. Но для лиц, которые, как мы, были приставлены к наблюдению за согласием уставов с законами или, по крайней мере, с практикой Комитета, положение создавалось очень трудное, тем более что было ясно, что и оставляемые в уставах ограничения, за которые мы вынуждены были ратовать с усердием, достойным лучшей участи, были, в сущности, совершенно безрезультатны. В самом деле, не ясно ли, что члены правления, русские и православные, но избранные и назначенные акционерами – евреями или иностранцами – были простыми исполнителями приказаний сих последних. Следовательно, ограничения в уставах носили чисто фиктивный характер. Но даже если бы в уставах было сохранено самое строгое ограничение и дозволены были бы только акции на предъявителя, принадлежащие исключительно русским подданным христианских исповеданий, то и в этом случае обходы были бы совершенно возможны путем залога акций: стоило акции, принадлежащие русским, заложить евреям, – и участие еврейского капитала было бы налицо.
Очевидно, все такого рода ограничения, крайне стеснительные и в то же время очень легко обходимые, совершенно излишни и должны были быть отменены[266]: создание отечественной промышленности должно основываться не на формальных ограничениях, а на содействии народному труду, народным сбережениям и нарастанию капиталов в стране, хотя бы на первое время и иностранных или еврейских. Очень выдающийся шведский министр Валленберг весьма справедливо говорил мне: «Не бойтесь иностранного капитала и иностранных предпринимателей; у нас в Швеции раньше вся промышленность была создана на иностранный капитал, а теперь едва ли его осталось и 5 %». Эта истина совершенно у нас не сознавалась, да едва ли ясно сознается и сейчас. Я помню, что еще летом 1916 г. в Совете министров серьезно говорили о разрешении в Приамурском крае только обществ с именными акциями, хотя в ту минуту, казалось бы, в разгар войны и при трудности нашего финансового положения, крайняя необходимость прилива к нам иностранных капиталов не подлежала ни малейшему сомнению, а еврейские ограничения могли только подрывать наш государственный кредит. Но старые заблуждения так упорно держатся, что все мои возражения по этому поводу в Совете (я был тогда государственным контролером) имели только один результат: вопрос был отложен для нового его обсуждения по соображению со справкою о прежней практике.
Как бы то ни было, в те времена, когда я служил в Канцелярии Комитета министров, всякая борьба за каждый параграф уставов, борьба совершенно бесцельная, но в то же время грозившая постоянною возможностью обвинений в недобросовестности, настолько мне надоела, что я решился доложить А.Н. Куломзину о необходимости испросить у Комитета ясных и определенных на будущее время указаний, чего держаться в вопросах о национальных и иных ограничениях. С этою целью была составлена огромная справка о прежней практике, но была ли она доложена Комитету, я не знаю, так как к этому времени я уже ушел оттуда. Во всяком случае, прежняя практика сохранилась, как я упоминал, до самого последнего времени[267].
Другою крупною отраслью ведения моего отделения были всеподданнейшие отчеты губернаторов, генерал-губернаторов и государственного контролера. Отчеты эти представлялись ими Государю и уже с высочайшими пометками поступали в Комитет министров[268]. Здесь они печатались и рассылались членам Комитета, а отметки докладывались в заседании, причем постановлялось, кому из министров сообщить какую высочайшую отметку. Вопросы сообщались для представления Комитету объяснений, эти объяснения заслушивались в Комитете и с его суждениями представлялись на благоусмотрение Государя. Другие высочайшие резолюции, смотря по их характеру, сообщались министрам либо на их распоряжение и исполнение, либо для сведения: отметки нередко заключались только в том, что известное место отчета было просто отчеркнуто Государем. Такие отметки, конечно, сообщались только для сведения.
За своевременностью представления министрами объяснений по высочайшим вопросам Канцелярия Комитета или, вернее, управляющий его делами, имел особое наблюдение. Если объяснения долго не было, он запрашивал министра, почему так долго нет объяснений, и ответ о причинах задержки включался в особую ведомость о неисполненных высочайших повелениях, которая, в свою очередь, периодически представлялась Государю. Иногда на этой уже ведомости Государь полагал подчас довольно резкие резолюции по поводу медленности министров, которые опять сообщались им, были поводом для новых объяснений и т. д. Резолюции и отметки по отчетам сообщались обыкновенно не одному министру, а сразу нескольким, если они касались нескольких министерств. Таким образом, формально Комитет и его управляющий делами имели очень важную функцию наблюдения за исполнением высочайшей воли и даже понуждения к ее исполнению в случае медленности министерств.
По существу, однако, дело оказывалось далеко не столь грозным. Прежде всего, надо сказать два слова о том, чтό такое были губернаторские отчеты[269]. В очень редких случаях эти отчеты являлись интересным изложением самостоятельных взглядов их авторов. Замечательно еще и то, что лучшие отчеты, по интересному их изложению, исходили далеко не всегда от лучших и наиболее опытных губернаторов. Обыкновенно новый губернатор считал нужным написать что-либо новое и интересное, надеясь привлечь к себе внимание Государя и высшего правительства. Но умудренный опытом начальник губернии хорошо знал, что многого от этого способа ждать не приходится, отметки же беспокоят министров и могут вызвать их неудовольствие против самого губернатора. Познав тщету отчетов, многие губернаторы по возможности сохраняли их изложение, а некоторые доходили до того, что ежегодно писали слово в слово одно и то же, изменяя только цифры и даты. Другие, стеснявшиеся доходить до такой простоты, обыкновенно раньше, чем представлять отчет, при своих посещениях Петербурга выясняли здесь в министерствах виды высшего правительства и вопросы, которые желательно для него поднять в отчете, и тогда уже об этом писали.
Сказанное касается собственно губернаторских ежегодных отчетов. Иной характер имели отчеты генерал-губернаторов, представлявшиеся не каждый год, а по мере надобности: после первоначального обозрения края, а иногда после некоторого времени управления им. Будучи гораздо более независимыми от министерств, чем губернаторы, генерал-губернаторы придавали своим отчетам политический характер, излагая в них свои виды по управлению.
Обычно они привозили их сами и лично представляли Государю. Рассмотрение этих отчетов Комитетом представляло всегда особый интерес: обыкновенно при этом присутствовал и сам автор отчета, который давал дополнительные к нему объяснения. Здесь я имел случай видеть кавказских главноначальствующих Шереметева и князя Г.С. Голицына, варшавского генерал-губернатора князя Имеретинского, иркутского А.Д. Горемыкина, приамурского генерала Духовского, начальника Закаспийской области ген[ерала] Куропаткина. Отчет последнего, внесенный в Комитет, и данные им Комитету объяснения произвели сильное впечатление своей определенностью и твердостью мысли. Им тогда очень заинтересовался Н.Х. Бунге, оказавший Куропаткину всякое внимание. Видимая твердость характера, твердость и убедительность мысли – все указывало на А.Н. Куропаткина, как на будущего государственного деятеля более широкого масштаба. Как военный министр он и был на своем месте, но не оправдал надежд как главнокомандующий[270]: у него не хватило характера и решительности. Так обманчива бывает наружность!
Шереметев, кавказский главноначальствующий, был полуразвалившийся старик, и можно было только удивляться, как он управлял таким обширным краем, как Кавказ. Совершенную противоположность ему представлял князь Г.С. Голицын, в просторечии Гри-Гри. Это был своего рода человек-самовар, шумливый и крикливый. Он стал известен благодаря произведенной им сенаторской ревизии, где очевидно также нашумел очень сильно[271]. Назначенный на Кавказ, он начал с требования о предоставлении ему исключительных полномочий по управлению вверенным ему краем. Так как при нем не было никакой канцелярии (на Кавказ он еще не успел съездить), то, по соглашению с А.Н. Куломзиным, составление проекта этих особых полномочий было возложено на нашу Канцелярию. Проект, составленный людьми, не имевшими никакого понятия о нуждах края, конечно, не мог быть принятым кн[язем] Голицыным, который имел о них все-таки некоторое представление по своей военной службе[272]. Такой проект подвергся весьма справедливой критике министров, которые, со своей стороны, старались по возможности ограничить полномочия главноначальствующего, претендовавшего вмешиваться даже в отправление правосудия. В конце концов получился закон, которым, кажется, не были довольны ни министры, ни сам князь Голицын, что не помешало ему, однако, приехав на место, проявлять всевозможные странности, которыми он там очень прославился.
Напротив, варшавский генерал-губернатор князь Имеретинский производил впечатление человека очень приличного, а его отчеты были написаны разумно и интересно. С ними произошел инцидент, о котором я не могу здесь не упомянуть. Порядок хранения всеподданнейших отчетов в Канцелярии заключался только в том, что отчеты нумеровались, т. е. каждый печатный экземпляр имел особый нумер, так что можно было всегда знать, у кого из министров и чинов Канцелярии находится тот или другой нумер. Засим в помещении Канцелярии никакой особой системы запоров не практиковалось: все настолько были уверены друг в друге; кроме того, ради вящей осторожности, министров просили возвращать обратно в Канцелярию экземпляры дел секретных, в том числе и отчетов, по заслушании их в Комитете.
И вот, при такой системе хранения, вдруг обнаружилось, что один из экземпляров отчета князя Имеретинского, с нанесенными на нем высочайшими отметками, был выкраден, переведен на польский язык и напечатан в Лондоне Польской социал-демократической партией[273]. Можно себе представить, какую горячку затеял по этому поводу А.Н. Куломзин, при своем вообще столь беспокойном характере. К чести его следует, однако, сказать, что он ни одной минуты не заподозрил кого-либо из чинов Канцелярии. Все подозрения, даже в среде Комитета, были обращены на самих его членов и на их крайнюю неосторожность в обращении с секретными бумагами. Я ездил тогда по этому поводу к министру внутренних дел И.Л. Горемыкину. С отличавшим его невозмутимым спокойствием он сказал мне, что ничуть этому не удивляется: раз документ напечатан, секрета уже нет, и можно всегда ожидать его появления в печати и в публике. В справедливости этих слов я впоследствии имел случай убедиться много раз. Я скажу даже более: если какой-либо словесный секрет известен более чем двум лицам – секрета также уже нет. Один из трех непременно проболтается четвертому, тот – пятому и т. д.
Как бы то ни было, мною произведено было у нас подробное дознание, не пропал ли какой-либо экземпляр отчета, но ничего обнаружено не было: все отчеты оказались налицо. Приняты были строжайшие меры охраны экземпляров отчетов на будущее время: заведены были особые ящики и ключи от них, за которыми хранились эти экземпляры; установлен был строгий учет последних, сроки возврата разосланных и т. д. И каково же было всеобщее удивление, когда, несмотря на все эти меры предосторожности, со следующим отчетом князя Имеретинского повторилось буквально то же самое, что было с первым. На этот раз, однако, виновный был найден, но не Канцелярией, а Департаментом полиции, который его выследил. Оказался это один чиновник для письма нашей Канцелярии, человек чрезвычайно ловкий и смышленый. Это был золотые руки того отделения, где он служил, в таком образцовом порядке держал он там все делопроизводство. Но, как говорит Грибоедов, «умный человек не может быть не плутом»[274]. Соблазнили его на пустяках: на каком-то концерте встретился он с представителем одной еврейской комиссионной конторы, который предложил ему за скромное сравнительно вознаграждение – по 50 рублей в месяц – доставлять конторе сведения об утвержденных Комитетом министров акционерных уставах немедленно по их рассмотрении Комитетом. Это сравнительно невинное нарушение канцелярской тайны продолжалось, по-видимому, довольно долго; благодаря этому упомянутый чиновник оказался в сетях у конторы, которая однажды предложила ему более серьезное нарушение. Отказаться было уже невозможно: вознаграждение предложено было, вероятно, хорошее, а достать отчет было нетрудно. На следующий год, однако, когда контора обратилась с подобным же предложением относительно второго отчета князя Имеретинского, дело оказалось гораздо более трудным: меры охраны были приняты очень строгие и добыть экземпляр более чем на два дня было почти невозможно. Однако отчет был все-таки выкраден, послан со скорым поездом в Варшаву, там переведен в одну ночь на польский язык и тем же порядком возвращен на место. Если бы Департамент полиции не наблюдал уже давно за сношениями этого чиновника с комиссионною конторою, то и на этот раз ничего не было бы открыто. А.Н. Куломзин, желая снять подозрения с прочих чинов Канцелярии, настаивал на том, чтобы я представил подробные объяснения Департаменту полиции о порядке хранения отчетов. Того же желал и департамент, надеясь этим способом открыть причастность других лиц. Благодаря этому я был дважды подвергнут допросу: раз директором департамента[275], очень суммарно, а другой в губернском жандармском управлении[276] на Тверской два дня подряд, при участии товарища прокурора судебной палаты[277]. Этот допрос был очень продолжителен, и затем мне предложили написать все мое показание. Конечно, никаких новых виновников не оказалось вовсе.
Отчет государственного контролера поступал в Комитет министров раз в год уже в печатных экземплярах и с напечатанными высочайшими отметками. В отличие от отчета Государственного контроля по исполнению росписи, очень обширного и чисто цифрового, отчет государственного контролера содержал в себе изложение его ревизионных замечаний по всем ведомствам. Здесь бывало довольно откровенное и подчас резкое изображение непорядков, обнаруженных Контролем в хозяйстве разных министерств, преимущественно Военного, Морского и путей сообщения. Общие воззрения государственного контролера на экономическое и финансовое положение страны если и излагались, то сравнительно коротко и очень бесцветно.
Отчет не заслушивался сразу по поступлении в Комитет, а ожидались объяснения ведомств. Ждать их приходилось довольно долго, иногда несколько месяцев. По получении всех объяснений они излагались параллельно по каждой высочайшей отметке и в больших печатных тетрадях рассылались членам Комитета. Слушание отчета было иногда поводом довольно резких объяснений между министрами и государственным контролером. Так, напр[имер], между Т.И. Филипповым и морским министром Н.М. Чихачевым возник целый конфликт: приходилось их мирить и объясняться с каждым в отдельности. Спор этот (по поводу непорядков в хозяйстве заводов морского ведомства) получил, как это обычно бывало, упокоение в журнале Комитета. Но иногда, очень, впрочем, нечасто, бывало и иначе, напр[имер], в деле министра путей сообщения А.К. Кривошеина.
Я изложил уже формальную сторону отношения к высочайшим отметкам в самом Комитете. По существу же оно ярче всего может быть охарактеризовано словами К.П. Победоносцева: отметки распределялись по ящикам разных ведомств и там, по мере возможности, предавались забвению. Объяснения же, представлявшиеся Комитету, носили преимущественно характер простых отписок. А периодические ведомости о неисполненных высочайших повелениях похожи были на неотвязчивых мух, нередко очень больно кусающих, когда на ведомости оказывалось резкое напоминание самого Государя. В этом, главным образом, смысле министерства обращали на отметки несколько более серьезное внимание. Многое в таком отношении объясняется также чрезмерным обилием отметок. При императоре Александре III высочайшие резолюции на отчетах составляли, особенно в последние годы его царствования, сравнительную редкость. Император Николай II стал гораздо щедрее: он, по-видимому, считал себя обязанным читать внимательно все отчеты и писать резолюции по целому ряду вопросов. Ежегодно издавались своды высочайших отметок с объяснениями министерств и суждениями Комитета, причем отметки располагались в этих сводах в известной системе, по их содержанию. Своду каждый год предшествовало сжатое предисловие, где делалась попытка общих выводов, более или менее удачная. В конце концов, все ограничивалось очень кропотливым трудом и для составителей сводов, и для типографии.
Крупную область ведения Комитета министров составляло затем назначение усиленных пенсий и пособий. Здесь, как и в деле утверждения акционерных уставов, практика Комитета заменяла собою законодательство. Наши законы о пенсиях устарели до такой степени, и пенсии на точном основании этих законов были столь ничтожны, что поневоле приходилось назначать их почти всегда в усиленном размере. Мало-помалу выработались правила, которых, при испрошении таких пенсий, стали придерживаться все ведомства и которых сам Комитет старался, по возможности, не нарушать. Выработка же нового пенсионного устава требовала очень много времени, и его не видели даже в перспективе. Закончен он был, кажется, только накануне революции 1917 г.[278] Таким образом, Комитет, в деле послеслужебного обеспечения чиновников, был хранителем установленных обычаем размеров пенсий. Но и тут была все-таки возможность испрошения особо усиленных пенсий, в порядке особой милости, через Канцелярию прошений, на высочайшее имя приносимых[279]. К этому пути обращались в таких, главным образом, случаях, особенно при маленьких пенсиях, когда и усиленный их размер оказывался недостаточным для удовлетворения насущных потребностей существования. С другой стороны, сам Комитет имел возможность иногда помочь делу, отступая от своей практики, когда последняя приводила к несправедливости. Дела пенсионные, близко интересовавшие весь чиновничий мир, создавали Канцелярии Комитета министров очень влиятельное положение.
На других категориях комитетских дел я не считаю возможным останавливаться. Довольно многие, в области экономических мероприятий, не поддаются обобщению; их пришлось бы излагать каждое отдельно и далеко выйти из рамок этой статьи. Другие, напр[имер], о переменах подданства, о воспрещении книг и т. п., имели меньшее значение.
Исключительною, наконец, обязанностью Комитета было составление проектов всемилостивейших манифестов. Таких манифестов за мое время последовало, насколько помню, два; по случаю бракосочетания Государя[280] и по случаю коронации[281]. В сущности, большой созидательной работы тут не было, но кропотливости было много. Все ведомства присылали в Комитет проекты тех статей, которые они желали включить в манифест. Многое заимствовалось из старых манифестов, которых было очень большое число. Объединение всего этого материала и приведение в стройный вид – и было делом Канцелярии. Затем проект рассылался на замечания ведомств и заслушивался в Комитете. В самих ведомствах эта работа, особенно относительно новых статей, вызывала гораздо большее напряжение. Издание манифеста 1896 г.[282] было связано для части Канцелярии, в частности и для меня, с интересною поездкою в Москву на коронацию[283]. В Москве состоялось особое заседание Комитета министров в Большом зале Судебных установлений в Кремле, ради чего, собственно, и были командированы чины Канцелярии. А.Н. Куломзин нанял там для себя дом-особняк и любезно пригласил всех нас поместиться у него. Для нас это, конечно, было очень кстати: помещение нам ничего не стоило, а квартиры в Москве были в это время необыкновенно дороги: «Мы 13 лет ждали этого дня», – говорили москвичи в свое оправдание. Служебной работы в Москве, в сущности, не было никакой. Время проходило у нас очень весело, особенно для других моих сотоварищей, у которых в Москве было много знакомых. Но и мне скучно не было. Из больших торжеств, связанных с коронацией, мы были только на большом балу в Дворянском собрании[284]. Громадная толпа, блестящие мундиры, туалеты дам – все это видеть было довольно интересно. Государя и императрицу я видел только очень коротко, при прохождении их по залам. Императрица Александра Феодоровна, которую я видел тут впервые (так как на свадьбе, за толпою, не мог рассмотреть), блистала молодостью и красотою: она была много лучше своих портретов. Государь имел вид веселый и оживленный.
Наконец, 15 мая состоялось в Кремле в Успенском соборе самое торжество коронования[285]. Мы, по нашему рангу, доступа в собор не имели и получили места на скамейках, устроенных вдоль мостков, где должно было проходить царское шествие. Погода в этот день была дивная, поистине царская: солнце блистало на голубом небе. Вдоль линии шествия были расположены хоры военной музыки, которые, при приближении к ним Государя, должны были играть гимн: «Боже, Царя храни!» Ждать нам пришлось долго. Наконец, звуки музыки первого оркестра дали знать, что шествие началось. По мере его приближения начинали играть следующие хоры, но не с того места, до которого дошли предыдущие, а каждый сначала, так что когда первый хор уже оканчивал гимн, другие были на его середине, а третьи только начинали. Какофония получалась чрезвычайная.
Наконец, появилось шествие: после чинов Двора[286], несших государственные регалии[287], следовал сам Государь император в огромной бриллиантовой короне и горностаевой мантии, под балдахином, поддерживаемым высшими чинами и генерал-адъютантами. Вид Государя глубоко поразил меня: мне казался он подавленным под тяжестью короны и мантии, казалось, это жертва, которую ведут на казнь, а не монарх, торжественно вступающий на прародительский Престол. «Боже! – подумалось мне тогда, – неужели это прообраз будущей его судьбы!» Ярко и неизгладимо врезалась эта картина в мою мысль – и, увы! она была пророческою.
Шествие прошло мимо нас с необыкновенною быстротою, казалось, чего-то боялись, что шли так скоро, хотя в Кремле никого постороннего не было, и весь так называемый «народ» был, говорят, бутафорский.
Впечатление какого-то мрачного предзнаменования, оставленное во мне коронационным шествием, еще более усилилось в последующие дни, когда стало известным ужасное Ходынское происшествие. Количество погибших с каждым днем обнаруживалось все большее и большее[288]. Аналогия с катастрофою на свадьбе короля французского Людовика XVI напрашивалась сама собою[289]. Назначено было, конечно, следствие о виновниках Ходынского несчастья, продолжавшееся очень долго; кое-кто был уволен, но едва ли все виновные понесли наказание[290].
На этом я заканчиваю характеристику некоторых категорий дел, рассматривавшихся Комитетом министров. Эта характеристика может произвести, пожалуй, неблагоприятное впечатление мало-государственной работы. Но это впечатление было бы неправильным. Разбор каждой категории дел, не говоря о том, что я лично не мог здесь коснуться важнейшей из них, дел железнодорожных, или подробно излагать прохождение более серьезных дел в отдельности, как изучение в лупу или через микроскоп какой-нибудь части большого организма, всегда обнаружит разнообразные дефекты. Но оно не дает общей перспективы, общего понятия о характере деятельности учреждения. В кругу совещательных при монархе органов такое установление, как Комитет министров, было в строе того времени совершенно неизбежно. Есть много дел верховного управления, где нужен совокупный доклад министров, ведающих различные области администрации. Понятно, что благодаря этому компетенция Комитета сделалась очень обширною, и сюда попали, одинаково, дела очень большого значения, напр[имер], железнодорожные, и дела совершенно трафаретные. Во многих случаях Комитет, вследствие громоздкости законодательного аппарата, принимал на себя квази-законодательные функции, создавая определенный порядок и нормы практически, путем прецедентов; напр[имер], так создан был нормальный устав акционерных обществ, определенные нормы пенсий. Эта сторона деятельности Комитета вызывала всегда наибольшие нарекания, как узурпация прав законодательных учреждений. Такие нарекания бывали небезосновательны в отдельных случаях умышленного обхода законодательного порядка. Но, с другой стороны, нельзя не заметить, что у нас этот порядок требовался тогда, да и после революции 1905 г., для многих дел чисто административного характера и только замедлял их разрешение. Такие дела, понятно, не могли быть также предметом единоличного доклада, для этого должно было существовать высокое коллегиальное совещательное учреждение. Задачи его заключались, поэтому, вовсе не в объединении министерской политики, а потому и состав этого учреждения был гораздо обширнее – Комитетом министров он был только по названию, сюда входили председатель Государственного совета и председатели департаментов Совета, особо назначенные члены Комитета и др. Мало того, председателем Комитета был всегда не министр. Сверх того, для дел особо важных, железнодорожных, создано было особое учреждение – соединенное присутствие Комитета с Департаментом государственной экономии. Точно так же человеческие недостатки членов Комитета, которые так легко всегда заметить постороннему наблюдателю, не затемняли общего их отношения к делу. В большинстве люди, прошедшие продолжительную служебную карьеру, люди усидчивого труда и государственного опыта, они относились с должною серьезностью к исполнению своих обязанностей. Разумеется, в Комитете были люди и мало-государственные, но достаточно назвать Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте, гр[афа] Д.М. Сольского, Э.В. Фриша, К.П. Победоносцева и вспомнить их речи, всегда проникнутые государственным смыслом, широкими взглядами, громадным опытом, чтобы почувствовать огромную разницу против той безответственной болтовни, которую мы сплошь и рядом слышали с тех пор[291].
Все это я говорю вовсе не для прославления старого режима: были в нем огромные дефекты, от которых он, к сожалению, и пал. Но нельзя все-таки замалчивать правду.
Глава 3 ВОСПОМИНАНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ И ЕГО КАНЦЕЛЯРИИ В НАЧАЛЕ 1900-Х ГГ
Государственная канцелярия, подобно Канцелярии Комитета министров, но в значительно большем масштабе, распадалась на чинов черной и белой кости. К первой относились экспедиция в каждом отделении, во главе которой стоял экспедитор с помощниками; на них лежала вся формальная часть – рассылка бумаг, переписка, считка и т. п. Так же, как и в Комитете, должность экспедитора была пределом вожделений чинов черной кости, экспедитор достигал высших чинов и звезд и относился покровительственно к молодости белой кости своего отделения. Экспедиция вообще считала начальством только своего статс-секретаря[292]. Среди экспедиторов были знаменитости, вроде Коновалова, в экспедициях были даже династии, от отца к сыну служившие в Канцелярии. Чины белой кости были, конечно, все с высшим образованием и из хорошего круга. Статс-секретари, ведавшие отделениями, по департаментам Совета, были в большинстве люди на возрасте, так как должность их в служебной иерархии была довольно высокая – она числилась в III классе наравне с товарищами министров, но, конечно, далеко не имела того значения: в сущности, статс-секретари по своим функциям были очень близки к начальникам отделений в канцелярии Комитета министров; только масштаб был больше, да и характер дел был иной. Обязанности статс-секретаря заключались в заведовании делами того департамента, при котором он состоял, с полною за них ответственностью. Все прочие чины отделения были простыми исполнителями, работавшими под его руководством. Но, в отличие от Комитета министров, журналы в первой руке писал не сам статс-секретарь, а по более сложным делам – помощники статс-секретаря, а по прочим – более молодые делопроизводители. Так как, однако, отвечал за все статс-секретарь лично, то ему приходилось тщательно рассматривать, а иногда и коренным образом переделывать работу своих сотрудников. Самые журналы департаментов Государственного совета носили существенно иной характер, чем в Комитете министров. Там рассматривались дела высшего управления, и журналы, не являясь в большинстве случаев источником толкования законов и редко получая распространение, имели, если можно так выразиться, характер драматический: речь каждого говорившего по мало-мальски серьезному делу приводилась от его лица. К этому побуждало и то обстоятельство, что журналы Комитета поступали непосредственно к Государю, и каждому говорившему было желательно обратить на свою речь высочайшее внимание. Журналы Государственного совета, особенно журналы департаментов, имели иное свойство: они, прежде всего, на личное усмотрение Государя непосредственно не шли; с другой стороны, эти журналы должны были служить главным источником толкования законов администрацией, судами, Сенатом и частными лицами. Тут, следовательно, важно было не то, кто высказал то или иное мнение, а необходимо было с возможною определенностью выразить мотивы того или иного постановления закона. При таких условиях драматическая форма была бы совершенно неуместной. Поэтому журналы излагались безлично, и только если было разногласие, то приводились мнения большинства и меньшинства, с указанием лишь на полях имен тех особ, которые к ним принадлежали. По общему правилу, принятому также и в Комитете министров, мнение, которое разделял председатель (большинства или меньшинства – безразлично), помещалось всегда на втором месте, начинаясь сакраментальной фразой: «А председатель и согласные с ним столько-то особ полагали». Побудительная к этому причина заключалась, надо полагать, в том, что последнее прочитанное мнение производит наибольшее впечатление. Первая часть журнала, где помещалось краткое изложение министерского представления, называлась почему-то «колбасой»: ее писали, даже заранее, более молодые чины Канцелярии. Затем шли общие суждения и, наконец, замечания по отдельным статьям законопроекта; в конце журнала было заключение, т. е. переделанный департаментом законопроект. Так как дела Государственного совета были часто очень сложные, то никаких сроков для составления журналов, как это было в Комитете министров, не назначалось вовсе. Крупные журналы, иногда в 200 и более печатных страниц, писались и отделывались месяцами. Но в общем с мелкими законопроектами работы было так много, что ощущалась такая же страда, как в Комитете. Каждый день приходилось заниматься до поздней ночи, для меня – тем более, что приходилось еще учиться стилю Государственной канцелярии, которая очень им гордилась, противопоставляя его поверхностному будто бы изложению журналов Комитета министров[293]. Дело облегчалось для статс-секретарей тем, что помощники их были, в общем, люди очень солидные и опытные.
Журналы департаментов, по окончательном их изготовлении и переделке статс-секретарем, шли на просмотр товарища государственного секретаря и самого государственного секретаря, которые вносили в них очень мало своего, особенно последний. Вообще, должность государственного секретаря была в деловом отношении синекурою: на нем лежала больше политика, разговоры с членами Совета, их умиротворение и соглашение, если они очень разошлись, но дела у него было очень мало. Прибавьте к этому четырехмесячный вакант, прекрасную казенную квартиру на Литейном проспекте и почти министерское содержание: можно было жить и не умирать. Но честолюбцы рвались на министерские посты.
После просмотра журналов государственным секретарем и председателем департамента их рассылали членам Совета, бывшим в данном заседании. От некоторых получались пространные и многочисленные замечания, которые приходилось примирять: это была немалая обязанность статс-секретаря. И, наконец, по подписании членами, журнал поступал в Общее собрание Совета[294]. Заседания Общего собрания были очень торжественные, всегда в малых мундирах[295]. Речи были здесь редки, почти исключительно по делам, вызвавшим разногласие в департаментах, после чего подлежащим статс-секретарем изготовлялся журнал, как бы он ни был сложен, непременно к следующему дню. Конечно, многое при этом извлекалось из департаментского журнала, действовали ножницы и клей; но приходилось многое и прибавлять, так что писание таких журналов в одну ночь требовало немало усилий.
К Государю поступали не журналы, а извлечения из них, так называемые «мемории», которые на основании журналов изготовлялись в отделении, ведавшем делами Общего собрания. Эта работа носила исключительно формальный характер.
Кроме составления журналов на обязанности статс-секретарей лежало подготовление дел к докладу и доклад их председателям департаментов. В заседаниях дела докладывались также статс-секретарями, но этот доклад, как и в Комитете министров, сводился к прочтению заголовков дел. Разного рода справки рассылались до заседания. Доклад дел по Общему собранию председателю Государственного совета лежал на государственном секретаре.
Таков был, в общих чертах, род работы и ход дел в Государственной канцелярии. Что касается самых заседаний, то они редко происходили по одному департаменту; по очень значительному числу дел образовывались соединенные заседания двух, трех и даже всех четырех департаментов, причем председательствовал председатель того департамента, которому принадлежало по существу рассматриваемое дело, и докладывал статс-секретарь этого департамента. Департамент промышленности, наук и торговли[296], куда я был назначен статс-секретарем, незадолго перед тем был выделен из Департамента государственной экономии, который раньше, кроме чисто финансовых дел, ведал и некоторые законодательные вопросы. Странное название – Департамент промышленности, наук и торговли – причем науки оказались неожиданно между промышленностью и торговлею, было результатом какой-то случайности. Председателем его был бывший управляющий Морским министерством генерал-адъютант адмирал Николай Матвеевич Чихачев. Я застал его там уже на закате его деятельности, хотя он еще прожил немало лет: старик был, видимо, крепкий. В прежней деятельности своей, как я слышал, особенно еще до управления Министерством, стоя во главе Русского общества пароходства и торговли[297], Н.М. Чихачев отличался большой практической сметкой и энергией. Она, во всяком случае, помогла ему составить очень крупное состояние. Но всего этого в Государственном совете заметно уже не было. При первом же моем представлении ему он мне откровенно заявил, что в гражданских делах мало осведомлен. Эта мысль, видимо, его подавляла, и, опасаясь попасть впросак, он сам избегал высказываться в департаменте. В силу этого мои еженедельные у него доклады носили довольно академический характер: он очень внимательно выслушивал меня, прочитывал все справки, представлявшиеся ему Канцелярией, почти всегда соглашался с их направлением, но затем крайне редко поддерживал их в заседании. Вообще, руководить прениями Н.М. Чихачев был не в состоянии или не желал: они шли по воле Божьей, все говорили, кому что вздумается, и потому много лишнего; конечно, в результате что-то всегда выходило, но все же было желательно видеть со стороны председателя несколько бóльшую инициативу, тем более что и по уму, и по практическому, жизненному опыту Н.М. Чихачев мог проявить гораздо больше самостоятельности. В общем, это был очень симпатичный, добрый старик, относившийся к Канцелярии в высшей степени любезно и предупредительно, и я очень сожалел, когда мне пришлось через несколько месяцев от него уйти. Членов в нашем департаменте было восемь. Разделить их можно было на две категории: одни – большинство – были люди старой закваски, другие – относительная молодежь – составляли оппозицию. К первой группе относились все старые генералы. На первое место я поставлю бывшего иркутского генерал-губернатора А.Д. Горемыкина, редко порядочного и достойного старика, высказывавшегося преимущественно по делам, имевшим какое-либо отношение к Восточной Сибири. Другой генерал – Махотин – быв[ший] начальник военно-учебных заведений – никогда не произносил ни одного слова. Когда я, после назначения статс-секретарем, приехал к нему, он откровенно мне сказал, что с большим интересом прислушивается к мнению дельных членов Совета и присоединяется к тем, которые, как ему кажется, правильнее, но самостоятельно высказываться воздерживается. К той же категории следует отнести почтенного инженер-генерала Н.П. Петрова, бывшего товарища министра путей сообщения. Но это был генерал особого сорта: он служил больше по гражданской части, участвовал и председательствовал в целом множестве разного рода обществ, совещаний, технических съездов и т. п., где, разумеется, ему приходилось говорить много и долго. Поэтому он говорил и в Совете, впрочем, не особенно много и не особенно красноречиво, но всегда очень дельно и основательно, преимущественно по вопросам высшего технического образования, по делам таможенным, железнодорожным и техническим. Н.П. Петров пользовался всегда и везде репутацией высокой порядочности и выдающейся компетентности в перечисленных областях и впоследствии, уже в преобразованном Государственном совете, играл очень выдающуюся роль – к его мнениям всегда прислушивались. Затем он был председателем 2-го департамента Государственного совета[298], ведавшего железнодорожные дела, и, без сомнения, был на своем месте, сохранив ясность мысли до глубокой старости. К категории старых членов департамента я должен отнести не одних военных, но также и статских: В.В. Калачова, М.Н. Галкина-Врасского и живописного князя М.С. Волконского, сына известного декабриста[299]; последний, впрочем, редко появлялся в Государственном совете, не более как на два-три последних заседания в сессию, и не играл поэтому в департаменте никакой роли.
В общем, в этой группе членов имела применение пословица, гласящая, что слово – это серебро, а молчание – золото. Но это вовсе не потому, что им нечего было сказать; напротив, это была только осторожность в выражении своих мнений, а мнения эти, несомненно, были и, пожалуй, более веские и продуманные, нежели у многих членов второй – молодой группы. К ней я должен отнести двух князей – Александра Дмитриевича Оболенского, бывшего помощника варшавского генерал-губернатора, и Л.Д. Вяземского, бывшего начальника Главного управления уделов[300]. Молодежь эта была, конечно, относительная – по сравнению с другими, более старыми членами Совета, и по своеобразному образу мыслей. Обычно охранительное начало бывает представлено людьми более старыми, прогрессивное – людьми более молодыми. Но в Государственном совете того времени было почти обратное положение.
Дело в том, что государственная власть в самодержавном строе, являясь, в принципе, представительницею общенародных интересов, стоящих выше интересов отдельных общественных групп, нередко под влиянием тех или иных требований жизни возбуждает по своей инициативе вопросы об изменениях в прежнем законодательстве, которые иногда носят характер коренной ломки этого законодательства, пробивают брешь в прежних устоях и кажутся даже революционными. В государствах с парламентарным строем, где правительство является само представителем известной партии, проекты реформ редко могут носить такой характер: они исходят из интересов определенной общественной группы и постольку приближаются к идеалам общенациональным, поскольку партия, поддерживающая правительство, представляет действительно подавляющее большинство народа. Но на деле этого, даже при четыреххвостке[301], почти никогда не бывает. Поэтому, в сущности, парламентарное правительство бывает защитником интересов того общественного меньшинства, которое в данное время сумело провести в парламент большинство своих представителей. Самодержавная монархическая власть и зависимое от нее правительство стоят, повторяю – в принципе, выше всякого большинства и меньшинства, а потому исходящие от них мероприятия должны бы быть ближе к общенародным интересам. Правильность этого принципиального вывода на практике, разумеется, весьма часто не оправдывается: самодержавная власть вручается людям, которые часто находятся под влиянием окружающей их среды, т. е. представителей известных общественных групп, влияющих этим путем на монарха в интересах своих групп. От самостоятельности, от характера последнего зависит поэтому сохранить свою независимость от этих влияний. Тем не менее, во многих случаях именно самодержавной власти удавалось становиться на высоту широкого сознания общенародных, а не классовых интересов, что в парламентарном строе достигается лишь путем компромиссов между общественными группами. Наша русская история представляет немало примеров независимых действий власти, предпринятых в сознании достижения общенационального блага. В силу этого правительство иногда входило в Государственный совет с проектами, создававшими новые понятия в законодательстве, напр[имер], по вопросам рабочему, налоговому и пр. Такие проекты встречали в Совете поддержку со стороны именно членов первой группы и противодействие второй группы. Как это объяснить? Я думаю, что это зависело от привычки старых членов Совета поддерживать правительство в лице вносившего проект министра. Они считали, что проекты не мелкие, а более принципиального характера в общем их направлении еще до внесения получили одобрение верховной власти, а потому Государственному совету принадлежит лишь рассмотрение их частностей, а не отклонение в целом; что Совет, будучи совещательным при монархе учреждением по делам законодательным, должен помогать осуществлению монаршей воли, а не ставить ей препоны. Взгляд, может быть, несколько узкий, но совершенно принципиальный. Вместе с тем, из долгой практики эти члены Совета успели убедиться, что принципиальная оппозиция намерениям правительства, пользующегося доверием верховной власти, не приводит к успешным результатам. Так называемые молодые члены Совета были в этом отношении дальновиднее старых. Они, во-первых, старались вперед выяснить, в какой мере министр, внесший неугодное им представление, продолжает пользоваться доверием свыше, сидит твердо, и сообразно с этим относились к его проекту более или менее оппозиционно; при этом некоторые свою оппозицию вели еще в расчете при удаче заменить шатающегося министра. Таковы личные, так сказать, причины, побуждавшие их к возражениям. Но были и другие, более глубокие. Эти члены Государственного совета являлись в Совете не только советниками верховной власти, но и представителями определенных интересов. Не только изучение дела само по себе приводило их к тому или иному убеждению: на такое изучение посвящали они обычно сравнительно мало времени, хотя и говорили по делам очень часто и очень много. Они предварительно вели еще переговоры с разными заинтересованными лицами и кругами, которых, в сущности, и представляли в Совете. Так, один был представителем крупных стекольных заводов и страховых обществ и этого не скрывал[302]; другой – постоянно и при всяком подходящем случае заявлял, что он принадлежит к семье, владеющей майоратом, где есть крупные заводы, и что в силу этого у него такие-то убеждения и взгляды[303]. Это были своего рода избирательные наказы, добровольно принятые к руководству членами Совета указанной категории. Таким именно порядком создалась в Совете правая оппозиционная партия, хотя левой, в сущности, не было, если не называть так само правительство и прочих членов Совета. Это в значительной степени искажало значение Совета. Государственный совет в строе государственных учреждений того времени был органом обсуждения законов, состоящим из людей, избранных монархом для выражения их собственных убеждений, а не для представления местных и классовых интересов. Такое представительство было тем более неуместным, что оно являлось совершенно односторонним. Высказываясь в пользу мер, проектированных правительством в интересах рабочего класса или сельского населения, члены Совета говорили как советники монарха, по своему личному убеждению в необходимости для государственной власти принять такие меры. Оппозиция же прямо и открыто защищала интересы кто дворянства, кто заводчиков, кто крупных компаний. Получались мнения совершенно различного удельного веса, несоизмеримые: через членов оппозиции восходили к престолу неустановленным путем ходатайства и пожелания некоторых классов населения, тогда как пожелания других не могли воспользоваться этим путем, и их интересы обсуждались исключительно с общегосударственной точки зрения. В прежнем Учреждении Государственного совета была статья 39, согласно которой члены Совета не имели права ни принимать, ни предлагать Совету прошений и дополнительных документов или актов по делам, в Совет поступавшим[304]. Между тем, правило это, в существе своем, постоянно нарушалось членами Совета. Я помню, как один из них, положим, не в заседании департамента, но по поводу проектов его журналов, мотивируя свои замечания, указывал на полученные им заявления и прошения страховых обществ и т. п. Может быть, конечно, возражение, что простые советники монарха, оторванные от жизни, – нечто слишком бледное, слишком зависимое уже не от монарха, а от раздающих милости министров; что ради этого-то Совет и потерял всякую самостоятельность; что поневоле люди, не желающие плясать по министерской дудке, начинают искать опоры в общественном мнении. Все это, конечно, до известной степени верно. Но беда в том, что благодаря этому в делах Совета получало влияние не общественное мнение вообще, а интересы отдельных и, главным образом, имущих классов, что не могло не вызывать протестов массы, к которой у нас принадлежит более 90 % населения.
Как я уже говорил, один наш департамент заседал сравнительно редко и по делам меньшего значения. Почти всегда бывали заседания соединенных департаментов. Поэтому приходилось иметь дело и с членами других департаментов. Из них особенно видным был Иван Яковлевич Голубев. Это был не гениальный государственный деятель, не красноречивый оратор, но добросовестнейший работник и основательнейший знаток нашего законодательства, главным образом гражданского права и процесса. Такие люди, как И.Я. Голубев, были в высшей степени необходимы в Государственном совете как нелицеприятные советники верховной власти. На них много держалось значение этого учреждения. Тщательнейшее изучение каждого дела, как бы оно ни было незначительно, в ряду других, он считал своей священной обязанностью. И.Я. Голубев работал положительно без устали, тогда как многие едва читали дела. Если он считал себя недостаточно подготовленным по какому-либо делу, он предпочитал не прибыть на заседание, чем явиться туда, не изучив дела. Все замечания его были необыкновенно ясны, убедительны, основаны всегда на серьезных соображениях. Прибавлю к этому, что, не принадлежа ни к каким политическим партиям, И.Я. был всегда беспристрастен, неизменно руководясь только общегосударственными соображениями и требованиями законности. Для Государственной канцелярии И.Я. Голубев был неоценимым руководителем: он всегда самым внимательным образом прочитывал проекты журналов и делал много дельных замечаний. За просмотренный И.Я. Голубевым журнал можно было быть спокойным. Государственный секретарь В.К. Плеве называл его в шутку почетным помощником статс-секретаря. Когда произошел переворот 1905 г., и Государственный совет был преобразован[305], И.Я. Голубев остался в нем со всеми присущими ему достоинствами. Он был назначен вице-председателем Государственного совета. В новом строе он продолжал работать в комиссиях Совета с тем же вниманием, как и прежде. Но должность вице-председателя отводила ему сравнительно пассивную роль. Тем не менее, и в этом звании он умел высоко держать знамя Государственного совета. С какой строгой неуклонностью, и невзирая ни на какое лицо, не допускал он совмещения звания присутствующего члена Государственного совета[306] с какими-либо должностями по управлению, зависимыми от правительства! Так было с И.П. Шиповым по назначении его управляющим Государственным банком. Настояниям И.Я. Голубева надо приписать невключение тогда И.П. Шипова в число присутствующих членов Совета[307]. То же самое откровенно высказал он и Н.П. Гарину, когда последнего назначили председателем Городского присутствия в Петрограде[308]; равным образом, и мне он отсоветовал принять звание председателя Комитета земельных банков[309], когда оно было мне предложено, хотя это звание не было сопряжено ни с каким вознаграждением. «Все же, – говорил он мне, – вы вынуждены будете ходатайствовать перед министром финансов по делам банков, а это несовместимо со званием члена Государственного совета». Не боялся он и немилости, когда был убежден в своей правоте. В последние дни 1916 г. в Совете развились прения по поводу опасного политического положения в связи с деятельностью тогдашнего правительства. Председательствовавший И.Я. Голубев дал этим прениям развиваться с полной свободою[310]. Это было поставлено ему в вину, и 1 января 1917 г. он не только не был вновь назначен вице-председателем Государственного совета, но был даже исключен из числа присутствующих членов Совета. Считая это для себя глубоко обидным, И.Я. Голубев просил о совершенном увольнении из Государственного совета, с оставлением сенатором. Если не ошибаюсь, он потом ушел и из Сената в отставку[311]. Этот его поступок еще более, если возможно, увеличил общее к нему уважение, которое уже после революции 1917 г.[312] выразилось со стороны сотоварищей поднесением ему самого теплого адреса. Новые порядки жизни, особенно после Октябрьского переворота, глубоко подействовали на силы И.Я. С ним сделалась тяжелая водянка. Не знаю, в какой мере повлияли на него материальные лишения. Имея в процентных бумагах порядочные средства, он их лишился с национализацией банков и крайне нуждался в средствах. Немало потрясли его и неоднократные обыски: у него хотели отнять немного белой муки и несколько бутылок вина, и только заступничество домового комитета отстояло эту необходимую для поддержания его здоровья провизию. Некоторые лица – сосед его по дому журналист А.Э. Гессен и банковский деятель В.Л. Поляков – попробовали было предложить ему ссуду в 1000 рублей, ссылаясь на то, что у него в банке лежит достаточное обеспечение. С этим предложением я, по их просьбе, обратился к И.Я. Голубеву, который, уже совсем больной, лежал на кушетке с протянутой ногой; с тем же обратился к нему затем А.Э. Гессен. Но ничто не могло убедить старика: он отказался от денег, говоря, что никогда долгов не делал и не может брать взаймы, не зная, чем отдать. Болезнь его прогрессировала, и через месяц его не стало[313].
Большим авторитетом в Государственном совете пользовался также Э.В. Фриш, иногда, по более важным делам, приезжавший в заседание соединенных департаментов. Вместе с П.А. Харитоновым он был автором нового Уголовного уложения[314]. Знания и опытность его были очень велики. Прежде он был товарищем министра юстиции, где в противоположность министру, спокойному графу К.И. Палену, внес элемент резкости, с которою перешел и в Государственный совет: Канцелярия его положительно боялась. В преобразованном Совете Э.В. Фриш заседал недолго, причем после графа Д.М. Сольского был короткое время председателем Совета и затем вскоре скончался[315].
К категории «старых» членов Совета следует причислить еще Андрея Александровича Сабурова. Короткое время он был министром народного просвещения[316], но вынужден был уйти, получив в университете личное оскорбление от какого-то студента[317]. В знак немилости – тогда так считали – А.А. Сабуров был назначен сенатором, а затем уже членом Государственного совета[318]. Здесь он сразу приобрел общее уважение самостоятельностью своих суждений: не справляясь ни с какими веяниями, он открыто высказывал свои убеждения, чуждые косности и шовинизма. Говорил он далеко не красноречиво, даже скучно, но содержательность мысли заменяла форму и невольно приковывала внимание. Я помню в Общем собрании Государственного совета его речь по делу о введении земского управления в Западных губерниях. Предполагалось – таково было мнение большинства в департаментах – учредить в этих губерниях не земские собрания, а земские комитеты, не с выборными, а с назначаемыми правительством представителями местного населения. Мотивировалось это недозрелостью населения и политическою неблагонадежностью поляков-помещиков этого края. А.А. Сабуров с неопровержимою силою логики доказал всю бессодержательность и непатриотичность проекта: исключительные законы не сближают, говорил он, а отталкивают. К чему привело запрещение полякам приобретать земли в Западном крае? – Да к тому, что они крепко ухватились за землю, русских не пустили, а сами накупили земель в Смоленской и Черниговской губерниях и этим путем ополячили чисто русские губернии. Он предлагал поэтому ввести земство в полном его объеме, не опасаясь, а, напротив, надеясь на сближение и умиротворение. Эта мудрая речь вызвала формальное возражение министра финансов С.Ю. Витте, будто русское землевладение делает большие шаги вперед в Западном крае, и министра внутренних дел В.К. Плеве, находившего, что вопрос, возбужденный А.А. Сабуровым, имеет общий характер и данного дела не касается. Возражения эти были разделены большинством Общего собрания, да и вообще по общему ходу мыслей того времени было ясно, что мнение А.А. Сабурова принято не будет[319].
Ни в чем не изменяя своих убеждений и образа действий, А.А. Сабуров перешел и в реформированный Государственный совет, где пользовался всегда очень большим авторитетом, как председатель и 1-го департамента[320], и Комиссии законодательных предположений.
Не могу, наконец, не упомянуть о графе Алексее Павловиче Игнатьеве. Все современники, конечно, помнят его круглое, заплывшее лицо с лукавыми глазами и усмешкою и его грузное тело, узко затянутое в кавалергардский мундир[321]. Брат известного дипломата и министра внутренних дел графа Н.П. Игнатьева, граф А.П. был раньше генерал-губернатором в Иркутске и в Киеве. Человек очень неглупый и, главное, очень хитрый, он был душой той группы членов Совета, которых я назвал «молодыми». В отличие от других своих товарищей, он очень внимательно читал дела и проекты журналов и тщательно наблюдал за тем, чтобы в них не проскользнуло чего-либо нарушающего защищаемые им принципы и интересы. Довериться ему было трудно, хотя с виду он был необыкновенно экспансивен, даже дружествен и фамильярен. Впоследствии ходили слухи, будто граф А.П. Игнатьев приобрел какое-то особое влияние при Дворе и образовал «Звездную палату»[322]. Не знаю, есть ли тут что-нибудь близкое к истине[323]. Во всяком случае, эти именно слухи привели к трагической его кончине: он был убит в Твери политическим злоумышленником[324].
Правительство в департаментах было представлено большею частью товарищами министров; сами министры бывали сравнительно редко, по более важным делам. Из них в то время было два наиболее выдающихся: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. В описываемое мною время они боролись за влияние. Значение С.Ю. Витте было уже на ущербе, звезда В.К. Плеве только что подымалась. О С.Ю. Витте я уже говорил подробно в статье о Комитете министров. Прибавлю здесь, что он сам уже чувствовал предстоящее свое падение. Как сегодня вижу празднование десятилетнего юбилея его управления Министерством финансов в конце 1902 г.[325] Это было нечто похоронное; даже речь, произнесенная С.Ю. Витте, носила какой-то бессвязный, вымученный характер. В.К. Плеве, по-видимому, и не скрывал своих намерений: по крайней мере, его зять Н.И. Вуич, тогдашний помощник управляющего делами Комитета министров, не стеснялся говорить, что велика будет заслуга того, кто сумеет свергнуть Витте. Что касается В.К. Плеве, то это была интересная фигура на нашем государственном небосклоне. Происхождения он был довольно неопределенного. Одни называли его поляком, другие немцем[326]. Во всяком случае, отец его уже состоял на государственной службе в Царстве Польском. Сам В.К. Плеве окончил курс в Варшавской 1-й гимназии[327] и в Московском университете. Служил он сперва в судебном ведомстве, где благодаря выдающимся своим способностям быстро пошел вперед и обратил на себя особое внимание в эпоху убийства императора Александра II. Перейдя в Министерство внутренних дел, он назначается директором Департамента полиции и товарищем министра. В этой последней должности я впервые встретил его в Комитете министров. Красивый собою, медленно скандировавший свою речь, слегка с польским акцентом, он имел вид человека постоянно утомленного, относящегося ко всему окружающему с известной ноткой пренебрежения и даже презрения, как к людям, так и к вещам, чувствующего свое превосходство и таланты, для которых нет применения в создавшейся для него обстановке и среди окружающих людей. Когда он не говорил, то сидел, обыкновенно, откинув голову на спинку кресла, с полузакрытыми глазами. С тем же пренебрежением относился он и к исполнению своих формальных обязанностей товарища министра, далеко не отвечавших его способностям. С назначением государственным секретарем В.К. Плеве несколько оживился, хотя и об этой должности справедливо говорил, что там нечего было делать. Окончательно же он показал себя с назначением министром внутренних дел. Здесь В.К. Плеве сразу же получил огромное влияние и, воспользовавшись падением С.Ю. Витте, занял временно первое в правительстве место. Я не имел возможности ближе следить за его деятельностью на этом поприще. Но надо думать, что предпринятая им чисто полицейская борьба с надвигавшейся революциею была очень серьезна. Слабый его предшественник Д.С. Сипягин был убит революционерами в подъезде Комитета министров[328]. Следы пуль были долго видны на штукатурке. Это убийство, надо думать, и побудило призвать на должность министра внутренних дел человека действительно энергического и опытного, каким считали В.К. Плеве. Однако и его энергия не затушила пожара: В.К. Плеве был убит так же, как и Сипягин, только другим способом – бомбою, брошенною в его экипаж[329]. Это убийство произвело сильнейшее впечатление на петербургское общество. Я помню на панихиде слова барона Ю.А. Икскуля: «Это начало конца». Но конец был еще очень далеко.
Перехожу к главнейшим вопросам, с которыми мне пришлось встретиться в Департаменте промышленности, наук и торговли. В общем, как показывает его название, компетенция этого департамента была чрезвычайно разнообразная: тут были вопросы и таможенные, и по специальному образованию, напр[имер], нормальный устав сельскохозяйственных школ, и штатные, и даже уставные. В каждой сессии было обыкновенно одно-два наиболее крупных дела, на которых сосредоточивалось преимущественное внимание и которые требовали наибольшей работы. В мое кратковременное пребывание в департаменте это были вопросы рабочего законодательства. Министерством финансов внесено было обширное представление об ответственности предпринимателей за увечья, полученные рабочими от работ в их заведениях. Являясь результатом очень большой подготовительной работы, представление это в окончательном виде составлено было управляющим Отделом промышленности[330] Н.П. Лан[г]овым, при ближайшем участии фабричного инспектора В.П. Литвинова-Фалинского; оба они и явились для объяснений в соединенные департаменты. Но главную защиту проекта взял на себя сам С.Ю. Витте, с необыкновенным остроумием отстаивавший основные его принципы. Конечно, проект вызвал энергическую оппозицию со стороны так называемых «молодых» членов Государственного совета. Дело доходило до такой страстности, что даже меня, как статс-секретаря, обвинили в умышленном искажении высказанных мнений в проекте журнала – обвинение, совершенно отпавшее при очной ставке в кабинете государственного секретаря. В конце концов, проект с многочисленными поправками все-таки прошел: слишком была ясна необходимость урегулирования этой насущной стороны в жизни промышленных предприятий[331].
Другое дело, в том же порядке мыслей, был проект учреждения старост из рабочих в промышленных заведениях. Этот проект, к рассмотрению которого были приглашены наиболее крупные представители московской промышленности, вызвал чрезвычайно интересные суждения. К слушанию его прибыл В.К. Плеве в сопровождении только что назначенного директором Департамента полиции А.А. Лопухина. Последнего я помнил еще по Московскому университету, хотя мы знакомы не были. Он быстро сделал блестящую служебную карьеру и был прокурором, кажется, Харьковской судебной палаты, когда В.К. Плеве пригласил его в Департамент полиции. Человек в то время молодой, очень красноречивый, он открыл перед Государственным советом, в обширной речи, яркую картину подготовлявшегося революционного движения среди рабочих: по его словам, опасность была близка и чрезвычайно грозна. Эта картина произвела на членов Совета настолько сильное впечатление, что самому В.К. Плеве пришлось внести ноту успокоения, указывая, что, быть может, по частным сведениям директора департамента картина кажется более опасною, нежели при обозрении ее с более общей точки зрения. Тогда члены Совета высказывали даже некоторую претензию на В.К. Плеве, который, не сговорившись предварительно со своим директором, предоставил последнему их терроризировать. Но, по-видимому, сведения А.А. Лопухина были близки к истине, как показали позднейшие события[332]. Проект о старостах, с различными изменениями, получил силу закона, но, кажется, этот закон не имел у нас серьезного применения на практике[333].
В исходе 1903 г. я был переведен статс-секретарем в Департамент государственной экономии. Этот департамент являл собою полную противоположность Департаменту промышленности, наук и торговли. Заседания его поражали своею краткостью. Председатель, граф Д.М. Сольский, о котором я подробно говорил в статье о Комитете министров, с неудовольствием относился к самостоятельному выражению мыслей и пресекал речи в самом их начале. Если Н.М. Чихачев допускал чрезмерные разговоры, то в Департаменте экономии индивидуальность отдельных членов была сведена почти к нулю. «Департамент экономии – это я», – мог по справедливости сказать граф Д.М. Сольский. Между тем, там были и знающие, видные члены, напр[имер], Д.Ф. Кобеко, В.В. Верховский, Ф.Г. Тернер, П.П. Дурново[334]. Но им большею частью приходилось молчать, так как все вопросы были заранее предрешены и почти всегда в смысле удовлетворения министерских представлений. Впрочем, и компетенция департамента не отличалась разнообразием: это были в большинстве мелкие финансовые дела, по крайней мере – за мое время. Главное дело департамента – составление государственной росписи – ко времени моего поступления туда было уже закончено. Но у гр[афа] Д.М. Сольского под его председательством состояли разные комиссии и комитеты, где делопроизводство было возложено на Государственную канцелярию. Эта внедепартаментская работа очень увеличилась со времени японской войны[335]. По закону военные расходы разрешались не в сметном порядке, а в путях верховного управления. Под председательством гр[афа] Д.М. Сольского образовано было Особое совещание для рассмотрения требований разных ведомств об отпуске сумм на военные надобности[336], заседания которого происходили по вечерам в квартире графа. Работа эта была большая и очень беспокойная.
Ближайшие поводы и виновники объявления войны Японии мне неизвестны[337]. Известие о ней[338] вызвало в городе что-то вроде уличной манифестации, но довольно бледной. Война была далеко, никто ясно не представлял себе даже, что такое японцы, какими силами они располагают. Незадолго перед тем, в 1900 г., была предпринята карательная экспедиция против Китая, оконченная быстро и успешно[339]. По-видимому, и на японскую войну смотрели под этим же углом зрения. Так, напр[имер], С.В. Рухлов, бывший в то время товарищем главноуправляющего мореплаванием и портами[340], лично выражал мне свое удивление, чего-де так занимаются этой войной, ведь это не более как колониальная военная экспедиция. Такая точка зрения, разделявшаяся, по-видимому, не им одним, отразилась вскоре на отношении его к вопросу о сокращении государственных расходов по случаю войны. Этот вопрос был возбужден государственным секретарем В.Н. Коковцовым, который выступил с очень простым, элементарным предложением – к нему вернулись и впоследствии, в начале войны 1914–1918 гг. – об исключении некоторых менее настоятельных расходов из уже утвержденной росписи на 1904 год. С.В. Рухлов, с поддержкою своего главноуправляющего, великого князя Александра Михайловича, явился решительным противником этого предложения: он всемерно старался доказать, что такое сокращение отразится крайне вредно на поступательном развитии страны: оно может коснуться, главным образом, расходов производительного характера, питающих народный труд и создающих ценности, а следовательно, и источники будущих государственных доходов. При этом С.В. Рухлов, конечно, имел в виду свой, приведенный мною выше взгляд на японскую войну как на простую колониальную экспедицию. Возражения В.Н. Коковцова были просты и всем понятны: война все-таки потребует массу расходов, надо сжаться в том, что не представляется крайне спешным: по одежке протягивай ножки. Заседание Департамента экономии, где происходило обсуждение этого вопроса, было очень продолжительное. Мнение В.Н. Коковцова взяло верх: роспись была тщательно пересмотрена под личным его руководством, причем было исключено расходов на сто с лишком миллионов рублей, сумма, которая теперь кажется смешною, а в то время была значительною, тем более, что на продолжительную кампанию все-таки не рассчитывали. Результатом этого спора было назначение В.Н. Коковцова министром финансов[341]. С.В. Рухлов остался на этот раз за флагом и получил пост министра путей сообщения много позднее, в кабинете П.А. Столыпина[342]. И любопытно, что как министр путей сообщения он действовал в духе как раз противоположном тем принципам, из-за которых в свое время разошелся с В.Н. Коковцовым. До С.В. Рухлова наша казенная сеть не давала доходов, приносила даже дефициты; с его времени она сделалась крупнейшею статьею государственного дохода. Но по отзыву знающих людей, достигалось это в значительной мере чрезмерною экономиею в расходах: станции не ремонтировались, парк вагонов и паровозов не пополнялся. Благодаря всему этому наша железнодорожная сеть оказалась далеко не на высоте тех требований, которые были к ней предъявлены с начала войны 1914 г. в отношении передвижения войск и продовольственных грузов.
Грустные для России результаты войны с Японией стали обнаруживаться уже в 1904 году. Я должен отдать справедливость графу Д.М. Сольскому: он относился к этой войне с большим сомнением и опасением. Особенно волновал его вопрос о лице главнокомандующего. Ходили слухи, что предполагается назначение А.Н. Куропаткина, тогда военного министра. Граф просил меня съездить к нему и доподлинно узнать, так ли это. С трудом удалось мне добиться свидания с А.Н. Куропаткиным, который с присущим ему хладнокровием просил меня передать, что граф напрасно так волнуется и что, во всяком случае, главнокомандующим он, А.Н. Куропаткин, не будет. Однако через несколько дней он был все-таки назначен[343]. Серьезное отношение к войне я усматриваю и в том, что против великого князя Александра Михайловича, пользовавшегося тогда большим влиянием, граф Д.М. Сольский поддержал кандидатуру в министры финансов В.Н. Коковцова и его предположения о сокращении расходов. Впоследствии, когда возник проект отправки всего флота под командою адмирала Рожественского[344], окончившийся Цусимским сражением[345], граф Д.М. Сольский, как я слышал, подавал будто бы Государю записку, где решительно возражал против этого проекта. Он, умудренный большим опытом, не мог, очевидно, не видеть, при всем своем оппортунизме, гибельных последствий этого предприятия, не мог не возвысить своего голоса в такую крайнюю минуту. Но война шла все хуже и хуже. Уже с лета 1904 г. начались проекты реформирования нашего государственного строя[346], чувствовалось приближение революционного движения. Когда оно совершилось и повело к реформе наших законодательных учреждений, в частности, Государственного совета, граф Д.М. Сольский с присущим ему разумом понял, что время его кончилось, ушел совершенно на покой, а вскоре и скончался.
Этим я заканчиваю настоящие краткие мои воспоминания о Государственном совете начала 1900-х годов, где я пробыл тогда менее двух лет, а потому и не могу дать более всестороннего его изображения.
Глава 4 ПРОЕКТЫ ПОДАТНОЙ РЕФОРМЫ В 1905–1916 ГГ
Система нашего прямого обложения вырабатывалась очень постепенно и в 1904 – [19]05 гг. представляла собою объединение налогов, появившихся в разное время и находившихся, в смысле выработки форм, на очень различных ступенях развития. У нас были так называемые реальные налоги – поземельный[347] и с городских недвижимостей[348], построенные очень примитивно и неуравнительно и выносимые только потому, что были весьма ничтожны. В основу их положена была раскладочная система[349], которую некоторые доморощенные финансисты считали национальною нашею особенностью и хотели применить чуть ли не к подоходному налогу. А вызывалось существование этой системы собственно тем, что на местах не было государственных органов, которые могли бы произвести правильную оценку предметов обложения. Удобнее было поэтому устанавливать на известное время контингенты налогов, разверстывая их между губерниями; а уже органы местного самоуправления производили разверстку между уездами, городами и отдельными недвижимостями по своим оценкам и совместно с местными сборами. Так как эти свои оценки были не только произвольны, но и совершенно различны, по основаниям своим, в разных местностях, то получалась крайняя неуравнительность обложения. С другой стороны, при такой неуравнительности государство не решалось повышать контингенты более или менее значительно, и, таким образом, раскладочная система была убыточна для казны.
Формы промыслового обложения были значительно развитее, и этот налог приносил казне почти втрое больше, чем поземельный и городской взятые вместе. Но и он был построен на различных началах, по нескольким системам, опять-таки вследствие недостатка оценочных возможностей[350]. Так называемый патентный сбор, сравнительно легкий для крупных предприятий, был крайне обременителен для всех мелких. Дополнительный сбор с неотчетных предприятий взыскивался по старинной раскладочной системе, а с отчетных – это был настоящий и притом очень своеобразный подоходный налог. В то время как земля и городская недвижимость платили в казну немного, но зато были гораздо выше обложены на земские[351], городские[352] и мирские повинности[353], промыслы и особенно торговля платили на эти повинности очень мало, но зато казенное их податное бремя постоянно увеличивалось. Наконец, налог с капитала был только казенный, в виде 5 % купонного сбора: это был также реальный налог, но не обнимавший всех видов доходов от денежных капиталов, а только доходы от процентных бумаг[354]. Доходы от других капиталов, напр[имер], помещенных под залог недвижимых имуществ, были от него изъяты. Лично-подоходных налогов у нас в то время не было, их заменял весьма несовершенный и распространявшийся только на городское население квартирный налог[355]. Подушная подать была совсем отменена[356], отмена же выкупных платежей[357] последовала по Манифесту 3 ноября 1905 г.; с некоторых разрядов крестьян их оставалось менее миллиона рублей[358]. Таким образом, громадная масса крестьянства была обложена в пользу казны только ничтожным поземельным налогом. Напротив, земские и мирские сборы с крестьянских земель были очень значительны. Система прямого обложения завершалась наследственным налогом, под названием пошлины с безмездного перехода имуществ, по существу крайне несовершенным, так как взимался он не финансовой администрацией, а судами по законной оценке имуществ и в размере, колебавшемся только в зависимости от степени родства наследника с наследодателем, а не от размера наследства[359]. Из сказанного ясно, что наша податная система была результатом постепенных наслоений и во многих своих частях была неудовлетворительна и притом малодоходна.
Было бы совершенно неправильно сказать, что на ее реформу не было обращаемо должного внимания. Не заходя далеко назад, не касаясь известной Податной комиссии[360], достаточно вспомнить министерство Н.Х. Бунге, когда в область промыслового налога внесены были начала обложения прибылей и введены налоги с денежных капиталов и с наследств. Не менее, если не более существенное значение имела постепенная отмена разного рода специально крестьянских платежей, на которых главным образом основывалась наша прежняя налоговая система: подушной подати и выкупных платежей. В этом большом деле во главе угла должны быть поставлены два имени, которыми обнимается деятельность Департамента окладных сборов[361] с половины 80-х годов до 1905 г. Это А.А. Рихтер и Н.Н. Кутлер. Первый был правою рукою Н.Х. Бунге, при котором, в отличие от некоторых других министров, вопросы прямого обложения получили большое значение. Я застал А.А. Рихтера уже членом Совета министра финансов[362], но память о нем живо сохранялась в Департаменте. Это был в высшей степени интересный и выдающийся человек, даже по внешности: высокий, худощавый, крайне изящный, он недаром прозывался кардиналом Рихтерлье[363]. Ему финансовое ведомство обязано блестящими страницами своей истории. Я не знаю в точности, что именно из задуманных и проведенных за его время реформ принадлежало лично его мысли, а что указаниям Н.Х. Бунге. Но такие преобразования, как создание податной инспекции, давшей впервые возможность провести ряд экономических и финансовых улучшений[364], как пересмотр промыслового налога, как переложение поземельного налога с душ на земли, должны считаться делом первостепенного значения. Оставив Департамент, А.А. Рихтер не был и не мог быть устранен от податного дела. В целом ряде комиссий – о пересмотре земского обложения, об изменении порядка взимания окладных сборов с надельных земель[365] и пр[очих] – он был душою всего дела, а хороших сотрудников было у него очень немного. Благодаря этому, напр[имер], по Комиссии о земском обложении он сам писал почти все доклады, образовавшие целую кипу интереснейших записок. Чужие проекты, говорил он, нужны для того, чтобы видеть, как не следует писать. Конечно, это принцип ошибочный, ради него после А.А. Рихтера осталась в Департаменте масса нерешенных дел. Но погрешив против канцелярской исполнительности, он не погрешил против дела и открыл своим преемникам целые перспективы податных реформ, а многое начал осуществлять уже и сам.
Именем другого из упомянутых мною лиц, Н.Н. Кутлера, можно назвать более чем десятилетие работы нашего податного ведомства, которым он руководил сперва в роли вице-директора, а затем и директора Департамента окладных сборов. Я редко видел такого трудолюбивого человека, как Н.Н. Кутлер: он готов был и мог работать 24 часа в сутки. Свое большое трудолюбие Н.Н. Кутлер соединял с прекрасными способностями, исключительною памятью и основательным знанием практики нашего податного дела, так как он сам был и податным инспектором[366], и податным ревизором[367], и управляющим казенною палатою[368]. Кроме того, как коренной помещик, он знал деревню и крестьянский быт. Поэтому работу свою он сосредоточил по преимуществу на вопросах крестьянского обложения: за его время проведена была система льгот по взиманию крестьянских платежей, затем новый порядок взимания их, предоставивший широкую долю участия в этом деле податной инспекции. Работа эта, задуманная еще А.А. Рихтером, была выполнена при Н.Н. Кутлере, который посвятил ей массу труда и внимания. В этом же порядке осуществлена была и отмена круговой поруки, скорее формальная, так как на деле круговая порука применялась редко. Все эти меры, закончившиеся, как я упоминал, отменою выкупных платежей, в связи с расширением прав и деятельности податной инспекции, расчистили широкое поле для дальнейших податных реформ уже положительного характера.
Впрочем, при вступлении моем в управление Департаментом окладных сборов в конце 1904 г. пришлось, прежде всего, заняться повышением ставок существующих налогов: от всех департаментов министр, в то время В.Н. Коковцов, потребовал представления предположений, насколько можно вообще поднять доходы ввиду громадных расходов казны по случаю войны с Японией. Но уже весною 1905 г. было внезапно дано распоряжение приступить к обсуждению вопроса о введении у нас подоходного обложения[369]. Мне думается, что причины постановки этого вопроса на очередь имели чисто политический характер. В дальнейшем предположение это вполне подтвердилось. Товарищем министра, ведавшим дела нашего Департамента, был в то время Н.Н. Кутлер, и вот под его председательством была образована комиссия из представителей науки и практики для обсуждения общего вопроса, возможно ли и своевременно ли вообще у нас подоходное обложение. В эту комиссию вошло много профессоров: старик В.А. Лебедев, Ходский, Озеров, Свирщевский и П.П. Мигулин. Последний, зять М.М. Алексеенко, лично был наименее склонен к подоходному обложению. Между ним и Озеровым произошло даже довольно резкое пререкание. Прочие почти молчали. Вопрос был поставлен пока теоретически, хотя комиссия, ответив на него утвердительно, установила и общие основания для выработки проекта[370], к чему Департамент тотчас же и приступил[371]. Во всяком случае, эту комиссию и ее труды я считаю первым актом в деле выработки проектов податных преобразований в описываемое мною время.
После октябрьского переворота 1905 года[372] было образовано Министерство торговли[373], причем заведование промысловым налогом было передано в Департамент окладных сборов; таким образом, в ведении этого департамента сосредоточены были с этих пор все прямые налоги. Это обстоятельство дало Департаменту основание, не ограничиваясь выработкою проекта подоходного налога, приступить к пересмотру системы нашего прямого обложения во всей ее совокупности. К счастью, в это время, вместе с промысловым налогом, перешел в Департамент начальником отделения Г.М. Курило, сделавшийся сразу неоценимым сотрудником в этом деле. Человек прекрасно, научно образованный, он постоянно следил за иностранной финансовой литературой и развитием податного законодательства. В этой области в нем, быть может, было слишком много преклонения перед иностранными образцами; но едва ли это было вредно, так как прочие были слишком далеко от этих образцов. Г.М. Курило сделался положительно центром департаментской работы в этой области. Общий план, составленный нами, покоился на следующих главных основаниях. Подоходное обложение в наших условиях не может быть единым государственным прямым налогом. Многие думали, что с введением подоходного налога будут отменены все прочие прямые налоги; другие проектировали передачу прямых реальных налогов местным самоуправлениям, земствам и городам. Первое предположение грешило большой наивностью, ожидая от подоходного налога таких громадных сумм, которые покрыли бы все остальные налоги. Высказывавшие его были люди, совершенно не знакомые со статистикою, окончательные дилетанты. Надо вообще заметить, что вопросы прямого обложения, пока оно крепко не хлопнуло плательщика по карману, были очень безразличны и чужды большинству нашего общества. Даже в Государственной думе, где члены обязаны были бы, по должности своей, знакомиться с этими вопросами, они смотрели на них удивительно безразлично.
Для того, чтобы провести податную реформу, надо, прежде всего, повысить существующее обложение настолько, чтобы оно стало очень чувствительным. Иначе плательщик будет спать.
Другие, которые предполагали одновременно с введением подоходного налога передать реальное обложение земствам и городам, были правы только в том отношении, что так было сделано в Пруссии в 1893 г., но совершенно упускали из виду, что там это было сделано в такое время, когда выяснилось, что подоходный налог дал столь крупные суммы, что от передачи прочих налогов казна не могла потерпеть никакого ущерба. У нас было как раз обратное. Наконец, еще соображение, которое говорило против передачи реальных налогов органам местного самоуправления, заключалось в том, что техническое усовершенствование этих налогов в смысле уравнительности их распределения могло быть произведено только силами государства: в руках земств и городов продолжала бы применяться прежняя доморощенная оценка предметов обложения. Между тем, только при правильной оценке их для реальных налогов могла получиться солидная база для поверки показаний плательщиков по подоходному налогу. Все эти соображения побуждали сохранить реальные налоги в руках государства, а подоходному отвести роль дополнительного обложения более состоятельных плательщиков.
Реформа реальных налогов должна была заключаться, по нашему плану, в переходе от раскладочной системы к окладному обложению, при котором каждый плательщик стоит лицом к лицу с фиском, оценивается на одинаковых основаниях со всеми другими, и сумма налога получается помножением общего числа единиц обложения на оклад, следовательно, растет или уменьшается в зависимости от этого числа, а не устанавливается вперед по общим соображениям и уже после того распределяется между облагаемыми предметами, сколько бы их не было. При этой последней системе доходность налога растет не автоматически, по мере роста числа его объектов, а увеличивается лишь при периодических пересмотрах его суммы на основании умозрительных исчислений, стоящих вне всякой связи с действительностью.
Итак, надо было подумать об установлении однообразной оценки предметов обложения. Прежде всего, это удалось проектировать для налога с городских имуществ. Здесь мы предложили произвести, при помощи показаний самих плательщиков о доходности их имуществ, одновременный кадастр недвижимости во всех городах империи по примеру того, который раньше был сделан в городах Царства Польского, согласно проекту Н.К. Бржеского[374]. Не могу не сказать здесь два слова о последнем. Н.К. Бржеский, вице-директор Департамента окладных сборов при И.Д. Слободчикове и Н.Н. Кутлере, был одним из наиболее выдающихся ученых финансистов нашего времени: доктор финансового права, он носил это ученое звание не только по имени. Его блестящие труды в области податного дела, государственного кредита, крестьянского законодательства и быта могут быть названы классическими[375]. Прибавьте к этому живой, блестящий ум, неотразимую логику в контроверзах, которая быстро, что называется, «клала на лопатки» всех его оппонентов, его всесторонние знания, которые заметны были в каждой его фразе.
Все эти качества были быстро оценены С.Ю. Витте, который знал хорошо Н.К. Бржеского еще по Киеву и пригласил на должность своего секретаря во вновь созданный им Департамент железнодорожных дел, а затем назначил вице-директором в Департамент окладных сборов. Директором был тогда И.Д. Слободчиков, сразу почувствовавший опасность такого соседа. Но И.Д. Слободчиков понял хорошо характер своего министра: «с глаз долой – из сердца вон». Н.К. Бржескому перестали давать какие бы то ни было поручения по Департаменту, не пускали к министру с докладом, а последнему стали сначала понемногу, а затем все чаще и чаще внушать, что Н.К. Бржеский абсолютно ничего не делает и от всякой работы отказывается. Благодаря этому, в сущности, совершенно элементарному приему, Н.К. Бржеский был вскоре не только окончательно забыт С.Ю. Витте, но находился в самом Департаменте в каком-то загоне. Этот талантливейший и ученейший человек был сведен на нет способами чисто провинциальной интриги. При Н.Н. Кутлере положение его несколько облегчилось. Министр стал привлекать его к некоторым внедепартаментским работам. Так, напр[имер], им совместно с А.Н. Гурьевым написан был курс лекций, который С.Ю. Витте читал наследнику Михаилу Александровичу[376]. Далее, он редактировал и частью составлял юбилейную историю Министерства финансов[377]. Наконец, и сам Н.Н. Кутлер, унаследовавший, к сожалению, несколько недоверчивое отношение к Н.К. Бржескому, вынужден был именно ему поручить выработку ставшего затем законом проекта обложения городских имуществ в Царстве Польском. Продуманный таким компетентным человеком, этот закон, сообразованный притом с лучшими образцами в этой области, был готовым для нас примером для проведения однородной реформы и в прочих частях России. Мы были того убеждения, что кадастрация городской недвижимости, самой простой и однообразной в отношении исчисления ее доходности, при поверке показаний плательщиков податными инспекторами, которые, благодаря квартирному налогу и иным материалам, располагали для этого многими данными, не может встретить особенных затруднений[378]. Проект поступил в Государственную думу в 1907 г.[379] и был сперва передан в особую подкомиссию при Финансовой комиссии[380]. Для очного представления о ходе податных проектов в Государственной думе необходимо сказать здесь несколько слов о работах Финансовой комиссии, куда прежде всего попадали эти проекты. Комиссия эта, довольно многочисленная, состояла сперва из 33, затем из 44 членов. Видных специалистов по податным вопросам до вступления Н.Н. Кутлера здесь совершенно не было. Были дельцы, были некоторые бывшие чиновники финансового ведомства. Но в массе, лишь за незначительными исключениями, это были дилетанты, только здесь знакомившиеся с теми вопросами, которые им предстояло решать. Некоторые, впрочем, были более трудолюбивы, готовились усердно и внимательно вчитывались в представления. Другие, избрав себе известную область, с течением времени приобретали в ней некоторые познания. Отсюда в значительной мере обывательский взгляд на работу, хотя нередко со стороны членов комиссии, специально интересовавшихся тем или иным делом, приходилось слышать основательные замечания. В общем, в комиссиях, несмотря на неаккуратность в посещении их членами и происходившей от этого для нас, представителей ведомства, большой потери времени, работать было можно. Но нельзя сказать, чтобы решения их предрешали и заключение Общего собрания Государственной думы. Бюджетная комиссия[381], отчасти благодаря авторитету своего председателя М.М. Алексеенко, отчасти же потому, что вопросы по ассигнованию кредитов, после прохождения их в комиссии, редко могут вызывать очень принципиальные разногласия, была в этом отношении поставлена лучше: ее заключения принимались почти всегда. С Финансовой же комиссией дело обстояло иначе: здесь проекты рассматривались начерно, и решения Комиссии нисколько не гарантировали отношения Общего собрания. Я могу засвидетельствовать это в особенности по податным вопросам. Так, напр[имер], проект положения о налоге с городских недвижимых имуществ рассматривался в Финансовой комиссии, вместе с подкомиссией, с ноября 1907 г. по май 1909 г. Казалось бы, что это, сравнительно не столь уже сложное дело, в течение 1½ года могло быть разработано довольно основательно, и все члены Думы могли с ним ознакомиться. В комиссии проект прошел почти без всяких существенных изменений. Но когда уже в ноябре 1909 г. он был внесен при докладе комиссии в Общее собрание, то сразу же стало ясно, что для Государственной думы дело это совершенно незнакомое[382]. Против проекта выступил с чрезвычайною энергиею член Партии октябристов[383] Еропкин, сам бывший когда-то податным инспектором. Чего только не было им приведено! И опасность произвола со стороны финансовой администрации, и ограничение прав местного самоуправления, и я не знаю, какие еще возражения. Речь произвела очень сильное впечатление. Опасались полного провала проекта; ко мне прибегали предупредить, что если я не выступлю со столь же энергическим контрвозражением, то делу грозит провал, тем более что думский докладчик, член Финансовой комиссии А.А. Мотовилов, очень симпатичный и почтенный человек, как оратор был довольно слаб. Мне пришлось говорить долго и подробно, и это было тем более тяжело, что я в это время был совсем болен. Но Бог помог: переход к постатейному чтению был все-таки принят довольно хорошим большинством[384]. Однако дело передали еще в особую комиссию, образованную из Финансовой и Городской[385]. Последняя добивалась передачи ей проекта еще до перехода к постатейному чтению. Но этого, к счастью, удалось избегнуть, потому что в этой комиссии, составленной из представителей городского домовладения, проект был бы, конечно, погребен по первому разряду. Соединенная же комиссия в значительной части своей заключала членов Финансовой, которые уже пропустили в свое время проект и не могли от него отказаться. Благодаря этому проект прошел и здесь, и в постатейном чтении в Общем собрании. В Государственном же совете он не вызвал уже никаких возражений[386]. Так как переоценки имуществ предполагалось производить каждые пять лет, то оклад налога в 6 % с чистого дохода предположен был на все это время или даже без определения срока. Но тут Дума, впервые усвоив, что дело может выразиться значительным увеличением обложения, проявила особую осторожность и назначила 6 %-ый оклад только на два года, 1912 и 1913[387]. Опасения ее оказались достаточно основательными. Оценка была произведена очень энергично и быстро, причем оказалось, что общая сумма налога увеличивается более чем в два раза. В чем же тут была беда? Раз оклад с каждой единицы был не больше прежнего, то повышению общей суммы налога, при возрастающем бюджете, можно было только радоваться: оценка обнаружила, что городские имущества дают много больший доход, чем это думали раньше. Но дело в том, что, значит, эти имущества в действительности уплачивали раньше гораздо меньше 6 % – inde iraе[388]! Когда пришлось вносить представление о сохранении оклада в 6 % и на следующий после 1913 г. период, начался невероятный бой, какого не было при самом издании закона. Наконец поняли, что с налоговыми делами шутить нельзя, что они кусаются и больно. Уж я не помню теперь, до чего только хотели понизить оклад налога. В Финансовой комиссии, куда был передан законопроект, защитников у него не оказалось вовсе. Помню члена Думы прогрессиста[389] Масленникова, который с пеной у рта изображал несчастных саратовских мещанок-старух, являющихся к податному инспектору с показаниями о доходности своих лачуг, не понимая, чего от них собственно требуют. И вот эти же господа настаивали на введении подоходного налога, пока не было опасности, что он будет введен. Против сохранения прежнего оклада возражали и кадеты – представители городского домовладения столиц: в комиссии Н.Н. Щепкин, в Общем собрании Л.А. Велихов. Было предложение понизить оклад до 4 %; другие предлагали 5 %, из коих 1 % городам. Министерство настаивало на 6 %, но согласилось на отчисление 1 % в пользу городов. Борьба была чрезвычайно упорная, но, в конце концов, правительственное предложение было все-таки принято[390]. После, с объявлением войны, оклад этот был, как известно, повышен до 8 %[391].
На этом деле в особенности ярко выяснилось, что на стороне податных реформ – только финансовая необходимость, а все политические партии, и левые, и правые – одинаково против них, и если говорят громкие фразы о необходимости коренных преобразований в деле обложения, то исключительно потому, что не надеются на их осуществление, а кроме того, требованием общих реформ рассчитывают задержать частичные. Это политическое лицемерие особенно ярко проявлялось у кадетов.
Но что с возу упало, то пропало: городской налог удалось все-таки преобразовать и, по отзывам специалистов, данным вне влияния временных обстоятельств, это преобразование оказалось удачным, переоценка недвижимостей была произведена энергично и довольно уравнительно. Главный дефект нового положения заключался в способе обложения незастроенных городских недвижимостей по сравнению с застроенными, особенно со слабо застроенными: последние облагались по своей ничтожной доходности, хотя ценность их могла быть и велика, а первые – по доходу, исчисленному в 5 % от их ценности. Этот дефект предстояло исправить дальнейшему законодательству.
С реформою поземельного налога дело обстояло гораздо труднее. Здесь, как и по налогу с городских недвижимостей, ранее перехода от раскладки к окладной системе надо было произвести оценку земель на одинаковых для всего государства основаниях. Вопрос о такой оценке был поставлен с 1885 г. в Комиссии А.А. Рихтера о земском обложении, но и до сих пор дело это не получило своего завершения. В местном обложении у нас было всегда два течения мысли. Я бы назвал их центробежным и центростремительным. Центробежное исходило с мест: каждое земство, каждый город считали, что для своей потребы достаточно им произвести свою оценку предметов обложения и по ней разверстывать всякие налоги. Объединения, общих начал между разными частями государства совершенно не нужно. Это была старая система первоначального земского обложения. От нее произошла вся крайняя неуравнительность нашего прямого обложения с его пресловутой раскладочной системой. Комиссия А.А. Рихтера исходила из другого начала: она стремилась обосновать земские оценки на общих для всей России приемах, что было, конечно, совершенно правильно, и поставить местное обложение в связь с государственным: расходы, превышавшие местные источники и установленную предельность обложения, должны были покрываться из государственных средств. Эта система, помимо уравнительности обложения в разных частях страны, послужила бы очень серьезною спайкою всего государственного организма. Вообще, нисколько не отрицая необходимости известной автономии местной жизни, так как регулировать все из центра невозможно и даже вредно, я полагаю, что, наряду с такою автономиею, должны существовать и элементы государственной спайки, поддерживающие единство и нераздельность государства. Такими элементами являются общность гражданских и уголовных законов, одинаковость судоустройства и судопроизводства, общие начала податного обложения, общий строй школьной организации, хотя бы и допускающей местные особенности. Не говорю уже об общей воинской повинности, общей монетной системе, таможенном объединении и единстве внешнего представительства: эти элементы необходимы даже при федеративном устройстве. Я думаю поэтому, что в таком государстве как Россия оценки предметов обложения должны производиться правительственными органами, конечно, с участием местных сил; и не государственные налоги должны разверстываться по местным оценкам, а, наоборот, местные налоги должны составлять добавку (centimes additionnels[392]) к государственным. Эта мысль не была, однако, окончательно договорена комиссиею А.А. Рихтера. Из всех ее трудов силу закона получили только Правила об оценке недвижимых имуществ[393]. Но оценка была поручена не правительственным органам, руководимым из центра, а земским учреждениям и за их счет. Те усмотрели в попытке произвести новые оценки две опасности: во-первых, ограничение своей самостоятельности и, во-вторых, угрозу увеличения государственного обложения по новым оценкам. Сразу же началась обструкция, и до 1899 г. почти ничего сделано не было. Тогда попробовали внести в дело кое-какие поправки: улучшили самую организацию оценочных учреждений и дали по одному миллиону рублей в год пособия из казны[394]. Но и это ни к чему не повело: оценки продолжали идти донельзя медленно, потому что корень зла заключался в самом поручении дела земским учреждениям. Следовало бы попросту взять оценочное дело всецело в руки государства, а затем, когда оценка была бы закончена, сделать ее обязательною и для местного обложения. Но рассчитывать на проведение такого проекта через Государственную думу было совершенно невозможно: если земства медлили с оценками, опасаясь повышения сборов, то они, с другой стороны, не желали выпускать их из своих рук, так как боялись именно того, что казна окончит эти оценки гораздо быстрее. Поэтому надо было ожидать, что протесты против передачи оценочного дела в руки правительства будут самые решительные. Мы внесли ввиду этого законопроект о том, чтобы улучшить самые основания правил об оценках и одновременно установить крайний срок для их окончания – шесть лет; в случае невыполнения работы к этому сроку все оценочное дело переходило бы в руки податной администрации, и оценки производились бы ее распоряжением[395]. Но и этот законопроект так и остался не рассмотренным Государственною думою, а потому переход к окладной системе земского обложения до сих пор не состоялся. Пока что мы проектировали пересмотреть губернские оклады налога для его раскладки, благодаря чему сумма налога более чем удваивалась, но все-таки была незначительна – 30 с небольшим миллионов на всю Россию. Но и этот проект до войны не был рассмотрен[396]: только уже по случаю войны это увеличение было прямо приведено в исполнение[397]. Так тяжело шло дело реформы нашего поземельного обложения. Земские деятели постоянно ссылались на то, что земля – главный источник земского обложения. Они настаивали даже на полной уступке и государственного поземельного налога земствам. Вопрос об этом подымался издавна. Министры финансов смотрели очень пренебрежительно на этот налог, дававший до 1906 г. едва 9 милл[ионов] руб[лей]. Был проект передать его земским учреждениям на 10 лет со специальною целью производства мелиоративных работ. Это был бы очень серьезный ущерб для всей системы прямого государственного обложения и лишило бы навсегда надежды на возможность реформы поземельного налога, раз этот налог был бы всецело отдан земствам без всякого участия финансовых органов государства в его распределении и взимании. К счастью, это не состоялось; но все же именно сопротивление земств, т. е., в конце концов, землевладельцев, мешало до сих пор какому бы то ни было прогрессу в этой области.
Третий, притом наиболее крупный член в группе наших реальных налогов – это налог промысловый. Он всегда сосредоточивал на себе наибольшее внимание, потому что был самым доходным. Я уже говорил, что для акционерных предприятий этот налог имел характер сугубо подоходного: его оклады возрастали прогрессивно в зависимости от высоты прибыльности предприятий. В других своих частях промысловый налог имел гораздо менее совершенные формы. Мы очень много потрудились над его пересмотром. Главным спорным вопросом явилась здесь отмена патентного налога. С этого, собственно, началось все преобразование. Когда в 1898 г. издано было новое положение о промысловом налоге[398], то постановлено было через пять лет пересмотреть таблицу окладов патентного сбора. Этого сделать вовремя не удалось, а затем выяснилось, что и во всем положении – много дефектов, которые надо так или иначе исправить[399]. Когда мы приступили к этому исправлению, то не могли не заметить, что именно патентный сбор составляет, прежде всего, какой-то пережиток, который, в связи с подоходным характером всего налога вообще, придает ему уродливый характер: если сборы, исчислявшиеся по прибылям, росли по мере роста прибылей, то патентный сбор, благодаря своей неподвижности, облагал выше как раз менее прибыльные предприятия. Здесь неравномерность была прямо поразительная.
Мы решились поэтому поставить ребром вопрос о совершенной отмене патентного сбора для всех вообще предприятий, кроме таких мелких заведений, для которых невозможно исчислить ни оборотов, ни прибылей. Но тут пришлось встретить самую жестокую оппозицию и притом одновременно с двух сторон: промышленников и торговцев – с одной, и членов финансового управления – с другой. Последние, в лице многих, даже скажу, большинства управляющих казенными палатами и податных инспекторов, возражали с чисто финансовой точки зрения: что обращение патентного сбора в окладной с прибылей не будет обеспечивать правильного его поступления; что каждый торговец и промышленник охотно выбирает патент, чтобы иметь право торговли или производства промысла, и выбирает его до наступления года; что, наконец, определение класса или разряда предприятия много проще и для фиска, и для плательщика, нежели исчисление прибылей.
Собран был съезд представителей промышленности и торговли для обсуждения проекта. Это было весною 1908 г.[400] Съехалась громадная масса народа со всех концов России, значительно более 100 человек. Здесь обнаружилось в особенности ярко, как трудно проводить податные реформы. В первые дни промышленники и торговцы объединились непроницаемою стеною под водительством москвичей: Г.А. Крестовникова и других. Крупные промышленники ни за что не хотели идти на отмену патентного сбора, который для них был совершенно нечувствителен. Мелкие же, которых они собрали до заседания, подчинились крупным, увлекаясь, главным образом, наружным удобством патентного сбора: тем, что не приходилось исчислять для него оборотов и прибылей, а также опасением повышения платежей, которым, главным образом, и пугали их крупные промышленники. Споры были настолько горячи, что Г.А. Крестовников позволил себе даже резкие выпады против Г.М. Курило, так что мне пришлось пригласить его к порядку; он на это обиделся и перестал ездить в заседания. В пользу отмены патента высказалось только два представителя мелкой торговли. Тогда я сделал перерыв в сессии совещания, чтобы дать обдумать этот вопрос на местах. Прием оказался целесообразным: по возвращении на совещание два сторонника отмены патента приобрели больше адептов, а когда я сделал еще перерыв, то на третьей сессии их оказалось еще больше. Конечно, мы, со своей стороны, приняли все меры, чтобы разъяснить колеблющимся те соображения, которыми мы руководились. Но все-таки число сторонников отмены патента было еще далеко от большинства. Тогда, чувствуя, что в Петербурге влияние крупной промышленности слишком сильно, я, после окончания сессии, направил вопрос об отмене патента на заключение местных учреждений по промышленности и торговле: биржевых комитетов[401], разных съездов и т. п. Результат оказался успешным: голоса разделились на этот раз поровну, и мотивы, приведенные сторонниками отмены в их отзывах, были очень сильны. Надо еще прибавить, что в Петербурге противники реформы находили сильную поддержку в Министерстве торговли, которое неизменно держалось взглядов крупных промышленников.
Когда таким образом мы получили достаточные по этому предмету материалы, то вопрос пошел уже о разногласии между министерствами финансов и торговли. Для окончательного его разрешения было образовано особое маленькое совещание под председательством государственного контролера П.А. Харитонова. Здесь участвовали сами министры. П.А. Харитонов стал определенно на нашу сторону. Министерство торговли хотело было подтасовать наши материалы: оно помимо нас само стало собирать отзывы торгово-промышленных организаций и доказывало, будто большинство против отмены патента. Однако этот образ действия, предпринятый даже без ведома самого министра торговли В.И. Тимирязева, был признан неприличным, и эти данные были оставлены без внимания. Таким образом, мы вошли в Государственную думу с уже согласованным предположением об отмене патентного сбора с заменою его окладным в размере 6 % с прибылей.
Другой вопрос в деле промыслового обложения касался судьбы раскладочного сбора с неотчетных предприятий. Здесь принципиально следовало бы идти также на замену его окладным сбором. Но наши финансовые чины все хором были против этого: они в раскладке видели обеспечение правильного показания оборотов и прибылей самими плательщиками, для которых неверное показание прибылей одними отражалось повышением оклада со всех прочих. Ввиду этого, чисто технического значения раскладочного сбора, я не настаивал на замене его окладным, рассчитывая сделать это в будущем; оказалось потом, что сама Финансовая комиссия Государственной думы стала настаивать на такой замене.
Что касается отчетных, акционерных предприятий, то здесь была, главным образом, детализирована и сделана более уравнительною шкала их обложения, а затем внесены некоторые улучшения в самые правила об исчислении сбора с их прибыли. В этих вопросах мы шли довольно согласно с промышленниками, тем более, что вся работа происходила под лозунгом сохранения прежних финансовых результатов: на повышение сборов мы рассчитывали только от общего развития промышленности и торговли. Надо заметить, что добиться даже сохранения прежних размеров казенного дохода было вовсе не так легко. Дело в том, что в начале 1906 г., по закону 2 января, промысловый налог, особенно с акционерных предприятий, был значительно увеличен по случаю трудного положения казны, в связи с войною и революцией[402]. Представители промышленности и торговли утверждали, что они согласились на такое увеличение только временно и что затем оно подлежало отмене. На этой почве разыгралась крупная и нелегкая борьба. Действительно, законом 2 января 1906 г. повышенные ставки были установлены на два года, но в расчете на то, что за это время удастся провести общую реформу промыслового налога. Но эта реформа еще осуществлена не была и, ввиду трудного положения казны, пришлось просить Думу о продлении закона 1906 года впредь до пересмотра положения о налоге. Тут в Финансовой комиссии Думы началась жестокая полемика: члены ее были, несомненно, обхаживаемы представителями промышленности. И полемика эта, как и вообще по податным делам, усложнялась тем, что представители министерства не могли найти сторонников ни в каких партиях. После долгих споров и предложения массы поправок закон был все-таки продлен, но опять на срок[403]. К истечению его мы, однако, успели уже внести в Думу представление об общей реформе промыслового налога: теперь нельзя уже было говорить, что министерство не исполняет своей обязанности[404]. Но все-таки и новое представление о продлении закона 2 января 1906 г. вызвало прежние споры в Финансовой комиссии; однако, на этот раз уже от самой Думы зависело скорейшее осуществление общей реформы. Но кому же охота подгонять себя самого! И вот поэтому закон 2 января был продлен уже без назначения срока – впредь до реформы промыслового налога вообще[405]. Эта же реформа благополучно застряла в Думе: в конце 1912 г. или в начале 1913 г. (а представление наше было внесено в 1909 г.) ею, правда, занялась Финансовая комиссия, но настолько вяло, что дело до Общего собрания так и не дошло.
Вообще, ни один налог не извел меня до такой степени, как промысловый, вследствие той постоянной оппозиции, с которою приходилось тут бороться и в министерстве, и в совещаниях, и в Государственной думе. После совещания с промышленниками, суждения которого выразились в громадном томе его стенографических отчетов[406], я почувствовал себя прямо физически разрушенным.
Систему реальных налогов мы имели в виду дополнить еще налогом с недвижимостей, расположенных в так называемых уездных поселениях. Дело в том, что в России есть много слобод, сел и т. п., имеющих совершенно городской характер и даже более крупных, чем многие города. Но находящиеся в них недвижимости, нередко большие дома и иные строения, остаются не обложенными, тогда как в очень маленьких городах, скорее похожих на села, особенно в местечках Западного края, они его платят. Поэтому мы составили подробный список тех поселений, где, по справедливости, налог мог быть введен. Идти дальше – облагать всякие строения в уездах – мы не решились. За границею такое обложение, правда, существует. Но условия там совершенно иные.
У нас же самая оценка чисто деревенских построек, обслуживающих нужды сельского хозяйства, была бы донельзя затруднительна, если не прямо невозможна. Эти строения должны быть обложены, вместе с землею, поземельным налогом. Поселения же, где должен быть введен городской налог, были бы совершенно освобождены от поземельного налога. В этом смысле нами и было внесено представление в Думу, которая занялась им с большим вниманием, тем более что вопрос был очень простой, да и компетентность членов Думы относительно характера того или иного поселения была больше нашей. Вот они и устремились на критику составленного нами списка и потребовали новых сношений с местными земствами. Список был пересоставлен и вновь внесен в Думу, но после того дело опять застряло и так и не дождалось своего осуществления[407].
Налога с доходов от денежных капиталов мы не трогали: по форме своей он удовлетворял требованиям, а по существу повышение или понижение его было бы одинаково несправедливым. Ведь капитализированная его стоимость была, конечно, в общем и среднем, уже амортизирована и переложена на прежних владельцев процентных бумаг при продаже последних. Таким образом, и в дальнейшем можно было ожидать, что владельцам процентных бумаг придется платить не годовой оклад налога, а капитализированную стоимость его повышения; при понижении же сбора – воспользоваться тою суммою, которую они уже успели переложить на прежних собственников бумаг. Так выходит по теории, которая на практике терпит, конечно, много исключений, в зависимости от тех фактических условий, в коих происходит продажа и покупка бумаг.
С другой стороны, на изменение в размере налога не согласился бы, вероятно, и министр финансов, в интересах государственного и общественного кредита, хотя я должен сказать, что введение налога в 80-х годах не произвело никакого ощутительного влияния на курсовую их стоимость. Впоследствии, в самом начале войны, был составлен проект единовременного обложения денежных капиталов сбором в 0,1 % с ценности бумаг, но в совещании П.А. Харитонова о сведении росписи на 1915 г. и этот сбор встретил такие возражения со стороны графа С.Ю. Витте с точки зрения государственного кредита, что мысль о нем была оставлена[408].
Отказавшись, в силу всех этих соображений, от каких-либо изменений в купонном налоге, мы имели все же в виду, что от налога с капиталов остается изъятою такая группа их, как ссужаемые под залог недвижимостей. Для проектирования сбора с этих капиталов созвано было при Министерстве финансов совещание, где были против него высказаны принципиальные возражения. Но мы все-таки приступили к его разработке. Конечно, и этот налог до войны не был утвержден; он введен в порядке военного законодательства[409]. Главная заслуга в его составлении принадлежала проф[ессору] П.П. Цитовичу. Я не могу удержаться, чтобы не сказать здесь нескольких слов об этом выдающемся деятеле и человеке. Биография его достаточно известна. Сын священника какого-то малороссийского села, он воспитывался на медные деньги: медный пятак считал он тогда состоянием. Из семинарии П.П. Цитович пробился в университет и затем сделал блестящую ученую карьеру. Жизнь его прошла бурно: сперва близкий к представителям нашей либеральной интеллигенции, он, по личным причинам, резко с нею порывает и начинает страстную с нею борьбу. Наши кадетствующие профессора громко называли его изменником. Это была, однако, не измена определенным честным убеждениям, а отчаяние, происходящее от сознания фальшивости тех ложных богов, которым воскуривались фимиамы. Истинный православный, глубоко верующий человек, он подолгу живет за границей в католическом монастыре, ища в строгости монашеской жизни контраста нашей религиозной распущенности. Его даже подозревали в переходе в католическую религию, но едва ли это верно: православие, и притом православие воинствующее, борющееся с католичеством, пустило в душе П.П. слишком глубокие корни. То, что всего сильнее возмущало его дух, это была недобросовестность во всех ее проявлениях. Ее искал он и обличал везде, где только мог, обличал со свойственною ему образностью речи и остроумием. Говорят, что лекции его по торговому праву, чтению которого он положил начало в наших университетах, были замечательно интересны именно раскрытием целых картин нашей коммерческой недобросовестности[410].
Речь П.П. не отличалась красноречием: говорил он с очень сильным малороссийским акцентом, произнося «хв» вместо «ф» и т. п. Претензии в его речах не было никакой, начинал он их очень нескладно; но сила убеждения его была так велика, образность выражений так сильна, что приковывала к себе общее внимание. Я приглашал его нередко как члена Совета министра финансов в заседания по вопросам, касавшимся обложения торговли и промышленности, и всегда, как только он начинал говорить, все – и чиновники, и купцы – настораживались и старались не проронить ни одного слова, хотя нередко он резко высказывался, что называется, против шерсти своей аудитории. Ему возражали, горячо с ним спорили, но не могли отрицать силы и искренности его аргументации.
В университете в последние годы жизни П.П. Цитович не читал, но нередко председательствовал в юридических испытательных комиссиях. Желудочные страдания почти ежегодно заставляли П.П. ездить летом в Киссинген, где он был более 20 раз подряд. Но там его только подправляли, радикально не излечивая. С годами болезнь его чрезвычайно обострилась, и страдания сделались очень сильными, даже невыносимыми. Но зато дух был очень крепок. Сперва П.П. даже выезжал с болями, потом, уже совсем слабый, лежа в кресле, все-таки беседовал по университетским делам. После одной из таких бесед, когда я видел его в последний раз, он через несколько дней скончался. Болезнь его была, по-видимому, рак, но с уверенностью я этого утверждать не могу.
В последние годы жизни П.П. Цитович был сенатором Судебного департамента[411]. Надо только удивляться, что такой выдающийся юрист так долго не был сенатором: все от отсутствия искательства. На его похороны собрались отдать последний долг как его друзья, так и многие его политические противники: все одинаково не могли не оценить нравственную высоту усопшего и его выдающееся значение в науке и жизни.
Но возвращаюсь к податным проектам. Надстройкою, дополнением к системе реального обложения должны были явиться, по нашему плану, личные налоги, т. е. главным образом подоходный налог. Вопрос о введении у нас этого налога возбуждался еще в известной Податной комиссии, которая даже выработала некоторые проекты, направленные к этой цели. Тот же вопрос возникал несколько раз и впоследствии, но всегда разрешался в отрицательном смысле еще до внесения в Государственный совет. Подоходный налог не пользовался и симпатиями министров финансов, которые не ожидали от него серьезного дохода для казны, а предвидели очень много неприятностей и беспокойства и для плательщиков, и для финансовой администрации. Подоходному налогу придавали притом какое-то политическое значение: с одной стороны, это было требование левых партий, с другой – введение какого-то социалистического элемента в наше законодательство. Поэтому правительство относилось к нему с опаскою и по всем приведенным соображениям. Однако финансовые потребности вызывали необходимость серьезно подумывать о новых формах обложения. Настаивали на этом и некоторые общественные круги, далекие от левых политических течений и социализма, а именно промышленники и торговцы: в промысловом налоге они, в сущности, были уже привлечены к подоходному обложению и основательно указывали на несправедливость изъятия от него всех других плательщиков. Когда в 1893 г. ожидался крупный дефицит по бюджету, новому министру финансов С.Ю. Витте пришлось подумать о новых налогах. Конечно, явилась мысль и о подоходном налоге. Но он отверг ее с самого начала, как по техническим, так и по политическим соображениям: для него лично, конечно, было неудобно начинать с введения такого налога, который вызвал бы против него общее неудовольствие влиятельных классов общества[412].
Поэтому С.Ю. Витте изобрел два суррогата подоходного налога: квартирный налог[413] и военный налог с освобождаемых от отбывания воинской повинности натурою. Первый падал бы на городских жителей, второй, очень ничтожный, по 3 р[убля] в год, явился бы своего рода возвратом к подушному обложению. Воинский налог так и не был тогда введен ввиду крайней его незначительности и сведения бюджета другими средствами. Но квартирный осуществился. С.Ю. Витте ожидал от него больших доходов. Вскоре, однако, обнаружилось, что этот налог не дал даже того, что от него рассчитывали получить. Это обстоятельство еще более расхолодило С.Ю. Витте ко всем формам лично-подоходного обложения. Вообще, к прямым налогам он относился безо всякого энтузиазма: все его внимание сосредоточилось на косвенных и главным образом на его детище, винной монополии, которая действительно оправдала все финансовые расчеты[414]. Однако когда во время японской войны вопрос об изыскании новых источников государственных доходов стал очень остро, опять пришлось подумать о подоходном налоге. На этот раз вопрос о нем был поднят в бюджетной речи государственного контролера П.Л. Лобко, думаю, что не без влияния его просвещенного товарища Д.А. Философова[415]. Эта ли речь или другие обстоятельства, но подоходный налог был вновь поставлен на очередь и, как я уже упоминал выше, весною 1905 г. образована была комиссия из профессоров. С тех пор Департамент окладных сборов принялся работать над проектом подоходного налога прямо не покладая рук. Много пришлось за него бороться еще до внесения его в Государственную думу. Собственно говоря, сам министр финансов В.Н. Коковцов относился к этому делу довольно безразлично. Возможно, что он принял такой тон, чтобы избегнуть обвинений в левых тенденциях, или просто не рассчитывал на успех. Во всяком случае, нам он не чинил никаких препятствий, а, напротив, оказывал всякую поддержку, когда была в ней надобность. Проект вчерне был закончен Департаментом уже зимою 1905 г. или в самом начале 1906 г. Мы докладывали его тогдашнему министру финансов И.П. Шипову, который остался им очень доволен[416]. Тогда проект был внесен в междуведомственное совещание. Здесь он прошел без особых трений, хотя А.В. Кривошеин, представитель Главного управления землеустройства и земледелия, высказался принципиально против него, как против уступки левым партиям, в программе которых стоял подоходный налог. Но он все же не настаивал на своем мнении, так как вопрос о внесении проекта в Думу был уже решен правительством в положительном смысле[417]. Особые споры вызвал вопрос о нарушении коммерческой тайны ради получения данных о доходах плательщиков, об обязанности кредитных учреждений давать фиску сведения о находящихся у них вкладах и т. п. Для обсуждения этого частного вопроса было образовано отдельное совещание при участии представителей банков и Кредитной канцелярии[418]. Председательствовал в нем И.П. Шипов; хотя в то время он уже не был министром, но он желал довести лично до конца дело о подоходном налоге[419], а также о реформе наследственных пошлин; о них я еще буду говорить впереди. На этом совещании Департамент окладных сборов и проф[ессор] И.Х. Озеров были за открытие коммерческой тайны; представители банков и директор Кредитной канцелярии Л.Ф. Давыдов – против. Между банкирами и И.Х. Озеровым произошли даже очень резкие пререкания. Таким образом, вопрос остался в крупном разногласии и был решен В.Н. Коковцовым в согласии с мнением банков. Противоположное решение восторжествовало уже в Финансовой комиссии Государственной думы.
После наших внутренних комиссий проект подоходного налога поступил в 1906 г. в Совет министров[420]. Здесь, еще до рассмотрения его в заседании Совета, им подробно занялся государственный контролер П.Х. Шванебах. Как представитель охранительных начал в Совете министров, он был резко против этого налога; но так как внесение проекта было все-таки предрешено, то он стал останавливаться на разных частностях и делать замечания, которые все дело сводили на нет. Мне пришлось ездить к П.Х. Шванебаху несколько раз по этому предмету. Это была довольно любопытная индивидуальность на нашем бюрократическом небосклоне. Немец, кажется, даже иностранного происхождения[421], плохо говоривший по-русски, не обнаруживший особых талантов ни в одной из тех отраслей управления, коими ведал, он держался, главным образом, на политическом своем миросозерцании. Но должен отдать ему справедливость, что и с принципиальных своих точек зрения он сходил довольно быстро, под влиянием разного рода посторонних соображений, благодаря чему мои с ним беседы привели лишь к самым незначительным поправкам в проекте. Однако на заседании Совета министров П.Х. Шванебах все-таки возражал, настаивая на полной переделке проекта, как подражания иностранным образцам, не заключающего в себе элементов национального творчества[422]. Это в особенности было оригинальное замечание в его устах; да и в чем должны были заключаться элементы национального творчества, он, к сожалению, так и не объяснил. Прочие министры предлагали несущественные поправки. В.Н. Коковцов принял по отношению к проекту особую позу: он просил пропустить его и разрешить внести, наконец, в Думу – для него-де проект сам по себе не так ценен, но внесение его обещано и надо с этим делом покончить. Он просил отпустить его душу на покаяние[423].
Совет в принципе высказался за внесение, некоторые же частные разногласия поручил разрешить малому совещанию из В.Н. Коковцова, П.Х. Шванебаха, главноуправляющего землеустройством и земледелием князя Б.А. Васильчикова и министра торговли Д.А. Философова, которое собралось у В.Н. Коковцова и покончило с этим делом в один вечер. Так, наконец, в начале 1907 г. нам удалось внести проект подоходного налога в Государственную думу[424]. Взяло это у нас почти два года очень усидчивой работы. Вторая Дума, куда попало это дело, конечно, не имела никакого намерения им заниматься, так как вообще заниматься она не собиралась. Таким образом, подоходный налог докатился позднею осенью 1907 г. до Третьей Думы, где и нашел упокоение[425]. Здесь вовсе не спешили с его рассмотрением, напротив, в большинстве относились к нему даже отрицательно. Стоит ли, рассуждали тогда, поднимать такое дело, которое произведет полную пертурбацию в налоговых условиях населения, а даст сравнительно небольшие финансовые результаты! Финансовая комиссия, впрочем, занялась проектом и составила доклад; докладчиком, и очень усердным, был барон Н.Г. Черкасов; но дело шло все-таки вяло, хотя Департамент[426], чтобы хоть несколько оживить его, представил новые статистические данные, которые доказывали, что финансовые результаты налога будут значительно больше, чем ожидали ранее[427]. Теперь уже стали бояться, как бы этот налог, подобно налогу с городских недвижимых имуществ, не взял у плательщиков гораздо больших сумм, чем даже рассчитывало Министерство финансов. Вообще, нас с этих пор стали постоянно подозревать в стремлении приуменьшить цифры ожидаемых от налогов поступлений. Так дело протянулось все пять лет существования Третьей Государственной думы. Любопытно отметить, что в начале пятилетия Дума обыкновенно смотрела на податные вопросы гораздо шире – выборы были далеко. Но в четвертом и пятом году нельзя было и надеяться провести что-нибудь подобное налоговым реформам: так был велик страх перед избирателями. И страх основательный: некоторые городские депутаты Третьей Думы так и не были переизбраны в Четвертую[428] за то, что пропустили закон о налоге с городских недвижимых имуществ.
Когда собралась Четвертая Дума, то вопрос о подоходном налоге опять всплыл на поверхность[429]. Но при этом получилось неожиданное осложнение: для Четвертой Думы этот налог был новым делом, вся работа Третьей Думы подлежала возобновлению. Опять была образована подкомиссия, а затем Финансовая комиссия приступила к рассмотрению этого дела сызнова, и новым докладчиком Б.И. Кринским был составлен новый доклад. Так было с формальной стороны; но, разумеется, работа Финансовой комиссии Третьей Думы не могла остаться совершенно бесследною и легла в основу работы Четвертой Думы. Особенную заслугу в деле нового и сравнительно быстрого прохождения проекта в Четвертой Думе я приписываю председателю подкомиссии и товарищу председателя Финансовой комиссии проф[ессору] А.С. Посникову: он не дал ни заснуть этому делу, ни внести в него такие поправки, которые испортили бы его смысл и значение. Напротив, проект подоходного налога вышел из Финансовой комиссии улучшенным, потребовав от нее много заседаний, и дневных, и вечерних. Я не привожу здесь перипетий этого рассмотрения, во-первых, потому, что многое испарилось уже из памяти, а во-вторых, в том внимании, что в отчетах Финансовой комиссии и в докладах ее это изображено полно и подробно. Но, как я уже говорил, судьба податных дел разрешалась не в комиссии, а в Общем собрании. Тем паче это применимо было к подоходному налогу. Если бы даже удалось протащить его через Думу, то можно было почти наверное сказать, что он застрянет в Государственном совете. Когда в феврале 1914 г. мне пришлось быть на первом докладе у П.Л. Барка, нового министра финансов[430], то я ему рассказал обо всех делах, внесенных в Государственную думу, в том числе и о подоходном налоге. «Неужели вы думаете, – спросил он, – что подоходный налог когда-нибудь будет введен?» «Я думаю, – сказал я, – что он будет обязательно введен тогда, когда забьют барабаны, затрубят трубы и раздадутся выстрелы новой войны». Я не думал, что это предсказание осуществится с такою точностью и притом так скоро. Между тем, так думали далеко не все, изыскивая иные пути получения новых источников дохода. Еще до войны возникло опять предположение о введении личного налога взамен отбывания воинской повинности натурою. Я уже говорил, что вопрос о таком налоге был возбужден при вступлении С.Ю. Витте в управление Министерством финансов; но тогда он был оставлен. На этот раз мысль о военном налоге появилась с разных сторон. Говорили о нем и в Государственной думе, в частности, А.И. Гучков[431]. Ухватились за эту мысль и правые, усматривая в военном налоге способ обложения вроде подушной подати, отзывавшейся добрым старым временем. Думали о нем серьезно и другие партии, надеясь отклонить от себя этим способом грозу подоходного обложения: от воинского налога ожидали громадных сумм. Наконец, решительно высказывалось за налог и Военное министерство, с чисто технической точки зрения борьбы с уклонением от воинской повинности. Все эти ожидания и надежды были, в сущности, построены на песке и на недостаточном знании дела. Для обсуждения вопроса была образована при Министерстве финансов очень многочисленная комиссия. Эта комиссия выяснила с большой определенностью, что, пока нет подоходного налога, воинский налог может быть установлен только в одинаковом размере со всех плательщиков, т. е. быть очень несправедливым, подобно подушной подати, и, при чрезвычайных затруднениях исчисления и взимания, дать гроши. Генерал Янушкевич, будущий начальник Генерального штаба[432] и Штаба верховного главнокомандующего[433], с большим одушевлением отстаивал воинский налог и представил проект распределения плательщиков на многочисленные классы, по роду занятий и состоятельности, с различными окладами для каждого класса. Но сразу же, при первоначальном ознакомлении с этой классификацией, в ней обнаружилось столько дефектов, что пришлось ее оставить и убедиться, что и всякая иная классификация будет страдать подобными же дефектами. Таким образом, проект был внесен в Думу в виде однообразного оклада с каждого плательщика, впредь до введения подоходного налога. Финансовая комиссия, однако, усвоила себе всю неудовлетворительность подобного налога и, видя, кроме того, что и министерство на нем не настаивает, отклонила проект впредь до введения подоходного налога[434].
Тем не менее, вслед за объявлением войны, опять остановились на мысли ввести воинский налог, не ожидая подоходного. На этот раз ход мыслей не был ясно формулирован. Под военным налогом некоторые разумели какой-то вид личного обложения, падающий чуть ли не на все население, взамен отмененного дохода от казенной монополии, взимавшегося с широких народных масс. Вообще, идея восстановления подушной подати стала в это время довольно популярной и поддерживалась многими. Формою введения такого обложения и должен был явиться военный налог. В Совещании, собранном П.Л. Барком в конце августа 1914 г., главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин прямо высказывал, что для введения подоходного налога не время по военным обстоятельствам, а нужна личная подать. Так как однообразная для всех плательщиков личная подать была бы неуравнительна, то А.В. Кривошеин предлагал – мысль эта принадлежала его сотруднику В.С. Кошко – дифференцировать оклады по степени полученного образования, являющегося в известной степени показателем уровня возможного заработка: низший оклад налога возможно было бы установить в 5 рублей; для окончивших 4-х классное училище – в 10 рублей; для получивших среднее образование – в 25 рублей и, наконец, для лиц с высшим образованием – в 50 рублей. Этот проект исходил от влиятельнейшего члена правительства, а потому, как водится, нашел сторонников уже в Совещании[435]. Вопрос был передан в специальную Комиссию[436], где, однако, несмотря на энергичную защиту В.С. Кошко, его изобретение принято не было, и Комиссия весьма рационально остановилась на той мысли, что надо поскорее со всего населения, кроме находящегося на фронте, ввести подоходный налог и притом в несколько увеличенном размере; а с лиц, освобождаемых от призыва, взимать, сверх того, 50 % с уплачиваемого ими подоходного налога, если же они этого налога не платят, то брать с них по 6-ти рублей с души. В этом виде Министерство финансов и внесло проект в Совет министров[437]. Но там посмотрели на дело иначе. Ввести подоходный налог в чистом виде все-таки не решились, разряды же по образованию, проектированные В.С. Кошко, постановили заменить разрядами по доходу, определяемому самым приблизительным образом, без подачи деклараций. Таких разрядов должно было быть только четыре: получавшие до 1000 рублей дохода платили бы 6 рублей; от 1000 до 5000 рублей – 25 рублей; от 5000 до 10000 рублей – 50 рублей, а свыше 10000 рублей – 100 рублей. Конечно, это был уже налог только с освобождаемых от призыва, а не военный налог, распространяющийся на все население. В этом виде он и был введен[438], и это в то время, когда в Государственной думе подходило к концу, если уже не было закончено, рассмотрение проекта подоходного налога: спешили ввести какой-то суррогат, быть может, в надежде, при его успешности, как-нибудь избавиться от ненавистного подоходного налога. Так слабо было у нас сознание государственного значения податных вопросов.
Между тем, еще в конце 1914 г. в общественных собраниях, напр[имер], в Совете съездов представителей промышленности и торговли, сами промышленники громко высказывались за введение подоходного налога. Я помню одно такое весьма многолюдное собрание, куда приглашены были разные специалисты податного дела, между прочим, граф С.Ю. Витте, Н.Н. Кутлер, многие профессора; помню горячие речи в пользу налога; помню впечатление, произведенное и моими словами по этому поводу. Граф С.Ю. Витте, который всегда был противником подоходного налога, приехав после этого в Комиссию П.А. Харитонова по сведению росписи на 1915 г., со свойственным ему практическим провидением сказал, что он убедился отныне, что подоходный налог должен быть введен и будет введен. И в самом деле, через полтора года закон о подоходном налоге получил высочайшее утверждение[439]. Мне уже не пришлось защищать его проект с кафедры Государственной думы: я был в это время членом Государственного совета. Да в Общем собрании Думы и не понадобилось бы его отстаивать: дело, помнится, ограничилось речью А.С. Посникова, покрытою аплодисментами[440]. Главный мотив, превыше всех по своей убедительности и даже императивности, была война.
Проект встретился со мною снова, когда он поступил в Государственный совет. Желая хоть чем-нибудь содействовать его прохождению, я к этому времени напечатал в «Вестнике финансов»[441] ряд статей о подоходном налоге за границею и у нас[442] и о мотивах pro и contra[443] этого налога. С дополнением очерка истории русского прямого обложения эти статьи образовали книгу, которая появилась в 1915 году[444]. Я разослал ее тогда всем видным членам Думы и Совета и думаю, что кое-кто ее прочитал. В Финансовой комиссии Государственного совета[445] была сделана попытка отклонить весь проект. Застрельщиком явился на этот раз представитель Гродненской губернии Скирмунт. Но было уже ясно, что идти назад с этим делом не приходится. Поговорили, конечно, и довольно долго, но, в конце концов, проект был принят и вошел в Общее собрание с поправками, направленными даже к большему его обострению, к повышению налоговых ставок[446]. В это время особенно стали повторять крылатое слово графа В.Н. Коковцова о необходимости, по обстоятельствам времени, налоговой беспощадности. Какая, однако, добрая была эта беспощадность по сравнению с тем, что было потом. Доклад дела в Государственном совете был поручен мне. Но до этого так и не дошло: 25 января 1916 г. я был назначен государственным контролером, и доклад передан был проф[ессору] А.В. Васильеву. Опасаясь, как бы со стороны правительства защита в Общем собрании не оказалась слишком слабою, я просил поручить ее мне, П.Л. Барк даже просил меня об этом. Сперва было еще заседание Совета министров, где был поставлен вопрос о том, будет ли правительство отстаивать проект в Государственном совете. Некоторые члены Совета министров готовы были отказаться от него даже в этой последней стадии его прохождения. Слышались все старые погудки, даже не на новый, а на старый лад, что подоходный налог есть уступка левым партиям, что это социалистическая реформа и т. п. Пришлось и тут спорить. В конце концов, было все-таки решено, что идти назад уже поздно, хотя некоторые члены Совета министров, бывшие одновременно и членами Государственного совета, не хотели приезжать в заседания последнего, чтобы не быть вынужденными голосовать за налог против своего убеждения[447]. В Общем собрании Государственного совета проект прошел с гораздо бόльшими затруднениями, нежели в Думе[448]. Правые выставили оппонентом самого И.Г. Щегловитова, который ссылками на социалистических писателей старался доказать, что налог этот есть одно из ярких выражений социалистической доктрины[449]. Были и другие ораторы против налога. Но в его защиту выступили гораздо более блестящие сторонники. Особенно решающее значение имела, бесспорно, великолепная речь гр[афа] В.Н. Коковцова; она прямо решила дело[450]. Прекрасно говорили М.М. Ковалевский, князь Е.Н. Трубецкой, А.Ф. Кони, которого я еще до заседания просил выступить[451]. Я не привожу содержания всех этих речей, прежде всего потому, что плохо их помню, а затем, при стенограммах, их всегда можно найти и прочесть[452]. Здесь, как ранее в Финансовой комиссии по поводу бюджета, граф В.Н. Коковцов говорил о налоговой беспощадности и ее необходимости в условиях военного времени. По поддержанному им предложению прошло повышение ставок для крупных доходов до 12½%. На заседаниях в императорской ложе все время присутствовал великий князь Николай Михайлович.
Вопрос о переходе к постатейному чтению был решен в одном заседании, а затем, помнится, еще два заседания были посвящены рассмотрению проекта по статьям. Здесь тоже оказались большие трудности. Особенный спор вызвал вопрос о привлечении к налогу юридических лиц, т. е. главным образом акционерных компаний. Против этого с блестящей речью выступил В.И. Гурко, но безуспешно. В конце концов, с некоторыми несущественными изменениями, кроме повышения окладов, дело прошло и передано было в согласительную комиссию[453]. Но и там соглашение состоялось по всем пунктам, и, таким образом, весною 1916 г., т. е. через одиннадцать лет после приступа к разработке, закон о подоходном налоге[454] получил, наконец, высочайшее утверждение[455].
История прохождения его в наших законодательных учреждениях очень поучительна и характерна. Ведь подоходный налог был крупными буквами написан на знамени Первой Государственной думы, не говоря уже о Второй. Однако ни в Третьей, ни в Четвертой Думе кадетская партия, так поддерживавшая эту идею, не проявила решительно никакой энергии, чтобы ускорить дело и двинуть его вперед[456]. Восклицаний была масса, но содействия никакого. Напротив, во всех почти налоговых вопросах эта партия оказывалась в оппозиции, потому что эти вопросы слишком затрагивали ее материальные интересы. В подоходном налоге более, чем в каком-либо другом вопросе, выяснилась слабая способность народного представительства стать на общегосударственную точку зрения. Я убежден, что не будь войны, никогда этот налог не увидал бы света. Правые партии высказывались против него собственно потому, что это был один из лозунгов левых. Но и здесь, как и у кадетов, не было искренности, а главным образом – себялюбивая защита личных интересов. Правые не могли не понимать совершенно ясно, что для кадетов подоходный налог – простая вывеска, которую они вовсе и не предполагали осуществить на деле. Это, напр[имер], отлично усвоил Н.Е. Марков 2-й, который в налоговых вопросах всегда подзадоривал кадетов своим радикализмом, отлично зная, что они так далеко не пойдут. Что касается характеристики подоходного налога как меры социалистической, то здесь, мне кажется, я и печатно, и в Думе, и в Совете опроверг это заблуждение. Подоходный налог есть средство защиты от социализации имуществ; теперь, после того, как мы дожили до большевизма, это не может уже подлежать никакому сомнению. Ведь подоходный налог предполагает непременно и неизбежно собственность, дающую доход; а коммунизм и социализм ее отрицают. Поэтому подоходный налог является компромиссом, при котором сохранение принципа частной собственности и капиталистического строя обеспечивается при одновременном удовлетворении требований справедливого распределения налогового бремени сообразно имущественной состоятельности каждого. Коммунистический же строй в налогах вообще не нуждается, так как все имущество, все капиталы при этом строе национализируются. Народное представительство, которое правильно понимало бы свою обязанность поддержания существующего экономического строя, должно было бы всегда идти навстречу таким реформам, как подоходный налог. Но против этого выступали классовые интересы и неизвестно на чем построенная надежда, что можно будет еще просуществовать и так. И вот, благодаря этой узкой точке зрения, не только в налоговой, но и в других областях экономической жизни, мы теперь и дожили до полного разрушения индивидуалистического строя, восстановление которого потребует совершенно исключительных усилий и жертв.
Само собою разумеется, нет той истины, которая, при ничем не ограниченном ее проведении, не могла бы довести до абсурда. Если увеличить ставки подоходного налога до бесконечности, то можно уничтожить всякую собственность. Но это же не аргумент против подоходного налога, а против злоупотребления принципом прогрессивного обложения. Этого не поняло после Февральской революции Временное правительство и его министр финансов А.И. Шингарев: они полагали, что налог, как бы он велик ни был, остается все-таки налогом, и забывали элементарное правило, что объект обложения не должен подвергаться уничтожению. В силу этого оклады подоходного налога и добавочного к нему дополнительного налога были доведены до 60 %, а для промышленных предприятий, вместе с обложением военной прибыли, до 90 %. А так как доход исчислялся по размерам его в 1916 г., то зачастую обложение дохода 1917 [г.] превышало значительно 100 %, т. е. поглощало весь доход и часть капитала[457]. Разрушая объект, такое обложение разрушало самого себя. Это было, конечно, на руку социалистам, так как в таком размере налог являлся не гарантиею существующего экономического строя, а способом его разрушения. Большевикам, впрочем, и этого оказалось мало: они теперь проводят всевозможные нормы национализации собственности, после чего им уже никаких налогов не понадобится[458]. К этому они, как известно, и стремятся, а слепые вожди слепых, кадеты, попав в правительство, оказали им самое усердное содействие, разрушив ту систему подоходного обложения, которую сами защищали.
Третий этаж податной системы в западноевропейских странах – в Германии и в Англии – образуют в последнее время налоги имущественные. Они являются до известной степени коррективом к подоходному налогу, устанавливая более высокое обложение так называемых фундированных доходов, т. е. доходов от имущества, в противоположность доходам от личного заработка. В Пруссии, а затем и в некоторых других германских государствах, в этой роли явился дополнительный имущественный налог, заменивший в этом смысле реальные налоги, переданные местному самоуправлению. Другую форму обложения имуществ составили налоги с наследств и с прироста ценности. Этими налогами настигается та часть имущества, которая нормально не подлежит иным видам обложения. В частности, наследственный налог является могущественным способом поверки показаний, сделанных для подоходного налога: здесь, при открытии наследства, обнаруживаются нередко скрытые плательщиками при декларациях по подоходному налогу источники доходов.
Таким образом, третьей областью, где открывалась возможность дальнейших преобразований, могли быть налоги имущественные и наследственные. Я думал, однако, да остаюсь при этом убеждении и сейчас, что для введения у нас имущественного налога время еще не наступило: это дело не столь близкого будущего. Во-первых, нет и надобности в этом налоге для более высокого обложения фундированных доходов, пока у нас существует в бюджете реальное обложение: земель, домов, промыслов и капиталов. А во-вторых, оценка имуществ по их ценности, а не доходности, представляет чрезвычайные затруднения, а ведь мы до сих пор не выполнили оценки земель по их доходности, которая несравненно легче. Наши профессора-финансисты вроде П.П. Гензеля убеждены, что это очень все просто, и уверили в этом Временное правительство, которое включило имущественный налог в свою податную программу[459]. Но я убежден, что практика очень разочарует в этом отношении. Свои возражения против имущественного налога я в 1917 г. напечатал в «Новом времени»[460]. Мне возражал, между прочим, проф[ессор] Ф.А. Меньков в «Новом экономисте»[461], но его доводы меня нисколько не убедили. Другое дело – налоги с прироста ценности и наследственные. Налоги с прироста ценности могли бы быть у нас предоставлены городам, которым легче оценить этот прирост, происходящий нередко от различных городских мероприятий: проведения новых улиц, трамваев и т. п. Что касается наследственного налога, то реформа его была проектирована нами одновременно с подоходным налогом[462]. Как известно, наши пошлины с безмездного перехода имуществ имеют прогрессивные ставки в зависимости от степени родства наследника с наследодателем, но не от размера наследственных долей. Кроме того, от обложения изъяты земли, переходящие по наследству к родственникам первой степени. Наконец, оценка наследственных имуществ производится по нормам и притом судами, а не податными учреждениями. Попытка передачи исчисления и взимания пошлин финансовым органам была проектирована еще в 1903 (?) г.[463], но потерпела неудачу в Государственном совете. Поэтому мы предприняли более широкую реформу, сводившуюся к исчислению прогрессивных окладов не только по степени родства, но и по ценности наследственных долей; к установлению, вместо законных, индивидуальных, специальных оценок наследств, к отмене ничем не оправдываемого изъятия земель и к передаче дела исчисления и взимания пошлин финансовым органам.
Для обсуждения этого проекта была также образована Комиссия под председательством И.П. Шипова, и проект был внесен в Думу также в 1907 г., но и до сих пор он не увидал света[464]. Впрочем, для его рассмотрения при Финансовой комиссии Государственной думы была образована подкомиссия под председательством П.В. Синадино, которая приложила все меры к тому, чтобы испортить проект, т. е. внести разного рода правила в целях нормализации оценок и ограничения вмешательства фиска. Доклад подкомиссии был рассмотрен и Финансовою комиссиею, и затем его предполагалось назначить к слушанию в Общем собрании Думы даже раньше подоходного налога. Но дело на этом и остановилось. Поэтому параллельно с этим проектом Департаментом окладных сборов была разработана, на основании новых статистических данных, новая табель законных оценок земель для взимания наследственных, гербовых и крепостных пошлин, которая получила утверждение уже в порядке военного законодательства[465]. Но до какой степени всякие законные оценки вообще не могут угнаться за действительными изменениями в стоимости имуществ, это лучше всего показывает нынешнее время: теперь эта табель, утвержденная в 1915 г., не имеет уже никакого практического значения. Что касается общей реформы наследственного налога, то она была предположена и Временным правительством, которое пошло в этом отношении даже несколько дальше нас: по его проекту ставки налога будут прогрессировать в зависимости от размера не наследственных долей, а всей наследственной массы[466]. Такой порядок ближе отвечает задаче наследственного налога – служить коррективом подоходного обложения не наследников, а именно наследодателя; при этом и финансовые результаты будут больше. Теперь, однако, с упразднением наследств, нет места и для их обложения: новое доказательство того, что налоги не имеют ничего общего с социализмом и коммунизмом, а, напротив, составляют принадлежность совершенно иного экономического и социального строя.
Я не буду здесь касаться разного рода менее существенных проектов податного характера, получивших силу закона после 1905 г. уже в силу своей незначительности. Упомяну еще только о проекте финансирования местного самоуправления – городов и земств. Этот вопрос стоял давно на очереди, с 1885 г., с Комиссии А.А. Рихтера о земском обложении. С одной стороны, земства справедливо жаловались, что у них нет средств, так как они не располагали никакими иными источниками, кроме обложения недвижимых имуществ. В силу этого, под предлогом обложения земель, содержащих горные месторождения, и строений и других помещений торгово-промышленных предприятий, создался, рядом с государственным, очень обременительный и неуравнительный промысловый земский сбор. Равным образом, и земли были, по крайней мере в некоторых местностях, обложены очень высоко. В 1900 г. пробовали помешать неограниченному росту земских сборов, установив известную предельность роста земских расходов[467]. Но эти расходы сами по себе были у нас так невелики сравнительно с потребностями местного благоустройства, что мера эта осталась совершенно без практического результата, создав только трения между правительством и земствами. Таким образом, и плательщики земских сборов чрезвычайно жаловались на их обременительность и неуравнительность, и земства не менее жаловались на недостаток средств. В то же время земская и городская система обложения, стоявшая, в сущности, вне всякой связи с государственною, препятствовала проведению серьезных преобразований в этой последней. Мы остановились поэтому на мысли в основу местного обложения положить государственные налоги, отменив несовместимые с ними местные сборы, а происходящие от этого недоборы пополнить из нового источника, который земства и города получили бы в виде дополнительного ко всем видам казенного налога сбора с торговли и промышленности[468]. Вопрос обсуждался сперва в междуведомственных комиссиях, куда были приглашены представители местного самоуправления и торговли и промышленности. Любопытно было здесь наблюдать, как складываются интересы в вопросах обложения: для земских деятелей наша система казалась приемлемою, так как земства получали этим способом доступ к обложению торговли и промышленности. Они опасались только, как бы не прогадать, отказываясь от сборов с торгово-промышленных помещений и рудных месторождений. Представители тех местностей, где эти сборы давали крупные доходы, возражали против их отмены. Напротив, промышленники и торговцы были очень рады отмене этих совершенно произвольных сборов, но справедливо чувствовали, что в виде добавок ко всем видам промыслового налога им придется платить, пожалуй, еще больше. Между этими Сциллой и Харибдой нам удалось все-таки провести свой проект и внести его в Государственную думу[469]. Но здесь на него напали кадеты: они восклицали, что мы этим способом ничего не даем земствам, что надо поставить вопрос несравненно шире. Припертые к стене, кадеты на этот раз внесли свой проект, сводившийся к передаче поземельного и подомового налогов, а также патентного сбора целиком земствам и городам[470]. Это приводило бы к разрушению всей нашей податной системы. Но для кадетов это, конечно, было безразлично. Так дело это и застряло. Ограничились изданием закона о снятии с земств и городов ряда расходов государственного характера, с перенесением их на казну. Любопытен самый процесс прохождения этого дела в Думе. Хотя правительство заявило, что берет на себя разработку проекта закона об улучшении земских финансов, Дума все-таки постановила сама выработать такой законопроект, или не доверяя тому, что правительство исполнит свое обещание, или, что вернее, желая показать свое усердие в этом деле перед избирателями[471]. И вот председатель Финансовой комиссии Г.Г. Лерхе взялся лично за это дело. И что же он сделал! Он ознакомился с предположениями министерства и с необыкновенною быстротою внес их от себя, напутав при этом так, что все стали в тупик. Тем не менее, Финансовая комиссия все-таки приступила к обсуждению его проекта, хотя мы предупреждали ее, что министерский проект будет внесен очень скоро. Часть доклада Г.Г. Лерхе – о налогах – была, за неясностью ее, оставлена пока без рассмотрения, ограничились самою элементарною частью – о снятии с земств и городов некоторых расходов, и в январе 1912 г. внесли об этом доклад в Общее собрание Думы. Но его еще не успели там рассмотреть, как в марте было внесено и правительственное представление. Тогда первый доклад Финансовой комиссии пришлось пока бросить и заняться этим представлением. Но опять-таки часть налоговую, по ее сложности, комиссия не осилила и ограничилась частью о перенесении на казну некоторых земских и городских расходов, что затем и получило силу закона[472]. А более существенная, но затрагивающая серьезные интересы плательщиков налоговая часть так и остается до сих пор в пространстве. Кадеты достигли своей цели: правительственный проект они затормозили, да и свой, который они в глубине души вовсе не поддерживали, не провели.
Итак, если теперь взять баланс того, что было предположено, и что удалось провести с 1905 г. до войны, то окажется крайняя бедность: преобразован был только налог с городских недвижимых имуществ, да отнесены на казну некоторые земские и городские расходы. Война дала сильный толчок податным преобразованиям: она дала подоходный налог, налог с закладных, военный налог и повышение целого ряда сборов. Для будущего остались завершение земельных оценок и преобразование поземельного налога, введение налога с уездных поселений и реформы промыслового налога, наследственного налога и всей системы местного обложения. Революция в первом февральском своем фазисе пробовала создать у нас поимущественное обложение и расширить реформу наследственного налога, но на деле форсированием ставок только в корне разрушила надежды на успех подоходного обложения. Октябрьский же переворот и дальнейшие события ведут к уничтожению всякого правильного обложения и к замене его национализацией предприятий и конфискацией имуществ и капиталов.
В податном деле, может быть, яснее, чем в каком-нибудь другом, видны ошибки нашего думского представительства, которое должно было отрешиться от личных и классовых интересов, стать на общегосударственную точку зрения и взять реформу податного дела в свои руки. Между тем, ради плохо понятых интересов избирателей, оно ограничивалось борьбою с правительством за их карман. И в результате (конечно, не в одной податной области) не сумело предупредить революции, которая сразу же принялась за экспроприацию всех имущих классов. Очевидно, в государственных делах мало одной осторожности – необходима и предусмотрительность.
Глава 5 ВОСПОМИНАНИЯ 1914–1917 ГГ
27 июня 1914 года окончилась фактически моя служба по Министерству финансов (я был назначен членом Государственного совета еще 1 февраля 1914 года, но продолжал исполнять обязанности товарища министра финансов до окончания сессии законодательных учреждений 27 июня того же года), и 1 июля я уже был в деревне. Первые полторы недели прошли совершенно спокойно, и я предавался полному отдыху. Но 12 июля получено было первое известие о конфликте между Сербией и Австрией[473] и о русской интервенции[474]. Мне уже тогда стало ясно, что войны не избежать, хотя еще теплилась слабая надежда на возможность соглашения.
17 июля мы с женою ездили к родным и, когда возвращались оттуда мимо кейданского вокзала, то увидели его против обыкновения ярко освещенным. Мне надо было бросить письмо в ящик, и я зашел на вокзал, где узнал, что только что получено распоряжение об общей мобилизации[475]. Кейданы в 70 верстах от германской границы по прямой линии; поэтому неприятеля можно было ожидать через несколько дней, тем более что было совершенно известно, что никаких войск на дороге он пока не встретит. Ввиду сего мы решили уехать в Петроград на другой же день. Собирались и укладывались всю ночь и отбыли с вечерним поездом 18 июля. Впоследствии оказалось, что такая поспешность была напрасна: мы могли прожить все это лето в деревне, потому что немцы заняли Ковенскую губернию только в 1915 году[476]. Но кто ж мог знать это заранее?
Из Кейдан нагрузилось в поезд бесконечное множество народа: в вагонах стояли во всех коридорах. Тогда это было в диковину. Такая масса отъезжающих бросилась потому, что говорили, будто на следующий день поездов уже не будет. В Вильно прибыли мы поздно ночью. Нас, кейданцев, было очень много – всего более 30 человек. Сразу найти помещение для такой толпы было нелегко. Однако мы его все-таки добыли и разместились в гостинице. Весь следующий день прошел в ожидании и подготовке вечернего отъезда. Нам обещаны были отдельные купе в первом классе и выданы были билеты. На деле мы попали во второй класс и в общие с другой публикой помещения. Да счастливы были, что хоть так устроились: такая была давка. Вещи приходилось втискивать через окна. Наше положение усложнялось еще тем, что у нас на руках были больные и старики. Но все-таки кое-как устроились, не без столкновений. Ехали по тогдашнему бесконечно долго – кажется, около 25–30 часов. По дороге навстречу нам проходили поезда с войсками. Солдаты были бодры, пели песни. Но на некоторых станциях, главным образом в Пскове, шел форменный вой, бабы провожали запасных, призванных на войну. Этот вой и плач был какой-то нечеловеческий и производил ужасно тяжелое впечатление.
В Петербург мы приехали очень поздно ночью, чуть ли не в два часа, и тут выяснилось новое препятствие: не было не только карет, но даже извозчиков. Пришлось идти на извозчичьи дворы и будить. О получении вещей нечего было и думать: они отстали, а может быть даже не были отправлены из Вильны. Целую неделю пришлось за ними ездить на вокзал, но, в конце концов, все они все-таки были по частям получены, ни одна не пропала. Теперь это уж не прошло бы так удачно.
Проезжая по улицам Петербурга ночью, мы встретили остатки патриотических манифестаций[477]. Между тем, еще недавно, когда мы были в деревне и война не была объявлена, были сильные рабочие беспорядки, которые дошли до переворачивания трамваев. Их тогда приписывали влиянию немецких и австрийских агентов. С объявлением войны все эти явления совершенно прекратились[478].
В Петербурге мы встретились с новыми страхами и слухами: здесь также боялись внезапного появления немцев и с суши, и с моря и гоняли народ рыть окопы где-то у Ораниенбаума и Парголова. Все эти опасения вскоре рассеялись, а первоначальные успехи русских войск в Восточной Пруссии внесли значительное успокоение[479]. Условия жизни в Петербурге почти не изменились против мирного времени. Тяжело было только жить в жаркую погоду в городе.
Вскоре после приезда моего состоялся в Зимнем дворце торжественный молебен и прием членов Думы и Государственного совета по случаю войны. Речи к Государю произнесли Родзянко и Голубев. Государь отвечал. Этим прием и окончился[480]. Настроение было очень бодрое и твердое.
Первое время пребывания в Петербурге мне почти нечего было делать. Стал читать Соловьева, а затем принялся усердно за статьи о подоходном налоге, впоследствии составившие особую книжку. Официальные мои занятия сводились пока к участию в Романовском комитете[481] в качестве товарища председателя. Этот комитет был учрежден под председательством А.Н. Куломзина еще весною 191[4] г.[482] для призрения сирот сельского состояния. В первоначальной его организации я принимал довольно большое участие при проведении дела в комиссиях Государственной думы. Этот комитет, учреждение чисто благотворительное, благодаря свойственной А.Н. Куломзину инициативе собрал большие средства и успел открыть много приютов по всей России, развив и местную сеть комитетов. Кроме меня, товарищем председателя был еще А.А. Макаров, а членами были назначены разные лица из состава Думы, [Государственного] cовета, Сената и благотворительных учреждений.
В обществе к Романовскому комитету относились вообще очень сочувственно.
Другая область благотворительной деятельности открылась для меня с назначением членом Верховного совета[483] и Попечительства о материнстве и младенчестве[484]. В эти оба учреждения меня привлек мой старший друг и товарищ по гимназии Г.Г. фон Витте[485]. После непродолжительной службы в прокуратуре Г.Г. фон Витте перешел в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел[486], где сосредоточился на вопросах санитарии и общественного призрения и сделался настоящим специалистом этого дела. Когда Хозяйственный департамент был превращен в Главное управление[487], Г.Г. получил должность управляющего Отделом народного здравия и общественного призрения[488]. Здесь ему часто приходилось ездить на международные конгрессы, и результатом его работ была записка о призрении материнства и младенчества[489]. На этом вопросе он очень сблизился со знаменитым доктором К.А. Раухфусом, человеком огромных знаний и большой инициативы. Раухфус пользовался большим доверием у императрицы Александры Федоровны, которая задумала учредить в Петрограде Институт материнства и младенчества. Она близко интересовалась этим делом еще в Германии. Для сооружения Института был путем пожертвований, кажется, банков составлен капитал чуть ли не в миллион рублей. Но к постройке так и не пришлось приступить: началась война, не было ни рабочих, ни строительных материалов, да и все цены возросли до чрезвычайности. Поэтому Попечительство занялось устройством, и не без успеха, целого ряда яслей и приютов. Председательницей Попечительства была императрица, а товарищем К.А. Раухфус, который фактически и председательствовал, а Г.Г. фон Витте управлял делами[490]. В это Попечительство, в его Совет я и был назначен членом. В состав совета входили как лица близкие к императрице (ее секретарь граф Я.Н. Ростовцев, его помощник Б.К. Ордин), так и несколько профессоров, докторов и женщин-врачей. К.А. Раухфус чрезвычайно горячо относился к делу. Умилительно было видеть этого глубокого старика, несмотря на годы не терявшего энергии в задуманном им большом добром деле. Необыкновенно светлый ум, широкие взгляды, привлекательное обращение, не только формальное, но душевное, делали К.А. чрезвычайно симпатичным. К сожалению, ему так и не удалось увидеть осуществления заветной своей мечты – Института материнства и младенчества; но к этой идее, конечно, вернутся. К.А. угас просто от старости. Замечательно, что перед смертью он подумал о всех нас, своих сотрудниках, всем оставил по себе память. Даже мне, хотя я никогда много с ним не работал, прислали после его кончины изящную серебряную пепельницу, которую он мне предназначил. Всегда остроумный, он шутил, что ищет, как переменить фамилию (тогда многие немцы переменили свои фамилии на русский лад), и нашел: «Дымоногов». Мы все очень этому смеялись.
Императрица Александра Федоровна, хотя чрезвычайно редко председательствовала (даже и не помню такого случая), но по докладам К.А. Раухфуса постоянно интересовалась делами Попечительства и давала свои указания.
В начале войны под ее председательством возникло другое, гораздо более обширное и торжественно обставленное учреждение – Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Этот Совет был поставлен сразу на линию высших государственных учреждений. В состав его вошли все заинтересованные министры, председатель Совета министров, как товарищ августейшей председательницы, председатели Думы и Государственного совета и ряд членов Государственного совета и Думы, а также другие деятели. Кроме императрицы, членами Совета состояли великие княжны Ольга и Татьяна, затем великая княгиня Ксения Александровна и некоторые великие князья[491]. Управляющим делами и личным докладчиком у императрицы по Верховному совету был по личному ее указанию назначен Г.Г. фон Витте. Очевидно, императрица успела ознакомиться с его работою в Попечительстве, и выбор ее, надо сказать, был чрезвычайно удачен: Витте был человек ловкий, умевший себя держать, красноречивый, но вместе с тем это был человек дела, специально знакомый с вопросами призрения. Я как-то высказал ему, что немного скучаю от безделья в такое серьезное время, и он устроил мне назначение членом Верховного совета. Я не могу сказать, чтобы в первое время у меня оказалось много дела по этому учреждению. Заседания Совета в полном составе под председательством императрицы были редки. Они происходили обычно в Малахитовом зале Зимнего дворца. Все являлись в вицмундирах, звездах и лентах. Императрица входила в сопровождении великих княжон и обходила стол, подавая всем руку, а с некоторыми – и останавливаясь для разговора.
В первом заседании императрица произнесла короткое приветствие по бумажке, на всех прочих ограничивалась молчанием и знаком головы указывала на свое согласие с докладами. Докладывал, чрезвычайно ясно и сжато, Г.Г. фон Витте. Горемыкин давал краткие пояснения. Редко когда говорил кто-нибудь из прочих членов. Обычно заседание тянулось полчаса, после чего императрица и великие княжны вновь обходили весь стол, подавали всем руку, не исключая и чинов канцелярии, и уходили во внутренние покои. Забыл упомянуть, что в числе членов была и статс-дама императрицы Е.А. Нарышкина. Великие княжны, конечно, молчали на заседаниях, и только Ольга Николаевна рисовала портреты присутствующих.
Вся работа шла вне общих собраний Совета, в специальных комиссиях, при нем образованных. Здесь разрабатывались и законодательные предположения, касавшиеся быта запасных, и финансовые меры. Я также участвовал и в комиссиях, которые собирались в Мариинском дворце; Финансовая была под председательством П.А. Харитонова, Законодательная под председательством А.С. Стишинского и Распорядительная под председательством С.Е. Крыжановского[492]. Помимо участия в заседаниях, мне лично было поручено нелегкое дело – устройство лотереи в пользу семей запасных, т. е. для усиления средств Верховного совета. Для обсуждения общего вопроса о способах осуществления этой лотереи собрались в Учетном банке[493] представители всех коммерческих банков, которые высказались за удвоение предположенной суммы – с десяти до двадцати миллионов рублей – и приняли на себя обязанность содействовать распространению билетов лотереи. Было постановлено выпустить две серии, по десять миллионов каждую. Под моим председательством образован маленький лотерейный комитет, куда вошли представители Кредитной канцелярии[494], Государственного банка, В.П. Семенов Тян-Шанский от Татьянинского комитета[495], который также имел получить долю в выручке, князь Н.Д. Голицын, будущий последний председатель Совета министров, от Комитета о военнопленных[496] и Е.К. Ордина от лазарета Зимнего дворца. Но душою дела был, без сомнения, В.К. Скворцов, делопроизводитель комитета, чиновник Кредитной канцелярии. Необыкновенно энергичный и практичный, он умел прекрасно организовать и дело публикации, и дело продажи билетов. Надеялись первый выпуск продать почти полностью накануне Рождества, в три дня. Но результаты далеко не оправдали надежд. Пришлось очень много позаботиться о распространении билетов, особенно содействовать продаже их в провинции через посредство местных органов. Дело это испортило мне много крови. Когда пришлось давать первый отчет в Верховном совете, то проданными оказались билеты всего на одиннадцать миллионов рублей. Затем, однако, дело пошло бойчее, и в результате была выручена почти вся сумма – не хватало 200–300 тысяч рублей. Однако дело было настолько трудное, что его уже не повторяли. Как бы то ни было, а Верховный совет прожил на средства лотереи почти год: чистая выручка, за вычетом выигрышей и расходов, дала Совету около шестнадцати миллионов рублей.
Верховный совет был учрежден для призрения семей запасных, раненых и убитых, для призрения же самих раненых не существовало специального учреждения. Этот пробел был пополнен в начале 1915 года расширением компетенции Верховного совета, в ведении которого организована была Особая комиссия для призрения самих раненых[497]. Председательницею ее была сделана великая княгиня Ксения Александровна, а я был назначен товарищем, т. е. фактическим руководителем этого сложного дела. Оно очень затруднялось тем, что одновременно на непосредственное его ведение претендовал московский Комитет великой княгини Елизаветы Федоровны[498]. Сама великая княгиня Ксения Александровна, хотя и сестра Государя, не пользовалась у императрицы никаким влиянием и авторитетом.
Местными органами Верховного совета были в Петрограде Комитет под председательством вел[икой] княжны Ольги Николаевны, так называемый Ольгинский комитет[499], а по всей остальной России – так называемые Елизаветинские комитеты, под руководством центрального московского Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны. Этот последний и считал, что забота о раненых на местах принадлежит ему. Но в Положении об Особой комиссии вел[икой] княгини Ксении Александровны было сказано, что Комиссия эта может иметь самостоятельные органы на местах[500]. В Комиссию управляющим делами был, могу сказать, навязан великой княгине Ксении Александровне ее супругом капитан 1-го ранга П.В. Верховский, работавший с великим князем Александром Михайловичем в Комитете по сооружению воздушного флота[501]. Этот Верховский, чахоточный, необыкновенно желчный, считал себя почему-то большим авторитетом в канцелярском деле, где он ровно ничего не понимал. Докладывая великой княгине чуть не ежедневно, он все сводил к тому, чтобы, под видом ограждения интересов великой княгини, вести какую-то совершенно ненужную борьбу с великой княгиней Елизаветой Федоровной и ее комитетом. Да и не только с ним, а с канцелярией всего Верховного совета. Присосеживались тут и разнообразные дамы, окружавшие великую княгиню. Бедная Ксения Александровна, насколько я успел ее узнать, была вовсе не такою, как старались ее изобразить; она была только необыкновенно скромна и застенчива. Возложенную на нее задачу председательства в Особой комиссии она считала превосходящею свои силы и положительно была бы рада отказаться от нее совершенно и все дело передать великой княгине Елизавете Федоровне. Но окружающие ни за что не хотели на это согласиться. И борьба шла, глухая и упорная, не только с великой княгиней Елизаветой Федоровной, но, в конце концов, и с поддерживавшей ее императрицей. Теряло от этого дело. От нас требовали составления особого положения о Комиссии и инструкции. Приходилось это делать при помощи П.В. Верховского, совершенно к подобному делу не способного, но убежденного, что он должен все делать сам. А сам только запутывал все, нередко блуждая среди трех сосен. В результате получилось компромиссное положение, при котором за Особой комиссией была сохранена известная доля самостоятельности[502].
Видя, что, в сущности, мы занимаемся почти исключительно бумажным делом, между тем, увечные и пленные начинают возвращаться из Германии и Австрии, я поднял вопрос об открытии в Петрограде хотя[503]…
В поезде я прочитал в газетах, что И.Л. Горемыкин вышел в отставку и заменен Б.В. Штюрмером[504]. Это известие очень удивило меня своею неожиданностью. Горемыкин был стар и дряхл, его надо было, конечно, заменить. Но почему же Штюрмером? О последнем я слышал не много хорошего. Штюрмер был когда-то губернатором, затем – директором Департамента общих дел. С этого места он был прямо назначен членом Государственного совета. И тогда удивлялись этому назначению, так как репутация Штюрмера как директора была неважная[505]. Назначение в Государственный совет приписывали церемониймейстерским талантам Штюрмера, который исправлял эти обязанности на коронации[506]. По происхождению просто немец, он старался связать себя чуть ли не с Рюриковичами, доказывая свое происхождение или родство с княгиней Анной Кашинской, на открытии мощей которой он являлся в качестве ее родича[507]. В Государственном совете Штюрмер ничем не выделялся и никогда не выступал, даже в Финансовой комиссии, где на него возложен был доклад какой-то маленькой сметы, он никогда не говорил[508]. С виду совсем старый, еле говоривший, он производил впечатление ходячего склероза. Чем объяснялось поэтому назначение одной развалины вместо другой – мне было, да и до сих пор осталось, совершенно непонятным[509].
Вскоре по возвращении в Петроград я отправился к Барку по делам Особой комиссии великой княгини Ксении Александровны. Барк принял меня чрезвычайно любезно и сказал, что по его докладу я назначен членом Комитета финансов[510]. Эта благосклонность с его стороны меня очень удивила. Оттуда я пошел с обычным докладом к великой княгине, и вот, во время доклада (это было, кажется, 24 января) явился камердинер и сказал, что статс-секретарь Танеев просил меня немедленно к телефону. Я, тем не менее, окончил доклад и, откланявшись великой княгине, вызвал Танеева к телефону: оказалось, что Государь приказал мне явиться в Царское к шести или семи часам вечера[511].
Так как в это время стали говорить об уходе П.А. Харитонова, то я понял, что Государю угодно предложить мне место государственного контролера. И раньше уже доходили до меня разговоры о возможности привлечения меня в состав кабинета при Горемыкине. Указывали на пост министра финансов. Это назначение в условиях войны и того расстройства, до которого были доведены наши финансы при Барке, мне совершенно не улыбалось. Но должность государственного контролера была много проще и менее ответственна. От великой княгини я поехал, поэтому, к графу В.Н. Коковцову и, посоветовавшись с ним, решил согласиться. Я знал притом, что мое назначение будет принято и в законодательных учреждениях, и в обществе благоприятно; и с этой точки зрения, равным образом, не считал возможным отказываться. Итак, вечером я поехал в Царское. Жена моя[512] поехала со мною и ждала меня на вокзале в Царском Селе.
Государь принял меня в своем кабинете, в левом флигеле Александровского дворца[513]. Он был очень любезен и прост, разговор был совсем короткий и происходил стоя. Государь сказал мне, что предлагает мне должность государственного контролера и спрашивает, согласен ли я ее принять. Я на это ответил, что воля монарха есть закон для верноподданного, а потому я прошу лишь снисхождения к своей будущей работе. «Сегодня же указ будет подписан», – сказал Государь[514]. Тем, сколько помню, и ограничилась эта первая аудиенция. На следующий день я, как полагается, поехал к Штюрмеру и тут увидел, что назначением своим я обязан, очевидно, не ему: он был любезен, но совершенно холоден. От него поехал я к П.А. Харитонову, где выяснилось, что я был именно его кандидатом, что он меня рекомендовал Государю[515]. Это, признаться, очень меня обрадовало. У Харитонова просидел я довольно долго, беседуя о предстоящей мне деятельности и о личном составе Контроля. Я не ошибся, полагая, что назначение мое произведет хорошее впечатление. Даже в ультраправых кругах были им довольны: А.С. Стишинский, поздравляя меня, сказал, что он очень-очень этому рад, так как это the right man in the right place[516]. (Говорили, впрочем, что сам Стишинский выставлялся Штюрмером и правыми кандидатом в государственные контролеры. Тогда его слова – простая вежливость.)
В исполнение своих обязанностей я вступил немедленно, а вскоре переехали мы и в Дом государственного контролера, на Мойке 74. Время службы моей в [Государственном] контроле[517] в смысле чисто личном и семейном было едва ли не наиболее приятным. Мы жили в дивной, уютной, теплой квартире, при которой была даже прелестная церковь, это было так удобно для моих отца и матери.
Контроль мало менял своих начальников, все они сидели по много лет. Последний, П.А. Харитонов, пробыл государственным контролером почти девять лет. Не говорю о Сольском и Филиппове. Самое дело контрольное – не видное: внешние события имели на него мало влияния. Ведомство варилось, что называется, в своем соку, жило своими маленькими интересами. Отсюда довольно большое постоянство личного состава и патриархальность отношений.
О каждом государственном контролере ходили свои рассказы. Особенно много их было о Тертии Ивановиче Филиппове, который даже умер в служебном кабинете государственного контролера. Он построил и украсил в дивном стиле шатра церковь в Контроле. При нем создался хор этой церкви. В его столовой происходило пение старинных русских песен. Конечно, благодаря таким условиям создавался известный непотизм: много служащих было либо в родственных, либо в личных отношениях, кто – к Т.И. Филиппову, кто – к П.А. Харитонову. Я помню выражение Филиппова о каком-то неудачнике: «Наконец он нашел приют в Государственном контроле». Я этим вовсе не хочу бросить тени на состав служащих. Напротив, в общем, там было очень много совершенно дельных людей. Товарищем моим был Александр Иванович Маликов, питомец Контроля, прошедший здесь службу с младших должностей, в высшей степени опытный, знавший и дело, и людей. Он был прекрасно осведомлен о служебных и нравственных качествах всего состава не только в центральном управлении, но и на местах. Он знал историю каждого вопроса в Контроле и болел за так называемые «традиции» контрольного дела. А традиции эти заключались во всемерной охране казенного интереса и в соблюдении строгой законности в расходовании государственных средств. На этом пути ему приходилось нередко сталкиваться с противоположными тенденциями [в лице Барка], который своею угодливостью перед всеми ведомствами представлял полнейшую противоположность своему предшественнику графу В.Н. Коковцову. Несмотря на эти положительные качества, Маликова не терпели в Контроле. Считали его грубым, придирчивым, несправедливым и даже лицеприятным. У него были, будто бы, свои любимцы, которые двигались благодаря этому вперед. Говорили, что П.А. Харитонов занимался преимущественно общегосударственными вопросами, предоставив руководство Контролем Маликову.
С первых же дней своего назначения государственным контролером я стал получать анонимные письма, в которых выражалась твердая надежда, что Маликов будет сменен. А спустя несколько месяцев, когда этого не случилось, – новые анонимные письма, где выражалось уже негодование против меня за то, что я не оправдал надежд и не уволил Маликова. Я в принципе считал невозможным руководствоваться анонимными обвинениями, тем более еще и потому, что никаких определенных фактов в этих письмах указано не было. Тем не менее, я стал наблюдать за Маликовым. Действительно, в его обхождении с подчиненными была резкость, но до известной степени она была объяснима состоянием его здоровья: это был чрезвычайно нервный и желчный человек, страдавший, кроме того, какими-то непонятными желудочными болями, до того жестокими, что его приходилось лечить прижиганием каленым железом по спине. Поневоле тут испортится характер. После одного из таких припадков я уговорил его поехать в продолжительный отпуск на Кавказ. Но как работник это был неоценимый человек, чем и объясняется его карьера, хотя симпатичным он едва ли был кому-либо из моих предшественников.
Полную ему противоположность в смысле характера представлял генерал-контролер Департамента военной и морской отчетности[518] М.И. Скипетров. Как работник и знаток дела он не только не уступал Маликову, но, по моему мнению, стоял значительно выше его: трудолюбие М.И. Скипетрова было совершенно исключительное. Он, можно сказать, жил на службе. Я, право, не знаю, когда он спал и питался. Жил он на Выборгской стороне, но уже в 11 часов обязательно был в Контроле. Затем, после двух-трех часов работы здесь, начинались его путешествия по всевозможным комиссиям и совещаниям, где он был представителем от Контроля: все ведомства желали его видеть у себя, все полагались на его опытность и знания. Так шло до поздней ночи, причем он ел кое-что на перерывах и домой возвращался только спать. Было время, что он не ложился по несколько ночей подряд. В результате однажды после такой работы он поехал в отпуск и всю дорогу не мог заснуть, а когда приехал на место в деревню, то с ним сделался тяжелый тиф.
Скипетров был одним из лучших типов нашей бюрократии: глубоко порядочный, бессребреник, уклоняющийся даже от внеочередных наград, он жертвовал, можно сказать, жизнью своей невидной работе, от которой не мог ожидать ни лавров, ни материальных благ.
У нас, русских, есть такие беззаветные труженики, в полную противоположность иностранцам, которые умеют необыкновенно экономить свои усилия. Судя, однако, по результатам работы, они более правы. Наши труженики полагают массу усилий, но, к сожалению, без результатов.
Я проникся к М.И. Скипетрову особенным уважением, и не один я, а весь Контроль любил его за его прямоту, справедливость и добрые отношения к людям. В случае ухода Маликова у меня, в лице Скипетрова, был готовый его заместитель.
Генерал-контролером Департамента гражданской отчетности[519] был сравнительно не старый человек, С.А. Гадзяцкий. Человек знающий и не без способностей, он был не особенно симпатичен: в нем сквозил какой-то элемент угодливости и склонности написать и сделать все, что угодно будет начальству. Но, бесспорно, это был образцовый и опытный руководитель своего дела.
Весьма дельным был и генерал-контролер Департамента железнодорожной отчетности[520] А.С. Масловский, которого в деле отчетности железнодорожной дополнял глубоко симпатичный, очень культурный и до совершенства знающий свое дело председатель Комиссии для поверки отчетов частных железных дорог[521] И.В. Жарновский. И.В. Жарновского я хорошо знал и вне Контроля: он женился на вдове одного бывшего сослуживца и друга Н.К. Бржеского. В настоящее время И.В. Жарновский как поляк перешел в польское подданство и занимает в Польше должность государственного контролера. По личным его качествам могу сказать, что польское правительство не могло сделать лучшего выбора.
Директор Канцелярии[522] Е.Н. Ларионов был очень добродушный, симпатичный, но совершенно незначительный человек.
Не могу, наконец, не упомянуть о знаменитом члене Совета Государственного контроля[523], известном славянофиле А.В. Васильеве. Знаменит он был преимущественно наружностью: с длинной, белой бородой, он одевался в какой-то им самим изобретенный русский костюм, что, однако, не мешало ему в царские дни надевать мундир и ленту Белого орла[524]. Говорил он тихо, не особенно внятно. Книгу же его, очень толстую, под заглавием «Миру-народу»[525], которую он мне подарил, я, каюсь, не прочитал. Как контрольный деятель он не представлял собою ровно ничего, хотя был прежде даже генерал-контролером. Держали же его в Совете из уважения к его возрасту и безобидности.
Отличительной внешней чертою высших чинов Государственного контроля, за исключением Жарновского, который был даже франтоват, было грязное платье[526]. Маликов был очень неопрятен, Гадзяцкий – тоже, но рекорд побивал Масловский. До такой степени грязно одетого чиновника я не видал, сюртук его всегда лоснился и был спереди залит пищею, швы были протерты и т. д., и т. д. Меня это смущало менее всего, так как я сам далеко не отличался опрятностью в костюме.
Я не буду останавливаться на прочем составе Контроля; особенно выдающихся людей я там не встретил и выделить не мог, но все они были чрезвычайно трудолюбивы и дисциплинированны. Видно было, что контрольная служба – хорошая школа. Впрочем, некоторые более молодые, как Кабачков, Марченков и др., подавали хорошие надежды на будущее.
За краткостью моего пребывания в Контроле мне, к сожалению, не удалось использовать их силы, как бы следовало. Во время войны центральные учреждения Контроля чрезвычайно ослабли в своем личном составе: масса народа отправилась на фронт в Военный контроль[527]. Но еще более ослаблены были местные учреждения[528]. Там и раньше было не густо, в это же время образовалась положительная пустыня. Мне довелось посетить одно из таких учреждений, Могилевскую контрольную палату, когда я летом 1916 года ездил в Ставку[529]. Я застал там беспомощного управляющего, двух-трех инвалидного вида чиновников и несколько барышень. Таково было это губернское учреждение Государственного контроля. Очевидно, никаких запросов такому органу предъявлять было невозможно. И так, по-видимому, было в это время почти везде. Но этого мало: притоку каких-либо сил в Контрольное ведомство мешало прямо смешное материальное обеспечение. Я распорядился опросить палаты о том, какие содержания получают вольнонаемные служащие в разных местностях, и, к общему удивлению, обнаружилось, что в некоторых палатах существовали оклады в пять рублей в месяц, как при Екатерине II. Объяснить этот странный факт можно только тем, что на службу в Контроль шли жены, дети и сестры контрольных же чиновников, для которых даже пятирублевый заработок членов семьи мог иметь некоторое значение в общем котле.
Для меня стало совершенно ясно, что без коренного улучшения материальных условий служащих никакие серьезные реформы контрольной работы не могут иметь никакого практического значения. Проект новых штатов Контрольного ведомства был внесен в Думу еще при П.А. Харитонове[530]. Но я счел невозможным дожидаться его утверждения, а потому и испросил из Военного фонда[531] миллион четыреста тысяч рублей на усиление окладов служащих, дабы уничтожить самую возможность обнаруженных окладов, которые не должны падать ниже определенного минимума. Лучше иметь меньше хорошо оплачиваемых чинов, чем массу существующих впроголодь. Каюсь, что этот кредит был мною испрошен незаконно с точки зрения Контроля. К счастью, Маликов был в это время в отпуске и не мог возражать. Но что же было мне делать в столь тяжелых условиях? Я старался быть, по возможности, экономным, чтобы другим неповадно было. Теперь сумма в миллион четыреста тыс[яч] руб[лей] на целое ведомство могла бы вызвать только улыбку[532].
Приняты были и другие меры, в порядке выдачи наград и пособий в центре и на местах[533]. Вместе с тем, в интересах улучшения личного состава я двинул вопрос о несменяемости чинов Контроля, по крайней мере имеющих ревизионные права и участвующих в коллегиальных учреждениях – общих присутствиях, дабы сделать их, по возможности, независимыми в своих суждениях и замечаниях. Вопрос об этом был поднят давно, но почему-то все время тормозился[534]. Не подлежит, конечно, сомнению, что одною несменяемостью нельзя добиться реальных результатов. Для этого необходимо, чтобы состав несменяемых по своим качествам заслуживал полного доверия. Этого далеко нельзя было сказать о бывшем в мое время составе. Да и как можно рассчитывать на безупречность и должную подготовленность людей и плохо обеспеченных, и слабо подготовленных в образовательном отношении. Вот почему, помимо усиления штатов, я проектировал замещать впредь должности не ниже определенного класса только лицами с высшим образованием. Только после пополнения контроля соответствующими людьми могла бы быть применена и несменяемость. Для пополнения же я предложил пятилетний срок. Я совершенно уверен, что при достаточных окладах замещение всех ревизорских должностей лицами с высшим образованием было бы вполне возможным. Удалось же это в податной инспекции, и как высоко стал престиж местной финансовой администрации. То же самое было бы, без сомнения, и с Государственным контролем. Выработанное на этих основаниях представление удалось провести через Совет министров, хотя кто-то и пробовал возражать, что в нем заметны какие-то тенденции. В Думе оно, конечно, прошло бы без всяких препятствий, если бы не революция. Только, повторяю, при этих условиях мог бы получить серьезное применение и Устав ревизии, внесенный при Харитонове и прошедший в Думе при мне почти без замечаний[535]. В Государственном совете его пришлось отстаивать моему преемнику С.Г. Феодосьеву[536].
В ряду важнейших дел моего времени на Государственный контроль возложена была ревизия военной отчетности и образован на фронте особый Временный контроль, куда, как я говорил, ушла масса контрольных служащих. В центре для той же цели образована была Временная ревизионная комиссия[537], куда должна была стекаться вся военная отчетность. Это было громадное учреждение, с несколькими стами служащих, превосходившее по своим размерам любой департамент. Достаточно сказать, что в начале 1916 года в нем было уже пятнадцать верст полок, наполненных отчетными документами. Это учреждение отличалось и той особенностью, что его приходилось безостановочно расширять, нанимая все новые помещения и привлекая все новых служащих. И все-таки рассмотрение отчетности не могло быть ажурным: ежедневно поступало столько документов, что они заваливали целую порядочную комнату. Дай Бог их только разобрать и разместить по категориям, пока не пришла новая их партия. Таким образом, здесь дело шло о последовательном расширении учреждения, что мною и делалось. Но местная военная отчетность требовала также усовершенствования. Для удостоверения в том, как идет дело на местах, я командировал летом 1916 года на фронт опытных лиц во главе с М.И. Скипетровым. Их соображения были затем подробно рассмотрены в Совете Государственного контроля и послужили основанием к преподанию чинам военного контроля циркулярных указаний, как упростить дело и организовать его по возможности целесообразнее.
Одновременно возникал и другой очень существенный вопрос, получивший до некоторой степени политический характер. Дело в том, что казна отпускала немалые суммы на связанные с войной расходы целого ряда учреждений: Красного Креста[538], Городского союза[539], Татьянинского комитета, Верховного совета и т. д. Периодически эти учреждения через особую комиссию генерала Веденяпина входили в Совет министров с ходатайством об отпуске новых сумм[540]. С особенным недоверием правительство смотрело на ходатайства Земского и Городского союзов, особенно первого. На них смотрели, быть может, и не без основания, как на ячейки будущего революционного движения. С другой стороны, однако, отказать им в средствах было невозможно: как-никак, союзы заняли в деле обслуживания санитарных нужд армии вполне определенное положение, и упразднение их потребовало бы какой-то новой организации, для чего не было ни времени, ни возможности. Поэтому денег не давали в тех случаях, когда союзы стремились выйти за пределы санитарии в тесном смысле этого слова и заняться другими делами: например, проведением дорог, устройством столовых и т[ому] под[обным]. Необходимо было достигнуть определенного модус вивенди[541]. Этот модус возможно было отыскать на почве установления определенного контроля за расходованием казенных денег всеми разнородными общественными учреждениями. Сперва это было поставлено очень неудовлетворительно: был назначен представитель Контроля в состав исполнительного органа Союза, но без всякой фактической возможности наблюдения. Затем П.А. Харитоновым была выработана общая схема организации надзора, признанная, однако, мало действительною и слишком либеральною. Я не совсем усваиваю себе, в чем, собственно, заключалась эта излишняя либеральность. Предложенная затем мною схема, близкая к харитоновской, была принята как правительством, так и самими союзами, которые, правда сказать, вовсе не имели намерения уклоняться от контроля, а, напротив, считали его даже для себя желательным. Чтобы ближе дотолковаться с ними по этому поводу, я посылал в Москву С.А. Гадзяцкого, а затем созвал в Петрограде совещание с участием представителей заинтересованных учреждений, где и были установлены общие основы надзора, одобренные затем и Советом министров[542].
Отношения мои, как государственного контролера, с Государственной думой были невелики: кроме явки для защиты проекта нового Устава ревизии[543], прошедшего уже раньше, при П.А. Харитонове, через думские комиссии, мне пришлось быть только в Бюджетной комиссии при рассмотрении сметы Контроля на 1917 год. Здесь главными темами разговора были расходы из Военного фонда, о чем мне придется еще говорить, вопрос о ревизии расходов общественных учреждений, о чем я уже упоминал, и предположения о выделении Государственного контроля из состава Совета министров[544].
Это предположение высказывалось в Думе очень часто: государственного контролера хотели сделать независимым от правительства органом надзора, которым могла бы пользоваться и Государственная дума. В теории эта мысль кажется справедливою, но практическое осуществление ее встретило бы огромные препятствия. Начать с того, что вне Совета министров государственный контролер лишен был бы возможности знать, что там делается. Если бы такой государственный контролер стал очень преследовать всякие действия правительства, стал бы попросту придирчив, явился бы органом Государственной думы, то, конечно, правительство добилось бы его смены, и положение стало бы нисколько не лучше. Несменяемый же контролер оказался бы в противоречии со всем нашим строем: даже министр юстиции может быть всегда уволен монархом, хотя чины Судебного ведомства пользуются несменяемостью по закону. Иначе и министр юстиции, и государственный контролер стали бы вне зависимости не только от правительства, но и от Государя, не являясь в то же время выборными, а чинами по назначению. Логически следовало бы тогда уж дойти до избрания государственного контролера Думою из своей среды, но до этого не дошла и сама Государственная дума. Любопытно, что И.В. Годнев, который с особой настоятельностью пристал ко мне в этом вопросе в заседании Бюджетной комиссии, так что я не знал, как от него отвязаться, сделавшись сам государственным контролером при Временном правительстве, не обнаружил ни малейшего движения, чтобы выйти из состава Совета министров, и не дал обществу ни одного отчета о ходе государственного хозяйства: так слова бывают далеки от дела[545]. Лично я, возражая против выделения государственного контролера из Совета министров, говорил против своих собственных интересов. Если служба в Контроле была, в общем, мне приятна, то наиболее тяжелою ее стороною было именно участие в Совете министров. Состав его, за немногими исключениями, был мне мало симпатичен. О председателе Б.В. Штюрмере я уже упоминал. Более близкое с ним знакомство не сделало его привлекательнее. Напротив, я и до сих пор не могу понять, почему именно его избрали в преемники Горемыкину. Горемыкин в прошлом имел известные заслуги, это был, во всяком случае, умный человек, определенное имя. У Штюрмера же кроме сомнительной репутации ровно ничего не было. Я положительно утверждаю, что ни говорить, ни писать он не умел[546]. На кафедре я никогда его не видал. В самых небольших совещаниях из одних только министров, с которыми он встречался чуть ли не ежедневно, Штюрмер не мог сказать ни одной связной фразы: ему писали то, что он должен был сказать, хотя бы это были всего две-три строчки. В Совете министров он также почти ничего не говорил. Как он докладывал Государю, я совершенно недоумеваю[547].
Большого роста, с ординарным некрасивым лицом, он плохо ходил, переставляя ноги как палки. Это был, повторяю, ходячий склероз[548]. Между тем люди, особенно близко его наблюдавшие, например, управляющий делами Совета министров И.Н. Ладыженский, утверждали, что им не приходилось видеть человека хитрее Штюрмера, а Ладыженский успел-таки перевидать много хитрых людей на своем веку[549]. Таким образом, назначение Штюрмера надо приписать, очевидно, каким-то скрытым и мне неизвестным его свойствам.
Наиболее влиятельным членом Совета министров был, без сомнения, министр путей сообщения А.Ф. Трепов. Я Трепова знал давно как помощника статс-секретаря в Государственной канцелярии. За болезнью статс-секретаря барона Р.А. Дистерло Трепов недолго исполнял его обязанности. Затем он был управляющим делами Алексеевского комитета[550], откуда был назначен в Сенат, а затем и членом Государственного совета. Как вся эта служба, так и более ранняя деятельность не связывали его с Ведомством путей сообщения. Но ведь и С.В. Рухлов был далек от этого ведомства. Рассказывали, будто сам Рухлов на свою голову рекомендовал Трепова Государю еще в то время, когда ему не грозила отставка. Теперь об этом вспомнили[551]. Кроме того, Трепов принадлежал к династии Треповых, которая со времен императора Александра II пользовалась особым положением. Не очень высокого образования – он окончил Пажеский корпус – А.Ф. Трепов отличался очень энергичным характером и настойчивостью в выполнении задуманного. У него было много трезвого и практического во взглядах: он совершенно правильно учитывал, что наше экономическое будущее зависит от развития нашей железнодорожной сети[552], а современное положение – от устойчивости транспорта. Идя к этим целям, он уже не обращал никакого внимания на препятствия, считая, что их надо устранять, чего бы это ни стоило. Признавая железнодорожное строительство первейшей задачей государства, он находил наиболее удобным создавать для этой цели собственные заводы Ведомства путей сообщения, даже просто металлургические, затрачивая на это громадные суммы[553]. Между тем, война уже достаточно показала, до какой степени слабое развитие промышленности поставило Россию, и в частности государственную оборону, в безвыходное положение. Но казенные заводы удобны для ведомства. Так всегда смотрели на это министерства Военное и Морское, которые, конечно, поддерживали в Совете министров все начинания Трепова в этом направлении. Впрочем, адмирал Григорович не был слишком безусловным в этих вопросах. Но, например, Шуваев не мог даже усвоить себе противоположную точку зрения[554]. Ввиду этого и вообще влиятельного положения Трепова большинство было за него, и я оказывался обыкновенно в меньшинстве, мнение которого и не получало высочайшего одобрения. Конечно, это было далеко не весело, но я считал своим долгом настаивать всегда на своей точке зрения, которую можно прочесть во многих журналах Совета министров, если они целы[555].
Другая цель Трепова – поддержание железнодорожного движения – достигалась, по его мнению, увеличением окладов содержания служащих. В существе эта мысль была справедлива. При уже начавшемся вздорожании всех предметов первой необходимости оставаться при прежних окладах было невозможно. Но вопрос был общий, касавшийся всех состоявших на государственной службе, а не только железнодорожников. Конечно, Трепов имел основание заботиться только о своих, начальникам же прочих ведомств надо было подумать о своих служащих. Они это по возможности и делали, но Трепов, опять-таки пользуясь своим особым положением, шел по этому пути безостановочно и так поднял вознаграждение у себя, что за ним никто не мог угнаться. В результате получилась совершенная неравномерность и отсутствие всякого плана. Примечательно, что после революции Временное правительство не только не отступило от этой практики, но еще значительно быстрее пошло по тому же пути, так что весьма скоро наша казенная железнодорожная сеть, которая давала казне хороший доход, стала приносить огромный дефицит.
План железнодорожного строительства был начертан при Трепове очень широкий и, даже по ценам того времени, требовал затраты, правда постепенной, нескольких миллиардов рублей[556]. Осуществление его было заветной мечтой Трепова, который специально приглашал меня для того, чтобы заручиться моею поддержкой как в этом вопросе, так и в деле усиления вознаграждения служащих. Трепов понимал, правда, очень хорошо, что этих миллиардов в России не найти, что их можно получить только путем привлечения иностранных капиталов. Ради этого он входил в переговоры с приезжавшими в Петроград американскими капиталистами, а меня просил выяснить этот вопрос при моей поездке в Париж[557], о чем я буду говорить впереди. В общем итоге могу сказать, что Трепов был очень энергичный администратор, действительно работавший в своем деле и, что особенно важно, умевший подбирать прекрасных сотрудников. Его товарищи Кригер-Войновский, заменивший его затем в должности министра, и Борисов были выдающимися знатоками своего дела. Замечательно, что хотя Трепов принадлежал к крайним правым и никогда не скрывал своего отрицательного отношения и к Думе[558] и, в особенности, к общественным организациям, но его уважали в этих сферах как человека живого и с широкой инициативой.
На посту министра внутренних дел я застал А.Н. Хвостова. О нем я могу сказать очень мало сверх уже сказанного выше[559]. В Совете министров видел я его крайне редко. Штюрмер, по-видимому, задался целью его свергнуть и занять его место, чувствуя свою неустойчивость как председателя без портфеля. В этом он, очевидно, был совершенно прав. Это особенно проявилось в пресловутой истории с ассигнованием пяти миллионов рублей на известную его императорскому величеству надобность. В первое же заседание Совета министров после моего назначения государственным контролером[560] Штюрмер заявил о высочайшем соизволении на отпуск этой суммы и о том, что Совету министров надлежит облечь его в надлежащую форму, т. е. представить Государю на утверждение свой журнал об этом ассигновании. Ни предмет назначения, ни инициатива, откуда шло испрошение этого кредита, членам Совета не были вовсе известны. Все страшно возмутились против Штюрмера, но делать было нечего, журнал был заготовлен и его пришлось подписать. Выйдя из заседания Совета, некоторые из нас (помню Барка и Наумова) обменивались мыслями, как быть дальше. Явилась мысль представить Государю по этому поводу особую записку, но она была оставлена ввиду неудачи подобной же записки, направленной в свое время против Горемыкина[561].
Тогда, сколько помню, по мысли Барка, решено было предложить Штюрмеру доложить Государю о том, чтобы расходование этих пяти миллионов рублей производилось председателем Совета не иначе, как при участии государственного контролера. Штюрмер пошел на это, в Контроле были проектированы правила расходования, на которые он также согласился, а затем получили они и высочайшее одобрение. Конечно, дело о пяти миллионах рублей не осталось секретом и сделалось известным Государственной думе, где в речах некоторых ораторов были сделаны на него намеки[562]. Штюрмер даже высказывал желание, чтобы я отправился в Думу и дал там объяснение по этому поводу. Но, слуга покорный, я от этого уклонился, а ему сказал, что такие объяснения, притом неполные, так как назначение суммы все-таки неизвестно, вызовут еще большее обострение, с чем он и согласился. При этом Штюрмер заметил: «Вот, на меня претендуют за эти ассигнования, а я тут не при чем, это Хвостов все придумал и спросил эту сумму для того, чтобы организовать правительственную прессу». Впоследствии действительно зашел вопрос о расходовании пяти миллионов рублей, и я был по этому делу приглашен к Штюрмеру вместе со знаменитым Гурляндом. Тогда речь шла о покупке газеты «Новое время», но этим разговором дело и ограничилось[563]. В конце концов, из пяти миллионов рублей не было израсходовано ни одной копейки, а после отставки Хвостова вся эта сумма была возвращена в ресурсы казны. Замечательно, что Штюрмер, который вообще со мною никогда не беседовал особо, счел долгом предупредить меня по телефону об отставке Хвостова, прибавив, что я, вероятно, буду этим очень доволен.
После революции делу о пяти миллионах придано было какое-то необыкновенное значение. Меня допрашивали о нем и в пленуме Чрезвычайной следственной комиссии под председательством Муравьева[564], и еще отдельные следователи[565]. Если вспомнить, что Временное правительство без всякого отчета бросало деньги направо и налево, то диву даешься, почему это дело привлекло к себе такое внимание. Не говорю уже о теперешних расходах: теперь, по крайней мере, никто не старается прикрываться фиговым листом законности, а ведь Временное правительство преследовало в деле отпуска пяти миллионов рублей именно незаконность, потому что фактического расхода вовсе не было. Но, конечно, это дело было использовано Штюрмером для свержения Хвостова, на место которого он сел[566], переехав вскоре в казенную квартиру министра внутренних дел. Мне почему-то кажется, что во многих действиях своих Штюрмер руководился именно такими соображениями как казенная квартира, суммы на представительство и т. п.
Конечно, с назначением Штюрмера Министерство внутренних дел осталось без фактического руководителя. Товарищами его были б[ывший] товарищ председателя Думы кн[язь] В.М. Волконский, приглашенный при совершенно других условиях еще князем Н.Б. Щербатовым[567], и Степанов – по полицейской части[568]. Его очень хвалили как человека весьма порядочного.
Штюрмер пожелал иметь и совершенно близкое себе лицо из состава лидеров правых партий. Поэтому он пригласил графа А.А. Бобринского[569]. Все не могу надивиться, что Бобринский принял назначение товарищем министра внутренних дел. Человек очень богатый и знатный, член Государственного совета, он мог рассчитывать на значительно большее. Его согласие рассматривали как акт самоотвержения[570]. Я графа А.А. Бобринского знал давно, сперва как правого члена Думы и сенатора, затем как члена Государственного совета. Не знаю, чем это объяснить, но по наружности Бобринский был чистейший еврей. И это тем более странно, что его брат граф Андрей Александрович, видный деятель по сахарному делу, имеет тип поляка, что и понятно, так как его мать или бабушка знатного польского происхождения[571]. Граф Бобринский, занимая высокое общественное положение, не лишенный ума и ораторских способностей, держал себя всегда как-то странно, точно заискивал в каждом, с кем говорил. По-видимому, он считал себя очень тонким, хитрым и проницательным. Наверху его, по-видимому, не очень любили.
В своей партии[572] граф Бобринский играл большую роль. Один случай показал мне, что Бобринский не был лишен в известной степени проницательности. Вопрос об общественных организациях[573] был своего рода «бэт нуар»[574] для Совета министров. Было решено и подписано, что в этих именно организациях подготовляется революционное движение. Я затруднился бы сказать по этому поводу что-либо определенное, так как не располагаю для этого никакими фактическими данными. Предполагаю, однако, что кое-что подобное уже могло быть в 1916 году. Резкая противоположность тенденций правительства и общества выяснилась уже в 1915 году. Никакие влияния не могли [оказать] воздействия на изменение правительственного курса. Напротив, замена Горемыкина Штюрмером указывала, что этот антиобщественный курс даже усилился, если возможно, и ни о каком примирении речи быть не может[575]. Эта вода была очень на мельницу нашим оппозиционным элементам, где кадеты играли всегда первенствующую и наиболее влиятельную роль. Прочие, более умеренные партии готовы были бы найти некоторый компромисс, но общее течение увлекало их[576]. Чувство патриотизма требовало отложить все эти вопросы до окончания войны. Но тут очень ловко была поднята новая тема: высшие сферы и, прежде всего, императрицу Александру Федоровну, а под ее влиянием и правительство, стали подозревать в желании заключить сепаратный мир с Германией. Эта тема была настолько популярна, что в большинстве общественных кругов не вызывала даже никакого сомнения[577]. Таким образом, единственный тормоз для подготовки революционного движения – чувство патриотизма – не только устранили, но даже обращали на пользу подготовлявшегося движения. Вот почему я думаю, что в 1916 году участие [в подготовке революции] общественных организаций, Земского и Городского союзов и военно-промышленных комитетов, имевших щупальца и на фронтах, и во всей стране, не представляет собою ничего невероятного, хотя, повторяю, никаких фактических данных на этот счет у меня нет. Если же это было так, то и подозрительное отношение правительства к этим организациям имело известные основания[578]. В Совете министров оно обнаруживалось очень ярко: везде, где только возможно, деятельности союзов ставили препятствия. Денег отпускали им много, но всегда, что называется, со слезой, т. е. с разными ограничениями и оговорками. С этой же целью организован был и контроль за их расходованием, хотя оправдания он мог найти достаточно вне всякой политики, потому что деньги счет любят.
Всякие съезды были Советом министров воспрещены, причем главным образом имелись в виду земские съезды[579]. Тем временем общественные организации действовали со своей стороны и внесли законодательное предположение об организации Земского союза как постоянного учреждения[580]. Правительству предстояло высказаться, приемлема ли для него разработка такого законопроекта. И вот в кабинете Б.В. Штюрмера на Фонтанке было созвано маленькое совещание для обсуждения этого вопроса[581]. Оно состояло, кроме меня и Маликова, исключительно из представителей Министерства внутренних дел в лице Штюрмера, его трех товарищей, кн[язя] Волконского, графа Бобринского и Степанова, Гурлянда и члена Совета[582] Аксенова. Сразу же выяснились две точки зрения: я и Маликов, мы держались того взгляда, что узаконение Земского союза, издание для него определенных правил, быть может, далеко не столь широких, как задумано было авторами проекта, которые предполагали дать Союзу самое обширное поле деятельности, заслонявшее компетенцию самих земских учреждений, и введение его в точно указанные законом рамки, при устройстве правильного денежного контроля за расходованием казенных ассигнований, представляется даже с точки зрения правительства весьма желательным. Гурлянд же и Аксенов доказывали, что организация Земского союза в принципе противоречит нашему государственному строю, а потому проект должен быть решительно отвергнут. Товарищи министра все трое, не исключая и графа Бобринского, стали на нашу точку зрения, причем последний мотивировал ее как раз политическими соображениями, справедливо доказывая, что борьба с обществом «а утранс»[583] не по силам власти и даже нежелательна.
Вот почему я нахожу, что граф Бобринский был человек неглупый, у которого принципиально правые воззрения все-таки не затмевали правильную оценку действительных требований жизни. Однако, вскоре назначенный министром земледелия, Бобринский наделал таких ошибок, с которыми мы и до сих пор расквитаться никак не можем. Но об этом после.
Военным министром ко времени моего вступления в Совет министров был А.А. Поливанов. Я уже говорил, что как помощник военного министра он, в противоположность своему шефу Сухомлинову, пользовался особенными симпатиями Государственной думы. Военным министром он был назначен в 1915 году под давлением общественного мнения и наших военных неудач[584]. Но наверху его не любили. Сухомлинов успел в свое время создать ему плохую репутацию. Условия же его назначения вовсе не могли содействовать укреплению его положения как министра. Поэтому вскоре он получил отставку, и на его место был назначен главный интендант генерал Шуваев[585].
Говоря о нем, еще до его назначения, Государь назвал его «кристально честным» и прибавил, что очень рад, что и я разделяю эту оценку, имея, конечно, в виду мое звание государственного контролера. Я и теперь не могу сказать ничего иного: это был превосходный главный интендант, безупречно поставивший свое ведомство. Здесь, как слышно, не было тех недохваток, которые были обнаружены в артиллерии, в военно-технической части и т. п., но, к сожалению, при всех этих достоинствах Шуваев был ограниченный человек, для которого более широкие горизонты были недоступны. В Военном министерстве он запутался совершенно. Особенно обнаружилось это в деле пополнения армии.
Было ли тут влияние настояний союзников, этого я не знаю, но контингент был увеличен свыше всякой меры и без всякой надобности. От производительной работы была оторвана масса людей, а на фронтах и, преимущественно, в тылу было, в конце концов, сосредоточено, по некоторым сведениям, до четырнадцати миллионов человек. Никакие возражения не помогали. В июле 1916 года был назначен набор, как раз во время страды[586]. Товарищу министра земледелия А.А. Риттиху, объехавшему на свой риск всех министров, едва удалось добиться непродолжительной отсрочки. Этого мало: задумали образовать из пленных австрийских славян какие-то дивизии, как будто мало было своих, и этих пленных, распределенных по заводам и по сельскохозяйственным экономиям, стали срывать с мест и без толку сосредоточивать на железнодорожных станциях, где они ничего не делали и только голодали[587].
Та же самая политика продолжалась и при преемнике Шуваева Беляеве. В Румынию направляли новобранцев в количестве до семисот тысяч в то время, когда туда, за отсутствием надлежащих путей, невозможно было доставить продовольствия, и там был не только голод, но и жестокие эпидемии. И ничего не помогало: на этот раз большинство членов Совета министров высказалось против этой меры, но утверждено было мнение военного министра.
Благодаря такому сосредоточению войск на фронтах и в ближайшем тылу производительная работа в стране приостановилась, а продовольственные затруднения увеличивались до чрезвычайности. Но этого мало: даже с политической точки зрения такие сосредоточения войск представлялись и действительно оказались весьма опасными. На фронтах сидели старики, почти совсем не обученные и не умевшие даже стрелять, но оторванные от дела и семьи и готовые поэтому бежать при первом же столкновении. Среди них революционная пропаганда имела широкое и благодарное поле. Ею и занялись агитаторы левых партий, проникавшие отовсюду в армию под видом прапорщиков, санитаров, фельдшеров и т. п. Крайне вероятно, что много их прошло через Земский союз, который, кроме санитарного дела, стал заниматься постройкой дорог, мостов, открытием столовых и т. п. В одном Петрограде, откуда все старые, испытанные войска были давно выведены, сосредоточено было, говорят, до ста шестидесяти тысяч новобранцев, которых обучали на улицах и держали под ружьем. Запасные батальоны[588] доведены были в некоторых случаях до двадцати тысяч человек. Весьма понятно, что простая искра, брошенная в этот стог соломы, не могла не произвести жестокого пожара. И вот этого всего Шуваев, очевидно, не мог понять.
О морском министре, адмирале Григоровиче, я уже говорил выше. Это был, пожалуй, наиболее умный из всего состава Совета министров. Одно время, при падении Штюрмера, его называли даже кандидатом в председатели Совета министров[589]. Он пользовался уважением и в Государственной думе.
Министр иностранных дел С.Д. Сазонов держал себя в явной оппозиции к Штюрмеру. На него в это время уже сильно точили зубы: с одной стороны, его считали виновником войны, находящимся всецело под влиянием Англии, которая-де для нас гораздо опаснее Германии, в смысле экономической эксплуатации России в будущем. С другой, его будто бы близкие отношения с кадетами вызывали к нему особое недоверие. Но и он сам нисколько не скрывал враждебного отношения своего к Штюрмеру.
Министерство финансов продолжало оставаться в руках П.Л. Барка. Основная, руководящая мысль политики министерства в это время заключалась в том, чтобы быть, по возможности, всем приятным[590]. Первое время никто не встречался с отказом в отпуске кредитов. Это был приятный контраст с управлением графа Коковцова. Министерство с легким сердцем отказывалось даже от таких основных источников государственных доходов, как винная монополия[591]. Но в 1916 году финансовые дела шли с такими трудностями, что даже П.Л. Барк стал по временам обнаруживать попытки к сопротивлению. Конечно, эти попытки не распространялись на предположения, пользовавшиеся особым фавором, исходившие, например, от такого могущественного министра, как А.Ф. Трепов. Тут Барк был всегда пас.
Положение государственного контролера в деле охраны казенного интереса было поэтому в высшей степени затруднительным: в нормальном порядке инициатива этой охраны должна была исходить от Министерства финансов, и поддерживать ее должен был государственный контролер. На деле же последний не мог даже надеяться на серьезную поддержку со стороны Министерства финансов. Особенно это проявлялось в деле отнесения расходов на счет так называемого Военного фонда. По закону во время войны кредиты на потребности военного времени открывались по постановлениям Совета министров, без необходимости внесения оправдательного представления в Государственную думу. Это – ст[атья] 18 Сметных правил[592]. Кредиты же на неотложные необходимости вообще хотя и открываются Советом министров, но должны быть оправданы, согласно ст[атье] 17, внесением особых представлений в Государственную думу, по возможности, до окончания ее сессии, а во время перерыва – по истечении не более двух месяцев по открытии новой сессии. Из сопоставления этих двух статей видно с полною ясностью, что порядок, установленный по статье 18, может касаться исключительно расходов на военные надобности. Все прочие экстренные расходы должны разрешаться не иначе, как по статье 17, т. е. с внесением оправдательных представлений в Думу. Практика же в Совете министров установилась такая, что громадное большинство экстренных расходов, а в это время все почти расходы старались признать неотложными, министры стремились испрашивать по ст[атье] 18, основываясь на буквальном толковании, что это потребность военного времени: раз какой-либо расход должен быть выполнен до окончания войны, значит, это потребность военного времени, хотя бы дело касалось народного образования, постройки какого-либо невоенного завода и т. п. А так как времени окончания войны никто предвидеть не мог, то здесь открывалось широкое поле для отпуска всяких кредитов по ст[атье] 18. И сумма этих кредитов, разрешаемых вне одобрения Государственной думы и Государственного совета, возрастала с каждым заседанием Совета министров[593]. Особенно А.Ф. Трепов, да и другие министры склонны были злоупотреблять статьей 18. Конечно, я должен был возражать и возражал против такой практики[594]. В иных случаях эти возражения имели успех, в других – Совет их не поддерживал. А со стороны Министерства финансов помощи почти не было. Наконец, истощив всякое терпение, я написал министру финансов письмо по поводу проекта росписи на 1917 г., где высказал определенно, что такая практика продолжаться более не может, что уж лучше в самой росписи предусмотреть крупный кредит на непредвидимые расходы невоенного характера, допустив явный дефицит в более значительном размере, но не нарушать бюджетный порядок, закрывая глаза. Я просил министра финансов дать свой отзыв и обсудить этот вопрос в Совете министров.
Но вскоре после этого я был назначен министром иностранных дел[595], и дальнейшее течение этого вопроса осталось мне неизвестным. Вероятно, он и дошел бы до Совета министров, если бы не революция. После же революции экстренные внебюджетные расходы начались в таких широких размерах, что практика Совета министров со ст[атьей] 18 Сметных правил должна казаться совершенно невинною.
Министром земледелия, преемником А.В. Кривошеина, был назначен А.Н. Наумов. Это был очень удачный выбор, имевший место еще при Горемыкине, но едва ли исходивший от него лично[596]. А.Н. Наумов был в полном смысле прекрасный человек, общественный деятель в лучшем значении этого слова, он не принадлежал к кадетствующим, а скорее был правым, к чему его влекло его положение губернского предводителя, видного члена Объединенного дворянства[597]. Но он был совершенно вне зависимости от всякой исключительности, от убеждения, что можно остановить ход истории и вернуться безнаказанно к прежнему. Бюрократическая обстановка была ему не по душе и не по природе: в министры [он] пошел с большим колебанием. Его удерживал от этого, главным образом, тот состав министерства, в который он вступил. Он боялся потерять связь с общественными кругами, поддержкою которых особенно дорожил. Но, вместе с тем, А.Н. Наумов был искреннейший монархист, он не считал возможным не идти по зову, исходящему от самого Государя, считая службу царю первейшею обязанностью верноподданного[598]. В силу этого также он видел свой первый долг в том, чтобы в Совете министров, да и, вероятно, на всеподданнейших докладах говорить правду с полной откровенностью. Можно себе представить, до чего ему было тяжело иметь общение с такими лицами, как Штюрмер и ему подобные. Он так раздражался, что выражал откровенно свое негодование в Совете: постом министра он вовсе не дорожил. Конечно, такой министр не мог быть ко двору в Совете. На него стали смотреть, как на оригинала, юродивого и, в конце концов, добились его отставки, что, разумеется, нисколько его не опечалило. Он вздохнул свободно[599]. Глубоко уязвило его только отношение Государя, который отступился от него, а на прощальной аудиенции обнял, поцеловал и чуть не прослезился. Эта фальшивость больно задела бедного А.Н. Наумова, который не мог говорить об этом без слез[600]. К своему делу Наумов относился горячо, с одушевлением, желая искренно добра, и, я думаю, просиди он дольше, время его управления было бы отмечено успехами нашего сельского хозяйства, которое он любил и хорошо знал. Но при тогдашней «министерской чехарде», как выражался Пуришкевич, это, конечно, было невозможно[601].
Преемником ему назначили упомянутого уже мною графа А.А. Бобринского. При всем своем уме граф Бобринский, по-видимому, совершенно растерялся перед той большой задачей, которую ему пришлось разрешать, – перед продовольственным вопросом[602], который к этому времени стал очень остро. Я уже говорил о том, в существе своем неправильном пути, на который стал в этом деле А.Н. Наумов еще в начале 1916 года, распространив твердые цены на все вообще продовольственные хлеба, не различая, есть ли в них изобилие или недостаток в стране[603]. Правда, эти цены и, в зависимости от них, реквизиция продовольственных продуктов распространялись только на покупки по распоряжению казны, а не на сделки между частными лицами. Здесь оставлена была свободная конкуренция. Но, разумеется, и в этих границах твердые цены не могли не оказывать влияния на повышение цен в частных сделках и не расстраивать хлебной торговли. Одновременно шло повышение цен на рабочие руки, а, следовательно, и издержек производства сельскохозяйственных продуктов. Очень скоро назначенные твердые цены оказались поэтому слишком низкими, и от производителей со всех сторон неслись вопли об их повышении. С другой стороны, потребители стали громко жаловаться на все возраставшую дороговизну, так как в частной торговле твердых цен не было. Продовольственный вопрос признан был особо важным и, по высочайшему повелению, поставлен под непосредственное руководство Штюрмера, которому подчинены были в своих распоряжениях все председатели особых совещаний (по продовольствию[604], обороне[605], топливу[606] и перевозкам[607]) в целях надлежащего снабжения всем необходимым и армии, и всей страны[608].
Наряду с особыми совещаниями, был создан при председателе Совета министров, хотя почему-то в составе Министерства внутренних дел, Особый комитет по дороговизне[609] под председательством бывшего, кажется, ярославского губернатора князя Оболенского[610]. Совершенно нельзя было понять, какова должна быть компетенция этого учреждения. По самому способу своего образования – в порядке верховного управления – этот Комитет не мог ограничивать полномочий особых совещаний, созданных в законодательном порядке. Между тем, снабжение продовольствием и борьба с дороговизной в этой области принадлежали Особому совещанию по продовольствию и, следовательно, Особый комитет по дороговизне не мог здесь распоряжаться. Но, с другой стороны, ясно было, что вздорожание всех прочих предметов потребления – обуви, платья, спичек и т. п. – зависит прямо от повышения хлебных цен. Сразу же начался спор о компетенции Особого совещания и Особого комитета, и последний, если вообще был бы при иных условиях способен что-либо сделать, тут сел на мель. Тем временем в области назначения твердых цен на хлеба граф Бобринский, под влиянием разных воплей и жалоб, решился, с одной стороны, на крупное повышение твердых цен и, с другой, на распространение их на частные сделки[611]. С этой минуты свободная торговля хлебом была по существу своему прекращена, и, конечно, продовольственный кризис чрезвычайно обострился.
Разумеется, это обострение не может быть даже сравниваемо с современным, но в то время это случилось впервые и казалось невыносимым. Впоследствии русский народ показал, что он способен и не [на] такую еще выносливость. С моей стороны, я стал самым решительным образом выступать против твердых цен и против стеснения свободной торговли.
В это время министром внутренних дел был назначен А.Д. Протопопов[612], который, как человек коммерческий, посмотрел на вопрос совершенно правильно. Я ему передал тогда записку, где определенно указывал на необходимость полной отмены твердых цен в частной торговле, прекращение всяких препятствий в передвижении хлебных грузов из одной местности в другую, прекращение реквизиций продовольственных запасов, угоняющих их в подземелье, и т. д. Протопопов находил, что в руках графа Бобринского реформа продовольственного дела невозможна, и настаивал на передаче его в ведение Министерства внутренних дел, в чем я его поддерживал в Совете министров[613].
У Штюрмера на квартире стали в это время собираться совещания заинтересованных министров для разрешения всех не терпящих отлагательства вопросов снабжения. Здесь я не раз и настоятельно выступал против твердых цен и, по-видимому, даже убедил в правильности этой мысли. Но Совет министров все-таки не осмелился сделать в этом деле решительный шаг: ему казалось, что от уже установленных твердых цен отступить нельзя, поздно, не следует лишь распространять эту систему на другие виды товаров. Поэтому проект Особого комитета князя Оболенского (который вполне логично пришел к тому выводу, что раз есть твердые цены на хлеба, то необходимо придется их назначить и на все прочие предметы потребления, несмотря на все их необыкновенное разнообразие) был отвергнут, и с этих пор самый Комитет этот, кажется, прекратил свое существование, оставив на память о себе целый том своих журналов и работ и том интересных диаграмм, но без всякого практического результата[614].
Только уже с назначением министром земледелия А.А. Риттиха[615] дело стало поворачиваться на более правильный путь, но это было уже не при Штюрмере, а при его преемнике А.Ф. Трепове. А.А. Риттиха я знал давно: это был очень способный, чрезвычайно трудолюбивый и энергический человек. В эпоху землеустроительной столыпинской реформы он был одним из главных ее деятелей, неустанно наблюдавшим за этим делом на местах. Когда после увольнения Кривошеина его заменил Наумов, Риттих как будто стушевался, точно обиделся на то, что его обошли. Но на посту министра сразу опять одушевился, обратив главное внимание на продовольственный вопрос. Он тотчас же взял в свои руки непосредственное руководство делами Особого совещания[616], не допуская его до излишних разговоров. Потом поехал на места для выяснения наличности продовольственных запасов. Твердых цен он сразу не отменил, но подготовил отмену их, с тем, чтобы затем влиять на цены путем выпуска хлеба из правительственных запасов, – мысль, заключавшаяся в моей записке и в заявлениях. Объяснения Риттиха в Государственной думе, несмотря на резкую оппозицию Шингарева, имели очень большой успех[617], и, не будь революции, продовольственное положение стало бы, может быть, улучшаться. Но революция и министр земледелия Шингарев окончательно разбили последние надежды на улучшение уже открытым введением хлебной монополии, уничтожившей последние остатки свободной торговли[618]. При блестящих результатах этой системы мы теперь и присутствуем.
На посту министра юстиции я застал А.А. Хвостова, о котором говорил выше.
Когда Штюрмеру вздумалось, после смены Сазонова, сделаться министром иностранных дел, он пригласил Хвостова на пост министра внутренних дел, а министром юстиции был назначен А.А. Макаров. Эта должность, требующая беспристрастия, порядочности, спокойствия, как нельзя больше подходила к характеру Макарова[619]. Несколько суховатый и формальный для практического деятеля, Макаров как представитель Судебного ведомства в Совете министров был очень на своем месте и приобрел здесь большой авторитет.
Министром народного просвещения был граф П.Н. Игнатьев, который, наряду с Наумовым, составлял резкий контраст со всем составом Совета министров. Я не знаю, кто именно выдвинул его кандидатуру на место Л.А. Кассо[620]. Руководились, по-видимому, желанием хоть единым назначением привлечь симпатии законодательных учреждений, особенно в таком ведомстве, которое до сих пор управлялось на началах совершенно противообщественных. Возможно, что в данном случае имели влияние и личные симпатии Государя к графу П.Н. Игнатьеву, которого он знал давно. Граф Игнатьев говорил Государю вещи, которых в то время никто себе безнаказанно позволять не мог. В Министерстве народного просвещения граф Игнатьев сразу же и довольно решительно начал менять систему, в некоторых отношениях даже излишне расшатывая строй школьной жизни. Но все же его действия, привлекавшие общественные симпатии, установившиеся благодаря нему превосходные отношения учебного ведомства с Государственной думой, – все это было в высшей степени желательно и полезно в то время полного разобщения. Зато, конечно, в Совете министров граф П.Н. Игнатьев был чужим человеком.
Совершенно иную фигуру представлял другой титулованный министр князь В.Н. Шаховской. Как попал он в министры торговли и промышленности, я, в сущности, не знаю[621]. Не особенно способный, далеко не блестящий, он не имел и связей, принадлежа к довольно захудалой семье князей Шаховских: отец его, небогатый помещик, кажется, Новоладожского уезда, занимал должность члена Совета Государственного банка[622] от Государственного контроля. Это был очень почтенный человек, притом несравненно более приличный и благообразный, нежели его сын[623]. Князь В.Н. Шаховской, моряк по образованию и первоначальной карьере, выдвинулся в Главном управлении мореплавания и портов при великом князе Александре Михайловиче, вообще окружавшем себя очень неблестящим штатом. Этот, пожалуй, был лучше еще других. Поэтому тогдашний товарищ главноуправляющего С.В. Рухлов, будучи назначен министром путей сообщения, взял туда с собою и князя Шаховского в качестве начальника Управления водяных и шоссейных сообщений[624]. Здесь, как говорят, князь Шаховской вел дело хорошо, а потому, я думаю, Рухлов и выставил его кандидатом в министры торговли. Говорят, будто и лично Шаховской понравился Государю, сопровождая его по Волге[625].
В новом министерстве князь Шаховской проявил с первых же дней особую энергию в деле расправы с личным составом. Он удалил не только невменяемого Сибилева, но и Литвинова-Фалинского, довольно видного управляющего Отделом промышленности, который, правда, хотел поставить себя как-то совершенно независимо от министра и был за это уволен со службы в 24 часа, что по тем временам было довольно необычно[626]. Показав такую энергию, князь Шаховской в дальнейшем, однако, ничем, кроме балансирования между Штюрмером, Треповым и другими влиятельными министрами, не выделился. Говорят, не знаю, правда ли, будто он даже ездил и к Распутину[627]. Во всяком случае, впечатления настоящего министра он не производил, хотя был трудолюбив и хлопотлив.
Итак, в общем счете Совет министров этого времени распадался на две крупные группы[628]. С одной стороны стоял Штюрмер и более близкие к нему лица, которым он особенно доверял или которых он боялся. Это были Трепов, А.А. Хвостов, А.А. Макаров, Барк и граф Бобринский. К ним присосеживался князь Шаховской. Другой лагерь составляли Сазонов, граф Игнатьев, Наумов и я. Шуваева и Григоровича я не знаю, куда причислить.
С первой группой Штюрмер совещался отдельно по всем делам, приглашая к себе на особые домашние совещания. Граф Бобринский и в качестве товарища министра внутренних дел был особенно к нему близок. Трепова он боялся, потому что Трепов сам на него давил и требовал исполнения своих предположений, а князь Шаховской хаживал к Штюрмеру сам по утрам спрашивать указаний. Он с удивлением узнал, что я этого не делаю.
Министры же оппозиционной группы сходились со Штюрмером и прочими членами Совета министров только в заседаниях Совета и, следовательно, встречались здесь с уже предрешенными в неофициальных заседаниях вопросами.
Я и до сих пор не могу сказать, в чем заключалось направление политики Штюрмера. На первый взгляд, он, что называется, занимал свое место, но ни в чем на деле не проявлял своей руководящей роли. Застрельщиком всегда и всюду был Трепов. Но я все-таки думаю, что за кулисами и Штюрмер имел известное и притом немалое влияние, выявлявшееся на частных совещаниях и всеподданнейших докладах. И в Совете министров заседания разделялись на две категории: сперва шли дела по повестке в присутствии всех чинов канцелярии; когда же повестка была исчерпана, начиналось секретное заседание, на котором сидел только управляющий делами Совета министров И.Н. Ладыженский. В этой части заседания министры уже вне повестки делали заявления по вопросам особо конфиденциальным и принимались экстренные меры, преимущественно политического характера: о воспрещении съездов, об отношении к тому или иному законопроекту, назначенному к рассмотрению в Думе или в Государственном совете, к тем или иным речам, произнесенным в Думе, об отношении к прессе. Так, например, одно время цензура принялась исключать газетные статьи из уже готового номера; получались белые полосы, производившие самое неблагоприятное впечатление. Со вступлением А.Ф. Трепова в должность председателя Совета министров эту практику решено было оставить[629]. Но, повторяю, и в этих секретных заседаниях, иногда очень продолжительных, не намечалось общего политического курса, к установлению которого допускались только близкие к Штюрмеру министры на домашних у него совещаниях. Эта практика домашних совещаний с несколькими только министрами была совершенно оставлена только уже при А.Ф. Трепове.
В сфере вопросов экономического характера у Штюрмера и не было, и не могло быть каких-либо взглядов, но надо же было Совету министров подумать и об этих вопросах. Я думаю даже, что Штюрмер не дошел бы до этого собственным умом, что такую необходимость ему объяснили другие. Уже в конце января в составе Совета министров было образовано Совещание по финансовым и экономическим вопросам, под председательством Штюрмера, из министров, имевших отношение к этим вопросам[630].
Понятно, однако, что это Совещание не было бы в состоянии само по себе разработать ни одного из этих вопросов, так как министры заняты каждый своими делами и делопроизводства никакого не было. Штюрмер пригласил в качестве делопроизводителя некоего Фогеля, человека не без способностей, очевидно, еврейского происхождения[631]. Но одного Фогеля было, конечно, мало. Поэтому при Совещании решено было образовать рабочий орган под названием Особой финансово-экономической комиссии, куда ввести представителей Государственной думы, Государственного совета и разных общественных учреждений, и председательство в этой Комиссии поручить мне[632]. Уже при самом своем учреждении Комиссия эта наткнулась на разные препятствия. Совет министров ни за что не хотел проводить ее законодательным путем, а непременно в порядке верховного управления. А законодательные учреждения, т. е., главным образом, Государственная дума, не желали в таком случае выбирать туда представителей. Совет министров упорствовал на своей точке зрения, потому что особые совещания, учрежденные в законодательном порядке, давали ему много забот, а в Финансово-экономической комиссии, которая, по мысли Совета, должна была явиться исключительно совещательным при нем учреждением, нельзя было создавать себе подобной оппозиции. В силу этого Положение о Комиссии прошло в порядке верховного управления и получило высочайшее утверждение 22 марта 1916 года. При редактировании этого Положения я принял, однако, все меры к тому, чтобы не отвратить членов Думы от участия в Комиссии[633]. Поэтому постановлено было, раз Дума отказалась официально избрать представителей в Комиссию, образованную не по ее собственному постановлению, что в эту Комиссию входят девять членов Государственного совета и девять членов Государственной думы, приглашенные по спискам, сообщенным председателю Совета министров председателями этих установлений. Вместе с тем, чтобы дать членам законодательных и общественных учреждений возможность прямого влияния на круг вопросов, рассматриваемых Комиссиею, было постановлено, что эти вопросы предлагаются не только Советом министров и ведомствами, но и по почину членов Комиссии, в случае согласия на их рассмотрение большинства Комиссии.
Надо было позаботиться и о том, чтобы правительственный элемент не имел преобладания в Комиссии. Поэтому на двадцать четыре члена с решающим голосом от законодательных и общественных учреждений было только шестнадцать членов от разных ведомств, считая и председателя. Было, однако, совершенно ясно, что Комиссия своими силами и силами своего делопроизводства не в состоянии будет разработать сама все безбрежное море вопросов финансово-экономического характера. С другой стороны, было бы совершенно недостаточно обсуждать эти вопросы в общей форме, а не конкретно, передавая ближайшую их разработку в ведомства: это сводилось бы к умножению бумагописания.
Надо было организовать дело так, чтобы проекты вырабатывались в Комиссии почти в окончательной форме и затем только формально проходили бы через Совет министров для дальнейшего их направления в Думу или на высочайшее утверждение. С этой целью было постановлено, что в делопроизводство Комиссии входят не только специальные ее делопроизводители, но и, по каждому данному вопросу, чины того ведомства, которого этот вопрос касается. Тогда, в порядке обсуждения, в Комиссии принимал бы участие подлежащий товарищ министра, ведающий данный вопрос, и тут же собственные его чины редактировали бы проект в окончательной форме. Избегнута была бы и излишняя волокита, и возможные споры в ведомстве против проекта, выработанного в Комиссии без его ближайшего участия. Этим путем я надеялся придать работе более практический и подвижный характер. Хотя таким образом Государственная дума была не вполне удовлетворена организацией Комиссии, тем не менее, членам ее была предоставлена довольно независимая роль, и список их был составлен если не в Общем собрании Думы, то по фракциям, что, в конце концов, отвечало понятию об их избрании.
От Государственного совета вошли в Комиссию четыре выборных члена (А.В. Васильев, кн[язь] А.Д. Голицын, В.И. Гурко и В.И. Тимирязев) и пятеро по назначению (С.Ф. Вебер, А. В. Кривошеин и трое правых[634] – И.Г. Щегловитов, А.А. Макаров и П.П. Кобылинский). Государственная дума дала трех октябристов (А.Д. Протопопова, Б.Н. Каразина и Г.И. Фирсова 1-го), двух националистов (Н.А. Жилина 2-го и К.Е. Сувчинского), члена Партии центра[635] А.Г. Ратькова-Рожнова, правого Н.Е. Маркова 2-го[636] и кадета А.И. Шингарева. К ним были избраны заместители: кадет С.В. Востротин, из центра П.Н. Крупенский и октябрист Н.И. Антонов. Я привожу этот список с такой подробностью для того, чтобы показать, что Дума все-таки откликнулась на зов, сделанный в этих условиях, и дала представителей от большинства своих фракций. Кроме того, по праву председателя я пригласил еще некоторых членов Думы и других лиц с правом совещательного голоса, между прочим, В.А. Маклакова, В.В. Шульгина, членов Государственного совета С.С. Крыма, Г.В. Калачева, далее Н.Н. Кутлера и профессоров П.И. Георгиевского, П.П. Мигулина, П.Б. Струве, И.М. Гольдштейна и представителей целого ряда торговых палат[637] и разного рода общественно-экономических учреждений.
Комиссия получилась очень громоздкая, но избежать этого было очень трудно, так как множество людей и учреждений выразили желание принять участие в ее работах. Заседания Комиссии начались в мае по специальному вопросу и при еще неполном ее составе – а именно об инструкции для отъезжавших на Парижскую экономическую конференцию[638] представителей русского правительства. Об этом я буду говорить подробнее впереди. Так как я был назначен старшим из этих представителей, то заседания Комиссии вследствие этого были прерваны[639].
Вернулся я из Парижа только 2 июля 1916 года, но открыть тотчас же заседание не представлялось возможным. Законодательные учреждения были распущены, и пополнение Комиссии могло произойти только после перерыва в их занятиях. Вообще, раньше наступления осени нельзя было дождаться достаточного состава Комиссии. Конечно, жаловались очень сильно на перерыв, но, в существе, никто все равно не явился бы. Но и после этого была очень существенная причина задержки: надо было к первому заседанию приготовить перечень компетенции Комиссии и внести хоть какие-либо конкретные вопросы на ее рассмотрение, которое иначе грозило обратиться в бесконечную болтовню.
В частности, многие члены Комиссии настаивали на том, чтобы программа ее работ была рассмотрена ею самою ранее приступа к этим работам. Логически это, казалось бы, совершенно правильно. Но можно себе представить, сколько времени было бы потрачено на обсуждение этой программы, хотя, в конце концов, было совершенно ясно, о чем в условиях времени должна говорить комиссия. Вместе с тем предложение готовой программы не ограничивало ни в чем прав комиссии ее расширить по предложению отдельных членов, поддержанному большинством.
Поэтому я решил использовать тот пункт положения о комиссии, где сказано, что на рассмотрение комиссии поступают вопросы, предлагаемые Советом министров, и представил Совету министров лично от себя предположение о программе ближайших занятий Комиссии[640]. Эта программа, сопровождаемая довольно обширной Объяснительной запиской, охватывала как вопросы, связанные с переходом народного хозяйства к условиям мирного времени, так и мероприятия, направленные на развитие производительных сил страны вообще[641]. Не вошло сюда только денежное обращение, так как П.Л. Барк настоял на том, что этот вопрос относится только к ведению Комитета финансов, что, конечно, не исключало бы возможности обсуждать его в Финансово-экономической комиссии. За этим исключением, на которое было, разумеется, тотчас же обращено внимание членами Комиссии, я думаю, трудно было бы найти такие вопросы, которые были бы в ней пропущены. Во всяком случае, члены Комиссии не были вовсе лишены возможности предложить свои дополнения. Но самая программа, внесенная в Комиссию, под заглавием «Перечень вопросов, по которым Совет министров признал желательным иметь заключение Финансово-экономической комиссии», не подлежала обсуждению, чем была избегнута масса совершенно излишних разговоров. Поэтому в первом же заседании, которое, благодаря всем приведенным обстоятельствам, удалось назначить только [на] 30 ноября 1916 года, возможно было поставить на очередь первый вопрос перечня «О переходе народного хозяйства к условиям мирного времени», по которому делопроизводством Комиссии была изготовлена обширная записка. Честь составления ее принадлежит Г.М. Курилло, которого я пригласил заведовать всем делопроизводством Комиссии.
Кроме того, внесен был для дальнейших работ Комиссии целый ряд записок по вопросам, касавшимся наших экономических отношений к Германии и вообще задач русской экономической политики после войны (записка М.П. Федорова), а равно записки Совета съездов представителей промышленности и торговли[642] о программе работ Комиссии на демобилизацию промышленности[643].
Все эти записки исходили от президиума и делопроизводства Комиссии, но, кроме того, я считал необходимым, чтобы хоть какое-либо ведомство внесло свои конкретные предложения по одному из более важных вопросов перечня. Откликнулся товарищ министра земледелия А.А. Риттих, который, вместе с Н.В. Грудистовым, составил очень обстоятельную записку об очередных задачах казенного лесного управления после войны.
Комиссия в своем заседании 30 ноября остановилась, главным образом, на записке «О переходе народного хозяйства к условиям мирного времени». Уж один этот вопрос оказался настолько сложным, что Комиссия решила, прежде всего, остановиться на условиях перехода к мирному времени нашей промышленности. Однако и тут оказалась такая масса частных вопросов, что для их обсуждения было решено образовать особую подкомиссию под председательством министра торговли и промышленности, которая уже в феврале обсудила программу, очень подробную, о направлении своих работ по выяснению мер к облегчению демобилизации промышленности и по собиранию нужных для этого сведений. Предполагалось образовать еще подкомиссию по вопросу о переходе на мирные условия работы нашего сельского хозяйства, по вопросам о внешней и внутренней торговле и для рассмотрения записки А.А. Риттиха по лесному делу[644].
Не знаю, конечно, к чему бы привели все эти работы. 30 ноября состоялось мое назначение министром иностранных дел, и я, занявшись ознакомлением с делами нового ведомства, несколько отошел на время от работ Комиссии, однако в твердой надежде, что мне удастся к ним вернуться, как только подкомиссии дадут известные результаты своих работ. Но судьба решила иначе: уже с января месяца вопросы внутренней политики до крайности осложнились, а 27 февраля произошла революция, положившая конец деятельности старого правительства, а следовательно – и Финансово-экономической комиссии.
Наряду с председательством в этой Комиссии на меня было возложено еще и другое поручение – быть делегатом русского правительства на Экономической конференции союзников в Париже. Вопрос о созыве ее был решен еще на Парижской конференции, бывшей 28 марта нового стиля, и нам сначала был дан очень короткий срок для сборов и выезда[645]. Предварительно мы собрались на совещание в составе всех лиц, ехавших в Париж. Это совещание должно было наметить решения по тем вопросам, которые могли быть нам поставлены на конференции. Этих вопросов мы не знали, мы могли их только предвидеть, благодаря чему и наша инструкция была чисто предположительная[646].
Так, мы много говорили о системе будущего таможенного тарифа; между тем, по этому предмету не происходило никаких суждений. Уже незадолго до нашего отъезда получены были некоторые сведения о предстоящих нам вопросах. Оказалось, что мы их до некоторой степени предвидели, но это, во-первых, были не все вопросы, а во-вторых, не наиболее важные вопросы.
За некоторое время до нашего выезда в Петроград приехали два француза – Вивиани и Тома[647]. Последний был министром снабжения в военное время, а Вивиани был раньше председателем Совета министров. Впервые познакомился я с ними на завтраке у французского посла. Особенно характерен был Тома: он совершенно не был похож по наружности на француза, а, скорее всего, на русского учителя гимназии. Но энергия речи, живость были чисто французские. Социалист по убеждениям, и даже из более левых, он вошел в состав правительства на время войны и показал себя необыкновенным организатором. Говорят, благодаря его распорядительности и созданной им системе доставки грузов на десятке тысяч автомобилей, французская армия была все время снабжена снарядами, которые дали ей возможность создать в Вердене совершенно непреодолимый оплот против германской армии. Тома объехал все наши военные заводы и, говорят, дал очень много дельных указаний. Вивиани был также социалист, но уже много потершийся в высших государственных кругах. Он заезжал ко мне для беседы по общим вопросам о системе таможенных тарифов. Но здесь он, видимо, не имел никаких предуказаний. Главным же образом его интересовал вопрос об условиях поставки во Францию некоторого количества пшеницы. Я для этого вызвал представителя Министерства земледелия, и они в моем присутствии вели с ним торг, как настоящие купцы. Вообще, французы в этой области не имеют себе равных. Оба – и Вивиани, и Тома – были приняты очень любезно в Царском Селе[648]; орденов как социалисты они не приняли, но им были сделаны очень ценные подарки. Вивиани получил богатейшее пресс-папье в виде колонны, жена его, которая его сопровождала – великолепный браслет с орлом, усыпанным бриллиантами, а Тома – уж не знаю что. Перед их отъездом мне еще пришлось с ними завтракать у министра иностранных дел и обедать у министра финансов. Все это было довольно официально и скучно. Гораздо интереснее был блестящий обед, данный французской колонией при участии представителей всех государственных и общественных учреждений, где собралось у Контана[649] около 300 человек, а может быть, и более[650]. Речи говорили Родзянко, кажется, Сазонов, и особенно великолепную речь сказал Маклаков, прямо поразительную по искусству владеть французским языком. Она была, пожалуй, лучше речи самого Вивиани, который считается одним из наиболее блестящих французских ораторов и говорил с необыкновенным подъемом. Разумеется, русский гимн и «Марсельеза», которую пел сам Шаляпин, еще более поднимали общее одушевление. Французы могли сказать, что их принимали с большим торжеством. В общем, однако, политическая цель их поездки осталась мне неизвестной[651].
Перед самым отъездом, в начале мая, я счел необходимым обсудить общее наше предположение по поводу могущих быть поднятыми на конференции вопросов в Особой финансово-экономической комиссии. Это заседание далеко меня не удовлетворило: вместо здравого и осторожного отношения пришлось здесь встретиться, с одной стороны, с каким-то страхом за возможность перерыва наших отношений с Германией, куда шел наш хлебный экспорт, с другой же – с легкомысленным отношением к результатам войны. Страх высказывался, главным образом, представителями Сельскохозяйственной палаты[652], для которых условия вывоза наших хлебов в Германию казались чем-то незыблемым и незаменимым. А легкомыслие проявлено было, к удивлению, такими людьми как В.И. Тимирязев, Н.Ф. фон Дитмар и даже Н.Е. Марков 2-ой, которые исходили из той мысли, что мы чуть ли не возьмем Берлин и захватим в Германии на тамошних фабриках и заводах все их оборудование и все их запасы. Это высказывалось с таким полным уверенности тоном, с таким вызовом по отношению ко всем, позволявшим себе в этом усомниться, что оставалось только замолчать. Таким образом, в комиссии мы не получили никаких серьезных руководящих указаний и должны были рассчитывать, главным образом, на себя самих.
Вторым делегатом, отправившимся со мною, был В.В. Прилежаев, товарищ министра торговли и промышленности. В.В. Прилежаев часто и раньше участвовал в различных международных конференциях, напр[имер], на сахарной конференции в Брюсселе[653], и имел в этом деле очень большую опытность. Кроме того, он хорошо знал Париж и великолепно говорил по-французски. Его отец был настоятелем нашей парижской церкви[654]. Редко милый и симпатичный человек, он очень существенно облегчал нашу задачу. С этой поры между нами установились самые лучшие, самые дружеские отношения. Вместе с ним поехала и его жена, Варвара Николаевна, очень милая дама, неотступно заботившаяся всю дорогу о своем супруге. Мы оба были посланы в качестве делегатов с правом голоса. Но, сверх того, к нам был придан целый ряд представителей от разных министерств. Их набралось довольно много. От Министерства иностранных дел с нами поехал А.А. Половцов, в то время чиновник особых поручений. Он ехал отдельно и встретился с нами уже на пароходе в Бергене. Это был блестящий джентльмен, тип заграничного чина своего ведомства; мне придется еще говорить о нем впоследствии. Министерство внутренних дел представлено было членом Совета Лесли, зятем А.Ф. Трепова, очень веселым, но совершенно незначительным господином. От своего ведомства Трепов послал Ю.И. Успенского, очень дельного инженера, отправившегося в сопровождении своей супруги. С женою же и дочерью поехал представитель Министерства финансов О.О. Гейман. Он оказался для меня очень полезным сотрудником в тех финансовых переговорах, которые были мне поручены помимо конференции[655]. От Министерства торговли и промышленности В.К. Лисенков, также с женою Натальей Юльевной, рожденной Жуковской, которая поехала с нами в качестве корреспондентки «Нового времени». Как известно, драматические ее произведения пользовались немалым успехом[656]. А сам В.К. Лисенков был сын товарища моего отца[657] по Горному корпусу[658]. Затем, от Министерства земледелия отправились: по общей части Б.А. Никольский, очень способный человек, и по лесной части – незаменимый специалист этого дела, симпатичнейший В.В. Фаас. Я захватил с собою и младшего своего сына Георгия; оба старшие были в это время на войне. Опасаясь, как бы наша делегация по своему составу не подверглась впоследствии обвинению в недостаточном внимании к интересам сельского хозяйства, я приглашал ехать в качестве третьего делегата представителя Сельскохозяйственной палаты, быв[шего] товарища министра земледелия А.Д. Поленова[659], но он так с нами и не собрал[ся][660]…
Незадолго до моего возвращения в Петроград началась усиленная «министерская чехарда». Уже подъезжая, я узнал об увольнении А.Н. Наумова и о замене его графом А.А. Бобринским. Вслед за тем произошло нечто совершенно неожиданное: был уволен С.Д. Сазонов. Министерство иностранных дел взял сам Б.В. Штюрмер, на его место министром был назначен А.А. Хвостов, а на место последнего министром юстиции А.А. Макаров. Если эти два последних назначения могли быть приветствуемы, то вручение руководства иностранной политикою в столь трудную минуту и во время войны вместо Сазонова Штюрмеру казалось чем-то невероятным. Сазонова союзники знали и ценили, но это-то, по-видимому, и было одной из причин его увольнения[661]. То, что я скажу сейчас, – исключительно мои предположения и фактов для их подтверждения у меня нет никаких, но, за всем тем, эти предположения кажутся мне вероятными. В известной части общества, в так называемых правых партиях, у людей германской ориентации создалось убеждение, что союзники и, главным образом, Англия, втравили нас в войну с Германией, что война эта ведется преимущественно нашими силами, но в результате, в случае победы, плодами ее воспользуются только союзники. Мы же только переменим одного эксплуататора на другого – Германию на Англию. Кроме того, Англию подозревали, не знаю, насколько основательно, в близких отношениях с нашими кадетами и либералами. А Сазонов был несомненным проводником у нас союзнической, антигерманской ориентации. О нем в Германии говорили не иначе, как с пеной у рта. Кроме того, Сазонов был лично неприятен Штюрмеру, никогда не скрывая своей к нему антипатии. Далее, утверждали, что и императрица Александра Федоровна была враждебно настроена против Сазонова. Всего этого было, разумеется, совершенно достаточно для того, чтобы свергнуть последнего[662]. Я не знаю, какую стал играть роль Штюрмер как министр иностранных дел. Судя хотя бы по его личности, можно сказать, что он совершенно не в состоянии был руководить этим ведомством[663]. Когда я вступил в управление министерством, то из довольно сдержанных отзывов сослуживцев мог только усвоить, что они не в состоянии были с ним примириться, что никаких толковых указаний от него получить было невозможно, что он даже почти прекратил обычные беседы с союзными послами. Последние, в свою очередь, говорили мне: «Nous avous perdu toute confiance»[664]. Даже такой пустяк, как то, что я велел переставить в кабинете мебель, как было при Сазонове, повергло послов в большую радость. Просто Штюрмер сумел внушить им чрезвычайную антипатию, что и вполне естественно[665]. В обществе и даже в массах распространилось убеждение, будто Штюрмер, являясь орудием императрицы Александры Федоровны, ведет нас к сепаратному миру с центральными державами. Я по совести должен сказать, что решительно никаких следов такой деятельности Штюрмера в делах министерства не нашел, но чего не рассказывают? Считали же графа Фредерикса проводником германского влияния при дворе! Но Штюрмер был настолько всем антипатичен, что на него взводили всякие небылицы. Тем ошибочнее было его назначение, и если это было сделано под влиянием личной антипатии императрицы к Сазонову, то с ее стороны это была серьезнейшая ошибка[666]. За свое недолгое управление Штюрмер сделал очень мало во внешней политике, но в личном составе центрального ведомства произвел серьезные перемены. Так, прежде всего, с его назначением немедленно ушел директор Канцелярии и правая рука Сазонова барон Шиллинг. Он был заменен Б.А. Татищевым, который был назначен совершенно случайно: он в это время проезжал через Петроград в Токио, куда был назначен советником посольства[667]. К счастью, выбор оказался очень удачным. Затем, товарищ министра В.А. Арцимович был уволен в Сенат помимо своего желания, и на его место, опять совершенно неожиданно, был назначен чиновник особых поручений V-го класса А.А. Половцов, тот самый, который ездил с нами в Париж[668]. А.Ф. Трепов говорил мне после, что за это назначение Штюрмер получил будто бы взаймы, через посредство Охотникова, 150 000 руб[лей]. Не знаю, правда ли это, но считаю правдоподобным. Штюрмера вообще считали далеко не чистым в денежных делах[669]. Министерская «чехарда» этим не ограничилась. Штюрмер задумал было сбыть Барка и заменить его В.Н. Охотниковым, одним из богатейших людей, который, вероятно, не остался бы за это в долгу. По крайней мере, сам Охотников утверждал мне, что это дело уже сделано, и излагал свои, довольно дикие планы управления финансами России. Но тут что-то помешало: должно быть, испугались поручить столь важное дело такому господину. Штюрмер вернулся из Ставки без доклада о назначении Охотникова. Но намерение или, по крайней мере, обещание, несомненно, было.
Самый же грандиозный акт того же порядка была замена министра внутренних дел А.А. Хвостова А.Д. Протопоповым[670]. А.Д. Протопопов был довольно левый октябрист[671], избиравшийся в товарищи председателя Государственной думы. Образования небольшого[672] (он окончил Николаевское кавалерийское училище[673]), Протопопов был предводителем[674] и крупным суконным фабрикантом. Очень ласковый, даже заискивающий, он не выделялся особенно в Думе, но, как товарищ председателя, играл известную роль, участвуя также во многих комиссиях[675]. В Думе вообще ему симпатизировали и, между прочим, делегировали вместе с другими для посещения союзных государств[676]. Во время этого путешествия на обратном пути Протопопов имел в Стокгольме какие-то разговоры с немцами, которые были поставлены ему в вину и послужили даже поводом к запросам и объяснениям[677]. Я этого дела вовсе не знаю и потому не решаюсь о нем говорить. Но для отчета о своей поездке и ее результатах Протопопов вызывался в Ставку, где и сделал Государю подробный доклад, содержание которого мне равным образом неизвестно. Понравился ли этот доклад и самая личность Протопопова, я не знаю, но с ним естественно поставить в связь назначение последнего министром внутренних дел[678]. Для всех министров это было совершенной неожиданностью, сам А.А. Хвостов никак этого не предвидел, потому что никакого повода для его увольнения не было; он вовсе не дорожил своим местом, но был прямо обижен, что его уволили, выбросили за дверь sans dire gare[679]. Лица, примазывающиеся ко всякой власти, вроде кн[язя] М.М. Андроникова, объясняли назначение Протопопова тем, чтобы удовлетворить Думу: в министры взяли одного из думцев и, следовательно, если и этот оказался плох, то жаловаться было, по крайней мере, не на кого[680]. Не думаю, чтобы только это хитроумное соображение было причиною назначения. А.Д. Протопопов был, в общем, неглупый человек, с практической сметкой; если бы он сразу не принял какого-то совершенно странного тона, то из него мог выйти министр не хуже многих других. Я уже говорил выше, что в продовольственном деле он исходил из очень правильных оснований. В области экономической он видел спасение в свободном развитии сил, что также было неглупо. В еврейском вопросе он, равным образом, стоял на правильной почве[681]. Но тут оказалась другая область, где Протопоповым овладело положительно какое-то затмение. Общественный деятель, никогда не бывший бюрократом, он вдруг стал врагом [общественности], отыскивая в ней непременно революцию и в силу этого преследуя всякое ее проявление. Конус этой общественности он усматривал в Государственной думе, а потому к ней стал вдруг относиться с особым недоверием. Никого так не ненавидят, как ренегатов. Естественно поэтому, что Протопопова возненавидели много больше, чем кого-либо даже из самых завзятых бюрократов[682]. Но этого мало: Протопопов стал афишировать перед всеми и каждым свою какую-то необыкновенную привязанность к Государю и расположение к себе Государя. Все это изображал в идиллических красках, причем вся ответственность за действия Протопопова, слепого будто бы орудия монарха, перелагалась на последнего, что было уже совершенно непристойно.
У Родзянко собрались однажды вечером видные члены Думы – Милюков, Шингарев и другие – и вот перед ними Протопопов изливал все эти чувствования[683]. Этот разговор был зафиксирован стенографически, и краткое извлечение наиболее ярких мест распространялось среди публики во множестве экземпляров. Была еще и третья мысль у Протопопова, которая, по-моему, послужила причиною того, что никаких серьезных мер для борьбы с надвигавшеюся революцией им своевременно принято не было, несмотря на все его восклицания о революционном движении, которое он видел не там, где оно действительно происходило. Это было убеждение в безбрежности правительственных сил. Секретарь его В.В. Граве рассказывал мне, что, едучи однажды в Ставку, Протопопов говорил ему: «Друг мой (он всегда был очень нежен), Вы не поверите, какими громадными силами располагает правительство, ничто с ним не справится!» Но если это так, то тем удивительнее, что он, Протопопов, этих сил вовсе не сумел использовать. В общем, тут была какая-то мания величия и всемогущества, которых в действительности совершенно не было. Я даже допускаю, что А.И. Шингарев был прав, когда говорил мне про Протопопова: «Верьте мне, для нас, медиков, это совершенно несомненно, Протопопов страдает прогрессивным параличом мозга». И вот какому человеку вверено было управление всею внутренней политикой России[684].
Но этим «чехарда» не окончилась. Министр юстиции, почтенный А.А. Макаров был также внезапно заменен сенатором Н.А. Добровольским[685]. Последний был в свое время гродненским губернатором и понравился, видимо, Государю во время охот в Беловежской пуще[686]. Его назначили затем обер-прокурором Первого департамента Сената[687], где он проявил очень ленивую деятельность. Но, вместе с тем, ходили слухи, что в другой области – мздоимства – он оказался далеко не ленив[688]. Назначенный после того сенатором, он вошел в доверие к великому князю Михаилу Александровичу и сделался его правой рукой в деле образования еще одного комитета, Георгиевского, для попечения о георгиевских кавалерах, которому старался придать значение высшего, чуть не законодательного учреждения[689]. Назначение Добровольского на место честного и безупречного Макарова вызвало прямой ропот в обществе.
Наконец, было одно уже совершенно невозможное назначение – Раева на должность обер-прокурора Св. Синода[690]. Сын митрополита Палладия Раев в силу этого был близок к высшей церковной иерархии[691]. С другой стороны, как основатель Раевских курсов[692], женатый на курсистке[693], он как будто примыкал к ученым кругам. Но что это была за фигура! Красный, старый, в парике, отстававшем от головы, с крашеными волосами и бородой, с голосом заштатного протоиерея, он производил высоко комическое впечатление. Даже А.С. Стишинский, и тот не мог удержаться от смеха при его виде. «Такого еще не было», – говорил он. И это был докладчик у Государя по делам православной церкви. Естественно, что даже в Совете министров его заявления вызывали отрицательное отношение. Я помню предположенную им апологию митрополита Питирима. Это было нечто совершенно несуразное.
Итак, к осени 1916 года состав Совета министров оказался во много раз слабее, чем в начале этого года. Стоит сопоставить имена министров: Сазонов – Штюрмер, Поливанов – Шуваев, Хвостов – Протопопов, Макаров – Добровольский, Наумов – граф Бобринский, Волжин – Раев. На местах остались пока только граф Игнатьев, князь Шаховской, Григорович, Барк, Трепов и я.
Общественное мнение пришло в совершенную безнадежность, а тут еще рядом шла и росла распутинская легенда. Я с этой историей совершенно не знаком и лично Распутина совершенно не видел. Жена моя видела его, кажется, два раза у своей тетки Софьи Васильевны Рыковой еще в те времена, когда Распутин явился впервые в Петербурге в виде простого странника и не имел никакого доступа ко Двору[694]. Тогда жена вынесла из этих встреч – раз на улице, а другой раз в квартире тетки – очень неприятное впечатление. По многим отзывам, по характеру дела, возбужденного против Распутина в Тобольской духовной консистории, которое дал мне прочесть С.А. Панчулидзев, по характеристике, данной Гофштетером в ненапечатанной им статье о хлыстовщине, можно думать, что у Распутина было много общего с хлыстовской сектой[695]. Как проник он в высшие придворные сферы, я этого не знаю[696]. Но к тому времени, о котором я теперь пишу, и даже значительно раньше его значение было, по-видимому, очень велико. По фотографиям это был простой, довольно противного вида мужик, но с замечательно проницательным, резким взором, которым он гипнотизировал своих почитательниц. Последние были своего рода кликуши: они его сопровождали, распоряжались его приемами, вели при нем секретарскую часть. Говорят, будто бы в приемной его была всегда масса посетителей. Их он посылал со своими безграмотными письмами к разным министрам и другим влиятельным лицам[697]. Я знаю три таких случая, и все три неудачных. Раз он направил к А.А. Хвостову, тогда еще министру юстиции, какого-то нотариуса. Хвостов пристыдил последнего, что он пользуется подобной протекцией[698]. Другой раз сам Распутин пробовал лично обратиться с просьбой к А.Н. Наумову. Наумов, несмотря на настояние своего секретаря, велел ему сказать, что у него есть приемные часы, в которые Распутин и может явиться, если желает. Распутин, действительно, и явился, и Наумов принял его не отдельно, а в общем зале, вместе с прочими, стоя и очень сухо. Уходя, Распутин будто бы в передней показывал кулаки и говорил, что Наумов его попомнит[699]. Я также удостоился получения письма от Распутина, где он каракулями и крайне безграмотно, начиная словами «Милой, дорогой», извиняясь за беспокойство и в довольно пристойной форме (на «Вы», а не на «ты») просил разобрать дело подателя, чиновника какой-то контрольной палаты, будто бы преследуемого своим начальством. Я пристыдил этого чиновника, что он позволил себе обратиться к такой протекции, потому что каждый служащий имеет право без всякой рекомендации просить о справедливости. Выслушав затем его просьбу, помимо письма Распутина, я велел ее расследовать; расследование показало, что этот господин был пьяница и бездельник; и тогда я распорядился о совершенном его увольнении от службы. Но, говорят, будто бы в других случаях протекция Распутина имела успех. Утверждают, что даже некоторые министры к нему ездили и искали его расположения. Не берусь сказать, правда это или нет. Особенно велико было, будто бы, его влияние в духовном ведомстве: перемещение петроградского митрополита Владимира в Киев и назначение на его место Питирима приписывали Распутину[700]. Ему приписывали даже влияние в таких общих вопросах, как отмена винной монополии[701] и др. Опять-таки, повторяю, фактов, подтверждающих все эти рассказы, у меня нет.
Сам Распутин, как грубый мужик, под пьяную руку – а пьянствовал он немало – цинически хвастал своим значением. В.Н. Коковцов, со слов зятя своего В. Н. Мамантова, который издавна знал Распутина, рассказал мне, что последний, напившись в каком-то кабаке и хвастаясь своей властью, принял самую неприличную позу и кричал: «Кто супротив этого документа что может!»[702] Распространяли рассказы, будто Распутин допускается в комнаты великих княжон, даже когда они раздеты[703], что горничные и даже фрейлины принуждаются уступать его грязным поползновениям[704], что сама императрица чуть ли не молится на него и т. д. Рассказы о нем ходили в то время по городу самые невероятные. Вспомним исторические аналогии, всю ту массу лживых историй, скандалов, которые взводились на французскую королеву Марию Антуанетту перед самой революцией[705]. У нас, по-видимому, для рассказов было известное основание, если не всецело, то хотя бы отчасти[706].
Вскоре петербургские сплетни распространились по всей России, сея в народе смуту и раздражая его против царской власти: сведения, что какой-то грязный, безграмотный мужик, во много раз хуже, чем они сами, сидит при царском дворе и вертит государственными делами, раздражали народ до последней степени.
Как объяснить отношение Государя ко всему этому? Я опять-таки не берусь об этом судить, не зная никаких фактов, и здесь мне приходится ограничиться передачей рассказов того времени, и лишь некоторых, доходивших до меня и оставшихся у меня в памяти[707]. Говорили, что Государь без памяти влюблен в императрицу, которая, в свою очередь, относится к нему пренебрежительно и стала допускать его к себе только с разрешения Распутина. На всякий навет против Распутина императрица отвечала, будто бы, такими истерическими припадками, что, в конце концов, Государь, как человек, видимо, слабохарактерный, перестал выносить даже простые разговоры о Распутине от своих приближенных. Это было больное место, зияющая рана. И это, конечно, было подхвачено и разнесено по всей России: русский царь изображался как слабая игрушка в руках царицы-немки, которая сама в руках бесстыжего пьяного мужика. Рассказывали про мужика, который, застав свою жену в прелюбодеянии, стал стегать ее ремнем, приговаривая: «Ты мне не Александра Федоровна, а я тебе не Николай II». Было это или нет, сказать, разумеется, очень трудно, но рассказ этот сам по себе очень симптоматичен[708].
Все это в корне расшатывало царскую власть, а правительство было такое, что никакого доверия не внушало. Естественно, что при таких условиях наша слабая умом и характером интеллигенция не могла не увлечься по пути революционных стремлений, забыв совершенно про войну и про страшную опасность для отечества, которая грозила в случае революции во время войны. Напротив того, слухи о том, что правительство Штюрмера под влиянием императрицы-«немки» готово заключить сепаратный мир, придавали революционному движению патриотический характер.
Крайние левые партии использовали эту конъюнктуру, ведь никогда подобной нельзя было ожидать в будущем. В народную массу, которая под названием армии была собрана на фронтах, были пущены, в виде прапорщиков, санитаров и прочее, ловкие агитаторы, которые легко использовали утомление четырехлетней войною. В Думе, в интеллигентном обществе сидели их неразумные и недобросовестные союзники – кадеты и кадетствующие, которым, наконец, открылось поле широкой деятельности – шатание государственной власти вовсю под предлогом свержения ненавистного Штюрмера и его бессильного правительства. Дрогнули и октябристы, и националисты, и даже правые. В Государственной думе выскочил Милюков, который в своей чрезвычайно резкой речи задел прямо императрицу. Эта речь основана была на разных газетных сообщениях, и фактический ее фундамент был крайне слаб, но впечатление было громадное[709]. Помещение ее в газетах было воспрещено, но зато с тем большим рвением распространялась она в списках. Гектографированные оттиски продавались, говорят, на улицах чуть ли не по рублю. За нее привлекли Милюкова к судебному следствию[710]. Совет министров был в чрезвычайном волнении. Дважды собирались мы по вечерам и раз утром у Штюрмера на квартире в Министерстве иностранных дел[711]. Шла речь о том, произвести ли роспуск Государственной думы или нет. Великий государственный муж был болен подагрой и сидел в кресле, протянув ногу. Мыслей своих он не выявлял. Выяснились два мнения: Протопопов был за роспуск, Барк, по-видимому, тоже[712]. Он высказывался даже за то, чтобы на всякий случай стянуть в Петроград гвардейскую кавалерию для подавления возможного возмущения. Против роспуска были Макаров, Григорович, граф Игнатьев, я, может быть, еще другие. В результате одного из вечерних заседаний[713] мне и Игнатьеву было поручено объездить некоторых более видных и лично известных нам членов Думы и убеждать их быть несколько спокойнее, как будто от себя лично, а не от имени Совета министров. Я ездил к двоим: к Постникову в Лесной[714] и к Шингареву. Я старался всемерно представить им, какие ужасные последствия может вызвать революционный взрыв в такую минуту. Оба в конце долгих разговоров обещали воздействовать в целях успокоения. Не помню, с кем беседовал граф Игнатьев, но результаты были, кажется, аналогичные[715]. В конце концов было решено, что в Думе выступят И.К. Григорович и Шуваев, как представители армии и флота, и внесут необходимое успокоение и бодрое чувство. Задача эта была выполнена ими с большим успехом: речи их были сопровождаемы овациями[716]. Думу решили пока не распускать. Тем временем Штюрмер с Треповым поехали в Ставку. Что там было, мне неизвестно, но Штюрмер вернулся оттуда уже не председателем Совета министров, а обер-камергером[717]. На его место был назначен А.Ф. Трепов[718]. Конечно, эта перемена была крайне своевременна. Говорили, будто тогда императрицы в Ставке не было и будто бы она сказала, что будь она там, этой перемены не произошло бы[719].
А.Ф. Трепов, правда, не отвечал желаниям большинства Думы, но все-таки к нему относились с уважением, как к деятельному и энергичному министру. Плюс заключался и в том, что он заменил ненавистного Штюрмера. Однако даже в составе самого министерства были у некоторых колебания, оставаться ли им на местах. Так, граф Игнатьев ездил к Трепову объясняться о направлении его политики. Тот, однако, просил его пока не уходить[720]. Первое выступление Трепова в Государственной думе[721] встречено было таким же скандалом со стороны крайних левых, как и первое выступление Горемыкина[722]: опять начался страшный стук по пюпитрам и обструкция, как только он хотел начать говорить, опять пришлось принимать такие же меры, как и тогда, т. е. вывести скандалистов. Особенно шумел и бесился Керенский. Когда в зале наступило, наконец, успокоение, Трепов прочитал свою декларацию, после которой начались речи ораторов. Главное их направление было резкое обличение Протопопова. Дума была удовлетворена сменою Штюрмера, но оставался Протопопов, не менее для Думы ненавистный, не менее первого олицетворявший собою борьбу правительства с Думою и общественностью. И негодование было тем сильнее, что Протопопов вышел из среды самой же Государственной думы. Особенно сильное впечатление произвели речи графа Бобринского и Пуришкевича[723]. Итак, два представителя не левых, а правых партий – националистов и собственно правых – люди, которых уж никак нельзя было заподозрить в революционности, выступили с открытым забралом против министра внутренних дел. Я теперь слишком плохо помню эти речи, чтобы воспроизводить их содержание. Да в этом нет и надобности: их можно полностью прочитать в стенографических отчетах Государственной думы. Могу лишь здесь констатировать, что впечатление получилось прямо потрясающее. Еще до начала этого заседания я в Министерском павильоне[724] встретился с графом П.Н. Игнатьевым, который только что вернулся из Ставки в очень радужном настроении. Он туда поехал специально, чтобы говорить с Государем о Протопопове и выяснить всю опасность оставления его у власти. Граф Игнатьев говорил, что Государь принимал его два раза и подолгу слушал его крайне внимательно. Когда же Игнатьев заявил, что с Протопоповым служить вместе не может, Государь сказал ему, что просит его не уходить, что он нужен России. Затем при прощании долго жал его руку, взглядом ища его сочувствия и поддержки[725]. Граф Игнатьев был убежден, что он добился своего, что Протопопов будет уволен. «А что, – спросил я его, – императрица осталась в Ставке после Вас?» Он ответил утвердительно. Тогда я сказал ему, что шансы его успеха я оцениваю не более как на пять процентов[726]. Оказалось, что я был прав.
После речи Пуришкевича был сделан перерыв, и все министры, бывшие в Думе по случаю декларации премьера, пошли в павильон, чтобы обсудить создавшееся положение[727]. Протопопов в крайнем возбуждении требовал разрешения выступить немедленно с ответом клеветникам. Мы все резко восстали против этого. Речи депутатов были не против правительства вообще, а лично против него, Протопопова. Пусть и отвечает на них как Протопопов, а не как министр, ибо создание нового конфликта правительства с Думою в данную минуту совершенно недопустимо: оно может повести к необходимости роспуска Думы, а роспуск может вызвать такие последствия, которые подвергнут опасности весь строй государства.
Мы в рот клали Протопопову, что он должен подать в отставку. Я говорил по этому поводу с большой энергией, и Трепов затем в заседании Государственного совета, куда мы переехали из Думы, сказал мне, что был в восторге от моих слов, однако Протопопов как угорь ускользнул от единственно правильного решения вопроса. Он сказал только, что будет отвечать не как министр, а как член Государственной думы Протопопов. С этой целью он после перерыва вышел из министерской ложи и сел на свое место среди депутатов, чем опять вызвал общий ропот неудовольствия. С этого места он и подал председателю записку о желании говорить как депутат. Но до этого, к счастью, дело не дошло: заседание было закрыто ранее, нежели наступила его очередь говорить. В тот же день в Государственном совете, где Трепов также по обычаю читал свою декларацию, Протопопов отозвал меня в кулуар и спросил моего мнения, что ему делать. Я открыто сказал ему, что, по моему мнению, у него один исход: он должен выйти в отставку, а затем, если считает себя лично оскорбленным, то может или выступить в Думе как ее член, или вызвать Бобринского и Пуришкевича на дуэль. Он ответил мне, что охотно вышел бы в отставку, но что это не от него зависит. Завтра же пришлет своего друга, члена Государственной думы Радкевича окончательно посоветоваться, что ему делать. Действительно, Радкевич, член Фракции правых, был у меня на другое же утро. Мы имели с ним продолжительный разговор, и оказалось, что оба совершенно солидарны во взглядах на создавшееся положение: Радкевич, так же, как и я, сказал Протопопову, что у него один исход: отставка; что только она способна успокоить создавшийся между Думою и правительством конфликт, а что затем от Протопопова зависит принять те или иные меры для ограждения своей чести, если он считает себя оклеветанным. Однако Протопопов не сделал ни того, ни другого. Не помню, в какой уже вечер, но вскоре после изложенных событий все министры собрались у А.Ф. Трепова и здесь опять обсуждали создавшееся положение. Мы опять, и на этот раз все без исключения, высказали Протопопову, что его обязанность немедленно отправиться в Ставку и подать в отставку[728]. Он опять стал увиливать, просить письменного постановления Совета министров – очевидно, чтобы подвести весь Совет под неудовольствие Государя за такое выступление скопом. Ему в этом отказали, так как в данном случае было не заседание Совета, а лишь частное совещание министров. Тогда он стал отказываться ехать в этот же вечер, хотя в общем как будто бы и согласился на свою отставку. Поехал он лишь на следующий день, а в этот вечер, говорят, будто бы ездил к императрице в Царское, где, вероятно, и получил поддержку[729]. Вот в эту именно поездку он и говорил В.В. Граве о безграничных силах правительства[730]. Вообще, он, по слухам, нередко езжал в Царское, изображая там бесконечную свою преданность и восхищение; делами же фактически почти бросил заниматься. Говорят, в одно из таких путешествий его автомобиль испортился, и он заехал к какому-то сторожу, пока чинили колесо. И тут, будто бы, на вопрос, что думают о Протопопове, получил, к удивлению, самый резкий о самом себе отзыв. Так далеко проникло то, что о нем говорили в Думе. В конце концов, в отставку Протопопов так и не подал, а объявлен был якобы больным и, вернувшись, не вступил в управление министерством. Получилось какое-то дикое решение вопроса, ни для кого не понятное, и никого не удовлетворяющее. Положение Протопопова в составе министров было совершенно исключительное. А.Ф. Трепов, вступая в должность председателя Совета министров, докладывал Государю, что он может вести дело только при условии удаления Протопопова и Добровольского[731]. Последнего Трепов характеризовал как прямого взяточника и мошенника[732]. И вот, несмотря на такие категорические заявления премьера, пользовавшегося, несомненно, и доверием, и симпатиями Государя[733], а с политической точки зрения безусловно благонадежного, и Протопопов, и Добровольский продолжали преблагополучно сидеть на своих местах.
В составе кабинета оставалась незамещенною, после ухода Штюрмера, должность министра иностранных дел, которую в течение нескольких недель исполнял товарищ министра, вызывая недоумение, когда и чем же это кончится. 29 ноября вечером Трепов попросил меня к нему заехать. Когда я прибыл, он немедленно вышел ко мне из какого-то заседания и заявил, что по его докладу Государю угодно предложить мне должность министра иностранных дел. Это предложение до чрезвычайности поразило меня своею неожиданностью: я никогда дипломатом не был, поездку же на конференцию в Париж нельзя было считать подготовкою. Трепов убеждал меня тем, что он оценил мою настойчивость и что, по его мнению, я сумею быть на страже русских интересов. Вместе с тем, он особенно рассчитывал на меня в деле борьбы с Протопоповым. У Трепова была и собственноручная записка Государя, где было сказано, что если я соглашусь, то чтобы немедленно прислал об этом указ к подписанию. После короткого размышления я согласился. Это мое согласие на новую «чехарду» вызвало во многих большое недоумение. В.Н. Коковцов спрашивал меня об этом на другой день по телефону и, не скрывая своего негодования, сказал: «Нельзя же, в самом деле, по тому, что человек сумел завязать одну постромку в сбруе (намек на Парижскую конференцию), думать, что он может управить и лошадью». Не менее недоволен был и А.И. Шингарев: кадеты рассчитывали, что министром иностранных дел будет опять назначен С.Д. Сазонов, и мое назначение было для них разочарованием. Полагаю, что и другие видели в моем согласии акт честолюбия, стремление выдвинуться повыше. Поэтому я обязан здесь дать некоторые объяснения. Причины, почему я принял пост министра иностранных дел, были общие и частные. Если бы я имел хотя [бы] некоторое основание рассчитывать, что назначен будет С.Д. Сазонов, я бы, разумеется, не переступил ему дорогу. Но шансов на его назначение не было решительно никаких: против этого были и высшие сферы, и сам А.Ф. Трепов. Следовательно, говорить об этом было нечего. Другая общая причина принятого мною решения заключалась в том, что после Штюрмера, успевшего вызвать такое сомнение [и] в обществе, и в Думе, и у союзников, надо было министру иностранных дел, прежде всего и главнее всего, восстановить доверие к полной лояльности и откровенности русской политики. Как определенный сторонник союзной ориентации, я думал, что мне это удастся лучше, чем другому, колеблющемуся в своих убеждениях в этом отношении. Немало привлекала мысль и о том, что ввиду большой близости к Государю мне, может быть, удастся хоть до некоторой степени воздействовать на улучшение общего политического курса.
Причины же личные заключались в следующем: как государственный контролер я был бессильным членом Совета министров, несшим, однако, ответственность за все его действия; мои протесты в течение почти десяти месяцев убедили меня в полной почти их бесплодности. Как министр иностранных дел я мог принимать минимальное участие в заседаниях Совета министров[734]. Не скрою, наконец, что возможность принять более близкое участие в решении громадных вопросов, связанных с окончанием войны, не могла не привлекать меня. Кроме того, во время военных действий задача министра иностранных дел была уже не столь сложная: вся ее трудность предстояла после войны, говорить же о столь отдаленном времени было нечего. Я, напротив, рассчитывал, что недолго усижу, и даже подыскивал себе частную квартиру.
Таковы были руководившие мною соображения, быть может, и мало основательные. Менее всего стремился я при этом к личному возвышению. Это я заявляю с полной откровенностью.
Назначение мое состоялось 30 ноября, и на следующий день я поехал представляться Государю[735]. Он принял меня очень любезно и сказал, что выбор его пал на меня потому, что я финансист и экономист, а вопросы экономические будут иметь первую роль при окончании войны. Эта мысль была, вероятно, подсказана Треповым. Затем Государь сказал, что императрица также желает меня видеть. Поэтому от Государя я сразу же пошел к императрице. Надо сказать, что по назначении государственным контролером я, согласно правилам, испрашивал разрешения быть представленным обеим императрицам. От старой императрицы Марии Федоровны я вскоре же получил согласие. Прием был чрезвычайно любезный и продолжался что-то около трех четвертей часа, причем императрица говорила со мною преимущественно по вопросам призрения увечных воинов, так как я был в этом деле сотрудником ее дочери великой княгини Ксении Александровны[736]. От императрицы же Александры Федоровны я тогда никакого ответа не получил и так ей и не представлялся. На этот раз императрица принимала меня довольно долго, я думаю, более получаса. Наружность ее очень примечательна: будучи уже не первой молодости, она, в зависимости от минуты и настроения, бывает или очень хороша собою, или, напротив, антипатична [и] старообразна. Я видал ее и в том, и в другом случае. Может быть, это зависело от туалета. На этот раз императрица была в костюме сестры милосердия, который придавал ей сухой и старый вид. Говорила она со мною по-русски: она совершенно правильно владела русским языком, только с иностранным акцентом. Старая императрица Мария Федоровна затруднялась говорить по-русски, и я беседовал с нею по-французски. Императрица Александра Федоровна начала свою беседу с внешней политики. Говорила она и о немцах, и о союзниках. Меня удивило, что немцев характеризовала она как народ недалекий. Переходя затем к послам наших союзников, Государыня дала обо всех довольно-таки отрицательный отзыв. В частности, английского посла сэра Бьюкенена она назвала человеком ограниченным. Опасаясь, как бы эта тема не вызвала каких-либо неосторожных выражений и с моей стороны, которые потом могли бы быть неверно истолкованы, я понемногу перевел разговор на тему о призрении увечных воинов и Верховном совете. Под влиянием ли общих наветов или личного впечатления, но мне чувствовалось, что с императрицей надо быть настороже – ne posse liviun[737].
По назначении я еще неделю прожил в Контроле и только 8 декабря переехал в Министерство иностранных дел. В Контроле заменил меня старый мой сослуживец еще по Государственной канцелярии, товарищ министра финансов С.Г. Феодосьев[738]. Это был человек исключительных дарований и трудолюбия. Выбор Трепова был в этом случае сделан весьма удачно.
С Контролем после десятимесячного пребывания в нем я простился несколько поздно, пригласив старших чинов его на обед к себе, причем получил от них на память старинную икону св. Николая. Добрые отношения с контрольными чинами сохранились у меня до сегодняшнего дня. Нам там жилось очень хорошо.
В новом министерстве я прежде всего отправился к его ветерану, товарищу министра А.А. Нератову. Человек очень сдержанный и замкнутый, А.А. встретил меня вежливо, но с явным недоброжелательством. Я нисколько на это не претендую, считая это вполне естественным: ведь я, действительно, был «intrus»[739], никогда не служивший по дипломатическому ведомству; таких министров, кажется, до тех пор никогда не было. Наконец, сам Нератов имел основание рассчитывать на это назначение. Я, напротив, чрезвычайно ценю, что он совершенно открыто выразил свое отношение, а именно, он сразу заявил, что ни в каком случае на своем посту не останется. Разумеется, это ставило меня в очень трудное положение. Сам я дела и ведомства не знал, другой же товарищ министра, А.А. Половцов, был также внове. Поэтому я сказал Нератову, что крайне смущен его намерением, однако надеюсь, что до приискания преемника он мне не откажет в своей помощи. Мне сейчас же стали предлагать и преемника: Трепов прямо даже стал навязывать сенатора Малевича-Малевского, бывшего посла в Японии. Но у меня не было решительно никакой охоты воспользоваться этой рекомендацией. Напротив, я счел нужным непременно удержать Нератова, как человека очень опытного, знающего ведомство наизусть и пользовавшегося доверием как союзных послов, так и бывшего министра С.Д. Сазонова. Для этого я сделал то, что было сделано со мною: я доложил Государю, что А.А. Нератов за долговременную службу свою имеет право по заслугам на кресло члена Государственного совета, с тем, однако, чтобы, по моему примеру, он продолжал исполнять обязанности товарища министра до тех пор, пока не будет найдено ему преемника. Государь охотно на это согласился. Но и Нератов был в восторге, заявив мне, что несказанно мне благодарен и готов остаться товарищем министра, пока только я сам этого пожелаю. Так удачно был разрешен этот кризис[740].
Другой товарищ министра, А.А. Половцов, был, как я говорил, назначен Штюрмером. Он, конечно, не выражал никакого желания покинуть свой пост. Напротив, Государь при первом же моем представлении особенно настойчиво рекомендовал мне его, как лично ему известного человека, и выразил большое удовольствие, узнав, что я Половцова знаю по поездке на Парижскую конференцию. Оставляя в стороне всякие сплетни, я могу только сказать, что А.А. Половцов был человек очень умный, с характером и очень легкий и приятный. В его ведении была хозяйственная и личная часть министерства. В это дело он, видимо, сумел войти очень быстро и вел его очень хорошо. Правда, дело было не очень сложное. Но ему хотелось расширить свой кругозор, и он просил допустить его присутствовать при ежедневных моих беседах с послами, к чему я не усмотрел никаких препятствий, раз другой товарищ министра также участвовал в этих беседах. Конечно, в общем характер А.А. Половцова не мог не возбуждать некоторых сомнений, что впоследствии и оправдалось: возвысившись при Штюрмере, при личной рекомендации Государя, он во время Февральской революции едва ли не первый в министерстве надел огромный красный бант и был крайне обижен, когда Временное правительство не только заменило его бароном Нольде[741], но даже не пустило послом в Мадрид, причем заявил, что ему в особенности обидно то, что его смешивают с реакционерами, тогда как он всегда был противником прежнего строя. Когда же власть получили большевики, А.А. Половцов сумел втереться в их доверие, сделавшись, будто бы в целях охраны художественных богатств, комиссаром Павловского дворца. В конце концов, он, однако, этой марки не выдержал и сбежал за границу.
О личном составе Министерства иностранных дел сложилось в обществе убеждение, что это франты, шаркуны, пшюты, снобы, но не деловые люди. Я вовсе не имею особых интересов защищать чинов этого ведомства: не я их назначал и сам вышел не из их среды. Но по справедливости я должен здесь определенно заявить, что приведенное мнение совершенно ложно: в центральном управлении министерства очень немного чиновников, человек сто с небольшим, считая и канцелярских, т. е. много меньше, чем во многих департаментах других ведомств. Все это люди очень благовоспитанные и светские, но вместе с тем прекрасно образованные, трудолюбивые и дельные[742]. В мое время директором Канцелярии[743] был Б.А. Татищев. С ним я познакомился в Париже, где он был первым секретарем посольства. Оттуда его назначили советником в Токио, но при проезде через Петроград он был задержан и назначен директором Канцелярии. Я редко видел более исполнительного чиновника. В Министерстве иностранных дел система ведения дел совершенно иная, чем в других ведомствах. Текущую переписку ведут товарищи министра за своею ответственностью. К ведению министра относится политическая корреспонденция. Уже в десять часов утра начинаются доклады, которые заключаются в прочтении депеш, полученных за предшествующий день и ночь. Они должны быть к этому часу расшифрованы, чем заняты специальные чиновники. Во время чтения депеш министр и товарищи дают указания, какие надо дать ответы, иногда очень сложного содержания. И вот директор Канцелярии (а также и другие начальники отделов, каждый по своей части) должны изложить эти ответы, которые министру более даже и не показываются, хотя подписываются его именем – все ради спешности дела. И я не помню случая, чтобы ответы, составленные Татищевым, когда-либо не отвечали данным указаниям, как бы они сложны ни были. Надо при этом помнить, что к ведению директора Канцелярии относилась вся корреспонденция с государствами Западной Европы и Америки, а во время войны это были не шутки.
Управляющим Ближневосточным отделом, ведавшим дела по Балканскому полуострову, Турции и Малой Азии[744], был Петряев, бывший ранее консулом на Востоке. Человек очень опытный и знающий, он уже ни с какой стороны не подходил к типу сноба и хлыща: напротив, это был очень скромный и дельный труженик. Равным образом, таким же опытным и знающим был фон Клемм, управляющий Среднеазиатским отделом[745], человек уже почтенных лет. Наконец, и управляющий Дальневосточным отделом, т. е. делами по Японии, Китаю, Манчжурии, Корее[746], Казаков, человек несколько нервно расстроенный, был идеальным работником не за страх, а за совесть. Он душою был предан своему делу, у него были в этой области сложившиеся, может быть, несколько односторонние, но твердые убеждения, которые он отстаивал с большой горячностью.
Директор Первого департамента – дел хозяйственных[747] – фан дер Флит был, действительно, несколько странный, какой-то растерянный, но, впрочем, и он работал с любовью к делу. Вскоре мне удалось провести его в Сенат и на его место назначить вице-директора В.Б. Лопухина, старого моего приятеля и сослуживца, работоспособность которого я ставил всегда очень высоко[748]. Наконец, директор Второго департамента[749] барон Нольде был известен как профессор международного права и человек совершенно выдающийся. Против него был сильно настроен А.Ф. Трепов. Утверждали, правда, что бар[он] Нольде – кадет и ненадежный человек. Кадет он был действительно и настолько, что после революции получил место товарища министра при Милюкове[750], но это не мешало тому, что, как знаток частного международного права, как ученый и практик, близко знакомый с торговыми договорами, он был незаменимым директором Второго департамента.
Не говорю о более молодых чинах, хотя и все поименованные были не старые. Все они наперерыв постарались показать мне свои знания и работу, все представили целые трактаты по предмету ведения каждого. Не могу еще не упомянуть здесь о таком выдающемся знатоке ближневосточных дел, как князь Григорий Трубецкой, это был прямо талант, или о Лысаковском, ведавшем Отделом печати[751]. Таким образом, центральное ведомство было здесь, по-моему, лучше обставлено, чем в любом из других министерств.
С заграничными нашими представителями я успел познакомиться гораздо менее, так как пробыл министром менее трех месяцев. Но тут я могу судить только путем сравнения с представителями иностранных держав в Петрограде. И вот, я определенно вынес впечатление, что таких послов, как граф Бенкендорф, Извольский и Гирс в Риме, у иностранцев в Петрограде не было.
О графе Бенкендорфе я уже говорил подробно: это был исключительный знаток наших международных отношений, осведомленный как никто о положении дел не только в Англии, но и во всей Европе и даже в Америке.
Извольский, может быть, несколько уже утомленный, был все же авторитетным человеком. То же можно было бы сказать и о Гирсе. Знающими, талантливыми были посол в Японии Крупенский и посланник в Лиссабоне Боткин. Последний несколько парадировал своим германофильством и насмешливым отношением к союзникам. Но это не мешало ему быть необыкновенно наблюдательным и интересным. Слабее других был посол в Соединенных Штатах Бахметев, человек очень уже устарелый. О положении дел там я знал гораздо больше от графа Бенкендорфа, чем от него. Подобное представительство на таком важном посту казалось мне недопустимым, и я докладывал Государю о необходимости заменить Бахметева другим лицом. Хотя Государь отнесся к этому без особой охоты, тем не менее, я думаю, что удалось бы это сделать, если бы не произошла революция. Бахметев был заменен другим Бахметевым, профессором, только уже после революции[752]. Но в особо трудное положение я был поставлен, когда получено было известие о кончине графа Бенкендорфа[753]. Заместитель для него у меня в виду был только один – С.Д. Сазонов. Я был уверен, что этот кандидат будет особенно приятен английскому правительству, да и нашему общественному мнению. Опасался я только одного – противодействия сверху. Однако когда я стал докладывать о необходимости замещения места посла в Лондоне и прибавил, что у меня в виду только один кандидат, то Государь не дал мне докончить и спросил: «Сазонов, не правда ли?»[754] Это, мне кажется, доказывает, что сам Государь лично ровно ничего не имел против Сазонова, и что его увольнение из министров было результатом каких-то сторонних влияний. Сазонов пробовал было отнекиваться, но, когда я ему сказал о докладе, он понял, что это дело конченное. Да мне почему-то кажется, что и ему самому этого очень хотелось[755]. Однако он чрезвычайно долго собирался в путь, до того долго, что настала революция. Но он и тут еще не поехал и дождался того, что когда сел в вагон, то прислали от князя Львова сказать, чтобы он не ехал. Между тем, назначение его имело большое политическое значение: по крайней мере, английский король[756] специально благодарил за него Государя.
Мне сообщили вскоре же по моем назначении, что Государственная дума ждет разъяснения министра иностранных дел по вопросу о предложенном германским правительством мире. Это предложение было сделано, как известно, в крайне общих выражениях и, в сущности, имело такой характер, что мы-де готовы войти в переговоры, не указывая пока условий, и, если союзники на это не пойдут, то ответственность за продолжение войны упадет на них[757]. Речь моя, которая должна была быть прочитанной, а не экспромтной, так как могла быть произнесена только с высочайшего одобрения, была по моему поручению составлена Лысаковским настолько основательно, что не потребовала никаких исправлений. Я поехал вечером к А.Ф. Трепову, который включил в нее несколько сильных выражений. «Это должно им понравиться», – говорил он. Он же и свез ее Государю рано утром, так как у меня доклада в этот день не было[758]. Перед самым заседанием я был уведомлен, что речь получила одобрение, и потому выступил на кафедре. Встречен я был гробовым молчанием. Видимо, хотели показать мне, что не одобряют моего назначения. Родзянко говорил будто бы, что если я буду проявлять наклонность к миру, то он со своей кафедры пустит мне в голову графином. Однако речь была составлена в таких выражениях, что каждая фраза ее сопровождалась бурными аплодисментами, а в конце была чуть ли не овация[759]. Дума, очевидно, успокоилась, что в Министерстве иностранных дел вопроса о сепаратном мире поставлено быть не может. В «Речи»[760] на другой день статья об этой речи констатировала ее успех, хотя и предупреждала, чтобы я не приписывал ее успех себе, а лишь существу дела. Кадеты хотели этим еще раз отметить, что желали видеть министром не меня, а Сазонова. Личность же мою изобразила «Речь» в довольно комическом виде, таких-де фигур мы не привыкли видеть представителями Министерства иностранных дел[761].
Рядом с внешнею, мне пришлось сразу коснуться и внутренней политики. В первый же мой деловой доклад Государю я должен был, по соглашению с Треповым, сказать, с точки зрения министра иностранных дел, об опасности, представляемой Протопоповым, и о необходимости его устранения[762]. Но тут случился неожиданный инцидент. Трепов вел вовсю кампанию против Протопопова, поставив в зависимость от ее успеха сохранение за собою поста председателя Совета министров. И вот, если память мне не изменяет, именно в утро накануне того дня, когда я должен был ехать с этим докладом, он получил записку от Государя, что отставка его принята[763]. Тем не менее, мы находили, что это обстоятельство дела не меняет и что я все-таки должен выступить со своим докладом против Протопопова. Поэтому после очередных дел я просил у Государя разрешения сказать несколько слов по вопросам, выходящим за пределы моего ведомства. Государь, видимо, насторожился; быть может, он был предупрежден, что я буду говорить о Протопопове. Должен прибавить еще, что в это время совершилось уже убийство Распутина[764], и великий князь Дмитрий Павлович был сослан в Персию, несмотря на заступничество всей Императорской фамилии. Рассказывали, что Государь согласился выслушать только его отца, великого князя Павла Александровича[765]. На письме членов Императорской фамилии, где первой подписавшей была великая княгиня Мария Павловна Старшая, и где они умоляли о милости к великому князю Дмитрию Павловичу, последовала очень резкая резолюция Государя[766]. Замечательно, что с этим вопросом члены Императорской фамилии обращались к третьим лицам. Так, великая княгиня Мария Павловна при моем представлении ей передала мне это письмо в копии, с написанною на нем резолюциею Государя. О том же подробно говорили со мною великий князь Кирилл Владимирович и супруга его великая княгиня Виктория Федоровна. Последняя во всем винила императрицу Александру Федоровну. А великий князь Александр Михайлович настоятельно просил в моем докладе упомянуть и о судьбе Дмитрия Павловича. Великий князь Николай Михайлович читал мне свои письма к Государю об общем направлении политики, где довольно резко выступал против влияния императрицы и Распутина[767]. «Не удивляйтесь, – говорил он, – если вдруг узнаете, что я выслан или арестован. Я нарочно прочел Вам эти письма, чтобы Вы знали причину». Так оно вскоре и случилось[768].
Все эти беседы происходили как-то лихорадочно, при первом свидании, когда еще великие князья не могли иметь ко мне никакого личного доверия. Так сильна была общая растерянность. Слышал я, что и императрица Мария Федоровна писала Государю письмо из Киева[769].
Все это, однако, не подействовало. Поэтому моя задача была очень трудна и деликатна. Тем не менее, я решился поставить вопрос ребром с самого начала. Я, к сожалению, теперь уже не помню последовательно содержания своих слов. Сущность же их заключалась, приблизительно, в следующем: я говорил Государю, что как министр иностранных дел я крайне озабочен сохранением во время войны внутреннего спокойствия, которое является главным залогом успеха в предпринятой Россиею грандиозной борьбе. Между тем, при настоящих методах управления спокойствия нет и быть не может. Первою причиною является конфликт министра внутренних дел с Государственною думой и русскою общественностью. Раздражение растет с каждым днем, с каждым часом. К нему присоединяются волнения, вызванные преследованием за событие, хотя формально и преступное, но являющееся выражением требований народной совести (я разумел убийство Распутина – при этих словах Государь вскинул на меня глазами). Я не касаюсь – говорил я – других новоназначенных министров, которых молва обвиняет в корыстных деяниях (как Добровольский). Я не знаю, справедливы ли эти наветы. Но о Протопопове я позволяю себе сказать открыто, что дальнейшее его пребывание у власти грозит государственному спокойствию. Из создавшегося конфликта между ним и Думой могут быть только два исхода: его увольнение или роспуск Думы. Но роспуск Думы, который при незакономерности ее действий всегда зависит от верховной власти, в настоящих условиях есть начало революции. Рабочие на фабриках и заводах находятся в крайнем состоянии брожения, достаточно искры, чтобы вызвать их на улицу. Приказывать солдатам стрелять в народ теперь, когда они стоят на фронте для защиты этого народа от внешнего врага, совершенно невозможно. А если такой приказ будет дан, он не будет исполнен. Начало же неповиновения армии есть начало государственного переворота. Как министр иностранных дел я не могу не предвидеть, что последствием будет заключение сепаратного мира (при этих словах Государь сделал энергический жест и сказал: «Никогда я не заключу сепаратного мира»). Я же – продолжал я – в таком случае прошу Государя уволить меня от должности, так как участвовать в заключении сепаратного мира я считаю противным своей совести.
Вот примерно содержание моего обращения к Государю, которое было в действительности гораздо продолжительнее. Я говорил очень горячо и в конце концов даже с рыданиями в голосе, слезы душили меня. «Ваше Величество, – сказал я в заключение, – простите мне мою откровенность, но моя совесть не позволяет мне говорить иначе и молчать».
– Нет, пожалуйста, – сказал Государь. – Я, напротив, очень ценю искренность.
– Какой же ответ Ваше Величество изволите мне дать насчет меня и моей отставки?
– Я Вам скажу это на следующем докладе.
Мне кажется, что мои слова произвели на Государя довольно сильное впечатление. Он простился со мною в очень серьезном настроении.
Доклад мой был до Нового года. Следующий предстоял 3 января. Я сообщил своим сослуживцам, что едва ли останусь министром. Оставалось ожидать дальнейших событий. Тем временем с разных сторон начались настояния, чтобы я при следующем докладе не настаивал на своей отставке, если Государь будет меня удерживать, потому что очень близка перемена в составе министерства, что Протопопов будет уволен и даже что председатель Совета министров будет новый. Являлись с этим государственные деятели и журналисты. Один из них, человек всегда очень осведомленный, Бонди, утверждал, что полная реорганизация министерства произойдет после 20 января[770]. А надо сказать, что состав министерства еще ослабел. На место А.Ф. Трепова был назначен председателем Совета министров кн[язь] Н.Д. Голицын[771]. Это был прекрасный, очень почтенный человек, но окончательно непригодный к этой должности. Когда-то был он тверским губернатором, затем сенатором и членом Государственного совета. Последнее время он работал в Комитете императрицы Александры Федоровны о военнопленных. И, говорят, был платонически влюблен (боготворил) в императрицу. Это ли боготворение, или особые труды по Комитету, или другие причины, но он был избран в преемники Трепова. Он рассказывал мне, что Государь долго убеждал его принять должность председателя, но он решительно от этого отказывался и, уходя, вынес убеждение, что ему удалось отклонить назначение; однако к концу дня получил уже подписанный указ и делать уже было нечего[772].
Человек уже далеко не молодой, в возрасте почти семидесяти лет, князь Н.Д. Голицын обладал добрым, в высшей степени мягким характером и самым приятным обращением, но твердости в нем не было решительно никакой и справиться с министрами он не был в состоянии, да едва ли и хотел. Когда его назначили, он приехал ко мне, и я сообщил ему о своем докладе против Протопопова и о возможной своей отставке. Он, конечно, выражал сожаление и желание, чтобы я остался, но заметно было, что никакой поддержки в борьбе с Протопоповым я ожидать не могу. Впоследствии, однако, сам Голицын говорил мне, что убедился в опасности Протопопова, а потому он постоянно докладывал об этом Государю, но, разумеется, не ему было справиться с Протопоповым и его кликою, когда это не удалось даже А.Ф. Трепову[773].
На место Трепова министром путей сообщения был назначен Кригер-Войновский, очень опытный и дельный инженер, при котором дело не могло пойти хуже, чем при Трепове. Но зато уволен был министр народного просвещения гр[аф] П.Н. Игнатьев[774]. Это был, по-моему, прямой результат его доклада Государю, и не помогли ему ни сочувствие Государя, ни его дружеское расположение[775]. Отставка была дана в таких странных условиях, без назначения в Сенат или Государственный совет, а вчистую, что имело прямо характер немилости. Что хуже всего, это то, что Игнатьев, человек сравнительно молодой, оказавшись в полной отставке, подлежал призыву в войска. Тогда уже военный министр доложил Государю об этом неожиданном результате, и графа Игнатьева уже после отставки пожаловали в гофмейстеры или в шталмейстеры только для того, чтобы избавить его от воинской повинности[776]. На его место был назначен попечитель Петроградского учебного округа Кульчицкий[777], о котором я ровно ничего сказать не могу, так как в Совете он за мое там присутствие ничем себя не проявил; но в противоположность графу Игнатьеву это был совершенно старый и дряхлый человек[778]. Наконец, в начале января произошла еще одна перемена: на место Шуваева был назначен быв[ший] начальник Генерального штаба М.А. Беляев[779]. Рассказывали, будто императрица посылала Шуваеву разные приказания по переменам в личном составе Военного ведомства, но он отказался их исполнять и был за это сменен[780].
Перемена в военном ведомстве не внесла никакого улучшения: М.А. Беляев был человек очень сухой, ограниченный и крайне упорный. Многие его терпеть не могли[781].
При всем том, повторяю, утверждали, что перемена в министерстве ожидается очень скоро, и убеждали меня не настаивать на своем уходе. С этим приехал ко мне даже сам А.Ф. Трепов, с которым мы раньше условливались, что в случае неухода Протопопова я уйду из Министерства иностранных дел. Он равным образом настаивал на том, чтобы я остался, указывая на возможность перемены. Он был у Государя[782], который сказал ему, что очень благодарит его за рекомендованных им министров, меня и Феодосьева («в особенности же за Покровского»).
Из Ставки приехал представитель Министерства иностранных дел Базили, который сказал, что мой уход в данную минуту произведет нехорошее впечатление в офицерских кругах, так как после моей речи в Думе он будет истолкован снова как поворот в пользу сепаратного мира.
Государь еще раз подчеркнул свое ко мне внимание тем, что 1 января пожаловал мне орден Белого орла через орден, минуя Владимира 2-й степени[783]. Все вместе взятое побудило меня остановиться на том, чтобы еще раз поставить вопрос об отставке, но на нем окончательно не настаивать.
1 января 1917 г. в Царском Селе происходил прием дипломатического корпуса, министров и первых чинов двора в Большом дворце. На этом приеме был и председатель Государственной думы. К нему Протопопов полез с рукопожатием, а тот послал его к черту. Одни говорили, будто Протопопов вызвал после этого Родзянку на дуэль, другие – будто просто сказал: «Хорошо»[784].
Надо сказать, что к этому времени политическая болезнь Протопопова уже кончилась, и мало-помалу он, вопреки всему и всем, был утвержден в должности министра внут[ренних] дел[785]. Следовательно, в этой области ничего и никому сделать не удалось. Тем удивительнее милостивое ко мне отношение Государя. Когда же 3 января я был опять с докладом[786] и в конце доклада спросил, как угодно Его Величеству распорядиться мною ввиду моей просьбы об увольнении, то Государь сделал вид, что не сразу понял, о чем идет речь, а затем сказал, что он просит очень меня остаться, и прибавил, что я пользуюсь полным его доверием. Я на это сказал, что во исполнение такой высочайшей воли буду, как часовой, стоять до смены, но, ввиду полного несогласия своего со взглядами Протопопова, я прошу разрешения в Совете министров открыто высказывать свои особые мнения. На это Государь ответил мне, что просит всегда так и делать, потому что особенно ценит искренность убеждений. Вообще, он был необыкновенно милостив. Знаю, далее, что и другие министры после меня пробовали подавать в отставку по несогласию с Протопоповым, но уволены не были. Так, Барку разрешено было уехать в продолжительный отпуск в Финляндию, откуда он, впрочем, вскоре вернулся[787]. Князю Шаховскому Государь отсрочил разрешение вопроса об отставке, причем сказал: «Значит, и Вы смотрите на политику Протопопова, как Покровский»[788]. Следовательно, мои слова произвели все-таки известное впечатление. Сужу об этом еще и потому, что, например, министр Двора убеждал меня говорить об опасном направлении политики Протопопова, потому что я будто бы пользуюсь доверием Государя, а ему, когда он говорит, дают понять, «quil est un vieil unbécile»[789].
Но за всем тем все мнения и действия Протопопова получали всяческое одобрение. Особенно проявилось это в вопросе о сроке созыва Государственной думы. При последнем роспуске ее на Рождество было прямо сказано, что Дума будет созвана вновь 12 января[790]. К этому времени должен был последовать рескрипт на имя князя Голицына, в котором должны были быть изложены виды правительства по главным задачам момента. Здесь говорилось о продовольствии, путях сообщения, далее о благожелательном и прямом отношении к законодательным учреждениям и, наконец, о том, что правительство имеет в виду опираться на земские учреждения[791]. Составление рескрипта было поручено А.А. Риттиху. Я упустил сказать, что еще при Трепове Риттих был назначен министром земледелия[792]. Я уже упоминал, с какой энергией он взялся за продовольственное дело. Его распоряжения вызывали кадетскую оппозицию, но, в конце концов, он имел в Думе громаднейший успех: все поняли, что продовольственный вопрос оказался в твердых руках и дело мало-помалу наладится. И у Государя Риттих внушил, по-видимому, большое доверие. Так вот, этот проект рескрипта, составленный Риттихом, был обсужден на квартире кн[язя] Голицына, где кроме него были Протопопов и я; Риттих в этот день ездил с докладом[793].
В общем, проект был нами одобрен, причем я настаивал на том, чтобы он был обсужден в Совете министров, иначе возобновилась бы штюрмеровская практика – решение важных вопросов в маленьких домашних совещаниях. С Протопоповым мы объяснились очень корректно, констатировав полную противоположность наших взглядов на политическое положение. Говорили и о сроке созыва Думы; предполагалось отложить его до 24 января вместо 12 под тем предлогом, что Бюджетная комиссия Государственной думы еще не закончила своих работ. Мотив этот, конечно, был мало убедителен. Дума могла быть совершенно свободно созвана и во время работ Бюджетной комиссии и нисколько им не помешала бы, а важно было соблюсти высочайше обещанный срок созыва.
Совещание это происходило 2 января, и 3 января был упомянутый мною мой доклад, на котором разрешился вопрос о том, что я остаюсь пока министром. Из Царского я проехал прямо в Мариинский дворец на заседание Совета министров, где опять ин-плено[794] обсуждался проект рескрипта на имя кн[язя] Голицына, принятый без прений, а затем вопрос о сроке созыва Гос[ударственной] думы[795]. Протопопов и Добровольский усиленно доказывали, что созыв этот должен быть отсрочен, по крайней мере, до половины февраля. Они утверждали, что Дума сделалась фокусом революционного направления общества, борющегося с правительством за власть. Протопопов излагал какуюто курьезную теорию развития революционного движения, иллюстрируя ее составленным им графическим изображением[796]. Добровольский – тот прочел письмо какого-то своего друга, члена Думы из правых, где было сказано: «Коля, беги скорее, пока цел». «Если мне так пишут, – пояснил Добровольский, – то что же должны писать Александру Дмитриевичу» (Протопопову).
Я произнес довольно длинную речь, где обличал их в искажении истины. Настоящая Дума – говорил я – на две трети состоит из консервативнейших элементов страны, ее восстановили против правительства собственные его действия. Улучшить положение можно вовсе не роспуском Думы и назначением новых выборов, как желали Протопопов и Добровольский, потому что новые выборы в настоящих условиях дадут гораздо более оппозиционную Думу; нужно же немногое, что может быть исполнено в несколько дней (я ясно намекал на необходимость ухода Протопопова, Добровольского и им подобных), и волю Государя о созыве Думы можно исполнить к 12 января. Речь эту многие назвали тогда историческою. Ко мне присоединились Феодосьев, Шуваев, Николаенко (заменявший Барка) и Ланговой (заменявший Шаховского). Председатель, князь Голицын, решительно высказался против полного роспуска и новых выборов, предложив небольшую отсрочку – до 31 января, по довольно странному мотиву, что до 31 января ему не успеть переехать на казенную квартиру, где он, по-видимому, собирался делать рауты. Но Протопопов, Добровольский и Раев остались при своем. Последний предложил отсрочку до 14 февраля, мотивируя это тем, что 14 февраля – начало поста. Таким образом, было три мнения: созвать Думу в срок – 12 января, отсрочить до 31 января и отсрочить до 14 февраля.
Голицын обещал доложить Государю все три мнения, и высочайшее одобрение получило третье мнение – об отсрочке до 14 февраля. Конечно, всякая отсрочка – и до 31 января, и до 14 февраля – была одинаково нежелательна, как неисполнение высочайшего обещания, но князь Голицын не сумел отстоять в данном случае даже свое собственное мнение.
Вот как были глубоки корни, пущенные Протопоповым. Прямо не знаю, чему их приписать. Думаю все же, что здесь главную роль играло влияние императрицы, перед которой он, говорят[797], разыгрывал роль какой-то необыкновенной и беззаветной преданности и жертвы за свою любовь к Государю и императрице, о чем говорил на всех перекрестках. Ужасно подлые у него были аллюры. Уже я упомянул, как он полез к М.В. Родзянке на новогоднем приеме в Царском.
В Совете министров я, в порядке старшинства[798], имел несчастье сидеть рядом с ним. И вот, несмотря на явное мое с ним расхождение, которое я, кажется, вовсе и не скрывал, Протопопов, что называется, лез ко мне постоянно, чуть-чуть что не облапливал, говорил что-то на ухо, так что я не знал, как от него отвертеться[799].
Но другая загадочная причина заключается все-таки в отношении к нему Государя[800]. Поэтому здесь уместно будет сказать несколько слов для характеристики Государя, насколько я имел возможность его узнать. Действительно, ведь очень было странно видеть, с одной стороны, крайне милостивое его отношение к Трепову, к графу Игнатьеву, ко мне лично[801], и рядом с этим согласие со всем, на чем настаивал Протопопов, увольнение тех же Трепова и графа Игнатьева, резкое отношение к членам Императорской фамилии[802], нежелание даже говорить о Распутине, чтобы не вызвать истерию со стороны императрицы[803]. Как все это согласовать? Я, конечно, слишком мало видал Государя, чтобы дать полную его характеристику, поэтому ограничусь лишь своими личными впечатлениями. С внешней стороны Государь был человек прямо очаровательный своей мягкостью и любезностью обращения: при нем всякий должен был чувствовать себя в своей тарелке, так он был мил и прост. Особенно поражало выражение глаз, лучистых, доброжелательных и ласковых. Он, мне кажется, не для вида только, но действительно стремился к простоте: так, однажды явившись к утреннему докладу, я застал его лично растапливающим камин в своем кабинете.
На докладах он держал себя как милый собеседник. Почему некоторые, даже старые министры, например, А.С. Ермолов, боялись ему докладывать, я отказываюсь понимать. Государь был очень трудолюбив и обладал, несомненно, хорошими способностями. Так, еще со вступления на престол он считал особою своей обязанностью читать губернаторские отчеты и делать на них отметки. Напрасно А.Н. Куломзин отмечал ему места, которые стоило читать: Государь не следовал его указаниям и, по-видимому, все отчеты читал от доски до доски[804]. В этом его трудолюбии я убедился и по Министерству иностранных дел. Здесь ежедневно посылалась Государю очень обширная почта: все, иногда очень обширные телеграммы и письма послов и других российских представителей с ответами на них министерства. Государь, несомненно, каждый день прочитывал эту корреспонденцию целиком и делал на ней свои отметки. Обладая при этом превосходною памятью, он отлично помнил все прочитанное. Бывало, на докладе я говорил кое-что из этой корреспонденции – и почти всегда Государь отвечал, что он уже читал это в депешах.
По словам одного из камердинеров, Государь работал каждую свободную минуту, как только не был занят обязанностями представительства. Мысли докладчика он схватывал всегда верно. Это мне подтверждали и такие долголетние его докладчики, как граф В.Н. Коковцов. Последний говорил мне не раз, что Государь отличается очень недурными способностями, быстро усваивает, но это усвоение не впрок – оно поверхностное: мысль не остается твердо в уме и быстро испаряется. Мне ни разу не случалось видеть, чтобы Государь был не согласен с моими заключениями на докладе, но определенно своего мнения он почти никогда не высказывал. Правда, я этого не могу приводить в виде общего правила – я слишком мало имел случаи докладывать Государю: как государственный контролер едва раза четыре за десять месяцев[805], а еженедельно, да и то с перерывами – только в течение трех месяцев в бытность мою министром иностранных дел[806]. При таком характере, впечатлительном и вместе мягком и неустойчивом, Государь должен был находиться под влиянием последнего докладчика и соглашаться с ним[807]. Но, разумеется, гораздо сильнее должно было быть влияние тех сфер, которые непосредственно его окружали, и прежде всего влияние императрицы, женщины, по-видимому, властного характера и притом истеричной[808].
После докладов министров начиналось, вероятно, их пережевывание в тесном кругу. На это указывают вынесенные оттуда смешные характеристики не привившихся министров: «наш добрый нотариус» – для А.А. Макарова, «румын» – для А.А. Поливанова.
Пробовавшие бороться с этими домашними влияниями всегда проигрывали игру, будь то даже такие авторитетные люди как П.А. Столыпин или граф В.Н. Коковцов. Чтобы устранить влияние подобных людей, по-видимому, начинали играть на струне самолюбия: что такой-то министр затмевает Государя в народном мнении. Этот прием, кажется, всегда действовал с успехом: таким именно способом были лишены доверия и Витте, и Столыпин, и Кривошеин[809].
Затем была, как рассказывали, та область, где средством воздействия была истерия: это область Распутина. Тут, по-видимому, довели Государя до степени крайнего раздражения, так что он не выносил даже разговоров о Распутине. Когда же его убили, то, вероятно, произошли такие домашние сцены, которые побудили Государя принять прямо жестокие меры, совершенно несвойственные его характеру: сослать в Персию вел[икого] князя Дмитрия Павловича, своего любимца, и резко ответить всем членам Императорской фамилии, которые просили за последнего. Это была истинная твердость слабости[810]. Между тем, по существу, Государь был, по-видимому, совершенно иных взглядов и вовсе не симпатизировал ни Распутину, ни Протопопову: граф Игнатьев прямо говорил мне это, а он его близко знал[811]. Доказательство – его разговор с Игнатьевым, его отношение к моему докладу о Протопопове. Он чувствовал, что правда на нашей стороне, но не мог избавиться от кошмара. И вот этот давящий кошмар начинал действовать: в результате граф Игнатьев, этот любимец Государя, был уволен. Был бы, конечно, уволен и я по прошествии некоторого времени, если бы не случилась революция. Тщетно Государь старался найти какой-нибудь исход. В этом порядке мышления он приближал иногда к себе людей совершенно особого рода и не только слушал их, но даже следовал их советам.
Одного из таких людей знал и я: это был Анатолий Алексеевич Клопов[812]. Старый земский, кажется, статистик, человек с окраскою шестидесятых годов, он как-то сблизился с вел[иким] князем Александром Михайловичем, а тот представил его Государю[813]. И вот, вдруг, во время продовольственной неурядицы, когда министром внутренних дел был И.Л. Горемыкин, совершенно для всех неожиданно титулярному советнику Клопову было поручено вне всяких ведомств обследовать продовольственное дело, дан для этого особый штат чиновников и экстренный поезд[814]. Разумеется, из этого обследования ничего не вышло, но Государь и после того охотно беседовал с Клоповым. Обыкновенно Клопов писал ему письмо с просьбою об аудиенции, и Государь назначал таковую. Беседа продолжалась другой раз час и более. Государь и Клопов курили, и Клопов, со свойственной ему беспорядочностью мысли и горячностью, говорил ему вещи, совершенно не похожие на то, что он привык слышать от окружающих. Иногда Клопов вместо аудиенции писал Государю длинные письма[815]. Результаты практически были ничтожны, однако посещение Государем Думы во время войны, разрешение учительского съезда были как будто результатом разговоров с Клоповым[816]. Кстати сказать, Клопов, никогда не служивший, получал даже пенсию в три тысячи рублей по особому высочайшему повелению.
Сферы терпели его как нечто очень безобидное. Не знаю, были ли еще подобного рода люди, но существование Клопова доказывает, по-моему, что у Государя было в душе стремление вырваться из круга обычных докладов и разговоров и вздохнуть другим воздухом. Конечно, Клопов был личность слишком ничтожная, чтобы иметь серьезное влияние, но он очень симптоматичен.
Какой же вывод можно сделать из всего вышеизложенного? Да тот, мне кажется, что Государь, при хороших его способностях, трудолюбии и живом уме, страдал слабостью характера, полною бесхарактерностью, благодаря которой подпал влияниям, от которых никак не мог освободиться. Это был человек домашних добродетелей, по-видимому, верный и покорный муж, но уж вовсе не государственный ум[817]. В этом – громадное несчастье России, что в самую трагическую минуту ее истории во главе власти оказался такой слабый руководитель, который совершенно был не способен освободиться от взявших над ним верх влияний[818], и которые против собственной его воли все более и более упраздняли его авторитет и вместе с ним авторитет царской власти.
Глубоко был прав поэтому граф В.Н. Коковцов, который еще в 1913 году говорил мне: «Это последний император». Слова его оказались пророческими, а между тем, именно Николаю II приписывали фразу, что он желает передать сыну власть в том объеме, как получил ее от отца. И вот в его слабых[819] руках эта власть все ограничивалась, пока не дошла до полного упразднения.
Переходя к делам Министерства иностранных дел, я должен, прежде всего, сказать два слова о тех представителях иностранных держав, с которыми мне приходилось чаще всего иметь дело. В общем порядке со времени войны установилось постоянное сотрудничество между министром иностранных дел и послами Англии, Франции, а впоследствии и Италии, когда эта держава вошла тоже в число союзников[820]. При С.Д. Сазонове отношения министра с этими послами были, по-видимому, самые дружественные. Не то началось при Штюрмере. «Nous avous perdu toute confiance», – говорили они. Я не знаю подробностей, но слышал, что непосредственное общение послов с министром происходило редко, что большею частью он отсылал их к Нератову. Они чувствовали себя настолько нехорошо в кабинете Штюрмера, что когда я изменил в нем расстановку мебели и поставил ее так, как было при Сазонове, то послы пришли в полный восторг и сказали, что видят в этом знак прямого к себе внимания.
Наиболее авторитетным из всех трех был английский посол сэр Бьюкенен. Это был истый тип британского дипломата, в высшей степени изящный и корректный. И говорил он всегда обдуманно. Поэтому я никак не могу согласиться с приведенным выше отзывом императрицы, что это был человек ограниченный. Бьюкенену приписывали огромное влияние на русские дела. Некоторые круги нашего общества обвиняли его в том, что он дружит с кадетами и поддерживает в России общественный антагонизм против правительства. В самом деле, кадеты, как я слышал, были вхожи к Бьюкенену: у него бывали и Милюков, и Маклаков, и другие. Очень понятно, что он, как англичанин, был ближе к партии, которая делала вид, что добивается истинного представительного и парламентарного строя в России. Бьюкенена можно разве упрекнуть в этом случае в недальновидности, что он наши условия рассматривал с английской точки зрения и не понимал, м[ожет] б[ыть], истинного значения кадетства в русской жизни. Но это лишь мое предположение. Очень возможно, что Бьюкенен, и принимая кадетов, знал хорошо им цену. С правыми же партиями он, разумеется, не мог сойтись, хотя бы ради тех неприличий, которые позволяли себе их представители, напр[имер], Булацель[821] и др[угие]. Обвинения против Бьюкенена дошли до того, будто английское посольство участвовало в убийстве Распутина[822]. Эта сплетня получила такое распространение, что Бьюкенен вынужден был на новогоднем приеме в Царском говорить лично с Государем, чтобы ее опровергнуть[823]. Он шел в этом деле с открытым забралом, на что, вероятно, не решился бы, если бы в упомянутой сплетне была хоть доля правды. Наконец, утверждали, что Англия в лице Бьюкенена и его агентов поддержала русскую революцию. Это наиболее тяжкое обвинение поддерживается многими и до сих пор. Ни от кого, однако, я не слыхал доселе ссылки на какие-либо фактические данные[824]. И, со своей стороны, думаю, что это едва ли верно. Вот те данные, на которых я при этом основываюсь. Политика Протопопова и его присных, которая, по мнению всех благомыслящих людей, вела и привела нас к революции, вызывала не у одного Бьюкенена, но у всех союзных послов чувства глубокого беспокойства, которого они передо мною не скрывали. Если бы революция была на руку Англии, то спрашивается, что же ей было беспокоиться? Напротив, чем хуже, тем лучше. Между тем, Бьюкенен испрашивает специальную аудиенцию у Государя, где с нарушением этикета предостерегает его против хода, принятого русскою внутреннею политикой[825]. Этого мало: он пишет в Англию и просит соответственного письма в том же духе от английского короля к Государю. Когда в составе конференции союзников[826] в Россию прибыл лорд Мильнер, Бьюкенен старается и через него повлиять на Государя. Но тут уже Мильнер не понял положения дел и, вернувшись с аудиенции[827], сказал Бьюкенену, что по его убеждению дело стоит не так плохо. Это повергло Бьюкенена в большое недоумение, так как он хорошо знал положение вещей. Я все это лично от него слышал. Наблюдая через военных агентов за настроением армии, он доносил по телеграфу, что среди офицеров гвардии развивается враждебное к Государю отношение. Он предупреждал об этом, как о явлении опасного характера[828]. Неужели все это поступки человека, поддерживающего русскую революцию? А опровержения этих фактов я ни от кого не слыхал.
Да и странно было бы стремиться к революции у союзников накануне окончания войны, когда можно было уже предвидеть победу, тогда как после революции шансы могли измениться, что в действительности и случилось. Вот почему и логически поддержка Англией нашей революции представляется мне мало вероятною. Не знаю, может быть, я сам был ослеплен хитростью Бьюкенена, но мне кажется, что он действовал всегда в интересах одной победы.
Представитель Франции Морис Палеолог был несколькими номерами ниже Бьюкенена. Очень живой и симпатичный человек, старый холостяк, любитель женского пола, веселый как все французы, всегда очень ревниво относился к защите французских интересов, к русским же делам [не] проявлял большую любознательность. Он был слабо осведомлен в делах того государства, где, однако, жил в течение нескольких лет.
Вообще я должен сказать, что представители иностранных держав, за немногими, м[ожет] б[ыть], исключениями, не были вполне на высоте своей задачи: они проживали в России, знали здесь светское общество, ездили на завтраки, обеды и ужины, собирали разные сплетни, по обязанности являлись в дипломатическую ложу законодательных учреждений, но Россией и русским народом они вовсе не интересовались. Однажды Палеолог, проживший в Петербурге довольно долго, признался мне, что он, посещая только светское общество, мало знает русских выдающихся людей и просит меня с ними познакомить. Окружавшие его сотрудники были в этом отношении не лучше его. Советник посольства Дульсе был чистого типа дипломатический бюрократ, из депеш старался усвоить себе настроение французского кабинета и сообразно с ним строил свои заключения о русских делах. И еще, пожалуй, легкомысленнее был итальянский посол, милейший маркиз Карлотти де Рипарбелла. Это был довольно-таки странный итальянец, гораздо более смахивавший на белесого еврея. Время проводил он между завтраками в Яхт-клубе[829], единственном, кажется, месте его дипломатического осведомления, и вечерними прогулками по Невскому проспекту.
Эти три посла ежедневно в 12 час[ов] приезжали ко мне в кабинет. Итальянский же, в силу, что ли, более позднего вступления Италии в союз[830], приезжал в 12½ часов и обижался, если его принимали не немедленно: значит, имели от него какие-то секреты. Но эти обиды после двух-трех любезных слов теряли всегда всякую остроту. На этих беседах мы обменивались содержанием полученных за ночь депеш и намечали общие на них ответы. Затем в час или полтора послы уезжали, причем Карлотти задерживался минут на пять, чтобы дать понять, что у него есть какие-то особые вопросы, чего в действительности не было. В общем, мы жили в большом согласии, и черная кошка не пробегала между нами ни разу в течение всех трех месяцев. С другими представителями иностранных государств деловые сношения были у меня реже: всякий раз по специальному поводу они просили особого приема. Ближе других я был с Френсисом, американским послом, хотя мы не могли объясняться друг с другом иначе, как через переводчика: он не говорил по-французски, а я не говорил по-английски. Таким образом, близость выражалась скорее в жестах, чем в словах. Я бы затруднился поэтому сказать, что представлял собою Френсис. Производил он скорее впечатление не дипломата, а «бизнес мэна», да и все его посольство также; даже помещение их было скорее похоже на торговую контору, нежели на посольство. Его помощники – советник Райт с женою и в особенности коммерческий агент Геннингтон – были ближе к типу настоящих представителей. Особенно Геннингтон мог служить примером иностранным дипломатам: он в несколько месяцев отлично изучил русский язык, так что объяснялся на нем совершенно свободно, с небольшим только акцентом; старался проникнуть в русскую жизнь, принимать близкое участие в русских промышленных и коммерческих организациях. Ничего подобного другие собою не представляли: они приезжали в Петроград, чтобы здесь жить по-своему, и максимум в великосветских клубах собирали разные сведения. А некоторые, например, французский коммерческий агент виконт де Пульпике дю Хальгуэ, отличался только тем, что ходил по правительственным учреждениям для защиты каких-либо частных французских интересов, и здесь считал своей обязанностью заниматься довольно злобным торгашеством, чем всем жестоко надоел. В этом отношении некоторые французские консулы, напр[имер] архангельский, говоривший свободно по-русски, стояли много выше.
Японского посла при вступлении моем в министерство еще не было, так как прежний посол Мотоно был назначен министром иностранных дел. Я, впрочем, его раньше знал, но очень мало: при весьма безобразной, чисто обезьяньей наружности, он производил впечатление очень умного и очень осведомленного в русских делах человека; так отзывались о нем те, кто знал его ближе. Заменил Мотоно виконт Ушида. Он раньше был министром ин[остранных] дел: крепыш, еще не старый, он показался мне очень энергичным. Конечно, русской жизни он еще не знал. Но аппарат японского посольства был, по-видимому, лучше приспособлен к ознакомлению с русскими делами, чем другие. Это мы могли заметить по тем сношениям и донесениям, которые посылал Ушида в Японию, и которые нами перехватывались. Здесь он трезво и ясно видел наше внутреннее разложение и грядущую революцию[831].
Испанский посол, маркиз Вилласиндо, с которым у меня было немного дел, был великосветский господин и, кажется, ничего более. Это были старшие иностранные представители – послы.
Из союзных посланников о бельгийском, графе Бюисере, я уже говорил. Очень хорошее впечатление горячего патриота производил серб Сполайкович. Необыкновенно одушевленный, он пренебрегал дипломатической сдержанностью и открыто говорил то, что думал. Ко мне он с открытым сердцем пришел на другой же день после моего назначения, да и впоследствии душевно сочувствовал интересам России, даже и тогда, когда наступили наши несчастья.
Очень умен был румынский посланник Диаманди. Вообще, румыны, с которыми мне пришлось иметь дело, были люди весьма дельные.
Особо стояли представители скандинавских государств. Настроение их было различное. Шведский посланник ген[ерал] Брендстрем, до войны лично приезжавший ко мне по делам Русско-шведской торговой палаты[832], во время войны стал очень сдержанно относиться к этому вопросу. Он был сторонником германофильского течения в Швеции и, говорят, постоянно заявлял, что не сомневается в победе Германии. Я, впрочем, не имею данных в подтверждение этих слухов. Во всяком случае, наше министерство относилось к Брендстрему не с особенным доверием ввиду его упорства и неуступчивости.
Совершенно иное отношение к России выявлял датский посланник, симпатичный де Скавениус: это был истинный друг России, таким он показал себя и после революции. Наконец, норвежец Пребенсен не склонялся ни в ту, ни в другую сторону: в общем, добродушный старичок, он на дипломата не был вовсе похож, так же как и его супруга не была похожа на посольскую даму. О прочих мне придется еще упоминать по отдельным вопросам, в обсуждении которых пришлось принимать участие в течение этих трех месяцев.
Я начну с менее сложных и, так сказать, в порядке географического их расположения. Я вообще держался того взгляда, что во время той грандиозной борьбы, которую приходилось вести России совместно с союзниками, совершенно необходимо не обострять по менее существенным вопросам отношения с нейтральными государствами, в особенности с ближайшими нашими соседями. На первом месте в этом смысле стояла, без сомнения, Швеция, где, как я уже говорил, германофильские течения были очень сильны. Здесь свила себе гнездо германская агентура, здесь постоянно подогревалось недоверие к России разными слухами о намерении последней напасть на Швецию и схватить какой-то ненужный нам Нарвик[833] и т[ому] под[обное]. По словам военных, Швеция в течение войны успела принять всякие меры для мобилизации своей армии, и я сам видел окопы и проволочные заграждения на пути от Хапаранды до Стокгольма. Одним из острых вопросов наших отношений со Швецией был вопрос об Аландских островах. Мы очень долго уклонялись от его обсуждения, но, наконец, ввиду настояний шведского правительства я решил, что дольше упираться не следует, и изъявил согласие на созвание конференции в Стокгольме, куда и назначил б[ывшего] посла в Вене Шебеко, близко знакомого с этим вопросом. Местом совещания мы избрали Стокгольм собственно ради того, что в Петрограде представителем Швеции был бы Брендстрем, а с ним, ввиду его упорства и шовинизма, ни о чем договориться было бы невозможно. Согласие на конференцию ни к чему, собственно, нас не обязывало, все зависело бы от самого хода переговоров; но самое согласие произвело в Швеции отличное впечатление, и, если память мне не изменяет, король[834] даже благодарил нашего Государя[835]. Хорошие отношения со Швецией укрепились еще и тем, что как раз к этому времени закончено было соглашение о товарообмене, о котором Валленберг говорил со мною еще при моем проезде через Стокгольм[836].
Много сложнее были дела румынские. Румыния вошла в число союзников по настоянию России и Франции[837]. Этим необыкновенно хвастались Штюрмер и его сторонники: вот, мол, что нам удалось и что не удавалось Сазонову. Но это была просто похвальба. Вопрос был поднят задолго до Штюрмера, а результат был получен благодаря французской настойчивости[838]. Теперь, когда перед нами все последствия румынского участия в войне, я, право, даже не знаю, следовало ли этому радоваться[839]. Мы были недовольны раньше тем, что из Румынии Австрия и Германия получают разные виды снабжения; что даже те продукты, которые ввозятся в Румынию с разрешения русского правительства, переправляются далее, несмотря на все оговорки и запрещения. Вопрос этот не один раз обсуждался в Совете министров в 1916 году. Но все же, при всех этих условиях, Румыния нейтральная загораживала с юго-запада наш фронт от врагов, и нам не приходилось сосредоточивать здесь войска. Конечно, можно было опасаться, что в один прекрасный день Румыния примкнет к Центральным державам. Но тогда цель заключалась бы, главным образом, в том, чтобы препятствовать ее выходу из нейтралитета, а не в том, чтобы втягивать ее в войну. Последнее было бы желательным лишь в том случае, если бы Румыния представляла серьезную военную силу. Но этот вопрос не был в достаточной мере обследован: мы, по-видимому, не знали, что представляет собою румынская армия в смысле боеспособности. Оказалось на деле, что вовсе ничего. Эта армия стала бежать на всех фронтах, и австро-германцы, с одной стороны, и болгары с другой с чрезвычайной быстротой захватили огромную часть Румынии. Мы, очевидно, не имели никакой возможности помочь румынам и послали к ним очень малые силы. Король и правительство бежали в Яссы. Румынская армия, совершенно дезорганизованная, стала относиться к русским с явным недоброжелательством. Все запасы хлеба и нефти на занятой территории оказались отныне в руках немцев. В оставшейся за Румынией полосе было некоторое количество хлебных продуктов, которые румынское правительство стремилось задержать, союзники же требовали их уничтожения, чтобы они не могли попасть в руки немцев. Отсутствие продовольствия и отчаянные санитарные условия создали в помянутой полосе очаг заразных болезней, тем более что остатки румынской армии были зимою расположены на холоде в палатках. В это самое время в Петроград прибыло чрезвычайное румынское посольство с наследным принцем Каролем и министром-президентом Братиано во главе[840]. Посольство это имело несколько целей. Прежде всего – закрепление дружеских отношений с Россией и подтверждение верности Румынии союзу, невзирая на постигшие ее несчастья. Эта точка зрения высказывалась Братиано при каждом удобном случае. Это был очень интересный человек: умный и хитрый, он сумел, говорят, в Румынии окружить короля целым кольцом преданных себе людей и вел политическую свою линию твердо, несмотря на очень сильную работу германофилов. Держит он себя с большим достоинством, но вместе с тем умеет проявлять огромную настойчивость в достижении своих целей. Единственный его недостаток – бесконечные речи: он может говорить безостановочно часа по полтора-два, вероятно, он заговаривает своих политических противников. Главною темою наших разговоров с ним были продовольственный вопрос и положение румынской армии. Англичане твердо настаивали на истреблении продовольственных запасов в случае дальнейшего немецкого наступления. Братиано в интересах населения стремился от этого отбояриться. К какому компромиссу мы пришли, я, к сожалению, теперь не помню. Настаивали мы на эвакуации внутрь России ослабевших воинских частей, говорили о мерах ограждения России от проникновения из Румынии заразных болезней и, наконец, о передаче румынских железных дорог в распоряжение русскому командованию, к чему румыны на местах не проявляли никакой склонности. Впоследствии, уже по отъезде Братиано, румынские дела были предметом подробных совещаний, на которые я приглашал, кроме союзных послов, также и представителя французской армии на Румынском фронте генерала Бертело, который, как говорят, впоследствии сумел придать румынской армии вполне боевые качества и ввести совершенно отсутствовавшую дисциплину при помощи французских офицеров.
Меня до крайности смущало состояние этого фронта ввиду его крайней распущенности, санитарного и продовольственного неустройства. Задача заключалась в создании необходимого железнодорожного сообщения, которое тогда ограничивалось одною слабою веткою. Я входил по этому предмету в ближайшие переговоры с Кригером-Войновским, который удостоверил мне, что в ближайшем же будущем будет открыто движение еще по двум строящимся ветвям, которое облегчит вполне и подвоз, и эвакуацию.
Другой повод приезда Братиано заключался в страстном его желании участвовать на конференции союзников, созванной как раз в это время[841]. Нельзя было не восхищаться той крайней настойчивостью, которую проявлял он в этом вопросе. Для него, по-видимому, это было делом не только личного, но и государственного самолюбия. Мне даже кажется, что это было чуть ли не главной целью его приезда. Между тем, на конференции допущено было участие представителей только четырех держав, которые участвовали и в предшествующих съездах во Франции: России, Франции, Англии и Италии. Даже Япония не имела своего представителя, как не принимавшая непосредственного участия в войне на европейских фронтах. И ни одно из второстепенных государств не выражало никаких в этом отношении претензий. Но Братиано решил настоять на своем. Он доходил до переиначивания даже слов французского посла при передаче их мне, тогда как именно Палеолог был в особенности против его допущения. Заявил он свои пожелания даже непосредственно Государю[842]. Пришлось и мне поэтому все время выворачиваться, чтобы и[843].
Но Братиано прямо ломился в двери. В конце концов, удалось достигнуть соглашения, чтобы Братиано был допущен к присутствованию на том заседании, где будут касаться румынских дел[844]. Вопросы, касающиеся Румынии, были очень незначительны. Он был на этом заседании и, кажется, вполне этим удовольствовался. Притом не могу не отметить, что при всей своей говорливости он на этом заседании почти ни слова не произнес. Но ему было важно хоть то, что у себя он мог сказать, что присутствовал на конференции. В результате он получил орден Св. Александра Невского[845] и был настолько доволен, что потом называл меня другом Румынии и даже после революции посетил меня при новом своем приезде в Петроград.
Наконец, еще один вопрос семейного характера заключался в предположенном сватовстве принца Кароля к вел[икой] княжне Ольге Николаевне. Мне пришлось представляться принцу Каролю в Зимнем дворце, где ему было отведено помещение. Беседа наша продолжалась почти целый час. Этот юноша произвел на меня самое приятное впечатление и своею привлекательною наружностью, и своими умными речами. Не имея вовсе военного облика – мундир плохо шел к нему и сидел на нем мешковато – принц Кароль очень вдумчиво относился ко всему окружающему, к русской обстановке и политической жизни. Он очень внимательно расспрашивал меня о наших думских политических партиях и выражал справедливое сожаление, что видные социалисты загнаны у нас в подполье, тогда как более открытая их деятельность представляла бы безусловный интерес.
Наш посланник в Румынии Мосолов, заменивший Козелло-Поклевского, с сохранением, однако, должности начальника Канцелярии Министерства Двора[846], рассказывал мне, что, несмотря на указанные внешние умственные качества, принц Кароль не особенно понравился нашим царским дочерям. Однако императрица, имея в виду выраженное румынской королевой горячее желание этого союза, не сделала против этого никаких серьезных возражений, и бракосочетание это, вероятно, состоялось бы, если бы не наступление революции.
Кстати о Мосолове: он был назначен при Штюрмере на место Поклевского якобы временно, и речь шла о том, как быть с ним дальше. Но поручение ему столь деликатного дела, как сватовство принца, делало неизбежным дальнейшее оставление его в Яссах. Притом он боялся остаться и даже оставить свою семью в Петрограде из опасения грядущей революции: таково в то время было настроение в ближайших ко Двору кругах. Однако когда я, прочитав перехваченную телеграмму английского посла своему правительству о том, что в Ставке офицеры гвардии крайне отрицательно настроены относительно Государя, поехал спросить графа Фредерикса о том, докладывать ли мне эту телеграмму, то он выразил сомнение и замялся, рекомендуя обратиться к своему зятю, дворцовому коменданту В.Н. Воейкову, этому легкомысленнейшему и самонадеянному человеку, к которому я счел излишним ходить, так как не ожидал от него путного совета[847].
Здесь, пожалуй, уместно сказать два слова об этих двух лицах, которых я, впрочем, знал очень поверхностно. Граф В.Б. Фредерикс произвел на меня впечатление очень доброго и почтенного старика, одушевленного наилучшими намерениями относительно Государя и России. Я уже говорил, что он не раз обращался ко мне с разговорами о воздействии на Государя, которое пытался оказать и сам, но, по-видимому, безуспешно. Вообще, тогда многие пробовали это делать: так, например, говорят, что даже А.С. Танеев, этот тонкий царедворец и отец Вырубовой, и тот написал Государю письмо по вопросам общей политики[848].
Особенно же открыто говорил Родзянко, но также безуспешно[849]. Замечательна мысль, которую мне высказал однажды Государь по поводу этих обращений. «Вы помните, – говорил он, – английского морского агента, адмирала, который был в Ставке[850]. Это очень неглупый человек, но он постоянно говорил только о том, что у нас то или иное плохо, что Мурманская дорога возить не может и т[ому] под[обное]. Вообще, говорить и слушать правду очень хорошо, но когда это повторяется часто, это становится неприятно».
Думаю, что едва ли В.Н. Воейков часто решался говорить правду: это был в полном смысле генерал-хлыщ со страшным самомнением, прекрасно устраивавший свои материальные дела, но в силу этого воображавший, что он способен вести государственные и финансовые дела. Накануне самой революции он говорил мне, что вскоре сообщит мне свои финансовые соображения, которые непременно разрешат все созданные войною затруднения. Воображаю, что бы это было такое. И вот подобный господин занимал влиятельнейший пост дворцового коменданта, не стесняясь одновременно быть председателем правления акционерного общества своей «Куваки»[851].
Очень сложную задачу представляла в то время наша политика в греческом вопросе. Греция, или вернее правительство короля Константина, играло двойную игру[852]. Под влиянием своей жены[853], родной сестры императора Вильгельма, он, очевидно, имел чисто германские симпатии. Вильгельм, как видно было из перехваченных радиотелеграмм, явно обнадеживал его своей поддержкой, сожалел его, что он в таком трудном положении. С другой стороны, у Афин стоял союзный флот, который требовал полного подчинения требованиям союзников в смысле демобилизации греческой армии, занятия известных постов отрядами союзников и т[ому] под[обное]. Мало того, в Салониках действовало другое греческое правительство Венизелоса, отправлявшее свои посольства в столицы союзных держав и стоявшее всецело на стороне союзников[854]. Правительство же короля Константина, несомненно, поддерживало в населении негодование против вторжения союзников в Афины, которое приводило к эксцессам, влекшим, в свою очередь, за собою новые требования и ультиматумы. Особенно резко настроено было против короля Константина французское правительство: оно готово было дойти до свержения его с престола и, во всяком случае, ставило самые тяжелые ультимативные требования. Италия, напротив, скорее склонна была поддерживать греческие жалобы и нарекания. Англия решила держаться в этих вопросах средины и не доводить дела до крайности. К этой линии поведения присоединились и мы. Я руководствовался и здесь тою общею мыслью, что не в наших интересах создавать себе еще одного, хотя бы и слабого врага в лице Греции, а необходимо настаивать на соблюдении ею самого строгого нейтралитета. В этом смысле я говорил всегда как с союзными послами, так и с греческим посланником, приходившим постоянно плакать на испытываемые Грецией притеснения и заверять о полной ее лояльности, в чем я и сейчас далеко не уверен.
Наше отношение к Греции чрезвычайно осложнялось еще и родственными связями русского двора. В Петрограде проживала мать короля Константина, королева Ольга Константиновна, пользовавшаяся симпатиями Государя. Она постоянно получала из Греции слезные мольбы о поддержке и, конечно, как мать не могла не относиться горячо к интересам своего сына. Она и вызывала меня для личных переговоров, и телеграфировала мне чуть ли не под Новый год, действовала и через вел[икого] князя Георгия Михайловича, и через Государя, который получал письма непосредственно от Константина. А в то же время правительство Венизелоса настаивало на принятии своего посланника. Мы не могли, разумеется, признать его посланником «де юре», так как у нас был уже греческий посланник, но приходилось все-таки соглашаться на приезд представителя для деловых переговоров. Затем весь греческий вопрос рассматривался специальной конференцией в Риме[855], мы же, во всяком случае, держались своей точки зрения, согласной с английской точкой зрения.
Одним из важных, уже назревавших в мое время вопросов, было предположенное соглашение о разделе между союзниками Малой Азии[856]. Чуть ли не с первого же дня вступления моего в министерство Палеолог стал просить о поддержке французских притязаний против итальянцев. В свою очередь, итальянцы относились с подозрительностью к французам. Была назначена конференция в Лондоне, где русский временный представитель Набоков немного резко на свой страх выступил против Италии. Карлотти стал горько жаловаться, и Набокова пришлось успокаивать.
Что касается наших собственных интересов на Ближнем Востоке, то в последний свой доклад я возобновил перед Государем предположение, возникшее еще при Александре III, о десанте в Малой Азии и подходе с этой стороны к Константинополю[857]. Государь отвечал, что он всегда интересовался возможностью этой экспедиции[858], и обещал подумать об этом в Ставке. Но тут уже наступила революция.
На Дальнем Востоке с Японией шли в это время переговоры о кредитах России в йенах, требовавшие, однако, известных соглашений, сколько помню, в торговой области. Эти переговоры тогда не дошли до конца[859]. С Китаем же, кроме общего вопроса об участии и его в войне против Германии, на что он пошел, в конце концов, под давлением Японии[860], были разговоры только о положении китайских рабочих в России, этих самых выписанных правительством рабочих, которые сделались потом опорою большевиков[861].
Независимо от всех указанных вопросов, касавшихся уже существующих государств, на очереди стоял вопрос о будущих государствах и прежде всего о Польше. Германия, оккупировавшая Польшу, провозгласила в это время ее государственную самостоятельность, но под непосредственным германо-австрийским протекторатом[862]. Это провозглашение до заключения окончательного мира вызвало общее негодование. Несомненно, это был акт произвольный и незакономерный. Такие вещи можно обещать, как это было сделано в известном воззвании вел[икого] князя Николая Николаевича[863], но окончательное постановление и преждевременно, и недопустимо. Русские поляки очень решительно высказались против этого произвольного акта устами депутата Гарусевича в Государственной думе[864]. Но я не могу не сказать по этому поводу, что и сами мы были здесь немало виноваты. Начать хотя бы с воззвания вел[икого] князя главнокомандующего. Говорят, оно было необходимо для наших военных успехов, склонив в нашу пользу польское население. Однако я, с другой стороны, слышал, якобы вел[икий] князь вовсе не настаивал на издании воззвания, что он даже дважды переспрашивал высшее правительство, выпускать ли его. В политическом же отношении оно очень обязывало осуществить то, что, вероятно, нам и не удалось бы вовсе. И действительно, после занятия Польши германскими войсками мы оказались в очень глупом положении. Немцы же издали свой указ лишь тогда, когда по многим соображениям могли считать, что Польша останется за ними. С другой стороны, провозгласив наши намерения относительно Польши, мы чрезвычайно напортили себе в Галиции, послав туда целую массу националистов, которые вообразили себе, что, наконец, нашли широкое поле для своих полонофобских упражнений[865]. Разумеется, при таких условиях всякое доверие к будущей русской политике в Польше должно было совершенно ослабеть. Затем, воззвание главнокомандующего, вызвавшее такой восторг, не имело, к сожалению, никаких дальнейших последствий, кроме подтверждения Горемыкиным намерений правительства с кафедры Государственной думы в 1915 году[866]. Поляки усиленно настаивали на оформлении мысли русского правительства. Около Государя было их немало: граф Велепольский, граф Замойский и др[угие]. Велепольский успел вырвать у Государя некоторые фразы, которые толковал в смысле организации будущей Польши на началах полной независимости от России[867]. Об этом он сообщил мне даже письменно.
Считая, что особенно после германского акта сказать свое окончательное слово для нас совершенно неизбежно, я доложил князю Голицыну, а он, с моим заключением, Государю о необходимости образования под его, Голицына, председательством Совещания для обсуждения польского вопроса[868]. Это Совещание и было, действительно, образовано в составе, кроме кн[язя] Голицына и меня, председателей Госуд[арственной] думы Родзянко и Госуд[арственного] совета Щегловитова, гос[ударственного] секретаря Крыжановского, И.Л. Горемыкина, быв[шего] министра иностранных дел Сазонова, мин[истра] вн[утренних] дел, которого заменял его товарищ Анциферов, ис[полняющего] об[язанности] начальника Штаба верховного главнокомандующего Гурко и воен[ного] министра Беляева – вот, кажется, и все[869]. С ген[ералом] Гурко мне пришлось подробно беседовать по этому вопросу еще до совещания. Это был чрезвычайно симпатичный человек, этот ген[ерал] Гурко: умный, живой, стремительный, как его брат, душою болеющий за направление нашей общей политики, видевший ее опасность. Вместе с тем, в отличие от массы наших высших генералов, это был искренний человек присяги и горячий патриот, не постеснявшийся сказать правду господину Керенскому и попавший за это в крепость[870]. Однако в вопросе о Польше мы с ним разошлись. Под влиянием своего брата Владимира Иосифовича (тот сам мне говорил) он выступил защитником проекта полного отделения Польши от России не только в гражданском, но даже в военном и династическом отношениях. По его убеждению, такое коренное отделение Польши не могло послужить примером для других окраин России. Напротив, объявление ее автономии в той или иной форме зависимости от России вызвало бы и со стороны Литвы и других окраин претензии на автономное устройство, т. е. грозило повести к разложению России на автономные части. Этой точки зрения придерживались также Щегловитов, Крыжановский и Беляев[871]. Я и Сазонов, мы стали на противоположную. Мы не видели особой опасности в стремлениях разных окраин к автономному устройству только потому, что такое устройство дано Польше: ей оно было обещано, а им нет. Наконец, огромная разница – будущее польское государство основывалось на исторических традициях, которых ни у Литвы, ни у Прибалтийского края не было. Литва была самостоятельным княжеством тогда, когда у нас были еще уделы[872]. Следовательно, если дать ей автономное существование, то на том же основании пришлось бы его дать и бывшим уделам. Очевидно, это значило бы идти слишком далеко: автономное устройство Польши ни для Литвы, ни для русских уделов примером быть не могло. Если же речь шла бы о введении не только в Литве, но и во всей России широкого местного самоуправления, то, по моему мнению, для этого очень и очень наступило время: местная жизнь настолько усложнилась, что руководить всем из одного центра, хотя бы в нем и было представительное собрание, избранное всеми частями России, в высшей степени затруднительно. Напротив, выделение Польши в совершенно ничем не связанное с Россией государство повело бы к возникновению в Польше стремлений к собранию всего количества земель, когда-то входивших в состав Польского государства, т. е. Литвы, Белоруссии и т. д. Наконец, мы с Сазоновым считали, что ни совещание, ни даже высшие учреждения не вправе распоряжаться так территорией России, чтобы окончательно и бесповоротно отделять от нее целые области, бывшие под русской державою. Тогда бы возник естественно вопрос о том, почему бы и Финляндии не даровать полной государственной самостоятельности. Поэтому мы полагали, что Польше должна быть дарована независимость местного законодательства и управления, кроме общегосударственного законодательства. Затем, общегосударственное единство знаменовалось бы общностью международной политики, общей армией, общей таможенной чертой, общей монетной системой и общей с Россиею династией[873]. К нашему мнению примкнули Горемыкин[874] и кн[язь] Голицын, и в виде двух мнений журнал должен был поступить на высочайшее одобрение. Не помню теперь, к которому из двух взглядов примкнули Родзянко и Анциферов[875].
Теперь, когда Россия развалилась на части, все эти суждения имеют только историческое значение[876].
Другой вопрос будущего государственного образования – Чехия – затронут был при мне только в области несогласий, существовавших между представителями отдельных чешских партий[877]. Заведовал этими делами в министерстве Приклонский, который вел, как мне казалось, какую-то свою особую политику, покровительствуя жившему в Петрограде будто бы представителю чехов доктору Дюриху, с виду довольно почтенному старику, который получал у нас субсидии, но как будто был навязан чехам. Они, часто посещавшие меня, даже по рекомендации Приклонского, изображали доктора Дюриха в очень неблагоприятном свете, как человека, не пользующегося доверием чехов, и, напротив, на партию Массарика указывали, как на наиболее популярную в Чехии. Когда же я спрашивал Приклонского, как понимать такие отзывы людей, им самим рекомендованных, то он начинал смешивать их с грязью и объяснять их мнения разными вне дела стоящими побуждениями. Я решил выждать результатов предстоявшего чешского съезда и тогда окончательно выяснить себе вопрос. Но, за наступлением революции, съезда этого я так и не дождался.
Я перечислил более существенные вопросы частного характера, возникшие в кратковременное мое управление Министерством иностранных дел. Главным же, стоящим на первом плане делом, была, конечно, война и связанные с нею сношения. Я уже говорил о мирном предложении Германии и о разъяснении, данном мною по этому поводу с кафедры Гос[ударственной] думы. Это разъяснение, повторяю, произвело успокоительное впечатление как у нас в России, так и за границею относительно намерений русского правительства.
Общий ответ всех союзников на это предложение был редактирован в Париже и принят нами, помнится, без всяких изменений. Ответ этот был, разумеется, отрицательный[878]. Но вслед за тем надвинулась более сложная задача. В дело окончания войны счел нужным вмешаться президент Северо-Американских Штатов Вильсон. Он обратился ко всем воюющим державам с нотою, в которой предлагал приступить к мирным переговорам[879]. Я помню, с какой торжественностью явился ко мне Френсис в сопровождении советника Райта и вручил мне эту ноту. Я, разумеется, сразу не дал никакого ответа, так как в этом случае ответ должен был исходить от всех союзников.
Текст его был равным образом редактирован в Париже и принят нами также, насколько помню, без всяких существенных замечаний. Этот ответ был составлен в более осторожных выражениях, чем первый, чтобы не оскорбить самолюбие американцев[880]. Но тут помог нам Вильгельм: германский ответ[881] и, в особенности, усиление подводной войны вынудили американцев объявить войну немцам[882]. В сущности, благодаря этому война была выиграна. А были большие сомнения насчет настроения американцев: ходили даже слухи, что у берегов Америки находятся базы германских подводных лодок.
С этого момента Френсис старался быть с нами особенно любезным: он даже пригласил меня с женою к себе в ложу вместе с китайским посланником как раз на такой спектакль, когда масса союзных делегатов сидела в царской ложе. Известно ведь было, что и Китай накануне объявления войны Германии. Поэтому я не могу считать это приглашение простой случайностью.
Со своей стороны немцы, не сумев привлечь на свою сторону Америку, хотя бы в целях заключения почетного мира, продолжали делать попытки к заключению сепаратного мира с Россией. В Стокгольме появился какой-то б[ывший] болгарский дипломат по фамилии, кажется, Ризов, в сущности авантюрист, который обратился к нашему посланнику Неклюдову с весьма недвусмысленными предложениями посредничества. Конечно, он делал вид, что выступает исключительно от своего имени, что в Германии будто бы об этом никто ничего не знает. Но для всех это было шито белыми нитками. Хотя он обратился только к русскому представителю, но последний весьма основательно предупредил об этом своих коллег. Конечно, он получил инструкцию ни в какие дальнейшие переговоры с Ризовым не вступать[883]. Почти одновременно имело место другое, довольно загадочное происшествие, которое не имело никакой формальной связи с попытками Германии войти с Россиею в отдельные переговоры о мире. Еще в самом начале января генерал Гурко предупреждал меня, что в Петрограде ожидается некто доктор Перин, по происхождению несомненный еврей и б[ывший] австрийский подданный, но выдающий себя за американца, известный контрразведке уже издавна как немецкий или австрийский шпион. Генерал Гурко просил меня принять меры к невпуску его в Россию и говорил, что военным начальством даны распоряжения такого же рода, но что Перин этот находится в каких-то сношениях с Протопоповым. Очень скоро после этого мы получили от посланника в Стокгольме Неклюдова уведомление о том же. Он писал, что д[окто]р Перин явился к нему с просьбой визировать его паспорт для проезда в Россию, ссылаясь при этом на то, что его вызывает министр вн[утренних] дел Протопопов. По словам Неклюдова, этот господин, называвший себя доктором, объявлял себя каким-то знахарем, спиритом и гипнотизером. На какое амплуа вызывался Перин в Россию, было неизвестно. Неклюдов спрашивал, что ему делать, а пока от визирования паспорта воздержался[884]. Подобные же донесения получило одновременно и английское посольство. Конечно, мы сделали распоряжение, чтобы Перина ни в каком случае в Россию не пропускать. Но и Протопопов, пронюхав, по-видимому, о встреченных затруднениях, телеграфировал Перину, чтобы тот воздержался пока от попытки приехать в Россию ввиду оказавшихся к этому препятствий. В последний мой доклад[885] я передал обо всем этом Государю, который очень смеялся остроумному изложению письма Неклюдова по делу о Перине[886].
В связи с предположениями о дальнейших военных операциях в Петроград съехалась конференция представителей четырех союзных держав. Эта конференция явилась продолжением подобных же совещаний, имевших место в Париже[887]. Цель ее была, главным образом, военная: предстояло установить подробный план военных действий в 1917 году на Западном и Восточном фронтах, определить количество недостающего нам военного снабжения и средств его доставки в Россию, выяснить одновременно вопрос о финансовой поддержке, которая нам необходима, и, наконец, попутно разрешить некоторые дипломатические подробности, связанные с общим планом военных действий.
Председательство предполагалось возложить на председателя Совета министров Трепова, но после его отставки князь Голицын отказался от председательствования, ссылаясь на недостаточное знание иностранных языков, и, по докладу ген[ерала] Гурко, оно было возложено на меня. Задача моя, в сущности, была не из сложных. Главные вопросы – стратегические и военного снабжения – подлежали обсуждению в тесном военном кругу. О стратегических даже не доводилось до общего сведения конференции, такой был признан необходимым секрет. О вопросах снабжения сообщались конечные цифры, вопрос финансовый рассмотрен был также в отдельном заседании под председательством П.Л. Барка, который нарочно для этого вернулся из своего финляндского отпуска. Таким образом, лично мне пришлось председательствовать только в парадных заседаниях в начале и в конце конференции и в двух-трех непродолжительных заседаниях ее Политической секции. Съезд был огромный. От французов прибыли б[ывший] министр колоний и б[ывший] председатель Совета министров Думерг и ген[ерал] Кастельно, от итальянцев – сенатор Шалойя и ген[ерал] граф Руджиери, б[ывший] раньше военным агентом в России, Англия прислала известного лорда Мильнера и финансиста лорда Ревельстока, а по военным делам – генерала Вильсона, наконец, с нашей стороны в конференции по военной части принимали участие ген[ерал] Гурко, военный министр Беляев, вел[икий] кн[язь] Сергей Михайлович, по финансовой – Барк, по дипломатической – Сазонов и Нератов. Я не перечисляю здесь многочисленных второстепенных делегатов и атташе[888]. Прибыли они через Мурман[889] и благополучно проследовали по железной Мурманской дороге. В трескучий мороз пришлось встречать делегатов на Николаевской дороге[890].
Думерга я знал и раньше: он входил в состав Парижской экономической конференции. Это был человек очень неглупый, с совершенно определенными взглядами и должною твердостью для их проведения. Очень симпатичен был его коллега по военной части ген[ерал] Кастельно, тип настоящего французского военного. К нему, ввиду больших его боевых заслуг, все военные относились с особым почтением.
Итальянский – Шалойя – был ученый, нисколько не походивший на дипломата.
Лорд Мильнер, высокий, худощавый старик с очень умным взором прибыл к нам не только с узким поручением участвовать в конференции, он должен был войти в непосредственные разговоры с Государем и о наших внутренних делах, поскольку последние могли обусловить собою военные успехи. Им была по поводу внутреннего снабжения армии и условий транспорта составлена особая записка, которую он лично представил Государю, а в копии – передал мне[891]. Вообще, Мильнер старался уяснить себе наше внутреннее положение, но, к сожалению, по словам Бьюкенена, вынес из этого ознакомления более удовлетворительные, чем бы следовало, впечатления, а потому, вероятно, и не оказал своим присутствием должного воздействия. Англичане, даже Бьюкенен, увлеклись мыслью, что наш транспорт можно улучшить путем устройства коллегиального управления дорогами. Я старался доказать Бьюкенену, что, к сожалению, у нас как раз нагромождение коллегий и недостает личной распорядительности и власти. Не знаю, кто уж внушил ему эти мысли о коллегиях, по-видимому, некоторые английские инженеры, приехавшие изучать условия нашего транспорта и недостаточно еще вникшие в его подробности.
Первое заседание конференции происходило в Мариинском дворце[892], в зале б[ывших] соединенных департаментов[893]. Мною произнесена была заранее написанная речь на французском языке[894] и предложен порядок занятий по секциям: Военной, Финансовой и Политической[895].
Военная секция заседала в разных [местах], даже в «Европейской гостинице»[896], по вопросам особо секретным, а также в помещении Генерального штаба[897]. Финансовая секция[898] имела одно заседание в Большом зале Совета министра финансов[899]. Секция Политическая[900] и заключительное общее заседание[901] имели место в Министерстве иностранных дел. Я, как уже говорил, участвовал и председательствовал в этой последней секции и был также в Финансовой. Здесь речь П.Л. Барка произвела очень хорошее впечатление чрезвычайно ясным и откровенным изложением трудностей нашего финансового положения. Иностранцы потом говорили, что никогда не слышали такого определенного изображения наших нужд и потребностей[902].
В секции Военной[903] была установлена норма тоннажа, которая могла быть нам предоставлена в течение 1917 года, а именно четыре миллиона двести тысяч тонн. Тогда наши военные заявляли, что этого слишком мало, но размер иностранного тоннажа не допускал большего[904]. В конце концов, кампания 1917 года показала, что наше артиллерийское снабжение было на большой высоте, и наш фронт, при согласованном действии с Западным, весьма сильно содействовал бы скорейшему окончанию войны, если бы не наступила революция, предпринятая во имя окончания войны, но до последнего времени задержавшая Россию в состоянии войны, в то время когда все прочие народы ее уже окончили.
В Политической секции обсуждались некоторые частные вопросы, как, например, отношение к Греции[905], дела румынские и, кроме того, возбужден был общий вопрос о создании в Париже общесоюзнического центрального совещания для быстрейшего разрешения вызванных войною общеполитических вопросов. В это совещание должны были войти наиболее авторитетные деятели всех союзных стран. Эту идею горячо поддерживали французы и англичане, итальянцы же находили в ней противоречие с основами своего конституционного строя. Разногласие возникло и в отношении самого состава будущего совещания. Конференция не дала по этому предмету никакого окончательного решения, и дело было перенесено на заключение подлежащих правительств, где оно и получило погребение по первому разряду[906].
Заседания конференции сопровождались бесконечными обедами и приемами. Началось с блестящего обеда и раута в Министерстве иностранных дел. Затем эти приемы продолжались ежедневно, так что делегаты пришли в полное отчаяние и за то, что потеряли массу времени, и за свои желудки. «Где же этот голод в России, о котором так много говорят?» – восклицали они[907].
Я не могу даже перечислить всех тех мест, где их чествовали. Государь принимал каждого из старших делегатов в особых аудиенциях и пожаловал всем ордена Св. Александра Невского[908]. В ответ я получил Большой крест Почетного легиона[909], который мне, впрочем, доставили уже после революции. Затем был общий прием всей делегации в Царскосельском дворце, причем Государь снимался группою вместе с делегатами[910]. Наконец, был парадный обед в Царском[911], на котором Государь произнес приветственный тост[912]. После обеда Государь обходил всех и подолгу беседовал, а старшие делегаты ходили представляться императрице, которая на обеде не присутствовала[913].
Были устроены большой прием, концерт и ужин в Александровском зале городской думы от имени города[914]. Принимала делегатов и Гос[ударственная] дума[915]. Подъем духа на этом приеме был очень большой, так как разнеслась как раз весть о том, что и Америка объявила войну Германии, хотя это было еще преждевременно.
На думский прием я был приглашен из министров в единственном числе. «Потому что мы Вас любим», – объяснял Родзянко. На вопрос Барка, почему не приглашены прочие, мне пришлось дать формальное объяснение, что я приглашен один по званию министра иностранных дел. Тут также был открытый буфет, снятие групповой фотографии.
Председатель Совета министров кн[язь] Голицын устроил раут, на который, однако, члены Гос[ударственной] думы не явились, кроме правых, в знак оппозиции[916].
Военное ведомство устроило блестящий обед в Здании армии и флота[917]. Был очень многолюдный обед с речами от Русско-английского общества[918] у Контана и более скромный от Франко-русского общества[919] у Кюба[920], где граф В.Н. Коковцов произнес прекрасную речь на французском языке. Не говорю уже об обеде у министра финансов, о раутах у члена Гос[ударственной] думы Радкевича, у ген[ерала] гр[афа] Ностица, об обедах у всех послов. Но этого мало: одновременно с конференцией прибыла в Петроград коммерческая итальянская делегация с маркизом Торретто во главе. Мне с нею было меньше дела, но, опять-таки, и для нее приходилось устраивать чай в министерстве и ездить на обеды, в частности, к Протопопову. Последний неизвестно ради чего устроил итальянцам у себя прямо лукулловский пир с балалаечниками и песенниками[921]. И сюда, хотя и [с] чрезвычайной неохотой, пришлось ехать, чтобы не обидеть итальянцев.
Особенно оживленный обед и раут был у итальянского посла Карлотти. Не говоря о чрезвычайной оживленности этого приема уже в силу самого характера итальянцев, дело, говорят, дошло до того, что по разъезде гостей, оставшись в кругу своих, подпивший Карлотти велел музыкантам играть и сам танцевал перед ними со своей экономкой.
Все эти обеды и ужины произвели на делегатов неважное впечатление. Положим, за границею к этому привыкли. Но такой вакханалии, как у нас, я думаю, нигде не было. Как будто война была уже окончена и притом победоносно, в стране царствовало полное изобилие и ни о чем думать не приходилось. На деле же было совсем иначе, и делегатам это было хорошо известно. Но с нашими хлебосолами ничего нельзя было поделать. Не говорю уже о том, что делегаты, если не все, то некоторые, выезжали и в Москву, и на фронт, и в Москве подверглись таким же торжествам и гастрономическим испытаниям[922].
Очень большую заботу составил вопрос о безопасном возвращении делегаций на родину. От немцев можно было ожидать всяких сюрпризов вроде подводных лодок и т. п. Решено было обмануть их бдительность, симулировав отъезд части делегатов в Москву, обед для прочих у морского министра и т. д. Никаких проводов на вокзале допущено не было. Выезд совершен был настолько тихо, что никто, по-видимому, о нем не догадался. Помнится, что в газеты были даже пущены ложные сведения о предстоящих делегациям занятиях[923]. Как бы то ни было, мы с большим страхом ожидали известий и успокоились только тогда, когда была получена депеша, что делегации благополучно высадились в Англии. И как счастливо они уехали – почти накануне революции! Коммерческая же делегация итальянцев, которая после обеда у Протопопова поехала на юг, так и застряла в России и уже не знаю, как вырвалась потом на родину.
Оценивая значение Петроградской конференции, я думаю, что она, несомненно, сыграла чрезвычайно серьезную роль в военном отношении: здесь соглашены были очень важные вопросы о совместных действиях держав Согласия. Хотя для нас, невоенных, эта сторона была секретом, тем не менее я слышал, что общие действия должны были получить [начало] на Западном фронте, удар же с Восточного подготовлялся к маю 1917 года[924].
Вопросы снабжения нашей армии получили также удовлетворительное решение. До начала конференции ген[ерал] Гурко высказывался в том смысле, что конца войны нельзя ожидать ранее конца 1918 г. Мне думается, по результатам этого года, обнаружившим крайнюю слабость Германского фронта, что, б[ыть] м[ожет], уже в 1917 г. война была бы если не совсем окончена, то совсем близка к окончанию. В этом большом деле России принадлежало бы почетное место. Правда, мы сохранили бы монархическое управление и буржуазный строй, а Европа не испытала бы всех последующих глубоких потрясений, по крайней мере, в ближайшие годы после войны. Но думаю, что даже кадеты, положа руку на сердце, предпочли бы такой результат тому разрушению, до которого доведена теперь Россия, прежде всего благодаря отсутствию у них патриотизма и той вечной страсти к шатанию без созидания, которое им так свойственно.
Мне остается теперь, в сущности, описать только три последних дня, когда я был министром иностранных дел, те три дня, в которые беспримерно быстро и просто совершилось разрушение монархии и положено было начало всем последующим несчастьям.
Раньше, однако, я считаю необходимым немного остановиться на причинах этого события, однородных с создавшими революцию 1905 г. Причины первого революционного движения я свожу к следующему: к полному разобщению интересов низших классов населения с интеллигенцией, которая не сумела сделаться нужной и полезной и занималась только бесплодной критикой; затем к изолированному положению правительственной власти, которая со времени освобождения крестьян не сумела связать с поддержанием существующего строя ни одного более или менее сильного общественного класса и стала чуждой интересам всех этих классов, живя миражами традиционной преданности крестьян и элементарными приемами полицейского управления; в инородцах же и евреях создала себе убежденных врагов, стремившихся всеми силами к ее ниспровержению. Обстоятельства, которые удержали в 1905 г. старый режим от распадения, заключаются, по моему мнению, в окончании войны[925], роспуске запасных и неглубоком еще влиянии агитации в войсках, в проявлявшемся в самой интеллигенции чувстве самосохранения и надежды на приобретение новых политических [прав] после Манифеста 17 октября 1905 года, в довольно еще устойчивом финансово-экономическом положении государства и, наконец, в страхе массы перед действительной возможностью репрессий за аграрные и другие беспорядки.
Мне кажется, что новых причин не приходится придумывать и для революции 1917 г. За 12 лет, протекших со времени первой революции, и правительство, и общество сумели заснуть сладким сном наступившего успокоения и думали, что все страшное уже миновало. Только один П.А. Столыпин видел ясно, что нужна коренная аграрная реформа, что необходимо создать обширный класс мелких земельных собственников как верную опору государственного строя. Но, к сожалению, он не мог довести своей мысли до конца: обструкция землевладельческого класса помешала ему сделать логический вывод из своей верной мысли. Широкая покупка помещичьих земель Крестьянским банком была прекращена, и аграрная реформа свелась, в сущности, к внутринадельному, самому трудному и самому длительному землеустройству. Помещики, а ведь это было большинство Госуд[арственной] думы, не говоря уже о Гос[ударственном]совете, твердо стояли на принципе охранения своей собственности во что бы то ни стало, и пропасть между ними и крестьянством стала еще глубже. Государственная дума не совладала с аграрной проблемой, и революционный клич «Земли и Воли» только еще усилился. Правительство, особенно после Столыпина, пожалуй, еще в гораздо большей степени, чем до революции 1905 г., стало увлекаться мыслью, что можно не только вернуться к прежним социальным условиям, но даже и к политическим порядкам, существовавшим до 1905 года. С каждым годом, с каждым месяцем, особенно в последнее время, оно старалось освободиться от всякого общественного содействия, стремилось свести все общественные начинания на нет. Этим путем оно сделалось, если возможно, еще более изолированным и от народа, и от интеллигентного общества. Никакого общественного сильного класса, который поддерживал бы это правительство, оно создать не умело. Нельзя же было назвать таким классом Объединенное дворянство, скорее карикатуру, чем настоящее общественное учреждение. Эту дикую работу правительство продолжало с усердием, достойным лучшей участи, в то именно время, когда оно более всего нуждалось в общественной поддержке – во время войны. Оно не сумело воспользоваться войною и тем патриотическим подъемом, который война создала во всей стране, оттолкнув от себя даже благоразумные правые элементы. А тут еще нашлись министры, которые, подобно Протопопову, пели Государю о безбрежной силе правительственной власти, когда власть эта едва держалась на ногах. Мираж не только не ослабел, но усилился.
Но и интеллигенция, возмущаясь правительством и его действиями, со своей стороны не проявила никакого решительно прогресса в своем образе действий. Все более и более поддаваясь водительству Кадетской партии, она увлеклась легкостью критики подобной правительственной власти и начала с еще большею, чем когда-либо, энергиею подтачивать не только правительство, но и самые устои, на которых стояло государство. Патриотический долг, несмотря на войну, был забыт. Стали думать, что, разрушая власть, спасают страну. Грубый обман и дурман, наведенный кадетами на все общество. Между тем забывали, что за время, истекшее с революции 1905 года, сами ничего не создали серьезного, не сделались нужными народу, думали не о социальных улучшениях, а главным образом о своих политических прерогативах. Последних не увеличили, а от аграрной и податной реформ отбоярились. Очень понятно, что такая интеллигенция, оказав революции свою поддержку в деле свержения монархии, была в свою очередь почти немедленно сметена вместе с Гос[ударственною] думою тем же самым революционным движением. Поэтому я считаю, что если правительство проспало революцию, то не менее виновато в этом и наше интеллигентное общество.
Наконец, в вопросах еврейском и инородческом в 1916 году слышались ровно те же песни, что и в 1896, как будто за 20 лет не произошло ровно ничего нового. Конечно, раздражение инородцев и евреев увеличилось еще более. Не говорю уже о том, что формы внутреннего управления и самоуправления остались прежние, несмотря на громадную дифференциацию местных интересов и полную невозможность регулировать их из центра, находящегося притом на северном углу государства[926]. Что же удивляться, что при первом же революционном толчке от России стали отпадать не только окраины, но даже такие исконные ее части, как Украина. Итак, урок 1905 г. остался неиспользованным – вот основная причина революции 1917 года. К ней присоединились и другие.
На первом месте надо поставить Европейскую войну. Таких войн Европа еще не видела с Переселения народов[927]. Правда, бывали очень продолжительные столкновения народов, напр[имер], войны Семилетняя и Тридцатилетняя[928], войны Французской революции и Наполеона[929]. Но эти войны, по имеющимся о них сведениям, все-таки не поглощали до такой степени народных и экономических, и физических сил, как война 1914–1918 гг. Эта же война призвала под ружье на годы чуть ли не все население почти всех стран Европы, население, привыкшее, между тем, за более чем сорокалетнее спокойствие к мирной жизни в определенных условиях благосостояния. Все это было сорвано с мест и брошено в страшную бойню, где не было места даже личной доблести, а исключительно действию техники истребления человечества. Никакого нет сомнения, что такая война, не сопровождаемая даже военными успехами, не могла не потрясти в корне народных нервов. Что же удивляться, что это случилось в России, когда то же самое произошло в Германии, которая, несмотря на безостановочные победы свои, вынуждена была признать себя побежденной, как только на поле сражения появились свежие силы американцев.
В какой мере возможно было избегнуть этой войны, я не знаю, но раз война была неизбежна – нельзя было не защищаться. Надо было понять этот патриотический долг, и как правительство, так и общество в лице Думы обязаны были отказаться от всяких политических вожделений и пожертвовать решительно всем, идти на всякие взаимные уступки, чтобы только додержаться до конца. А поступили как раз наоборот. Утомленные же массы населения, настроенные страшно развившейся и не встречавшею никакого серьезного противодействия революционною пропагандою, дрогнули сразу, сперва в войсках, вовсе уже не похожих на прежнюю дисциплинированную военную силу, а затем и в массе городского и сельского населения. Зацепиться было не за что и не за кого.
Вместе с тем как бы нарочно никогда Россия не имела такого слабого и бездарного правительства, как именно во время войны. Я уже привел характеристику целого ряда министров этого времени и возвращаться к ней больше не буду. Могу только сказать, что состав кабинета слабел прямо-таки с каждым месяцем. Последнею же каплею, переполнившею чашу, было назначение Протопопова: железные балки держат нередко громаднейшие грузы, надо только чувствовать, до каких пор дальнейшая нагрузка безопасна. Если за этим не наблюдать, то оказывается момент, когда один только лишний золотник нарушает всю устойчивость, и вся постройка падает. Таким золотником и был, по моему убеждению, Протопопов: его удаление и вообще некоторое обновление кабинета могло бы все-таки отсрочить катастрофу хотя бы до конца войны, а ведь это все, что было нужно. Вот почему все благомыслящие люди в свержении Протопопова видели якорь спасения. Но здесь не помогли никакие средства, никакие убеждения.
Была еще одна ужасная причина, совершенно дискредитировавшая царскую власть не только среди интеллигенции, но и среди всего народа. Это распутинская эпопея. Я могу сравнить ее только с теми историями, которые распускались накануне Французской революции о Марии Антуанетте и дворе Людовика XVI. Но там многие из слухов были нарочно выдуманы, здесь же очень многое отвечало, к несчастью, истине.
Наконец, к несчастью России, Богу угодно было, чтобы в самую трагическую минуту ее истории на престоле сидел человек совершенно слабохарактерный, который в критический момент сумел только подчиниться требованию об отречении от престола[930], преемник же его не имел, в свою очередь, мужества взять в руки бразды правления, подчинившись пугливым советам новоявленных министров[931].
Теперь, конечно, поздно оплакивать прошлое, но причины переворота представляются мне достаточно ясными, чтобы говорить о них уже и ныне.
После этих общих рассуждений я перейду теперь к описанию последних дней монархии в пределах того, что мне пришлось самому видеть и слышать. Конечно, это будет не общая картина событий, а лишь несколько штрихов к общей картине, которая впоследствии будет нарисована историками на основании целого множества таких же штрихов.
Гос[ударственная] дума созвана была 14 февраля, как было решено по предложению Раева, поддержанному Протопоповым и Добровольским. В этот день не произошло, по-видимому, ничего особенного.
21 февраля я был с докладом у Государя, который отъезжал в Ставку. На мой вопрос, следует ли мне ехать в Ставку со следующим докладом, Государь ответил, что в этом нет надобности, так как недели через полторы он сам вернется из Ставки.
На следующий день, в среду, мы с женою были на обеде у американского посла Френсиса и провели там и вечер. Помнится, уже в четверг и, особенно, в пятницу стали ходить слухи о сильных беспорядках на заводах в связи с продовольственными затруднениями.
В пятницу 24 февраля мы с женою были званы на обед к вдове известного адмирала Макарова, любопытной по своим манерам, но далеко не глупой даме. Она считала себя принадлежностью дипломатического корпуса. На этом обеде были вел[икий] князь Борис Владимирович, мин[истр] земледелия А.А. Риттих, член Гос[ударственного] совета Д.А. Олсуфьев, барон Кнорринг, управляющий Двором вел[икой] княгини Марии Павловны[932], и две дамы, гр[афиня] Гейден, фрейлина императрицы Марии Федоровны, и ее сестра гр[афиня] Шереметева. Обед прошел в очень веселом тоне. Риттих, впрочем, уехал очень рано, почти до обеда, потому что должен был отправиться на какое-то совещание[933], а обеда не начинали, пока не приехал из Царского Села вел[икий] князь, который опоздал почти на целый час. Впоследствии Френсис называл свой обед «le duma dîna diplomatiquement de l’Empire»[934]. А К.Е. Макарова называла свой обед вообще «le duma dîna de l’Empire»[935].
После обеда мне пришлось беседовать с вел[иким] князем о персидских делах. Он недавно был в Персии и приехал оттуда в наилучшем настроении: ожидался приезд к нам персидского принца и т. д.
Между тем, вел[икий] князь Николай Николаевич, наместник кавказский, написал мне, что подозревает чуть ли не всех наших консульских агентов в неблагонадежности и чуть ли не в шпионаже, [что] он намерен всех их выслать и спрашивает моего заключения. Этот акт был бы глубоко не политичен, знаменуя как бы перерыв сношений. Я докладывал об этом Государю, который совершенно согласился с тем, что делать этого нельзя, с видимым неудовольствием отметив, что вел[икий] князь делает вещи несообразные. По тону этих слов можно было заметить, что между Государем и великим князем продолжаются еще натянутые отношения. В данном же случае, несомненно, вел[икий] князь наместник был неправ, о чем я ему и написал.
О городских беспорядках почти разговора не было. Мы вернулись домой совершенно благополучно и по дороге завезли гр[афа] Олсуфьева в его дом на Фонтанке у Цепного моста. На следующий день довольно уже поздно вечером я был вызван на квартиру к кн[язю] Н.Д. Голицыну на Моховой[936]. Здесь был уже в сборе почти весь, сколько помню, Совет министров. Кроме того, были ген[ерал] Хабалов и градоначальник Балк. Вопрос о начавшихся в городе беспорядках стал к этому времени очень серьезным. Стало известно, что помимо уличных волнений происходят в Военно-промышленном комитете какие-то заседания рабочих[937]. О настроении войск ничего неблагоприятного сообщено не было. Шел вопрос о необходимых мерах, о роспуске Думы. Я и некоторые согласные со мною члены Совета (Феодосьев, Риттих, Кригер-Войновский) указывали на необходимость одновременного изменения в составе правительства. Во время заседания явились три члена Государственного совета, А.Ф. Трепов, кн[язь] Ширинский-Шихматов и Н.А. Маклаков, которые настаивали на немедленном объявлении в городе осадного положения, так как беспорядки очень грозные. На это Совет министров тогда не решился, но поручил генералу Хабалову, который был, если не ошибаюсь, комендантом или командующим войсками округа[938], принять самые решительные меры для подавления беспорядков[939]. Мне с Риттихом поручено было переговорить с некоторыми более видными членами Гос[ударственной] думы из разных партий и выяснить настроение в Думе. Заседание закончилось довольно поздно.
На следующее утро я видел уже результаты принятых Хабаловым мер: на подступах к Дворцовому мосту стояли многочисленные патрули, а на стенах были вывешены объявления, угрожавшие строгой репрессией[940].
После завтрака в воскресенье 26 февраля я и Риттих стали принимать последовательно приглашенных нами членов Гос[ударственной] думы[941]. Первым приехал В.А. Маклаков. Мы считали нужным говорить с каждым отдельно, и не предупреждая прочих, чтобы иметь их самостоятельное мнение. В.А. Маклаков признавал положение чрезвычайно серьезным и требующим самых экстренных мер. Роспуск Думы был, по его мнению, совершенно необходим во избежание эксцессов: слишком много накопилось там горючего материала. Но одновременно еще более необходимо полное обновление состава правительства. Без этого роспуск Думы может повести к революции, против которой умеренная часть членов Думы кажется бессильною. Напротив, при одновременном изменении состава кабинета, роспуск Думы на известный, точно указанный срок можно мотивировать необходимостью для нового Совета министров подготовиться к выступлению в Думе и войти в дела. При этом В.А. Маклаков утверждал, что в Думе вовсе не настаивают на образовании парламентарного министерства, но оно должно состоять из людей, пользующихся доверием страны. В качестве желательного председателя Совета министров в Думе указывали на генерала Алексеева. Вообще, Маклаков назвал имена всех желательных министров, из которых я сейчас упомню: министра иностранных дел Сазонова, финансов гр[афа] Коковцова, меня в качестве госуд[арственного] контролера, народного просвещения гр[афа] Игнатьева. Были, кажется, два-три общественных деятеля. Но, во всяком случае, предлагалось министерство совершенно не парламентарное и в общем приемлемое. После Маклакова приехал Н.В. Савич, очень видный октябрист, человек совершенно умеренных убеждений. Он говорил приблизительно совершенно то же самое, что и Маклаков, не предлагая, впрочем, никакого списка министров. Роспуск Думы он считал необходимым, но непременно в связи с переменою в составе правительства.
Другой октябрист, секретарь Гос[ударственной] думы И.И. Дмитрюков отозвался довольно неопределенно: он не видел необходимости в роспуске Гос[ударственной] думы и не усматривал столь грозной опасности, как говорившие до него. Я приписываю это, главным образом, свойству его характера – чрезвычайному оптимизму.
Наконец, четвертый член Думы, с которым мы вошли в собеседование, был лидер националистов Балашев. Он всецело примыкал к мнению Маклакова и Савича, роспуск Думы считал нужным, но при непременном условии коренной перестройки в составе министерства.
Выслушав все эти мнения, мы с Риттихом в точности передали их Совету министров, опять собравшемуся вечером на квартире кн[язя] Н.Д. Голицына. Со своей стороны, мы всецело держались взглядов Маклакова, Савича и Балашева и полагали, что одновременно с роспуском Думы необходимо представить Государю о настоятельности коренного изменения в Совете министров. К нашему мнению опять примкнули наши прежние сторонники Феодосьев и Кригер-Войновский. Риттих очень волновался, говоря, что он просто, пожалуй, подаст в отставку. Я находил, что мы должны настаивать на смене, но единично не должны оставлять свои посты в такую минуту, не имеем права. С этим Риттих согласился.
Вопрос о роспуске Думы не встретил возражения. У кн[язя] Голицына оказался бланковый указ, где следовало только проставить число. Впоследствии это был один из пунктов обвинения, по которому Чрезвычайная следственная комиссия допрашивала решительно всех, были ли такие бланковые [указы] обычным явлением[942]. Я лично этого не знаю и могу лишь утверждать, что на этот раз у кн[язя] Голицына имелся бланковый указ.
Протопопов был, главным образом, озабочен тем, чтобы указ о роспуске был опубликован настолько своевременно, чтобы Дума не успела еще собраться. Поэтому как только все бланки были заполнены, он схватил указы (их было два) о роспуске Думы и Гос[ударственного] совета и уехал, как мне показалось, в радостном настроении, не дождавшись решения второго вопроса – об изменении в составе правительства. По этому поводу среди оставшихся произошло сильнейшее разногласие. Против нас, сторонников перемены, выступили, главным образом, ген[ерал] Беляев и П.Л. Барк. Они говорили, что Совет не имеет права делать таких предложений Государю, что изменение в составе министерства зависит исключительно от воли монарха и отступление от этого не может быть мотивировано никакими соображениями. При таком разноречии вопрос не мог быть решен тогда же ни в ту, ни в другую сторону. Остановились на том, чтобы отложить решение до ближайшего заседания Совета, когда выяснятся последствия роспуска Думы.
Во время этих разговоров я был позван по телефону членом Думы Балашевым, который спросил меня, что решили. Когда я ему сказал, что Дума распущена, об изменении же в составе правительства не последовало решения, он ответил: «Ну, теперь будет плохо».
Поздно вечером, кажется, после двух часов, вернулись мы домой. Усталый, я проспал что-то до девяти с половиной часов, как вдруг меня разбудил телефон. Звал В.А. Маклаков: «Знаете ли Вы, – спросил он меня, – что среди войск началась революция?»[943] Я этого не знал. Он прибавил, что еще раньше, чуть ли не в субботу, произошли сильные беспорядки в Павловском полку, часть которого была оцеплена и разоружена[944]. Ни в субботу, ни в воскресенье в Совете министров об этом речи не было: напротив, на прямой вопрос о настроении войск отвечали, что оно совершенно надежное. Не обмолвились ни Протопопов, ни Беляев, ни Хабалов, которые, однако, не могли не знать о беспорядках в казармах Павловского полка. Весьма вероятно, что будь это ранее известно, меры были бы приняты другие.
Узнав о начавшейся военной революции, я вызвал к телефону кн[язя] Н.Д. Голицына, который, как оказалось, уже знал об этом и просил немедленно же приехать к нему на Моховую, где соберется Совет министров в час дня. Я отправился в автомобиле по Невскому, по Фонтанке и Симеоновскому и проехал совершенно спокойно, не встретив по пути ни войск, ни толпы. Только уже на Симеоновском, между Моховой и Литейным, стояли кавалерийские патрули. Что было на Литейном, я этого не видел. К кн[язю] Голицыну я приехал почти первым, был, кажется, Беляев, а потом явился Хабалов. Последний был в совершенно растерянном состоянии и стоял с открытым ртом, когда Голицын делал ему резкий выговор за нераспорядительность. Непосредственное командование военными силами принял на себя ген[ерал] Беляев, выражавший убеждение, что беспорядки не могут не быть подавлены. Пришел и Протопопов, который говорил, что переход от себя с Фонтанки сделал пешком без всяких препятствий. Потом уже сообщили, что его квартиру разнесли. Приехал и Барк, успевший за ночь радикально изменить свой взгляд: он говорил мне, что Протопопов должен быть уволен непременно. Помнится, собрались и другие. Наверно могу сказать, что не было Риттиха: он накануне вечером отправился на Сергиевскую к Кривошеину, а утром уже не мог пройти через Литейный проспект, где происходили беспорядки.
Собственно говоря, у кн[язя] Голицына [никакого заседания] не происходило, даже не садились и разговаривали стоя. Кабинет его в нижнем этаже выходил окнами на улицу, почти напротив Тенишевского училища[945]. Стали говорить, что в Тенишевском училище собираются какие-то подозрительные личности, м[ожет] б[ыть] стрельба по окнам, а потому предпочтительнее беседовать в соседней комнате, выходившей окнами на двор. Но и там пробыли недолго. Справедливо указывали, что пребывание Совета министров в соседстве с беспорядками может легко окончиться его арестом. Поэтому лучше отправиться в обычное место заседания, в Мариинский дворец, и там продолжать обсуждение создавшегося положения. Это решение удалось осуществить беспрепятственно: на автомобилях и по тому же пути, т. е. по Симеоновскому, Фонтанке и Невскому, я благополучно проехал в Мариинский дворец. Думаю, что и другие проехали тем же путем. Здесь в три часа дня началось заседание Совета министров. Заседание это нельзя было назвать связным: каждые пять-десять минут приходили телефонные известия от Куманина из Министерского павильона о том, что происходило в Гос[ударственной] думе. Вести становились все тревожнее: не хотелось верить, что председатель Думы Родзянко возглавил революцию, но, наконец, и телефонные уведомления были прерваны, Совет министров оказался изолированным от внешнего мира. Суждений и разговоров, собственно говоря, никаких не было. Решено было, прежде всего, устранить Протопопова, который, впрочем, был тут же в заседании и выражал недоумение, чем он виноват во всем происшедшем. Но кем его заменить? Никаких кандидатов не было. Отыскали какого-то генерала, председателя или прокурора Главного военного суда, фамилию которого не упомню и которого решительно никто не знал, и решили даже не справляться о том, согласен ли он или нет, и возложили на него управление Министерством[946]. Заготовлена была бумага и запечатана в конверт, но отослана она не была, потому что спустя несколько времени пом[ощник] управляющего делами Совета министров А.С. Путилов сообщил, что по его сведениям это человек не совсем надежный. Тогда и бумага с конвертом была разорвана.
К Государю постановлено было послать по прямому проводу телеграмму, где просить о назначении в Петроград главнокомандующего с особо широкими полномочиями и о назначении нового председателя и членов Совета министров. Кн[язь] Голицын совершенно открыто говорил, что он ни за что не останется, считая себя слабым и старым и неспособным вести такое дело. Может быть меня могут спросить, почему я молчал. Я считал дело с воскресенья вечером проигранным: все, что было в моих силах, я сделал раньше. То решение, к которому пришли, надо было принять раньше, а тут было поздно: войско перешло в революцию, Дума открыто подняла знамя ее, а правительство растерялось окончательно и лишилось способности не только действовать, но и рассуждать.
Телеграмма была составлена, рассмотрена и отправлена[947], и в шесть часов заседание было закрыто, с тем, чтобы возобновиться в девять часов вечера. Некоторые члены Совета пробрались домой, но я не решился, хотя и пробовал два раза выходить: стреляли и по Морской, и по Канаве[948], и как будто даже и по подъезду Мариинского дворца. Поэтому я там остался до вечернего заседания. Везде, на лестнице и в помещениях, выходивших на площадь, было совершенно темно. Во дворец введено было 20–30 человек военной охраны, занимавших главный подъезд. Во время моего там пребывания я позван был к телефону в швейцарскую, совершенно темную, зажигать света нельзя было. Спрашивал меня итальянский посол о том, что происходит. Оказывается, послы без меня приезжали и очень были обеспокоены событиями. Я вкратце объяснил ему, где мы и что делаем[949]. Пока я говорил, чувствую, что кто-то в темноте трогает меня за руку. Это был Протопопов. Он ушел из заседания, но боялся выйти из дворца и прятался в темноте. Я тотчас же переговорил с Феодосьевым и посоветовал ему, пользуясь темнотой, пройти в Государственный контроль и спрятаться там. Тем временем в Мариинский дворец приехали вел[икий] князь Михаил Александрович с адъютантом, с одной стороны, и представители Думы, Родзянко, Савич и Некрасов, с другой. Может быть, был еще и Дмитрюков. Все были в большом волнении. Великий князь, Родзянко и кн[язь] Голицын прошли в кабинет государственного секретаря и там заперлись. Впрочем, совещание их не было очень продолжительным, едва ли более получаса, после чего великий князь и представители Думы уехали из дворца[950]. К девяти часам вечера министры стали собираться в заседание, которое и возобновилось в девять часов вечера. Были налицо далеко не все, да и разговоров последовательных и связных вовсе не было: собрались, чтобы дождаться ответа от Государя на телеграмму Совета министров. Но ответа не было, да так и не было получено до конца этого заседания, т. е. приблизительно до 12 часов ночи. Говорили, что великий князь Михаил Александрович сидел в квартире военного министра[951] у прямого провода и имел беседу с Государем, но о чем шла речь, нам оставалось неизвестным[952]. Между тем, шли разговоры о том, что революционные толпы вскоре должны подойти к Мариинскому дворцу. Заседание прекратили, а большинство членов Совета разошлись. Говорили, что председатель Совета кн[язь] Н.Д. Голицын отправился не к себе на квартиру, а куда-то исчез. Добровольский, человек очень грузный, страдавший одышкой, не решился идти в Министерство юстиции и просил приюта в итальянском посольстве. Барк и Феодосьев отправились по домам. Во дворце остались я и Кригер-Войновский с курьером. Мы решили переждать до более позднего часа, когда прекратится уличная стрельба, и остались в помещении Канцелярии Совета министров[953]. С нами был еще помощник управляющего делами Совета А.С. Путилов и два-три чиновника Канцелярии. Первое время все было довольно спокойно. Позвонили только из Главного штаба[954]. Я подошел к телефону, и мне сообщили текст ответной телеграммы Государя с просьбой передать ее председателю Совета. Но где же было его найти! В этой телеграмме Государь отвечал, что главнокомандующим в Петроград назначает генерала Иванова, который с отрядом георгиевских кавалеров немедленно отправляется в Петроград. На второе же ходатайство Совета об изменении состава правительства Государь отвечал категорическим отказом, требуя, чтобы все оставались на местах до его собственного прибытия[955].
Так представлялась из Ставки картина петербургской разрухи. Однако вскоре нашему спокойствию наступил конец: нам сообщили, что революционеры проникли в Мариинский дворец, прошли в помещение Государственной канцелярии, там хозяйничают и вскоре пройдут в Канцелярию Совета министров[956]. Мы с Кригером сидели в комнате (бывшей Брянчанинова) сперва при свете, но затем затушили освещение и даже решили спрятаться под столы в надежде, что таким способом вошедшие в комнату, м[ожет] б[ыть], нас не заметят. Но уже вскоре это комическое положение стало невыносимым, а тут как раз нам пришли сказать, что по черному ходу м[ожет] б[ыть] и можно будет выйти. Так как наши пальто и калоши были при нас, то мы и стали спускаться по черной лестнице, которая была запружена народом – курьерами, их женами и детьми. Выйдя на двор, мы попытались пройти через ворота на Новый переулок. Но ворота эти были заперты, и грубый голос нам крикнул с улицы: «Только суньтесь, то мы вам зададим из пулемета!» Разумеется, мы вернулись на черную лестницу и, поднявшись, кажется, в первый этаж, вышли в длинный и низкий коридор, куда выходили служительские квартиры. Коридор этот был также переполнен народом. Пробовали мы просить, чтобы нас пустили в какую-либо из комнат, но получили отказ. По-видимому, нас не узнавали. Мы решили ждать, будь что будет, и если нас спросят, кто мы такие, не скрываться. Спустя некоторое время в коридор действительно явился солдат с ружьем и стал засматривать во все комнаты. Я думаю, мы к нашему благополучию не были впущены ни в одну комнату: там мы бросились бы в глаза. В коридоре же в толпе нас просто не заметили и ни о чем не спрашивали. Солдат повернулся довольно быстро, а после него больше уже никто не являлся. Мы все-таки решили еще не выходить. Тут явился один камер-лакей, которого я давно знал еще по службе в Канцелярии Комитета министров. Он узнал меня и очень сочувственно отнесся к нашему положению. Он предлагал нам даже заварить кофе, чтобы подкрепить силы, но нам было не до кофею. Тогда он и сын его взялись проследить минуту, когда можно будет выйти на улицу. И действительно, около четырех часов ночи во дворце революционеров больше не было, и мы совершенно спокойно вышли через те же ворота на Новый переулок. На площади перед дворцом горел костер из дел Совета. Почему это всегда занимаются этим при всяких революциях? На улицах было совершенно тихо и ни души. Мы пошли по Мойке, перейдя Синий мост. Изредка и очень издали раздавались выстрелы. Когда мы переходили Гороховую, то на самом конце ее по Загородному проспекту видели огонь пожара: горело помещение полицейского участка. После четырех часов я был уже дома, в здании Министерства иностранных дел, а Кригер-Войновский пошел со своим курьером дальше, ночевать к каким-то знакомым.
Когда я был уже у себя на лестнице, раздался страшный выстрел, как будто тут же под боком, гулко раздавшийся в ее сводах. Но я был дома, спать хотелось до чрезвычайности после всех пережитых волнений.
Так окончилась эта страшная ночь, а вместе с ее описанием оканчиваю я и свои записки.
Д.Н. Шилов Археографическое послесловие
Воспоминания Н.Н. Покровского по обстоятельствам их создания можно разделить на две примерно равные по объему части – четыре главы, написанные в России, и одну, написанную в эмиграции. «Российская» часть мемуаров – это очерки «Несколько слов о русской политике в Литве», «Комитет министров и его Канцелярия в 1890-х гг.», «Воспоминания о Государственном совете и его Канцелярии в начале 1900-х гг.» и «Проекты податной реформы в 1905–1916 гг.» (главы 1, 2, 3 и 4 настоящего издания). Они составляют три единицы хранения в фонде Л.М. Клячко в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве[957].
Лев Моисеевич Клячко (1873–1933) – журналист (псевдоним Л. Львов), до революции корреспондент крупнейших столичных газет («Биржевые ведомости», «Новое время», «Речь» и др.), за профессиональные напористость и удачливость снискавший репутацию «короля репортеров». После 1917 г. Клячко – председатель Союза журналистов РСФСР (с 1919 г.), учредитель, владелец и редактор издательства «Радуга» в Петрограде (Ленинграде) (1922–1930).
В его фонде хранится коллекция мемуаров разных лиц[958]. Из них наиболее интересны рукописи: Вельяминов Н.А. Встречи и знакомства (д. 3); он же. Материалы к истории отечественной войны. 1914–1917 гг. (д. 4); он же. Мои воспоминания об императоре Александре III, его болезни и кончине (д. 5); Григорович И.К. Воспоминания о некоторых событиях в жизни в должности министра (д. 9); Зайончковский Н.Ч. Записки. Тетради 1–5, 8–9 (д. 10–16); Ковалевский В.И. Воспоминания о С.Ю. Витте (д. 24); он же. Из старых заметок и воспоминаний (д. 25); Муратов Н.П. Воспоминания (д. 28); Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (д. 41–42); Прилежаев В.В. Воспоминания (д. 45); Путилов А.С. Период князя Голицына (д. 46); Тимашев С.И. Записки. 1903–1906 гг.; Кабинет Столыпина (д. 48); Шинкевич Е.Г. Воспоминания и впечатления. 1904–1917 гг. (д. 51); Щегловитова М.Ф. Мои воспоминания о муже И.Г. Щегловитове (д. 52); Эрштрем Э.А. Моя служба в Финляндском статс-секретариате (1900–1906 гг.) (д. 53).
Об истории создания коллекции сам Клячко незадолго до кончины составил «Памятную записку» следующего содержания: «Вскоре после октябрьского переворота я решил приступить к собиранию воспоминаний оставшихся в столице сановников. Вернее, не столько к собиранию, сколько к тому, чтобы заставить написать. Моя преимущественная (но, конечно, неисключительная) установка была такова, чтобы писали о том, что видели люди, сами не игравшие политической роли и вообще не заинтересованные в извращении событий. Именно таким пороком страдают такие данные воспоминания, как например, воспоминания гр[афа] Витте (и др.), который лжет и извращает истину там, где пытается оправдать свои ошибки и двойственные действия.
Получив разрешение Наркомпроса, я организовал редакцию “Мемуаров”, состоявшую вначале из пишущего эти строки, секретаря и делопроизводителя-переписчицы. Но уже вскоре после того, как начали поступать материалы, редакция была мною организована по-настоящему в составе: директора Публичной библиотеки в Ленинграде – А.И. Брауде, ныне покойного, А.И. Изгоева[959], А.Б. Петрищева, присяжного поверенного Айзенберга, знатока сенатских дел. Эта часть редакции имела своей миссией определить историко-общественно-политическую значимость данного материала, после чего он шел в переписку. Кроме указанных лиц, мною были привлечены для проверки правильности написанного бюрократы: [директор] Департамента общ[их] дел Министерства внутренних дел – Арбузов, вице-директор Департамента духовных дел – Харламов, помощник управляющего канцелярии Совета министров – Путилов и др.
Нелегко было заставить бюрократов писать. Приходилось применять всевозможные методы. Так, например, царский хирург Вельяминов был мною взят на полное “иждивение”. Помимо гонорара я взял на себя устройство всех его нужд. Я устроил ему право обедать в Доме литераторов. Кроме того посылал ему на дом провизию, керосин, дрова и даже прачку для стирки белья. Его дело было только писать. И вот блестящий царедворец, фаворит старой царицы, далеко не привыкший к усидчивому труду, написал в течение 1½ лет около 40 печ[атных] листов, значительная часть которых представляет большой интерес. Баронессу Икскуль (придворная дама, одна из основательниц высшего женского образования в России) мне удалось заставить написать о Распутине (она была его поклонницей, потом отошла) лишь после того, как мне удалось добыть ей какое-то заграничное лекарство, которого она достать не могла. В общем работал более 3-х лет.
Как я указал, материал, прежде чем идти в переписку, рассматривался в редакции. Вот почему в тетрадях товарища обер-прокурора Синода Зайончковского имеются сокращения, сделанные Изгоевым и Брауде.
Мне, лежащему в кровати, трудно писать и дать подробную оценку материалов. Могу сказать только, что они дают яркую и правдивую характеристику событиям и лицам и освещают некоторые стороны дореформенной жизни в популярной и интересной форме. Говорю это определенно, потому что ни одна строка не прошла мимо меня. 5 V 1933 г.»[960].
В 1933 г. Клячко, тяжело заболев, передал часть собранных материалов в Государственный литературный музей. После смерти Льва Моисеевича его вдова Цецилия Григорьевна направила туда же оставшиеся рукописи. В 1941 г. все материалы были переданы в ЦГАЛИ.
В результате инициативы Клячко-Львова за 1919–1922 гг. была собрана коллекция мемуаров из более чем полусотни рукописей объемом от 10–20 до многих сотен страниц. Среди авторов преобладали бывшие министры, крупные и средние чиновники. Насколько можно судить, Л.М. Клячко руководствовался прежде всего любопытством, желанием заполучить и сберечь интересные свидетельства об ушедшей эпохе, а также поддержать бедствующих чиновников, со многими из которых он был лично знаком[961].
На что надеялись в Наркомпросе, судить трудно. Можно предположить, что новая власть рассчитывала получить воспоминания, резко критикующие прежний режим. Но подобные надежды не оправдались. Царское правительство почти во всех рукописях представало в гораздо более выгодном свете, чем было принято считать. Редакция, со своей стороны, вполне добросовестно подходила к делу, не сокращая и не редактируя при перепечатке получаемые тексты, даже если считала их пристрастными и необъективными (единственное исключение – дневники бывшего товарища обер-прокурора Синода Н.Ч. Зайончковского, наполненные газетными вырезками и цитатами антимонархического толка). В результате ни одна рукопись в то время опубликована не была, в то время как с 1922 г. началась публикация других дневников и воспоминаний, содержавших желаемую критику, – А.В. Богданович, Д.У. Бьюкенена, С.Ю. Витте, П.В. Долгорукова, А.П. Извольского, Ж.М. Палеолога, А.Ф. Тютчевой и многих других.
Рукописи из собрания Л.М. Клячко представляют собой по большей части не законченные повествования, а отдельные мемуарные очерки. Это, а также отчасти вынужденный характер труда над воспоминаниями побуждают относиться к ним как к источникам с бóльшим доверием, нежели к традиционным мемуарам. Какие-либо отвлеченные соображения во время литературной работы мало занимали авторов, большинство из которых в те годы были вынуждены бороться за физическое выживание. Как писал один из них, В.И. Ковалевский, «цельный, связный очерк хотя бы некоторых периодов былого на моей памяти я предпочитаю дать впоследствии, когда душе не будет так скорбно и мрачно, а телу так холодно и голодно»[962].
Таковы и четыре мемуарных очерка Н.Н. Покровского. Все они созданы, по-видимому, в первые месяцы 1919 г. На текстах рукописей стоят штампы: главы 2 – «20 марта 1919», главы 4 – «22 марта 1919», глав 1 и 3, помещенных в одной тетради, – «9 апреля 1919 г.». Указанные даты обозначают, по-видимому, даты поступления рукописей в редакцию, но отнюдь не обязательно – время и очередность создания очерков. Возможно, что заинтересованный в гонораре Покровский предпочел сначала сдать в редакцию более пространные тексты. Написать за два дня, с 20 по 22 марта 1919 г., обширный очерк о проектах податной реформы он при всем своем трудолюбии, конечно, не мог.
Рукописи всех четырех очерков представляют собой беловые автографы, текст написан черными чернилами на листах in folio, с обеих сторон листа, с полями по внешнему краю. Листы сложены в тетради, между собой не сшиты. Редкие авторские исправления сделаны карандашом. Кроме них, во всех рукописях присутствуют позднейшие карандашные пометки, в основном технического свойства, принадлежащие, очевидно, членам редакции (добавлены «хвостики» к буквам, сделано не всегда логичное разделение на абзацы, имеются волнообразные знаки на полях и подчеркивания в тексте).
В очерке о Комитете министров (первом по хронологии штампов) на первой странице почерком Л.М. Клячко синим карандашом сделана пометка: «Покровский». В начале каждой тетради этого очерка простым карандашом написано: «I Тетрадь Комитет М[инист]ров», «II Тетрадь Комитет М[инист]ров». На полях против предложения «Надо было в уста каждого говорившего ввести не только то, чтó он говорил, но и то, чтó он мог сказать, и притом в наиболее изящной форме» сделана пометка карандашом: «Хорошо».
На первой странице очерка о проектах податных реформ карандашом написано: «Покровский» и в форме эпиграфа повторена последняя фраза из авторского текста: «“Очевидно, в государственных делах мало одной осторожности, необходима и предусмотрительность” (Н.Н. Покровский)».
Рукописи из коллекции Л.М. Клячко давно привлекают внимание исследователей, которые активно цитируют их в своих трудах. С 1991 г. началась постепенная их публикация – изданы мемуары Н.А. Вельяминова (частично), И.К. Григоровича, В.И. Ковалевского, Н.П. Муратова (частично), А.А. Поливанова, С.И. Тимашева[963].
Очерки Покровского привлекали внимание публикаторов дважды. В 2002 г. М.А. Приходько опубликовал главу мемуаров о Комитете министров[964]. При передаче текста публикатором были допущены небольшие погрешности, один фрагмент рукописи остался неразобранным. В 1991 г. был частично и с измененным заглавием опубликован очерк о русской политике в Литве[965].
Эмигрировав, Покровский вскоре написал вторую часть своих воспоминаний, посвященную периоду Первой мировой войны и доведенную до событий Февральской революции. Как видно из последнего предложения: «Так окончилась эта страшная ночь, а вместе с ее описанием оканчиваю я и свои записки», – продолжать мемуары автор более не намеревался.
Создание второй части воспоминаний совпало по времени с началом выхода в Париже исторического сборника «Русская летопись», который издавал и редактировал бывший государственный секретарь С.Е. Крыжановский. От него Покровский, по-видимому, и получил предложение опубликовать мемуары в «Русской летописи». 6 сентября 1922 г. Николай Николаевич из Берлина писал Крыжановскому: «Глубокоуважаемый Сергей Ефимович, посылаю Вам рукопись последней части моих записок. В ней я карандашом исключил те места, которые не желательно было бы мне видеть теперь в печати. Посылаю все-таки с оказией, но с оказией особого рода: через курьера здешней русской миссии. Этот конечно доставит вовремя. На почте же в последнее время производится перлюстрация всех заказных писем, а тем более такого толстого письма. Подлинник Вы можете мне не отсылать, кроме случая, если издательский комитет вообще не примет этих записок к печати. Если же они будут напечатаны, то Вы не откажете прислать мне печатный экземпляр. При том то, что я Вам посылаю, есть в сущности копия: настоящий подлинник, без купюр, находится у меня. Что касается гонорара и других условий, то я в этом отношении предоставляю решение издательскому комитету. Ведь конечно были уже примеры и практика. Я же сам никаких условий ставить не могу»[966].
В это время Крыжановский с энтузиазмом собирал и публиковал в «Русской летописи» мемуары об эпохе Николая II. 18 октября того же года, обращаясь к бывшему министру земледелия А.А. Риттиху с просьбой прислать рукопись воспоминаний помощника управляющего делами Совета министров А.Н. Яхонтова «Тяжелые дни» о кризисе в правительстве летом 1915 г., Сергей Ефимович попутно сообщал: «Мне это потому очень интересно, что как раз теперь я читаю воспоминания Н.Н. Покровского и вообще много всяких материалов о том времени»[967].
Однако публикация не состоялась. Надо полагать, что причина была той же, что и в случае с «Тяжелыми днями». «Мотив особенно ярко формулирован А.Ф. Треповым, – писал Яхонтов Б.Э. Нольде 29 июня 1925 г., – который указал, что “Тяжелые дни”, будучи полезны для истинного освещения событий и вскрытия многих неизвестных обществу пружин, не должны делаться пока достоянием гласности, ибо могут повредить “Вождю” (имеется в виду великий князь Николай Николаевич. – Д.Ш.). По этому соображению он закрыл для меня страницы “Русской летописи”, куда меня звал С.Е. Крыжановский»[968]. Мемуары Покровского с замечаниями, что «никогда Россия не имела такого слабого и бездарного правительства, как именно во время войны», что «распутинская эпопея» – это «ужасная причина, совершенно дискредитировавшая царскую власть не только среди интеллигенции, но и среди всего народа», наконец, что «Богу угодно было, чтобы в самую трагическую минуту ее истории на престоле сидел человек совершенно слабохарактерный, который в критический момент сумел только подчиниться требованию об отречении от престола», еще менее вписывались в общую идейную направленность «Русской летописи» и руководивших ею, по выражению Яхонтова, «настроенных апологетически компаньонов» Крыжановского, чем «Тяжелые дни», где высказывания о Николае II были вполне лояльными. По-видимому, мотив преждевременности «вскрытия пружин» убедил и Покровского, решившего повременить с публикацией вообще.
Однако два года спустя он изменил свое решение. Летом 1924 г. Крыжановский по просьбе Покровского возвратил ему рукопись мемуаров, оставив для себя их копию. 28 июня 1924 г. Николай Николаевич сообщал ему из Кейдан, что посылка с мемуарами благополучно дошла. «Приходится изменить свое первоначальное намерение и попробовать их напечатать, – писал Покровский, – так узко пришлось с материальными делами. Надо восстанавливать хозяйство, а денег нет, да еще взыскания»[969].
Однако Н.Н. Покровскому не удалось осуществить свое намерение. Местонахождение подлинника записок, если таковой и сохранился, пока неизвестно. Оставшаяся у Крыжановского копия воспоминаний в 1960 г. была вместе с архивом «Русской летописи» приобретена у его наследников Бахметьевским архивом русской и восточноевропейской культуры Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).
Сохранившийся текст второй части (глава 5 настоящего издания) напечатан на пишущей машинке, без нумерации листов или страниц, по старой орфографии, с большим количеством опечаток и ошибок, нередко с неверно поставленными знаками препинания (вследствие чего из одного предложения получается два, одно из которых бессмысленное, и т. п.). В публикации текст передается в современной орфографии и пунктуации. В тексте машинописной копии присутствуют подчеркнутые и взятые в скобки фразы. Судя по упоминанию в письме Покровского Крыжановскому и по содержанию этих фраз, это те пассажи, которые автор первоначально предполагал изъять.
К большому сожалению, в копии Крыжановского две лакуны – утрачены листы после 10-й и после 59-й страницы (по счету сохранившихся страниц). Исходя из проставленных на границах второй лакуны номеров страниц, можно предположить, что первая составляет около 30, а вторая – около 40 страниц. На первую приходится описание событий с осени 1914 г. по январь 1916 г., на вторую – с мая по июль 1916 г.
Первым из российских историков эту часть воспоминаний Покровского обнаружил в начале 1990-х гг. Р.Ш. Ганелин, который подробно пересказал и частично процитировал в опубликованном им обзоре мемуаров из Бахметьевского архива те их страницы, на которых описываются события начала Февральской революции[970].
Д.Н. Шилов От священника до министра: краткие заметки из семейной истории Покровских
Семья Покровских – характерный тип для истории русской бюрократии. В XIX столетии беспоместное и безденежное русское чиновничество, наполненное выходцами из захудалого провинциального дворянства и непривилегированных сословий, силою своего образования и личных способностей сумело потеснить титулованную аристократию на высших государственных должностях. В эту эпоху национальная элита оказалась как никогда проницаема для трудолюбивых и талантливых людей. Сыновья крестьян становились генералами и министрами, и это уже никого не удивляло.
Фамилия последнего министра иностранных дел Российской империи Н.Н. Покровского безошибочно указывает на происхождение его рода из духовного сословия[971]. Однако это верно лишь отчасти – к моменту рождения Николая Николаевича его предки уже более полувека принадлежали к столичному чиновничеству. Священником – в Новой Ладоге, уездном городе Петербургской губернии, – был прапрадед Покровского. Прадед, Гавриил Семенович (1767, Новая Ладога – 12 мая 1834, Петербург), в 1789 г. окончил в столице Главную Александро-Невскую семинарию и поступил на службу подканцеляристом в Новгородскую духовную консисторию, в 1791 г. был произведен в канцеляристы, в июне 1794 г. назначен секретарем консистории, а в мае 1795 г. переведен на ту же должность в Петербургскую духовную консисторию. Согласно семейному преданию, в это время произошло его знакомство и сближение с окончившим ту же семинарию будущим основоположником российской государственной системы М.М. Сперанским. В ноябре 1800 г. последний способствовал переводу Г.С. Покровского в канцелярию генерал-прокурора Сената П.Х. Обольянинова, фактически являвшегося в то время вторым лицом в государстве после императора. Еще через месяц Гавриил Семенович был произведен в коллежские асессоры, приобретя, таким образом, права на потомственное дворянство. С учреждением министерств Покровский вслед за своим покровителем Сперанским перешел в сентябре 1802 г. на службу в Министерство внутренних дел, где и служил до самой смерти. Это министерство, единственное из всех возглавленное членом «Негласного комитета» – графом В.П. Кочубеем, в 1800-х гг. являлось «локомотивом» реформы центрального административного аппарата в России. Служба в МВД была нелегка и многого требовала от чиновников, зато открывала перед ними большие карьерные перспективы. Перейдя под крыло Сперанского, Г.С. Покровский стал быстро повышаться по службе, был произведен в чины надворного (1803), коллежского (1806) и статского (1808) советника, а в 1810 г. получил и первый орден – Св. Анны 2-й степени (в 1816 г. – алмазные знаки к нему). С октября 1809 г. Покровский – начальник отделения Департамента МВД. В июне 1823 г. он был произведен в генеральский чин действительного статского советника, в феврале 1826 г. награжден орденом Св. Владимира 3-й степени. За десятилетия службы в МВД Гавриил Семенович много раз исполнял обязанности директора департамента, а в октябре 1827 г. был назначен исправляющим должность директора одного из них – Департамента полиции исполнительной (в январе 1830 г. утвержден в должности). На Пасху 1829 г. Покровский стал сановником со «звездой», будучи награжден орденом Св. Анны 1-й степени, а в январе 1832 г. получил еще одну, крайне редкую в бюрократическом мире награду – так называемую аренду по чину. Преклонные года вскоре побудили его ходатайствовать о переводе на менее хлопотную и ответственную должность, и в сентябре 1833 г. Покровский был назначен членом Совета МВД с производством в тайные советники. О его деловой репутации сохранилось другое семейное предание. Во время его директорства в департаменте пропал важный документ. Покровский принял вину на себя. Однако император Николай I, выслушав доклад о потере, сказал: «Не может этого быть, он кого-нибудь спасает, поможем ему». И Покровский не понес никакого наказания[972].
От Екатерины Николаевны, урожденной Аладовой (около 1780 – 27 апреля 1847, Петербург), Г.С. Покровский имел шестерых сыновей – Ивана (см. далее), Николая (см. далее), Василия (род. около 1809), Федора (род. около 1810), Якова (род. около 1811) и Павла (род. около 1814), а также дочь (имя неизвестно), бывшую в замужестве за хирургом Кондратием Ивановичем Грум-Гржимайло (ок. 1792 – 14 сентября 1874). Среди детей Гавриила Семеновича известность получили двое – Иван и Николай Гавриловичи. И.Г. Покровский (1800, Петербург – 18 февраля 1863, Царское Село), поэт и переводчик, член Общества любителей российской словесности и Общества любителей словесности, наук и художеств, по окончании Петербургской гимназии служил в Особенной канцелярии Министерства внутренних дел (1820–1823), Департаменте полиции исполнительной (1824–1834, с 1827 г. помощник правителя, с 1833 г. правитель канцелярии), Государственном контроле (1836–1837, правитель канцелярии Департамента морских отчетов). В июне 1837 г. вышел в отставку вследствие тяжелой болезни, однако нужда заставила его вернуться на службу: в мае 1838 г. И.Г. Покровский получил место чиновника особых поручений в Министерстве народного просвещения. Два с половиной года спустя он был вынужден оставить и эту должность, оставшись «в причислении» к министерству без жалованья. Уйдя со службы, Покровский стал литератором – сотрудничал в «Русском инвалиде», «Сыне Отечества», «Москвитянине» М.П. Погодина.
Н.Г. Покровский (7 декабря 1808, Петербург – 28 августа[973] 1866, Царское Село) первоначально избрал военную карьеру. Окончив 1-й кадетский корпус (1827), он был выпущен на службу в конно-артиллерийскую № 1 роту, с которой участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831 гг. Находясь со своим дивизионом в отряде под началом барона Д.Е. Остен-Сакена, Покровский отличился в сражениях на Понарских высотах и под Ковно, а также при штурме Варшавы, за что был награжден орденом Св. Анны 4-й степени и чином подпоручика. По окончании кампании он женился на дочери полковника бывшей Польской армии Наталии Антоновне, урожденной Эрдман (ок. 1813[974] – 27 октября 1890). С тех пор на протяжении столетия семья Покровских поддерживала тесные дружеские связи с польскими родственниками (об этом упоминает в своих мемуарах и наш автор, сам свободно говоривший по-польски и пользовавшийся уважением не только среди польских родственников, но и в польском обществе[975]). Незадолго до смерти отца Н.Г. Покровский оставил военную службу (поскольку не имел к ней, по воспоминаниям сына, «особенного влечения»)[976]. В мае 1835 г. для лучшего обеспечения семьи он поступил на гражданскую службу в ведомство Государственного контроля, быстро освоив новое для себя поприще. В феврале 1836 г. он был сделан помощником столоначальника, год спустя переименован в младшие контролеры Департамента гражданских отчетов, в августе 1841 г. стал старшим контролером, а в апреле 1847 г. занял ключевой пост правителя канцелярии государственного контролера. «Сверх способностей он отличался необыкновенной добросовестностью», – вспоминал о нем сын[977]. Непосредственный начальник Н.Г. Покровского, вельможа и богач генерал-контролер Л.К. Нарышкин, так ценил нравственные качества своего подчиненного, что уговорил его взять на себя надзор за делами по управлению всеми своими имениями.
В декабре 1847 г. Николай Гаврилович перешел на службу в Министерство финансов, где получил место начальника счетного отделения в Департаменте горных и соляных дел. Этот пост он занимал почти девятнадцать лет, до самой кончины, заслужив чин статского советника (1856), ордена Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени (оба в 1864). В эпоху Великих реформ он трудился в составе комиссии под руководством государственного контролера В.А. Татаринова для устройства кассового и ревизионного порядка и единства кассы. Покровским был разработан и, после командировки летом 1863 г. на Уральские и Олонецкие горные заводы, введен в действие новый порядок счетоводства на казенных горных заводах.
У Н.Г. и Н.А. Покровских было трое детей: Николай (см. далее), Ольга (13 декабря 1839 – не ранее 1898, осталась в девичестве), в 1869–1894 гг. преподавательница музыки в Смольном институте[978], и Иван (10 июня 1844 – 15 июня 1882), титулярный советник. Старший сын, Николай Николаевич (18 ноября 1836, Петербург – не ранее 1917), отец будущего министра, в июне 1857 г. окончил с чином поручика Горный институт в Петербурге и поступил на службу на Петербургский монетный двор, в феврале 1858 г. был назначен младшим помощником управляющего золотыми переделами, в январе 1860 г. – старшим помощником управляющего серебряными переделами, в апреле следующего года произведен за отличие в штабс-капитаны, в январе 1863 г. назначен управляющим Лабораторией разделения золота от серебра. В марте – апреле 1864 г. молодой чиновник был послан за границу для знакомства с устройством европейских монетных дворов. В марте 1866 г. Н.Н. Покровский был произведен, вновь за отличие, в капитаны, а в апреле того же года назначен пробирером по приему и отпуску металлов и монеты. В ходе демилитаризации горного ведомства был в июле 1867 г. переименован в надворные советники. Безукоризненная репутация Покровского побудила Петербургскую городскую думу в мае 1869 г. избрать его столичным участковым мировым судьей на очередное трехлетие, а в 1872 и 1875 гг. – дважды переизбрать на новый срок. Но в декабре 1877 г. должность судьи пришлось оставить: Николай Николаевич был назначен чиновником особых поручений Министерства финансов и командирован в Варшаву для заведования Варшавской пробирной палаткой. В начале 1878 г. Сенат утвердил его в чине статского советника. В декабре 1880 г. Покровский был включен в состав комиссии для обсуждения проекта Пробирного устава, в мае 1882 г. утвержден в занимаемой должности, с наименованием управляющим Варшавской пробирной палаткой, а на коронацию Александра III в мае 1883 г. произведен в действительные статские советники. В сентябре 1886 г. Николай Николаевич вернулся на службу в Петербург, став начальником отделения частных золотых промыслов Горного департамента Министерства государственных имуществ. В апреле 1891 г. он был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени, а в ноябре того же года назначен в том же департаменте на пост окружного инженера Северного горного округа. В марте 1894 г. Н.Н. Покровский (старший) по собственному желанию вышел в отставку, будучи уволен от службы с мундиром и пенсией в размере 1500 рублей в год. Его жена, мать мемуариста Мария Александровна (22 сентября 1840, Петербург – не ранее 1917) была дочерью генерал-майора Корпуса жандармов Александра Николаевича Кушинникова (24 августа 1799 – 2 октября 1860, Петербург) и Екатерины Васильевны, урожденной Марченко (25 июня 1808 – 22 января 1877, Петербург) и, следовательно, по матери внучкой государственного секретаря и члена Государственного совета В.Р. Марченко. Семья владела небольшим двухэтажным каменным домом в Ковенском переулке, составлявшим приданое М.А. Покровской. В 1877 г. род Покровских был внесен Петербургским дворянским собранием в третью часть губернской родословной книги (потомственное дворянство по ордену). Документы о службе прадеда и деда в Сенат представить тогда не удалось, поэтому родоначальником формально был утвержден Н.Н. Покровский (старший). Много лет спустя эти документы удалось разыскать его сыну, будущему министру, и в 1899 г. в дворянстве были утверждены Г.С. и Н.Г. Покровские, а также сыновья Н.Н. Покровского (младшего). В 1906 г. Сенатом был утвержден герб рода.
Николай Николаевич Покровский родился 27 января 1865 г. в Петербурге и 23 февраля того же года был крещен в Пантелеймоновской церкви на углу одноименной улицы (ныне улица Пестеля) и Соляного переулка. Восприемниками при крещении стали дед по отцу Н.Г. Покровский и бабка по матери Е.В. Кушинникова. Николай так и остался единственным ребенком в семье, все внимание родителей было посвящено его воспитанию. Близость отношений сохранилась и много лет спустя, когда Н.Н. Покровский стал крупным чиновником[979].
1 июля 1889 г. Н.Н. Покровский поступил на государственную службу, а три года спустя, день в день, женился, причем брак был заключен все в той же Пантелеймоновской церкви. Его избранница Екатерина Петровна (дата рождения неизвестна, скончалась не ранее 1918 г.) была потомком двух старинных дворянских родов – Волковых (по отцу) и Рыковых (по матери). Большинство представителей обоих родов служили в армии и на флоте.
Дед Екатерины Петровны по отцовской линии, Иван Григорьевич Волков (11 марта 1800 – 14 ноября 1872, Петербург), в 1847–1859 гг. был управляющим Охтинской верфью, в 1859 г. вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Тестем Покровского стал старший сын И.Г. Волкова Петр (9 сентября 1825 – 10 января 1896, Царское Село). По семейной традиции Петр Иванович, окончив в 1842 г. Морской кадетский корпус, начал свою службу на флоте, в 1849 г. был произведен в лейтенанты и назначен адъютантом 3-й бригады 1-й флотской дивизии, в 1852 г. награжден орденом Св. Анны 3-й степени. На 16-м году морской службы П.И. Волков решил оставить военную карьеру. В декабре 1857 г. он был переименован в титулярные советники и причислен к Департаменту уделов, короткое время служил в Сызрани, в июне 1858 г. был назначен помощником управляющего Симбирской удельной конторой, а в сентябре 1862 г. был переведен на ту же должность в Вятку. В ноябре 1863 г. Петр Иванович перешел в Министерство государственных имуществ, где был чиновником особых поручений при Управлении государственных имуществ Киевской губернии. По-видимому, гражданская карьера П.И. Волкова не была удачной. В апреле 1868 г. он вновь сменил ведомство, приняв должность старшего ревизора Ковенской контрольной палаты, а в 1871 г. вышел в отставку, получив при этом в награду чин статского советника. Более на службу он не возвращался.
Дед Е.П. Покровской по матери, Иван Васильевич Рыков (ок. 1797 – 12 мая 1869, Петербург), тоже был военным моряком, в 1846–1856 гг. занимал пост помощника капитана над Кронштадтским портом, в 1856 г. был назначен присутствовать в Конторе того же порта, в 1859 г. переведен в резерв, а в 1861 г. уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты от флота. Был женат на Анне Иосифовне (ум. 7 декабря 1866 г., девичья фамилия неизвестна). Четверо их сыновей достигли высокого положения в армии и на флоте – контр-адмирал Василий Иванович (5 марта 1829 – 27 ноября 1880), генерал-майоры Николай (1835 – 1 февраля 1904), Павел (1839 – 16 августа 1895) и Сергей (11 сентября 1841 – 24 мая 1911) Ивановичи. Николай Иванович был женат на Софье Васильевне (около 1844 – 19 февраля 1918, Петроград; девичья фамилия неизвестна), которая, по-видимому, была близка к семье Покровских и упоминается в публикуемых мемуарах.
Дочь И.В. и А.И. Рыковых Александра (ум. около 1912) стала женой П.И. Волкова. К сожалению, сведений об их детях найдено пока очень мало. Старшим из них был сын Иван (род. 3 февраля 1862). Другой сын, Петр (ум. около 1903), окончил 1-е военное Павловское училище, служил помощником секретаря Петербургского военно-окружного суда в чине коллежского асессора. Еще, кроме Екатерины, в семье была дочь Анна (ум. к 1917), ставшая женой Мейера, брата градоначальника Ростова-на-Дону Петра Петровича Мейера (1860–1925)[980].
Николай Николаевич и Екатерина Петровна Покровские имели трех сыновей: Николая (6 ноября 1893 – не ранее 1917), Петра (13 декабря 1894 – не ранее 1917; с 1912 студент Петербургского университета) и Георгия (18 апреля 1897, Царское Село – 26 февраля 1920, Нарва; прапорщик в армии Н.Н. Юденича в Гражданскую войну). К сожалению, сведений о судьбе после революции двух старших сыновей Покровских найти пока не удалось. Известно лишь, что после начала Первой мировой войны они прервали учебу в университете и после прохождения краткосрочных военных курсов в Пажеском корпусе поступили офицерами в действующую армию[981].
Сам Н.Н. Покровский в 1919 г. подвергся непродолжительному аресту, что побудило его к эмиграции. Ему удалось выехать в Таллин (бывший Ревель). С 1920 г. Николай Николаевич жил в Каунасе (бывшем Ковно) – столице независимой теперь Литвы. Приезд Покровского именно в Каунас объяснялся тем, что он являлся землевладельцем Ковенской губернии (права на имение были подтверждены правительством Литвы) и имел там родственников по отцовской линии. Восстанавливая в имении разрушенное войной хозяйство, бывший министр одновременно преподавал – Литовский университет пригласил его на должность доцента кафедры финансов факультета права Литовского университета. В 1926 г. Покровский опубликовал свой университетский курс в переводе на литовский язык[982]. В том же году Покровский был назначен исполняющим обязанности профессора по занимаемой кафедре. Кроме того, благодаря своему научному авторитету он стал еще и советником Министерства финансов Литвы, был избран почетным председателем совета Общества русского мелкого кредита. В официальном журнале министерства «Lietuvos Ūkis» («Экономика Литвы») Покровский опубликовал несколько своих статей[983]. В 1929 г. Николай Николаевич был вынужден оставить университет по состоянию здоровья[984]. 12 декабря 1930 г. Покровский скончался в Каунасе, где и был похоронен на Свято-Воскресенском кладбище[985]. Могила его утрачена. После окончания Великой Отечественной войны распоряжением каунасского горисполкома от 17 мая 1945 г. кладбище было изъято из ведения православного прихода и передано городскому жилищно-коммунальному ведомству. В 1956 г. могилы сравняли с землей, а на месте кладбища был разбит парк, существующий и поныне.
Фотографии
Н.Н. Покровский
Здание Министерства финансов
Здание Министерства внутренних дел
Николай II председательствует на военном совете главнокомандующих фронтами
А.Д. Протопопов
В.Н. Коковцов
А.Н. Куломзин
Н.Д. Голицын
А.А. Хвостов
А.А. Макаров
Здание Государственного совета, Государственной канцелярии, Комитета министров (до 1906 г.) и Совета министров (с 1906 г.)
Н.Н. Кутлер
А.А. Риттих
Первое торжественное заседание реформированного Государственного совета
А.Ф. Трепов
Н.А. Маклаков
В.Б. Фредерикс
В.Б. Штюрмер
И.Л. Горемыкин
Торжественное открытие I Государственной думы
А.В. Кривошеин
П.Н. Игнатьев
Д.С. Шуваев
М.А. Беляев
В этом здании размещалось Министерство иностранных дел (современный вид)
П.Л. Барк
П.А. Харитонов
Н. Н. Покровский во главе русской делегации на экономической конференции союзников в Париже. Рядом с ним В. В. Прилежаев
Члены российской Парламентской делегации во время заграничной поездки.
Стоят слева направо: В.И. Гурко, А.А. Радкевич, М.М. Ичас;
сидят: Д.Н. Чихачев, В.Я. Демченко, А.Д. Протопопов, П.Н. Милюков, А.И. Шингарев
С.В. Рухлов
В.Н. Шаховской
М.В. Родзянко
Н.П. Раев
А.А. Бобринский
И.К. Григорович
С.Д. Сазонов
И.Г. Щегловитов
Февраль 1917 года в Петрограде
Заседание Временного правительства в Мариинском дворце
Н.Н. Покровский
Примечания
1
Полный служебный формуляр Н.Н. Покровского см.: Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений (1802–1917): Биобиблиографич. справочник. СПб., 2001. С. 529–531. Покровскому как министру иностранных дел посвящена только одна статья: Морозова И.М. Н.Н. Покровский (министр иностранных дел 30 ноября 1916 г. – 2 марта 1917 г.) // Дипломатический вестник. 2001. № 12. С. 192–197.
(обратно)2
Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 48, 203, 288.
(обратно)3
Шелькинг Е.Н. Ключевые фигуры российской политики в канун войны и революции // Аринштейн Л.М. Во власти хаоса: Современники о войнах и революциях 1914–1920. М., 2007. С. 293.
(обратно)4
Александра Федоровна – Николаю II. 17 марта 1916 г. // Переписка Николая и Александры. М., 2013. С. 537.
(обратно)5
Шаховской В.Н. Sic transit gloria mundi. 1893–1917 гг. Париж, 1952. С. 194.
(обратно)6
Михайловский Г.Н. Записки. М., 1993. Кн. 1. С. 213.
(обратно)7
Перлюстрационная выписка из письма депутата IV Государственной думы А.Н. Аносова В.В. Аносовой. 1 декабря 1916 г. // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1983. Л. 24. См. также: Васильчиков И.С. То, что мне вспомнилось… М., 2002. С. 121.
(обратно)8
Выступление В.М. Пуришкевича. 14 февраля 1917 г. // Государственная дума. 1906–1917. Стенографич. отчеты. М., 1995. Т. 4. С. 242.
(обратно)9
Палеолог Ж.М. Дневник посла. М., 2003. С. 649.Ср.: Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России: Воспоминания английского дипломата. 1910–1918. М., 2006. С. 223.
(обратно)10
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 146. Ср.: Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 170.
(обратно)11
Карцов Ю.С. Хроника распада // Новый журнал. 1982. Кн. 148. С. 186.
(обратно)12
Елпатьевский С.Я. По поводу разговоров о русской интеллигенции // Русское богатство. 1905. № 3. С. 70.
(обратно)13
Альдрованди-Марескотти Л. Дипломатическая война: Воспоминания и отрывки из дневника (1914–1919 гг.). М., 1944. С. 63.
(обратно)14
Михайловский Г.Н. Указ. соч. С. 213.
(обратно)15
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 145.
(обратно)16
Михайловский Г.Н. Указ. соч. С. 214.
(обратно)17
Подробнее об итогах социальной эволюции высшей царской бюрократии к началу XX в. см.: Куликов С.В. Социальный облик высшей бюрократии России накануне Февральской революции // Из глубины времен. СПб., 1995. Вып. 5. С. 3 – 46.
(обратно)18
Формулярный список Н.Н. Покровского // РГИА. Ф. 560. Оп. 23 (1904 г.). Д. 639. Л. 3 об., 76 об.
(обратно)19
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 145.
(обратно)20
Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 649.
(обратно)21
О превращении бюрократической элиты Российской империи в «служилую интеллигенцию» см.: Куликов С.В. Российская интеллигенция и высшая царская бюрократия в нач. XX в. // Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX в. СПб., 1996. С. 24–28.
(обратно)22
В этом абзаце приводятся сведения, почерпнутые Д.Н. Шиловым из студенческого личного дела Н.Н. Покровского (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 25995).
(обратно)23
См.: Щетинина Г.И. Университеты в России и Устав 1884 г. М., 1976. С. 190–192.
(обратно)24
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 144.
(обратно)25
Подробнее см.: Куликов С.В. Царская бюрократия и научное сообщество в нач. XX в.: закономерности и типы отношений // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е – начало 1920-х гг. СПб., 2003. С. 54–71.
(обратно)26
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 144, 145–146.
(обратно)27
Тхоржевский И.И. Последний Петербург: Воспоминания камергера. СПб., 1999. С. 32.
(обратно)28
Перлюстрационная выписка… // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1983. Л. 24.
(обратно)29
Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 170; см. другие аналогичные свидетельства: Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 – 15 марта 1916 г. // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 132; Михайловский Г.Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 213–214. См. также: Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 223.
(обратно)30
Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903–1919 гг. М., 1992. Т. 1. С. 224.
(обратно)31
Тхоржевский И.И. Указ. соч. С. 32.
(обратно)32
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 48.
(обратно)33
Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 130.
(обратно)34
См.: Покровский Н.Н. Историко-статистический очерк современного положения России к концу царствования императора Александра III: В 2 т. СПб., 1896.
(обратно)35
См.: Куломзин А.Н. Всеподданнейший доклад о потребностях начального образования Сибири по поездкам в Сибирь в 1896 и 1897 гг. СПб., 1898.
(обратно)36
См.: Михайловский Г.Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 213–214.
(обратно)37
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 120.
(обратно)38
Поливанов А.А. Указ. соч. С. 132.
(обратно)39
Коковцов В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 330.
(обратно)40
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 120.
(обратно)41
Ивановский А.В. Воспоминания инженера. Последняя эпоха царизма в России и заря коммунизма // СПбФА РАН. Разр. IV. Оп. 72. № 1. Л. 178.
(обратно)42
Тхоржевский И.И. Указ. соч. С. 31.
(обратно)43
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 120–121.
(обратно)44
Тхоржевский И.И. Указ. соч. С. 31.
(обратно)45
Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 111–112.
(обратно)46
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 144.
(обратно)47
Министерство финансов. 1904–1913. СПб., 1913. С. 103.
(обратно)48
Подробнее об этом см.: Коцонис Я. Подданный и гражданин: налогообложение в Российской империи и Советской России и его подтекст // Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 467–481.
(обратно)49
См.: Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 199–243.
(обратно)50
Покровский Н.Н. О подоходном налоге. Пг., 1915. С. 107–108, 152.
(обратно)51
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 151.
(обратно)52
Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Л., 1990. С. 323–327.
(обратно)53
Покровский Н.Н. Указ. соч. С. 140.
(обратно)54
См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 596.
(обратно)55
См.: Особый журнал Совета министров 24 октября 1906 г. «По вопросу о введении в России подоходного налога» // Особые журналы Совета министров царской России. 1906–1908 гг. 1906 год. М., 2011. С. 259–269.
(обратно)56
Текст закона «О государственном подоходном налоге» см.: П.А. Столыпин: Программа реформ: Документы и материалы. М., 2003. Т. 1. С. 589–624.
(обратно)57
Особый журнал Совета министров 12 января 1907 г. «По вопросу о законопроектах, подлежащих внесению в Государственную думу» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1907 год. М., 2011. С. 80.
(обратно)58
Покровский Н.Н. Указ. соч. С. 142.
(обратно)59
Коковцов В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 244.
(обратно)60
Перлюстрационная выписка… // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1983. Л. 24.
(обратно)61
Коковцов В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 250.
(обратно)62
Там же. С. 238.
(обратно)63
Клячко (Львов) Л.М. Повести прошлого. Л., 1929. С. 49.
(обратно)64
Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 126.
(обратно)65
Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 223.
(обратно)66
Шелькинг Е.Н. Указ. соч. С. 293.
(обратно)67
Гурко В.И. Указ. соч. С. 688.
(обратно)68
См.: Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 269.
(обратно)69
Покровский Н.Н. Доклад об условиях развития нашего экспорта. СПб., 1915.
(обратно)70
Александра Федоровна – Николаю II. 17 марта 1916 г. // Переписка Николая и Александры. С. 537.
(обратно)71
Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999. С. 232.
(обратно)72
Журналы Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (Особое совещание по обороне государства). 1915–1918: В 3 т. М., 2013. Т. 1. С. 555.
(обратно)73
См.: Покровский Н.Н. О подоходном налоге // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1915. № 1–7.
(обратно)74
Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 735.
(обратно)75
Михайловский Г.Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 241. Г.Н. Михайловский полагал, что это произошло утром 28 февраля, что противоречит информации более осведомленного Ж.М. Палеолога.
(обратно)76
Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 743–744.
(обратно)77
См.: Игнатьев А.В. Внешняя политика Временного правительства. М., 1974. С. 114.
(обратно)78
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 296.
(обратно)79
Шилов Д.Н. Указ. соч. С. 530.
(обратно)80
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 297.
(обратно)81
Хроника. Новые товарищи председателя Центрального комитета // Известия ЦВПК. 1917. № 213. С. 4.
(обратно)82
Журнал № 21 заседания Совета съездов горнопромышленников. 13 мая 1917 г. // Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. М.; Л., 1957. Ч. 1. С. 169.
(обратно)83
См.: Васильчиков И.С. Указ. соч. С. 121.
(обратно)84
Коковцов В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 362.
(обратно)85
Михайловский Г.Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 86–90.
(обратно)86
См.: Татищев А.А. Земля и люди. В гуще переселенческого движения (1906–1921). М., 2001. С. 276.
(обратно)87
Тхоржевский И.И. Указ. соч. С. 166.
(обратно)88
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 337.
(обратно)89
В этом абзаце приводятся сведения о жизни Н.Н. Покровского в Литве, переданные Андресом Вальме (Нарва, Эстония) Д.Н. Шилову.
(обратно)90
Покровский Н.Н. Основы финансовой науки. Ковно, 1925; Pokrovskii N. Finansu mokslo pagrindai. Kaunas, 1926.
(обратно)91
Например, в № 11 за 1926 г. и в № 3 за 1927 г. появилось его исследование «Государственный порядок прямых налогов в Литве».
(обратно)92
Об отечественной мемуаристике начала XX в. см.: Ганелин Р.Ш., Куликов С.В. Основные источники по истории России конца XIX – начала XX в. СПб., 2000.
(обратно)93
Бунге Н.Х. Очерки политико-экономической литературы. СПб., 1895. С. I.
(обратно)94
См. подробнее в Археографическом послесловии. В настоящем издании наиболее значимая правка Н.Н. Покровского оговорена в комментариях.
(обратно)95
В докладе «Николай II и его правительство (по данным Чрезвычайной следственной комиссии)», сделанном в июне 1920 г. в Константинополе.
(обратно)96
В брошюре «Правда о царской семье и темных “силах”» (Берлин, 1920).
(обратно)97
См.: Куликов С.В. Указ. соч. С. 396.
(обратно)98
Лейб-гвардии Конная артиллерия – соединение русской армии, существовавшее с 1805 по 1918 г.
(обратно)99
Имеется в виду Польское восстание 1830–1831 гг.
(обратно)100
Царство Польское имело собственные войска, упраздненные после подавления Польского восстания 1830–1831 гг.
(обратно)101
Подразумевается Польское восстание 1863–1864 гг.
(обратно)102
Освобождение крепостных крестьян было провозглашено Манифестом 19 февраля 1861 г.
(обратно)103
Мировой посредник – должность, учрежденная в 1861 г. на местах (по нескольку на уезд), в связи с освобождением крепостных крестьян, для введения уставных грамот, регулировавших отношения помещиков и бывших крепостных, а также для разбора споров между ними и надзора за органами крестьянского сословного самоуправления. Была упразднена в великорусских и белорусских губерниях соответственно в 1874 и 1878 гг., но сохранена в остальных губерниях Западного края.
(обратно)104
См.: Gieysztor J. Pamiętniki z lat 1857–1865. Wilno, 1913. T. 1–2. См. также: Śliwowska W. Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów – zesłańców postyczniowych. Warszawa, 2000.
(обратно)105
Слово впоследствии вставлено Н.Н. Покровским.
(обратно)106
Законом 10 декабря 1865 г. было воспрещено, «впредь до достаточного усиления в Западном крае числа русских землевладельцев», лицам польского происхождения (с 14 июня 1868 г. – за исключением крестьян-поляков) приобретать расположенные в этом крае помещичьи имения каким-либо иным способом, кроме законного наследования. Генерал-губернаторы и губернаторы Западных губерний 1 ноября 1886 г. получили полномочия по собственному усмотрению выдавать или не выдавать лицам как русского, так и нерусского происхождения свидетельства на покупку в них имений. В отношении шляхтичей, т. е. мелкопоместных дворян, и мещан католического вероисповедания, которые вели крестьянский образ жизни и лично занимались земледелием, а также крестьян-католиков были введены ограничения (относительно первых – 4 марта 1899 г., вторых – 27 января 1901 г.) на право приобретения земель, заключавшиеся в том, что они могли получать свидетельства на приобретение недвижимости (первые – от министра внутренних дел, вторые – от генерал-губернаторов и губернаторов), но с таким расчетом, чтобы общее количество земли, находившейся в их распоряжении, вместе с покупаемыми участками не превышало 60 десятин. О законе 10 декабря 1865 г. см.: Западные окраины Российской империи. М., 2007. С. 213–215, 287–295.
(обратно)107
Дворянский земельный банк – созданное 21 апреля 1885 г. государственное кредитное учреждение, выдававшее долгосрочные льготные ссуды дворянам, являвшимся землевладельцами, под залог их земельной собственности. Операции Дворянского банка имели целью сохранение дворянского землевладения и укрепление экономических позиций дворянства. Находился в ведении Министерства финансов и имел сеть местных отделений. Упразднен 25 ноября 1917 г.
(обратно)108
В 1885 г. виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор генерал И.С. Каханов представил Александру III записку об усилении русского землевладения в Северо-Западном крае. В записке И.С. Каханов предлагал распространить на край операции Дворянского банка, с тем чтобы ссуды от него могли получать только потомственные и личные дворяне православного исповедания. Царь повелел рассмотреть записку И.С. Каханова в Комитете министров, а затем на его журнале 15 ноября 1885 г. наложил соответствующую резолюцию (Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – нач. XX вв.). СПб., 1998. С. 234).
(обратно)109
Закон 10 декабря 1865 г. предписывал обязательную продажу имений, секвестрованных у участников Польского восстания 1863–1864 гг. Князь П.А. Зубов, фаворит императрицы Екатерины II, 18 августа 1795 г. получил от нее в Литве, после только что произведенного третьего раздела Польши, Шавельскую экономию, которая стала основой для родового имения потомков Зубова.
(обратно)110
Согласно закону 10 декабря 1865 г., к покупке секвестрованных имений допускались не только «лица русского происхождения» и «православного вероисповедания», но и сторонники «протестантского вероисповедания», т. е. прежде всего русские немцы.
(обратно)111
Имеются в виду Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. и Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
(обратно)112
«первое лесничество», «второе лесничество» (нем.).
(обратно)113
По причине частых обходов закона 10 декабря 1865 г. законом 27 декабря 1884 г. полякам запретили принимать в залог и арендовать в Западных губерниях помещичьи имения на срок свыше 12 лет. Закон 2 февраля 1891 г. распространил действие закона 27 декабря 1884 г. на пожизненное владение земельной собственностью, расположенной в Западном крае.
(обратно)114
Виленский акционерный земельный банк был создан в 1872 г. Правление банка находилось в Вильне. Председателем Правления являлся П.М. Конча, членами Правления – И.И. Борткевич, А.Э. Миштович, И.М. Орурк и др. Действие банка, имевшего основной капитал 1 000 000 руб. (на 1872 г., в 1914 г. – 10 500 000), распространялось на Виленскую, Ковенскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую и Псковскую губернии. После 1917 г. продолжал функционировать в реорганизованном виде на территории Литовской республики.
(обратно)115
Крестьянский поземельный банк – государственное кредитное учреждение, созданное 16 мая 1882 г. для облегчения крестьянам покупки земли. Находился в ведении Министерства финансов и с 1885 г. имел общего с Дворянским земельным банком управляющего, а также Совет из пяти членов, назначавшихся министром финансов. Упразднен 25 ноября 1917 г.
(обратно)116
Еще в 1897 г. Николай II по личной инициативе отменил введенный в 1863 г. процентный сбор с находившихся в Западном крае недвижимых имений лиц польского происхождения. Поскольку сбор являлся карой за участие в Польском восстании 1863–1864 гг. и источником погашения расходов по его подавлению, в Указе Сенату царь отмечал, что делает это, чтобы «постепенно изглаживать в памяти народной следы преступных заблуждений, вовлекших польское население в нарушение верноподданнического долга» (Дякин В.С. Указ. соч. С. 273). Во исполнение пункта 7 Указа 12 декабря 1904 г., который повелевал «произвести пересмотр действующих постановлений, ограничивающих права инородцев и уроженцев отдельных местностей Империи, с тем, чтобы из числа сих постановлений впредь сохранены были лишь те, которые вызываются насущными интересами государства и явной пользой русского народа», пункт 1 Указа 1 мая 1905 г. разрешал лицам польского происхождения в пределах девяти Западных губерний арендовать на общем, без особого ограничения в сроках, основании земельные имущества, а также приобретать всеми дозволенными законом способами в собственность и пожизненное владение и принимать в залог такие имущества от лиц польского же происхождения. Пункт 4 Указа 1 мая 1905 г. отменил Закон 27 января 1901 г. об ограничении 60 десятинами земли, находившейся в распоряжении крестьян-католиков (Указ 1 мая 1905 г. «Об отмене некоторых ограничительных постановлений, действующих в девяти Западных губерниях, и о порядке выполнения пункта седьмого Указа 12 декабря 1905 г. в отношении сих губерний» // Савич Г.Г. Новый государственный строй России: Справочная книга. СПб., 1907. С. 361, 362). Статьи Указа 1 мая 1905 г. получили развитие в Положениях Комитета министров, одно из которых Николай II утвердил тогда же (Положение Комитета министров «О порядке выполнения пункта 7 именного Указа 12 декабря 1904 г. в отношении девяти Западных губерний» // Там же. С. 362–363), а другое – 11 апреля 1906 г. (Положение Комитета министров «О предоставлении лицам польского происхождения права приобретения земельных имуществ в тех поселениях Западного края, в коих таковое право предоставлено евреям» // Там же. С. 354–365).
(обратно)117
Для удержания в Западном крае и привлечения в него русских чиновников, с целью русификации управленческого аппарата этого края, были изданы Правила 21 ноября 1869 г. «О назначении и производстве процентной прибавки к содержанию и пособий чиновникам русского происхождения, служащим в Западных губерниях». Правила подразумевали сохранение за чиновниками, уже служившими в указанных губерниях, ранее назначенной прибавки к их жалованью или ко всему содержанию в размере 50 % и 20 %. «Лица русского происхождения», впервые занявшие штатные должности в Западном крае, имели право на получение прибавки к одному жалованью, столовые же, квартирные и прочие части содержания в расчет не принимались. Размер прибавки колебался для поступавших на службу с 1870 г. от 30 до 40 %, с 1875 г. – от 13 до 20 % (ПСЗ-II. Т. XLIV. Отд. II. № 47700).
(обратно)118
В результате многовековой колонизации поляки были в значительной степени вытеснены немцами из таких исконно польских земель, как Западное Поморье (главный город – Щецин), Нижняя Силезия (Вроцлав), Любушская земля (Шлюбице) и т. д. К началу XX в. польское население компактно проживало в Великом княжестве Познанском и Восточном Поморье (провинция Западная Пруссия), в Верхней Силезии, а также в Мазурских землях и Вармии (провинция Восточная Пруссия), всего (на 1905 г.) – 3 295 000 поляков. Кроме того, в других районах собственно Германии проживали более 400 000 поляков, так что всего их было 3 700 000 человек. Еще в 1833 г. был издан указ, по которому польские имения должны были продаваться исключительно немцам, в результате чего значительная часть земли в Познанском княжестве попала в их руки. Поводом для усиления антипольской политики стало вспыхнувшее в 1848 г. восстание в княжестве, подавленное Пруссией. После этого в Берлине при поддержке властей образовалась акционерная компания, имевшая целью скупку и раздел польских земель. Позднее антипольские мероприятия проводились как составная часть политики «культуркампфа». В 1886 г. был издан чрезвычайный закон об ассигновании специальных фондов на «укрепление германизма» в Познанском княжестве и Восточном Поморье. В этих целях создается «Колонизационная комиссия для Западной Пруссии и Познани» («Ansiedelungskomission fur Westpreussen und Posen»), получившая особые полномочия и располагавшая 100-миллионным колонизационным фондом. В 1898 г. Прусский ландтаг принял закон об увеличении фондов, предназначенных для колонизации польских земель, вдвое. В 1902 г. консервативное большинство снова увеличило ассигнования в фонд Колонизационной комиссии до 350 000 000 марок, тогда же одновременно с пополнением фонда комиссии в распоряжение прусских властей были переданы специальные фонды в 100 000 000 марок на закупку земель для создания государственных доменов в целях «укрепления крупного немецкого землевладения» в Познанском княжестве и Восточном Поморье (Западной Пруссии). В первое десятилетие своего существования Колонизационная комиссия приобретала преимущественно земли польских владельцев, но уже с середины 1890-х гг., под давлением общественного мнения, польская шляхта сократила продажу своих земель. В то же время крупные немецкие землевладельцы все настойчивее старались использовать выгодную конъюнктуру и нажиться на продаже своих имений Колонизационной комиссии. В 1896 г. прусские власти были вынуждены разрешить Колонизационной комиссии покупку земли и у немецких землевладельцев. Согласно официальному отчету о деятельности Колонизационной комиссии за 20 лет (1886–1906 гг.), до ее образования количество земель, находившихся в руках польских владельцев, сокращалось. Однако за 20 лет ее существования в руки польских владельцев перешло на 100 000 га земли больше, чем в руки немцев. В 1908 г. Прусский ландтаг принял Закон об отчуждении польских земель в Познанском княжестве и Восточном Поморье, который предоставлял правительству право на отчуждение в указанных провинциях польских земель общей площадью не свыше 70 000 га, но там, «где это необходимо для консолидации и округления немецкой собственности путем поселения немецких колонистов». На эти цели были вотированы 400 000 000 марок. Начиная с середины 1890-х гг. площадь польского землевладения в Познанском княжестве и Восточном Поморье неуклонно увеличивалась: только с 1896 по 1912 г. в этих провинциях из немецкого владения в польское перешло на 103 753 га земли больше, чем из польского в немецкое. С 1896 по 1914 г. земельная собственность немцев увеличилась лишь в 15 районах Познани и Поморья, поляков – в 49 (см.: Рубинштейн Е.И. Политика германского империализма в западных польских землях в конце XIX – начале XX в. М., 1953. С. 17, 32, 79, 80, 96–97, 103–108, 127, 128).
(обратно)119
Подробнее о политике царского правительства в Литве по отношению к католической церкви в 1863–1914 гг. см.: Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). Минск, 2010.
(обратно)120
В 1893 г. при упразднении Крожского монастыря и костела в Ковенской губернии произошли кровопролитные столкновения правительственных войск и местного населения. После этого практика упразднения монастырей и костелов была прекращена.
(обратно)121
В 1863 г., в ходе подавления Польского восстания, последовало полное запрещение употребления польского языка в Западном крае в присутственных местах и преподавания в школах его и на нем, вплоть до воспрещения учащимся разговаривать между собой по-польски. В 1866 г. было запрещено преподавание и литовского языка. После этого в крае стало процветать тайное обучение обоим языкам. Изменение ситуации произошло 25 июня 1897 г., когда Николай II повелел, чтобы предклассную молитву учащиеся совершали не вместе, а по исповеданиям. Тогда же он разрешил преподавать на польском и литовском языках Закон Божий. Кроме того, в виде исключения учителям низших школ разрешили использовать эти языки в начале обучения детей, не знающих русского языка. В 1905 г. последовало снятие ограничений на использование местных языков в школах Западных губерний. Пункт 6 Указа 1 мая 1905 г. допускал преподавание литовского и польского языков в учебных заведениях этих губерний с программами начальных 2-классных и городских училищ, а также в средних учебных заведениях в тех местностях, где большинство учащихся принадлежало к литовской и польской народности (Указ 1 мая 1905 г. «Об отмене некоторых ограничительных постановлений, действующих в девяти Западных губерниях, и о порядке выполнения пункта седьмого Указа 12 декабря 1905 г. в отношении сих губерний» // Савич Г.Г. Указ. соч. С. 362). Не позднее 8 декабря 1905 г. Николай II одобрил Меморию Совета министров от 2 декабря, в которой рекомендовалось распространить действие Указа 1 мая 1905 г. на начальные школы, без различия старших и младших классов, и разрешить употребление во всех низших учебных заведениях Северо-Западного края (если большинство их учащихся составляли литовцы или поляки) литовского и польского языков при преподавании всех вообще предметов, за исключением русского языка. Соответствующий всеподданнейший доклад об этом министра народного просвещения графа И.И. Толстого Николай II утвердил 22 апреля 1906 г., т. е. в день представления доклада (Мемория Совета министров «О введении преподавания польского и литовского языков в начальных школах Виленской, Ковенской и Гродненской губерний». 2 декабря 1905 г. // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. / Отв. ред. Р.Ш. Ганелин. Л., 1990. С. 89–90, 93).
(обратно)122
В 1870 – 1880-е гг. антипольские мероприятия были составной частью проводившейся О. фон Бисмарком политики «культуркампфа», в связи с чем осуществлялась германизация школы в западных польских землях. Изданные в 1872–1874 гг. административные постановления почти полностью запретили преподавание в школах на польском языке. В 1887 г. было запрещено преподавание польского языка в народных школах и преподавание на нем Закона Божия в средних школах (кроме трех младших классов). Польским учителям запрещалось не только преподавать на родном языке, но и говорить по-польски. В 1898 г. в ряде округов Познанского княжества были изданы постановления, запрещавшие преподавателям под страхом увольнения разговаривать по-польски не только в школе, но и в семье. В 1900 г. издается предписание, по которому польский язык разрешалось преподавать исключительно немецким школьникам, поскольку это могло им пригодиться впоследствии, на службе в западных польских землях. Польские учащиеся получали разрешение на занятия польским языком лишь в старших классах и только в том случае, если они успешно занимались немецким языком. Согласно этому предписанию, преподавание польского языка в средней школе поручалось только немецким учителям. Одновременно прусские власти стремились упразднить использование польского языка во всех государственных и административных учреждениях, в суде и в органах местного самоуправления. На военной службе и в казармах должен был употребляться исключительно немецкий язык. Польские солдаты, служившие в прусской армии, не имели права говорить и вести переписку со своими родными на польском языке. Если до конца 1890-х гг. от немецких чиновников в западных польских землях требовалось знание, наряду с немецким, и польского языка, то теперь вовсе запрещалось пользоваться при исполнении служебных обязанностей польским языком, даже тогда, когда чиновники имели дело с лицами, не понимающими немецкого языка. В 1897 г. Дирекция железных дорог в Быдгоще издала, с санкции Министерства внутренних дел, предписание, запрещавшее употребление польского языка служащими, рабочими и механиками железнодорожного ведомства во время работы. Согласно принятому в 1908 г. общеимперскому Закону о собраниях и союзах (параграф 3), все польские общества, ранее представлявшие на утверждение полицейских властей свои уставы на польском языке, отныне должны были каждый раз переводить их на немецкий язык. Параграф 12 этого Закона вообще запрещал проведение собраний на каком бы то ни было языке, кроме немецкого. Исключения допускались только для проводимых на территории Германии международных конгрессов и в отношении избирательных собраний, созванных для выборов в Рейхстаг и в ландтаги отдельных германских государств. Упомянутый параграф разрешал также «в виде исключения» проведение собраний не на немецком языке в течение ближайших 20 лет в тех районах, где население, говорящее на этом языке, превышает 60 %. В общей сложности на основании параграфа 12 не менее 46 % поляков старше 14 лет было лишено права проведения собраний на родном языке. Отмена пресловутого параграфа последовала только в апреле 1917 г., в условиях кардинального изменения германской политики в польском вопросе (Рубинштейн Е.И. Указ. соч. С. 31, 32, 52, 53, 67, 68, 74, 75, 76, 173, 177).
(обратно)123
Сейчас это города Сопот и Гданьск в Польше.
(обратно)124
Кашубы – поляки протестантского вероисповедания, населявшие главным образом северо-западные районы Восточного Поморья (Западной Пруссии). Они (как и мазуры, жившие анклавами в Восточной Пруссии) говорили на диалектах польского языка. Прусское правительство, проводя политику «германизации» кашубов и мазуров, систематически отпускало специальные средства «для борьбы против польской опасности» в Мазурских землях и Вармии. Тем не менее кашубы и мазуры сохранили родной язык и свои обычаи. Более того, в 1880 – 1890-е гг. среди кашубов начался подъем польского национального движения, чему способствовали издававшиеся для них газеты и журналы, призывавшие кашубов к противодействию политике «германизации» (Рубинштейн Е.И. Указ. соч. С. 208, 209). Подъему национального движения кашубов содействовали и российские ученые. Еще в 1850-х гг. А.Ф. Гильфердинг опубликовал исследования, посвященные культуре и языку кашубов, а в 1890-е гг. Академия наук издала кашубскую грамматику и кашубский словарь (см.: Документы к истории славяноведения в России. М.; Л., 1948. С. VII, X).
(обратно)125
Согласно принятому по инициативе графа М.Н. Муравьева Положению 22 мая 1864 г., все коронные должности в Северо-Западном крае должны были замещаться русскими. По высочайшим повелениям 27 июня и 8 ноября 1869 г. и 25 декабря 1870 г. лица польского происхождения в крае не могли назначаться на должности по крестьянским учреждениям. Кроме того, для привлечения в край русских чиновников их наделили служебными привилегиями, согласно введенным в действие 13 июня 1886 г. «Правилам о преимуществах службы в отдаленных местностях, в Западных губерниях и Царстве Польском». Только 26 июня 1897 г. Николай II разрешил допускать поляков к должностям по казенной продаже вина, затем – по врачебной и фельдшерской части (Дякин В.С. Указ. соч. С. 265, 273). Вопрос об отмене служебных привилегий рассматривала образованная 7 апреля 1908 г. при Министерстве финансов Межведомственная комиссия под председательством С.Ф. Вебера для пересмотра Правил 13 июня 1886 г. Большинство членов комиссии выступили за отмену привилегий. На заседании Совета министров 13 января 1911 г. обсуждался вопрос о пересмотре Правил. Министры пришли к заключению о необходимости отмены служебных преимуществ в Киевской, Подольской, Архангельской, Вологодской и Черноморской губерниях и Терской области и сохранения их во всех остальных окраинных губерниях и областях (см.: Административные реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 347–348).
(обратно)126
Подразумеваются выборы, на которых избирались органы дворянского сословного самоуправления, начавшего формироваться по инициативе Екатерины II в связи с проведением выборов депутатов в Уложенную комиссию 1767–1768 гг. С изданием в 1785 г. Жалованной грамоты дворянству, когда в 39 губерниях Европейской России и в их уездах были созданы учреждения дворянского сословного самоуправления, существовали губернские и уездные предводители дворянства. Кандидатами на эти должности могли быть все дворяне, участвовавшие в губернском или уездном дворянском собрании, хотя бы и без права голоса. Выборы как в губернские, так и в уездные предводители производились в губернском дворянском собрании, но губернские избирались всем собранием («за губернским столом»), а уездные – своими уездами («уездными столами»). Предводители дворянства не только обслуживали дворянское общество губернии (или уезда) как самоуправляющуюся единицу, но и являлись органами общей администрации, а с 1864 г. – также земского самоуправления. Должности предводителей дворянства были упразднены после Октябрьской революции 1917 г.
(обратно)127
Уже в ходе Польского восстания 1863–1864 гг. по особым высочайшим повелениям дворянские выборы в Западных губерниях постепенно были отсрочены «впредь до особых распоряжений», вместе с тем вакантные должности губернских и уездных предводителей дворянства стали замещаться по назначению от правительства.
(обратно)128
На рубеже 1860 – 1870-х гг. в Западном крае правительство разрешало в виде исключения назначать на сословные должности «политически благонадежных» поляков (см.: Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. М., 1998. С. 207).
(обратно)129
Уездные съезды мировых посредников функционировали в 1861–1874 гг. и принимали жалобы на крестьянские сословные учреждения и органы надзора за ними, рассматривали и утверждали инструкции для руководства этими учреждениями. С упразднением в 1874 г. мировых посредников уездный съезд был преобразован в уездное по крестьянским делам присутствие.
(обратно)130
Земский участковый начальник – должность, появившаяся согласно Закону 12 июля 1889 г. и заменившая должность мирового посредника, соединив в одном лице административные и судебные функции. Главная задача земских начальников, которыми назначались местные дворяне, состояла в контролировании деятельности крестьянских сословных учреждений. В связи с этим земские начальники имели широкие полномочия по утверждению решений упомянутых учреждений, назначению и смещению служивших в них крестьян и налаганию наказаний на крестьянское население данного участка. Институт земских начальников был распространен на Западные губернии в 1899 г. (см.: Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. С. 213). Институт земских начальников упразднен по Постановлению Временного правительства 19 марта 1917 г.
(обратно)131
П.А. Столыпин учился в Виленской гимназии в 1874–1879 гг., но не окончил ее, поскольку по прошению своего отца выбыл из 6-го класса этой гимназии. Впоследствии, в 1881 г., окончил Орловскую классическую гимназию (см.: П.А. Столыпин. Биохроника. М., 2006. С. 11–12).
(обратно)132
Женой П.А. Столыпина была Ольга Борисовна Нейдгардт (Нейдгарт), с которой он сочетался браком летом 1884 г. (см.: П.А. Столыпин. Биохроника. С. 13).
(обратно)133
П.А. Столыпин жил в имении Колноберже в детстве, в 1862–1874 гг., а потом с 1889 г., когда был назначен ковенским уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского съезда мировых посредников (см.: П.А. Столыпин. Биохроника. С. 14).
(обратно)134
Имеется в виду Всероссийский национальный союз (ВНС) – политическая консервативно-либеральная организация (находилась правее Союза 17 октября и левее Союза русского народа), чей учредительный съезд состоялся 18 июня 1908 г. Председателем Союза избрали С.В. Рухлова, его заместителем – князя А.П. Урусова, который после назначения Рухлова министром путей сообщения исполнял обязанности председателя. Секретарем Союза являлся Н.О. Куплеваский, его лидерами были Н.О. фон Гюббенет, В.Г. Ветчинин, И.С. Дурново, Н.А. Ладомирский, А.А. Мотовилов. Идеологом Союза стал М.О. Меньшиков. В Уставе ВНС проводились идеи «господства русской народности в пределах России» и «упрочения русской государственности на началах самодержавной власти в единении с законодательным народным представительством». В январе 1910 г. в Союз вошла Умеренно-правая партия, лидер фракции которой в III Государственной думе, П.Н. Балашев, оказался и лидером (председателем) Союза в целом, а его соратники (граф В.А. Бобринский, П.Н. Крупенский, Л.В. Половцов, Д.Н. Чихачев, позднее В.В. Шульгин) заняли в нем ведущие позиции. Фракция националистов в Думе претендовала на то, чтобы быть правительственной фракцией, каковой она и являлась в действительности после того, как П.А. Столыпин переориентировался с октябристов на националистов. В марте 1911 г., во время кризиса, вызванного проведением Николаем II по рекомендации Столыпина Закона о введении земства в Западных губерниях по 87-й статье Основных государственных законов 1906 г., националисты явились единственной партией, оказавшей премьеру безусловную поддержку. После Февральской революции 1917 г. ВНС распался.
(обратно)135
Государственная дума – нижняя палата народного представительства Российской империи. Учреждение Думы произошло 6 августа 1905 г., с провозглашением Манифеста о создании такого органа, в просторечии называемого «Булыгинской Думой». Она никогда не собиралась, поскольку Манифестом 17 октября 1905 г. Николай II повелел правительству графа С.Ю. Витте подготовить проект преобразования законосовещательной Думы в законодательную. Манифестом 20 февраля 1906 г. император объявил о совершении этого преобразования.
(обратно)136
Государственный совет (новый, реформированный) – верхняя палата народного представительства Российской империи 1906–1917 гг. Реформа прежнего Государственного совета произошла 20 февраля 1906 г., когда Николай II подписал Манифест о преобразовании Государственного совета и новое «Учреждение Государственного совета». Государственный совет был выборным наполовину, а вторую половину назначал император.
(обратно)137
Земство – система местного общественного всесословного самоуправления, действовавшая на основании Земского положения 1890 г., изданного взамен Земского положения 1864 г. К началу Первой мировой войны земство функционировало в 43 губерниях Российской империи (из 94 губерний и областей, не включая сюда губернии Великого княжества Финляндского). Н.Н. Покровский имеет в виду утвержденный Николаем II 14 марта 1911 г. по инициативе П.А. Столыпина, в порядке 87-й статьи Основных государственных законов 1906 г., Закон «О распространении действия Положения о земских учреждениях на Витебскую, Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую губернии». Для обеспечения во вновь создаваемых земских учреждениях интересов русского населения, в противовес польскому, выборы в них базировались на куриальной системе, которая предусматривала деление избирательных собраний и съездов и некоторых уездных земских собраний, а также съездов кандидатов в гласные, избранных волостными сходами, на отдельные национальные, а не цензовые (как в остальных земствах) курии. Текст закона см.: П.А. Столыпин: Программа реформ: Документы и материалы: В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 357–365.
(обратно)138
Столыпин был назначен ковенским уездным предводителем дворянства 18 марта 1889 г., ковенским губернским – 24 апреля 1898 г.
(обратно)139
П.А. Столыпин в наследство от родителей получил 930 десятин земли в Пензенской губернии, 835 десятин в Ковенской губернии и 4845 десятин в Казанской губернии. Сам он приобрел 820 десятин в Нижегородской губернии (см.: П.А. Столыпин. Биохроника. С. 11).
(обратно)140
То есть председателем Совета министров.
(обратно)141
Ковенское общество сельского хозяйства было основано в 1900 г. и имело целью развитие и усовершенствование сельского хозяйства и его отдельных отраслей в Ковенской губернии. Занималось изучением потребностей аграрного сектора, распространяло теоретические и практические сведения путем организации лекций и издания ежемесячного журнала («Известия Ковенского общества сельского хозяйства») и брошюр, заботилось о выработке и применении правильных способов ведения хозяйства, устраивало выставки и выдавало поощрительные призы за успехи в сельскохозяйственной деятельности.
(обратно)142
В 1871 г. в Западном крае началась судебная реформа – с введения мировых судов, причем в отличие от российских губерний здесь мировые суды назначались в административном порядке из лиц «непольского происхождения». Для мировых судей Западного края снизили имущественный и образовательный ценз, что позволило расширить круг кандидатов на эту должность за счет прибывших в край русских землевладельцев. В 1883 г., в связи с распространением Судебных уставов 1864 г. на Западные губернии, учреждаются окружные суды в Вильне и Ковно, начинает действовать Виленская судебная палата в качестве апелляционной инстанции для Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской губерний. При этом предусматривалось, чтобы состав суда был исключительно русским, все судопроизводство и делопроизводство велось на русском языке, употребление польского языка в официальной переписке и присутственных местах запрещалось (см.: Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. С. 207, 208).
(обратно)143
Имеется в виду Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗИЗ) – центральное учреждение по проведению землеустройства, покровительству сельскому хозяйству и управлению государственными имуществами. Учреждено 6 мая 1905 г. в связи с проведением аграрной реформы и преобразованием Министерства земледелия и государственных имуществ. Переименовано в Министерство земледелия 26 октября 1915 г.
(обратно)144
Согласно принятым 25 декабря 1862 г. «Временным правилам» об устройстве полиции назначавшиеся губернаторами исправники возглавляли уездное полицейское управление, а приставы – полицию станов, на которые делились уезды. Обе должности упразднены в 1917 г.
(обратно)145
Должность полицейского урядника как ближайшего помощника станового пристава была создана Указом 9 июня 1878 г. Упразднена в 1917 г.
(обратно)146
Введенная 1 января 1874 г. всеобщая воинская повинность фактически не была всеобщей, поскольку свыше 50 % призывников освобождались по льготам: по семейному положению (единственные сыновья и кормильцы), по роду занятий (священнослужители, в мирное время – врачи, ветеринары, фармацевты, воспитатели и преподаватели). Для лиц с высшим и средним образованием срок действительной службы сокращался до 1–3 лет.
(обратно)147
На отчете за 1894 г. волынского губернатора Ф.Ф. Трепова, который высказался за введение в своей губернии «учреждений земских», Николай II написал: «Мне кажется, он прав. Представить разъяснения» (Свод высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1894 г. генерал-губернаторов, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. СПб., 1896. С. 109). Исполняя царскую волю, в 1896 г. министр внутренних дел И.Л. Горемыкин начал подготовку проекта введения Земского положения 1890 г. в Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Волынской, Киевской и Подольской губерниях, т. е. Западном и Юго-Западном краях. К 1898 г. под руководством И.Л. Горемыкина был разработан и проект введения земства в Архангельской, Астраханской, Оренбургской и Ставропольской губерниях. Однако против территориального распространения органов самоуправления выступил С.Ю. Витте, посчитав это угрозой самодержавию. Тем не менее преемнику И.Л. Горемыкина Д.С. Сипягину Николай II снова повелел «обратить особое внимание» на введение земства в Западных и окраинных губерниях. Проект Д.С. Сипягина 1901 г. предусматривал введение модифицированного, бюрократическо-общественного земства в тех же губерниях, что и проект И.Л. Горемыкина, на основе сочетания двух принципов – управления земскими делами правительственными учреждениями и привлечения к этому представителей местного населения, назначаемых министром внутренних дел (для губернского земства) и губернаторами (для уездного земства). Однако убийство Сипягина С.В. Балмашевым задержало воплощение его проекта. Новый руководитель Министерства внутренних дел В.К. Плеве несколько переработал проект Сипягина, выступив за постепенное, а не единовременное введение модифицированного земства только в Западном и Юго-Западном краях. Вместе с тем на заседании Государственного совета Плеве заявил о необходимости усовершенствовать Земское положение 1890 г. как не обеспечивавшее «правильного представительства в земских собраниях» и о возможности в близком будущем применить Положение 1890 г. на общем основании и к девяти Западным губерниям. Пока же 2 апреля 1903 г. Николай II утвердил Положение «Об управлении земским хозяйством в девяти Западных губерниях», которое в 1903 г. подлежало введению в трех губерниях – Витебской, Минской и Могилевской. Время распространения земства на остальные шесть губерний (Виленская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская и Подольская) поручалось определить министру внутренних дел (см.: Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 93 – 120). Позднее, 14 марта 1911 г., Николай II утвердил Закон «О распространении действия Положения о земских учреждениях 1890 г. на Витебскую, Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую губернии». Таким образом, вплоть до 1917 г. в трех Северо-Западных губерниях (Виленской, Гродненской и Ковенской) обычного земства не было.
(обратно)148
Имеется в виду налог, взимавшийся с землевладельцев для пополнения казны органов земского самоуправления.
(обратно)149
По-видимому, имеются в виду такие проявления стремления Чехии к независимости, как Гуситские войны 1419–1437 гг., Пражское «сословное» восстание 1547 г., движение «чешских братьев» 1602–1618 гг., восстание «чешских сословий» 1618–1620 гг., участие Чехии в революции 1848–1849 гг. и провозглашение в 1918 г., при распаде Австро-Венгрии, независимой республики Чехословакия.
(обратно)150
Подразумеваются два Познанских восстания: 1848 г., подавленное Пруссией, и 1918–1919 гг., после которого Познань вошла в состав Польского государства.
(обратно)151
В начале XX в. британские колониальные владения официально разделялись на три группы: 1) «коронные колонии», в которых корона имела право полного контроля над законодательством, причем управление вели чиновники от имени центрального правительства, 2) колонии, обладавшие представительными учреждениями, но без ответственного правительства, в которых корона имела право законодательного вето, а центральное правительство сохраняло контроль над государственными делами, и 3) «доминионы», т. е. колонии, обладающие представительными учреждениями и ответственным правительством, причем корона пользовалась там также правом законодательного вето, но центральное правительство не контролировало ни одного чиновника, за исключением генерал-губернатора. К числу колоний последней категории относились Канада, Австралия и Южно-Африканский союз, однако подобные колонии составляли меньшинство по сравнению с колониями двух первых категорий.
(обратно)152
В 1648 г. в результате Тридцатилетней войны Эльзас, являвшийся частью Священной Римской империи германской нации, вошел в состав Французского королевства. Франция сохранила за областями Эльзаса автономные права и не запрещала использовать эльзасский язык (диалект немецкого). Лишь после Великой французской революции 1789 г. там была упразднена автономия и введен в качестве общегосударственного французский язык. При этом офранцуживание Эльзаса происходило достаточно формально, и к 1871 г., когда Эльзас по итогам Франко-прусской войны вошел в состав Германской империи, значительное число эльзасцев по-прежнему говорили по-эльзасски. См.: Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. СПб., 1903. Т. 2. С. 444–448.
(обратно)153
Имеется в виду Первая мировая война.
(обратно)154
Подразумевается Англо-бурская война 1899–1902 гг. – война Британской империи против Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики), закончившаяся присоединением их к империи.
(обратно)155
Хотя после вхождения в Британскую колониальную империю Капская колония и Наталь (в Южной Африке) и получили статус доминионов (позднее они объединились в единый доминион – Южно-Африканский союз), но и здесь, отмечал Дж. Гобсон, «слабо привились формы и даже дух свободных британских учреждений», поскольку в них «огромное большинство населения всегда было лишено политических прав. Привилегии и права, им предоставляемые, – констатировал он, – останутся навсегда монополией белых в этих так называемых самоуправляющихся колониях, где цветное население относится к белым как 4 к 1 или 10 к 1» (Гобсон Дж. Империализм. М., 2010. С. 102).
(обратно)156
В действительности в Камеруне верховный вождь яунде Атангана, «полностью послушный германским властям», вместе со своим племенем воевал на стороне германской «охранной части» против англо-французского экспедиционного корпуса до начала 1916 г., когда из-за неравенства сил перешел, как и немецкие отряды, на территорию Испанской Гвинеи. В Германской Восточной Африке (Танзания и Танганьика) «охранная часть» в марте 1916 г. состояла из 12 100 африканцев и только 3007 европейцев, причем первоначально африканцы поступали в «охранную часть» добровольцами и только впоследствии становились наемниками (аскари). Благодаря поддержке местного населения «охранная часть» продолжала борьбу с англо-французскими войсками вплоть до окончания Первой мировой войны (см.: История германского колониализма в Африке. М., 1983. С. 227, 228–229).
(обратно)157
В Париже Н.Н. Покровский возглавлял русскую делегацию на Парижской экономической конференции представителей стран Антанты, проходившей в столице Франции 1–4 (14–17) июля 1916 г. В конференции участвовали делегации Бельгии, Великобритании, Италии, Португалии, России, Сербии, Франции и Японии. Заседания конференции были посвящены обсуждению проблем «экономической войны» Антанты со странами Германского блока и послевоенного мирового экономического устройства. Подробнее об этом см.: Бабичев Д.С. Россия на Парижской союзнической конференции 1916 г. по экономическим вопросам // Исторические записки. 1969. Т. 83. С. 38–57.
(обратно)158
Рейхстаг – парламент Германской империи (Второго и Третьего рейхов).
(обратно)159
В июне 1917 г. заседавший в Петрограде Литовский сейм провозгласил образование «независимого государства». В сентябре в Литве, которая к этому времени почти полностью была оккупирована Германией, создается «Литовский совет» во главе с А. Сметоной, издавший 16 февраля 1918 г. Акт независимости Литвы. Однако 16 декабря Литовский совет оказался низложенным Временным революционным рабоче-крестьянским правительством, провозгласившим установление советской власти. После этого 22 декабря Совнарком РСФСР признал независимость Литовской социалистической советской республики, которая в феврале 1919 г. объединилась с Белорусской социалистической советской республикой в Литовско-Белорусскую ССР. Между тем образованное также в Литве 26 декабря 1918 г. коалиционное буржуазное правительство М. Слежявичюса покинуло Вильнюс и бежало под защиту германских войск в Каунас. Итогом гражданской войны в Литве стало падение в августе 1919 г. советской власти, однако из-за противоречий с Польшей, пользовавшейся большей поддержкой Антанты, окончательное самоопределение Литвы последовало только 1 августа 1922 г., когда Учредительный сейм принял конституцию, провозгласившую Литву парламентарной республикой. Версальский мирный договор 1919 г., оформивший итоги Первой мировой войны, оставил за Германией большинство западных польских земель – Поморье, Силезию, Вармию и Мазурские земли. В состав воссозданной Польши не включили Гданьск с прилегающим к нему устьем Вислы. По результатам плебисцита 1921 г. Польше была передана лишь небольшая часть Верхней Силезии. Вопрос о присоединении к Польше Восточной Пруссии не поднимался вообще.
(обратно)160
Пункт 5 утвержденного Николаем II 1 мая 1905 г. Указа постановлял восстановить в девяти Западных губерниях производство дворянских выборов, предоставив министру внутренних дел разработать и внести в Государственный совет в возможно непродолжительном времени предположения, касающиеся дворянских собраний и установления пределов прав и обязанностей предводителей дворянства в этих губерниях (Указ 1 мая 1905 г. «Об отмене некоторых ограничительных постановлений, действующих в девяти Западных губерниях, и о порядке выполнения пункта седьмого Указа 12 декабря 1905 г. в отношении сих губерний» // Савич Г.Г. Указ. соч. С. 362). В Государственный совет было внесено представление Министерства внутренних дел о восстановлении выборности дворянских предводителей в Западном крае, с тем чтобы уездные предводители выполняли только сословные функции. По причине разногласий в соединенных департаментах Государственный совет 30 ноября 1905 г. решил, что данный вопрос нуждается в обсуждении в Государственной думе, и возвратил соответствующий законопроект в МВД. В 1908 г. Бюджетная комиссия III Государственной думы при рассмотрении сметы МВД снова подняла вопрос о восстановлении дворянских выборов в Западном крае, однако в своем докладе обусловила это ограждением интересов русских помещиков (Дякин В.С. Указ. соч. С. 270).
(обратно)161
Пункт 11 высочайше утвержденного 1 мая 1905 г. Положения Комитета министров предоставлял министрам и главным начальникам ведомств «без замедления и, во всяком случае, не позднее 6-ти месяцев» со дня утверждения этого Положения: 1) распорядиться об отмене стесняющих употребление местных языков в Западном крае и не основанных прямо на законе административных распоряжений и 2) если из числа стесняющих свободу пользования местным языком административных распоряжений окажутся такие, применение которых и впредь, «по соображениям государственного порядка», они признают необходимыми, испросить «соизволение» монарха на утверждение их через Государственный совет (Положение Комитета министров «О порядке выполнения пункта 7 именного Указа 12 декабря 1904 г. в отношении девяти Западных губерний» // Савич Г.Г. Указ. соч. С. 364). Согласно пункту 4 утвержденного Николаем II 27 марта 1906 г. Мнения Государственного совета в Ковенской губернии, во внутреннем делопроизводстве частных обществ для изложения протоколов и журналов заседаний, книг, документов и иных бумаг, на основании которых производился правительственными учреждениями и должностными лицами надзор за деятельностью этих обществ, допускалось употребление, наряду с русским языком, и языков, на которых говорило местное население, с тем чтобы перевод на местные языки излагался параллельно с русским текстом. В той же губернии при обсуждении вопросов в общих собраниях членов частных обществ и собраниях уполномоченных, а также в заседаниях правлений обществ разрешалось употребление, с разрешения общих собраний членов этих обществ, как русского, так и местных языков (Мнение Государственного совета «Об употреблении русского и местных языков в делопроизводстве частных обществ в губерниях Западного края» // Савич Г.Г. Указ. соч. С. 265).
(обратно)162
Городское самоуправление – система общественного всесословного самоуправления в городах, действовавшая на основании Городового положения 1892 г., заменившего Городовое положение 1870 г. Согласно Положению главным распорядительным органом городского самоуправления являлась городская дума, состоявшая из гласных, избиравшихся на основе высокого имущественного ценза. Главным исполнительным органом городского самоуправления была городская управа, возглавляемая городским головой, который вместе с членами управы избирался городской думой и утверждался министром внутренних дел (в обеих столицах – императором). К началу Первой мировой войны городское самоуправление существовало во всех городах и городских поселениях Российской империи, за исключением губерний Царства Польского и Великого княжества Финляндского и областей Туркестанского генерал-губернаторства (Закаспийская, Самаркандская, Сыр-Дарьинская и Ферганская области), а также Карсской области, городских поселений Геокчай и Сальяны Бакинской губернии и города Закаталы Закатальского округа (Закавказье). В Литве Городовое положение было введено в 1876 г., причем в отличие от российских городов городские головы Вильны и Ковно не избирались, а назначались губернаторами (см.: Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. С. 207).
(обратно)163
Характеризуя Н.Н. Покровского, его близкий друг В.Б. Лопухин писал: «По своей бабке Н.Н. имел родственников среди поляков, ценивших его и любивших. Благодаря этим связям и тому обстоятельству, что Н.Н. свободно говорил по-польски, хотя в польской помещичьей среде, принципиально избегавшей в неофициальных сношениях русский язык, можно было вполне заменить его французским, на котором поляки-помещики, как и Н.Н., изъяснялись в совершенстве, с Николаем Николаевичем, несмотря на то, что он был русский и притом русский бюрократ, поддерживали отношения и польские круги, оказывавшие ему заслуженное уважение» (Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 48).
(обратно)164
С началом Первой мировой войны возникли предпосылки для ликвидации правовых ограничений поляков в Западном крае, поскольку 2 сентября 1915 г. IV Государственная дума выдвинула законодательное предположение, подписанное 38 депутатами (среди них – Ф.И. Родичев, М.А. Караулов и даже… В.М. Пуришкевич), «Об отмене ограничений поляков, действующих как на всем пространстве Российской империи, так и в 9-ти губерниях Западного края». Реагируя на законопроект в октябре 1915 г., министры связывали решение вопроса об отмене ограничений поляков в Западных губерниях с послевоенной судьбой Польши. На состоявшихся 5, 7 и 15 февраля 1916 г. заседаниях Совещания при МВД под председательством товарища министра внутренних дел князя В.М. Волконского с участием высших чинов этого министерства данный вопрос подвергся детальной проработке. По результатам Совещания министр внутренних дел А.Н. Хвостов намеревался собрать под своим председательством новое Совещание с приглашением в него членов законодательных палат и «сведущих лиц», но его план не осуществился, поскольку 3 марта 1916 г. П.Н. Хвостов был заменен Б.В. Штюрмером. Тем не менее 5 марта, выступая в Думе, В.М. Волконский официально заявил, что МВД берет на себя разработку законопроекта об отмене ограничений поляков в Западном крае. Сам Б.В. Штюрмер считал несвоевременной отмену всех ограничений, однако последующие руководители МВД (А.А. Хвостов и А.Д. Протопопов) увязывали решение вопроса об отмене ограничений с будущим статусом Польши (Дякин В.С. Указ. соч. С. 263–275).
(обратно)165
Комитет министров – высший административный орган Российской империи. Учрежден 8 сентября 1802 г. для рассмотрения дел, требовавших взаимодействия нескольких министерств или превышавших компетенцию отдельных министров, а также дел по Военному ведомству, требовавших содействия разных министерств или затрагивавших правила по гражданскому управлению, и дел Великого княжества Финляндского, связанных с другими частями Империи. Комитет возглавлялся председателем, назначавшимся императором. Членами Комитета были министры и главноуправляющие, председатели департаментов Государственного совета и (с 1905 г.) его председатель, государственный секретарь, а также сановники, особо назначавшиеся императором. Канцелярия Комитета вела его делопроизводство (с 26 марта 1812 г.), подготавливая дела к рассмотрению в нем. Упразднен 23 апреля 1906 г. в связи с образованием объединенного правительства в виде Совета министров. Подробнее см.: Ремнев А.В. Самодержавное правительство. Комитет министров в системе высшего управления Российской империи (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2010.
(обратно)166
Для сравнения – в V классе находились должности вице-губернатора и вице-директора министерского департамента.
(обратно)167
Лицеисты – выпускники Императорского Александровского (до 1 января 1844 г. – Царскосельского) лицея. Открыт 19 октября 1811 г. в Царском Селе, с 1844 г. располагался в Петербурге. По воспоминаниям Н.С. Таганцева, одно время преподававшего в Лицее, в нем «выдвигались науки, так сказать, государственные: государственное право, международное право, политическая экономия, статистика», причем в Лицее «много было потомков старого дворянства, родовых». Особенностью лицеистов являлось то, что среди них «благодаря царскосельским традициям, воспоминаниям о Пушкине и его современниках процветала наклонность к поэзии». Лицеисты, как правило, поступали на службу в Министерство иностранных дел и в Министерство финансов (Таганцев Н.С. Пережитое. Пг., 1919. Вып. 2. С. 53). Закрыт после Февральской революции 1917 г.
(обратно)168
Правоведы – выпускники Императорского Училища правоведения. Основано в 1835 г. для повышения уровня судебных кадров и состояло при Министерстве юстиции. В Училище, по наблюдениям его профессора Н.С. Таганцева, «на первом плане стояли все чисто юридические предметы: римское право, гражданское и уголовное право и процесс». Основной контингент правоведов составляли «дети чиновников всех рангов и ведомств». По традиции правоведы увлекались музыкой, поскольку из Училища «вышли Серов, Чайковский». По окончании Училища правоведы шли преимущественно на службу по Министерству юстиции (Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 53). Закрыто после Октябрьской революции 1917 г. Подробнее о нем см.: Анненкова Э.А. Императорское Училище правоведения. СПб., 2006.
(обратно)169
Поскольку первое издание воспоминаний С.Ю. Витте вышло в свет в Берлине в 1922 г., а данная глава воспоминаний Н.Н. Покровского написана ранее, остается предположить, что приведенный отзыв Покровский слышал непосредственно от Витте.
(обратно)170
Подразумевается Великая Сибирская железная дорога (магистраль) (Транссибирская магистраль, Транссиб) – крупнейший в мире железнодорожный путь, соединивший Европейскую Россию (Петербург) с Дальним Востоком (Владивостоком). Строилась в 1891–1916 гг. под руководством Комитета Сибирской железной дороги (1892–1905), председателем которого являлся наследник-цесаревич Николай Александрович, с 1894 г. – император Николай II. В феврале 1893 г. А.Н. Куломзин стал управляющим делами Комитета (начальником его канцелярии), в марте 1893 г. возглавил также учрежденную при Комитете Подготовительную комиссию, занимавшуюся предварительным составлением смет на расходы по вспомогательным предприятиям Сибирской дороги.
(обратно)171
Государственная типография была учреждена указом Николая I от 22 сентября 1827 г. как Типография Второго отделения Собственной его императорского величества канцелярии. С 1882 г. именовалась Государственной типографией, функционировала при Государственном совете и находилась в ведении Государственной канцелярии.
(обратно)172
Имеется в виду Александр III.
(обратно)173
«Справочник по России для государственного деятеля» (англ.). Имеется в виду следующее издание: Statesman’s Handbook for Russia / Ed. by the Chancery of the Committee of Ministers. St. – Petersburg, 1896. Vol. I–II (цензурное разрешение – 28 февраля 1895 г.).
(обратно)174
То есть перерыв в деятельности Комитета министров, члены которого уходили на «летние каникулы».
(обратно)175
Государственная канцелярия – центральное учреждение, ведавшее делопроизводством Государственного совета и созданное одновременно с ним 1 января 1810 г. С 1893 г. ведала также кодификацией. Упразднена в 1917 г.
(обратно)176
О деятельности Н.Х. Бунге см.: Степанов В.Л. Н.Х. Бунге. Судьба реформатора. М., 1998.
(обратно)177
По-видимому, при выступлениях в Комитете министров и Государственном совете.
(обратно)178
Имеется в виду введение в России золотого денежного обращения, последовавшее согласно Указу 29 августа 1897 г., причем эта реформа стала результатом деятельности не только С.Ю. Витте, но и его предшественников на посту министра финансов, прежде всего – Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского. В результате реформы золотое содержание рубля было уменьшено на одну треть, а кредитный рубль приравнен к 66 2/3 коп. золота. Отныне Государственный банк являлся эмиссионным учреждением, имея право выпускать не обеспеченные золотом кредитные билеты не более чем на сумму в 300 000 000 руб. Все кредитные билеты, выпускавшиеся в обращение сверх этой суммы, подлежали обеспечению золотом рубль за рубль, а потому Государственный банк жестко обязывался постоянно поддерживать на должном уровне золотой запас Российской империи.
(обратно)179
Государственный промысловый налог – налог на промышленность и торговлю, который регулировался Положением 9 февраля 1865 г. «О пошлинах за право торговли и промыслов». Оно предусматривало обложение предприятий по чисто внешним признакам, независимо от размера вложенных в них капиталов и получаемой чистой прибыли. Принятыми по предложению Н.Х. Бунге законами 5 июня 1884 г. и 15 января 1885 г., а также законами 18 января 1889 г. и 21 декабря 1892 г. Положение 1865 г. дополнялось и изменялось, постепенно совершенствуясь по направлению к замене лежавшей в основе промыслового налога раскладочной системы, когда заранее установленная сумма разверстывается между плательщиками в абсолютных цифрах, на более справедливую окладную систему, когда устанавливается процент, взимаемый с каждой окладной единицы.
(обратно)180
Подушная подать была введена в 1718 г. Отменена рядом законов, изданных по инициативе Н.Х. Бунге: 18 мая 1882 г., 14 мая 1883 г. и 28 мая 1885 г.
(обратно)181
Начало рабочему законодательству положил закон 1 июня 1882 г., согласно которому труд детей и подростков подвергся регламентации, а для наблюдения за исполнением этого закона была создана Фабричная инспекция при Департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов. 12 июня 1884 г. Александр III утвердил закон, возложивший строительство школ для малолетних рабочих за счет земств на Фабричную инспекцию, причем предприниматели обязывались «не препятствовать малолетним учиться». Император утвердил также 3 июня 1885 г. закон о запрете ночного труда малолетних и женщин, а 3 июня 1886 г. – закон, упорядочивший взаимоотношения рабочих и работодателей.
(обратно)182
Этому способствовало последовавшее 21 февраля 1884 г. предоставление Министерству финансов права учреждать сберегательные кассы при губернских и уездных казначействах, а также отделения касс во всех городах, пригородах, крупных торгово-промышленных и земледельческих поселениях. Ранее, 25 января 1883 г., был утвержден Устав сельских ссудо-сберегательных касс, облегчивший их открытие там, где открытие ссудо-сберегательных товариществ наталкивалось на затруднения.
(обратно)183
наедине (фр.).
(обратно)184
Соображения по вопросу о неотчуждаемости надельной земли, стр. 18–19.
(обратно)185
Государственный совет (старый, дореформенный) – высшее законосовещательное учреждение Российской империи, созданное 1 января 1810 г. В ведении Государственного совета находились все вопросы, требовавшие издания нового закона, устава или учреждения, отмены, ограничения, дополнения или пояснения прежних узаконений; общие распоряжения по исполнению существовавших законов, уставов и учреждений; принятие общих внутриполитических мер в случае чрезвычайных обстоятельств, объявление войны и другие важнейшие внешнеполитические меры. Государственный совет возглавлялся председателем, назначавшимся императором, который также назначал и его членов. Состоял из Общего собрания, Департамента законов, Департамента гражданских и духовных дел, Департамента государственной экономии, Департамента промышленности, наук и торговли (с 1900 г.) и Особого присутствия для предварительного рассмотрения жалоб на определения департаментов Сената (с 1890 г.). В Государственном совете дела рассматривались первоначально в одном из департаментов или в соединенном собрании двух департаментов (Законов и Экономии), затем поступали в Общее собрание, куда дела могли вноситься и непосредственно. При Государственном совете неоднократно создавались особые совещания, комитеты и присутствия. Делопроизводством Государственного совета и его структурных частей ведала Государственная канцелярия. Преобразован в верхнюю палату российского парламента 20 февраля 1906 г.
(обратно)186
Соображения члена Государственного совета Н.Х. Бунге по вопросу о неотчуждении крестьянской надельной земли. СПб., 1893. С. 18–19.
(обратно)187
Подразумевается русско-французский союз, основы которого заложил Александр III, утвердивший 28 июля 1891 г. текст соответствующего соглашения, дополненного в декабре 1893 г. военной конвенцией между Россией и Францией.
(обратно)188
Действительно, незадолго до смерти Александр III специально для ускорения свадьбы сына повелел вызвать его будущую супругу в Ливадию (см.: Кривенко В.С. В Министерстве Двора: Воспоминания. СПб., 2006. С. 236).
(обратно)189
Свадьба Николая II и Александры Федоровны состоялась в Соборной церкви Зимнего дворца 14 ноября 1894 г.
(обратно)190
Погребение Александра III в Петропавловском соборе было совершено 7 ноября 1894 г.
(обратно)191
А.К. Кривошеин получил отставку 17 декабря 1894 г., но еще 15 декабря член Государственного совета А.А. Половцов записал в дневнике, что «дело было так: государственный контролер Филиппов представил государю доклад о произведенном по его распоряжению следствии относительно злоупотреблений, допущенных Кривошеиным при поставке из своего собственного имения шпал на Либаво-Роменскую дорогу. Следствие, как слышно, было подкреплено данными, добытыми через прокурорский надзор и представленными министром юстиции Муравьевым. Был вызван в Царское Село Бунге, в качестве председателя Комитета министров долженствовавший сообщить о рассматривавшемся там отчете государственного контролера. Результатом общего всех сих лиц обсуждения было поручение от государя Бунге приказать Ренненкампфу (управляющему Собственною Его императорского величества канцелярией) объявить Кривошеину, чтобы он подал в отставку. Что и было исполнено» (Половцов А.А. Дневник. 1893–1909. СПб., 2014. С. 116–117).
(обратно)192
Департамент Министерства народного просвещения – основной орган управления делами Министерства народного просвещения, существовавший с 7 января 1803 по 9 июня 1917 г. В компетенцию Департамента входили заведование учеными и учебными заведениями (за исключением заведений, находившихся в ведении других министерств и главных управлений), учреждение, устройство и управление казенными учебными и научными учреждениями, обеспечение их кадрами преподавателей и учебными пособиями, наблюдение за разработкой методики и программы обучения, подготовка домашних учителей, заведование частными учеными обществами, надзор за частными учебными заведениями и пансионами, руководство библиотеками и музеями. Возглавлялся директором, который назначался императором.
(обратно)193
Слова Иисуса Христа (Матф. 23: 24) о людях, совестливых в мелочах и бессовестных в главном.
(обратно)194
С.Ю. Витте в письме Николаю II в октябре 1898 г. по поводу решения монарха образовать Совещание для упорядочения крестьянского дела и Подготовительной комиссии при ней описывал позицию К.П. Победоносцева иначе: «Раб, сознавая, что улучшение его и бытия его ближних неосуществимо, каменеет. Свобода воскрешает в нем человека. Но недостаточно освободить его от рабовладетеля – необходимо еще освободить его от рабства произволу, дать ему законность, а следовательно, и сознание законности, и просветить его. Необходимо, по выражению К.П. Победоносцева, сделать из него “person’у”, ибо он теперь “полуpersona”. Все сие не сделано или почти не сделано». Показательно также, что в будущее Совещание С.Ю. Витте предлагал пригласить таких «просвещенных и умудренных государственным опытом сановников», как… Победоносцев (Из архива С.Ю. Витте: Воспоминания: В 2 т. СПб., 2003. Т. 2. С. 539, 541).
(обратно)195
Инициатором создания церковно-приходских школ являлся митрополит Киевский Исидор, который в 1859 г. с одобрения Св. Синода организовал первые такие школы в своей епархии. Вскоре движение по их увеличению распространилось и на другие епархии. 13 августа 1884 г. по инициативе К.П. Победоносцева Александр III утвердил Правила о церковно-приходских школах и школах грамоты, которые отныне переходили в ведение Синода и с 1885 г. подчинялись его Училищному совету (Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений пореформенной России. 1856–1904 гг. СПб., 2006. С. 222–238). С.Ю. Витте оказывал активное содействие развитию сети церковно-приходских школ, потому что хотел иметь (и благодаря этому имел) в К.П. Победоносцеве влиятельного союзника. За время пребывания С.Ю. Витте на посту министра финансов государственные субсидии церковно-приходским школам увеличились почти в 60 раз (см.: Бан Ил Квон. К.П. Победоносцев и распространение церковно-приходских школ в 1884–1904 гг. Дисс… канд. ист. наук. СПб., 2000).
(обратно)196
Руководство сетью церковно-приходских школ осуществлял Училищный совет – подразделение в составе Синода, существовавшее в 1885–1917 гг.
(обратно)197
Первой попыткой формулирования реформаторского проекта Николая II стало предисловие к «Своду высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1894 г. генерал-губернаторов, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников» (СПб., 1896). «В области экономической» этот документ выдвигал на первое место необходимость «улучшения техники сельского хозяйства и развития различных его отраслей», «упорядочение поземельных отношений», решение вопроса «об упразднении чересполосности и сервитутов» и «переселенческое дело», т. е. всеобъемлющую аграрную реформу. «В сфере промышленности» предисловие делало акцент на «состоянии кустарного производства и других видов промышленности, добывающей и обрабатывающей» и подразумевало «улучшение путей сообщения, почт и телеграфов». Речь, иными словами, шла о содействии превращению России в промышленную державу. Не менее важными направлениями в предисловии признавались осуществление «мер борьбы против стихийных бедствий» и улучшение «народного продовольствия, пожарного дела, врачебной и ветеринарной части и организации общественного призрения», т. е. меры социальной политики. «В области духовной жизни народа, – подчеркивалось в предисловии, – высочайшие резолюции имели предметом: во-первых, нужды Православной церкви, в особенности церковностроительного дела на окраинах. Затем наибольшее внимание Вашего величества, как и в отчетах за 1893 год, – устанавливалась преемственность между старым и новым царствованием, – обращено было на заявления местных начальств о поступательном ходе различных отраслей народного образования: начального, среднего, сельскохозяйственного, технического и т. д., причем ревнители истинного просвещения удостоились, по засвидетельствованию о том во всеподданнейших отчетах, всемилостивейшего Вашего императорского величества одобрения и поощрения». По поводу «администрации, суда и общественного самоуправления» в предисловии указывалось «на некоторые недостатки в организации местных учреждений», «на порядок взимания податей», «на благоприятные результаты трудов земских начальников», «на заботы земств и городских общественных управлений об улучшении сельского хозяйства, охранении народного здравия и распространении грамотности» (С. I–IV). Здесь, очевидно, подразумевалось реформирование местного управления и самоуправления. Таким образом, редакция этого первого программного документа отличалась крайней осторожностью, но он содержал основные положения реформаторского проекта Николая II, воплощавшиеся им впоследствии.
(обратно)198
Императорское Вольное экономическое общество к поощрению земледелия и домостроительства – первое в России экономическое общество, основанное Екатериной II в 1765 г. Общество курировало долговременные научные и практические работы, проводило анкетные обследования и конкурсы по политэкономическим и прикладным сельскохозяйственным проблемам, занималось развитием сельскохозяйственного образования, выставочной и издательской деятельностью. Просуществовало до 1919 г.
(обратно)199
Министерство земледелия и государственных имуществ – центральное учреждение по покровительству сельскому хозяйству и управлению государственными имуществами, учрежденное 21 марта 1894 г. на основе Министерства государственных имуществ. Преобразовано в Главное управление землеустройства и земледелия 6 мая 1905 г.
(обратно)200
В России существовали Московский комитет для всенародного распространения грамотности на религиозно-нравственном основании и Санкт-Петербургский комитет грамотности, созданные соответственно в 1845 и 1861 гг. при Императорском (до 1905 г.) Московском обществе сельского хозяйства и при Отделении политической экономии и сельскохозяйственной статистики Вольного экономического общества. Оба комитета состояли в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ и занимались изданием и рассылкой книг для народа, устройством библиотек, читален, книжных складов, воскресных школ, подготовкой учителей и т. п. После 1885 г., когда руководящие позиции в Петербургском комитете заняли представители оппозиционно настроенной интеллигенции, правительство признало направление его деятельности вредным. В 1896 г. комитеты были преобразованы в Московское и Петербургское общества грамотности при Министерстве народного просвещения.
(обратно)201
То есть в Министерство народного просвещения.
(обратно)202
В марте 1895 г. в Комитете министров должен был рассматриваться вопрос о передаче комитетов в ведение Министерства народного просвещения. Н.Х. Бунге воспользовался удобным моментом и во всеподданнейшем докладе от 6 марта указал Николаю II на несовершенство правил, регулирующих деятельность этих учреждений, и предложил исправить указанный недостаток до заседания Комитета министров. Получив одобрение императора, Бунге заручился также поддержкой президента Императорской Академии наук великого князя Константина Константиновича. Во всеподданнейшем докладе от 20 марта Бунге отметил стремление представителей всех сословий к участию в распространении грамотности среди населения. По его мнению, чтобы избежать нежелательной радикализации просветительного движения, правительство должно взять дело просвещения в свои руки, не отказываясь вместе с тем от содействия частных лиц в установленных законом пределах. Бунге рекомендовал с этой целью учредить специальное общество, привлечь в него лучшие педагогические силы и возложить руководство обществом на особу Императорской фамилии, имея в виду Константина Константиновича. Николай II распорядился обсудить поднятый вопрос в Комитете министров в присутствии великого князя, в связи с чем комиссия под председательством А.Н. Куломзина по указаниям Бунге подготовила проект Устава Российского общества ревнителей просвещения народа под председательством Константина Константиновича. Общество должно было подчиняться Министерству народного просвещения и управляться Центральным комитетом в Петербурге, на местах учреждались губернские, городские и уездные комитеты. В проекте определялись функции общества: 1) содействие в создании народных школ, устройстве библиотек, читален, школьных музеев, воскресных и вечерних курсов; 2) помощь школам книгами и учебными пособиями, финансовая поддержка в случае неурожаев, эпидемий, пожаров и других стихийных бедствий; 3) содействие учащимся в продолжении образования, улучшение их материального положения; 4) издание учебников и книг для народа, рассылка их в школы, училища, библиотеки, читальни, тюрьмы, больницы. Для обсуждения проекта в начале апреля 1895 г. было образовано совещание в составе представителей Синода, министерств народного просвещения, внутренних дел и земледелия и государственных имуществ. Устав удостоился единогласного одобрения, и 25 апреля Николай II утвердил доклад Константина Константиновича о решении совещания. На следующий день Бунге проинформировал об этом членов Комитета министров и вручил им печатные экземпляры проекта. Однако к предлагаемому преобразованию отнеслись негативно обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев и министр внутренних дел И.Н. Дурново. Вечером «встревоженный и испуганный» обер-прокурор явился к Константину Константиновичу с экземпляром устава в руках и настойчиво убеждал его «не поддаваться» «революционным или, по крайней мере, ненадежным элементам» в комитетах грамотности. Великий князь рассказал об этом инциденте Николаю II, который, снисходительно улыбаясь, ответил: «Победоносцев всего боится». Однако 28 апреля обер-прокурор отправился к императору для доклада по своему ведомству и сумел переубедить его. В тот же день Николай II отправил Бунге письмо с пожеланием перенести обсуждение устава на осень. При этом он ссылался на свою неопытность в государственных делах и необходимость осторожности в столь важном вопросе. «Очевидно, Победоносцев запугал государя, – предполагал Константин Константинович, – без сомнения, решение собранной у меня комиссии не требовать Уставом обязательного избрания в Главный и другие советы представителей от правительства и от духовенства было доложено Победоносцевым государю как поползновение отделаться от правительственного надзора, или как-нибудь в этом роде». Тогда Бунге 3 мая во всеподданнейшей записке предложил поручить попечителям Петербургского и Московского учебных округов собрать сведения о деятельности комитетов грамотности с целью развеять сомнения в их «благонадежности» и осенью при обсуждении Устава представить подробный отчет Комитету министров. Однако 3 июня 1895 г. Бунге скончался. Правда, Константин Константинович в октябре 1895 г. собирался продолжить дело Бунге и обсудить устав Российского общества ревнителей просвещения народа в Комитете министров. Однако обер-прокурор во время визита к великому князю постарался «объяснить, в какое опасное дело хотят завлечь его, и какое будет его ложное положение посреди этой смешанной и беспорядочной толпы так называемых ревнителей». Тогда Константин Константинович запросил мнение министра финансов С.Ю. Витте и нового министра внутренних дел И.Л. Горемыкина, которые согласились с Победоносцевым, и Константин Константинович отказался от своих намерений. Позднее, 17 ноября 1895 г., Николай II одобрил постановление Комитета министров о передаче комитетов грамотности в ведение Министерства народного просвещения. 12 марта 1896 г. И.Д. Делянов утвердил Устав Петербургского и Московского обществ грамотности, которые, вопреки замыслу Бунге, имели бюрократический характер (см.: Степанов В.Л. Самодержец на распутье: Николай II между К.П. Победоносцевым и Н.Х. Бунге // Власть, общество и реформы в России в XIX – начале XX в.: исследования, историография, источники. СПб., 2009. С. 159–163).
(обратно)203
Золотую медаль в память освобождения помещичьих крестьян Н.Х. Бунге получил 21 апреля 1861 г.
(обратно)204
Имеется в виду пост губернского предводителя дворянства.
(обратно)205
А.Н. Куломзин был уволен с должности управляющего делами Комитета министров 28 декабря 1902 г. с назначением членом Государственного совета и оставлением статс-секретарем Его величества, членом Комитета Сибирской железной дороги и управляющим его делами.
(обратно)206
Департамент государственной экономии – учреждение в составе Государственного совета, существовавшее с 1 января 1810 г. по 24 апреля 1906 г. и занимавшееся предварительным рассмотрением, до внесения в его Общее собрание, законопроектов по финансовым и торгово-промышленным вопросам, а также по вопросам народного просвещения. С 1 января 1900 г., в связи с образованием Департамента промышленности, наук и торговли, рассматривал только финансовые законопроекты. Председатель Департамента ежегодно назначался императором, назначавшим и его членов, которых полагалось иметь не менее трех.
(обратно)207
Государственный секретарь – начальник Государственной канцелярии, имевший статус, равный министерскому (должность 2-го класса).
(обратно)208
Государственный контролер – начальник Государственного контроля, по своему статусу также равный министру (должность 2-го класса).
(обратно)209
Посолонь (буквально: по солнцу) – направление движения молящихся во время крестного хода, совершается по ходу часовой стрелки.
(обратно)210
С февраля 1905 г. Д.М. Сольский по повелению Николая II руководил подготовкой всех реформ, нацеленных на преобразование государственного строя Российской империи, прежде всего – на создание народного представительства и объединенного правительства, на реформирование Государственного совета и подготовку новых Основных государственных законов. Подробнее см.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция. СПб., 1991.
(обратно)211
Граф Д.М. Сольский был назначен председателем Государственного совета 24 августа 1905 г., 1 января 1906 г. утвержден в этой должности «впредь до осуществления предстоящего преобразования Совета», 9 мая того же года уволен от председательствования в нем.
(обратно)212
Департамент железнодорожных дел – подразделение в составе Министерства финансов, созданное по инициативе С.Ю. Витте 8 марта 1889 г. Заведовал железнодорожным тарифным делом и вообще всеми делами по железнодорожной части, подлежащими ведению этого Министерства.
(обратно)213
В действительности С.Ю. Витте, назначенный 9 июня 1874 г. сверхштатным чиновником Департамента общих дел Министерства путей сообщения, одновременно служил в управлении казенной Одесской железной дороги, где прошел должности конторщика грузовой службы, помощника машиниста, начальника станции, контролера движения, заведующего конторой движения и помощника начальника эксплуатации дороги. Пребывание на этих должностях было необходимо для приобретения Витте служебного ценза (он окончил физико-математический факультет Новороссийского (Одесского) университета, а не Институт инженеров путей сообщения), и потому каждая из них была для него синекурой.
(обратно)214
Действительный статский советник – гражданский чин 4-го класса, эквивалентный военному чину генерал-майора. Этот чин С.Ю. Витте получил от Александра III 10 марта 1889 г., имея ранее чин титулярного советника (9-го класса), т. е. «перескочив» сразу через четыре чина.
(обратно)215
Орденом Св. Станислава 1-й степени С.Ю. Витте был награжден 30 августа 1890 г. До этого он уже имел германский, сербский и греческий ордена.
(обратно)216
С.Ю. Витте 15 февраля 1892 г. был назначен министром путей сообщения не сразу, а на пост «управляющего Министерством путей сообщения», что являлось своего рода кандидатским стажем. Точно так же и в случае с Министерством финансов он 30 августа 1892 г. становится «управляющим» этим министерством и только 1 января 1893 г. утверждается в должности министра финансов.
(обратно)217
Главное общество российских железных дорог – учрежденное в 1857 г. крупнейшее русско-французское акционерное общество, занимавшееся строительством железных дорог в России. Планировало построить Петербургско-Варшавскую, Московско-Нижегородскую, Московско-Феодосийскую и Курско-Либавскую железные дороги, имевшие как стратегическое, так и экономическое значение. Из-за финансового кризиса в Западной Европе общество не смогло справиться со своей первоначальной целью, а потому было преобразовано в 1861 г., получив новый Устав, по которому оно освобождалось от строительства двух последних железных дорог. В 1862 г. общество получило в аренду Николаевскую железную дорогу, однако и после этого, а также постройки и начала эксплуатации Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог оставалось должником казны, выкупившей в 1894 г. все принадлежавшие обществу линии.
(обратно)218
Общество Юго-Западных железных дорог – акционерное железнодорожное общество, созданное в 1878 г. и объединившее Одесскую, Харьковско-Николаевскую, Фастовскую, Киево-Брестскую и Брестско-Граевскую железные дороги. Наряду с Главным обществом российских железных дорог являлось одним из крупнейших акционерных обществ такого рода. В 1894 г. было куплено казной.
(обратно)219
Имеется в виду так называемая винная монополия, закрепляющая за государством право продажи крепких спиртных напитков. По инициативе С.Ю. Витте в целях увеличения государственных доходов согласно закону 6 июня 1894 г. вводилась с 1 января 1895 г. в Оренбургской, Пермской, Самарской и Уфимской губерниях. К началу XX в. охватывала 75 губерний. Винная монополия распространялась на очистку спирта и розничную и оптовую торговлю спиртными напитками и находилась в ведении Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства финансов и местных органов Главного управления. Со временем оказалась одной из главных статей доходного бюджета Российской империи.
(обратно)220
Обострение вопроса о «пьяном бюджете» стало одной из причин увольнения В.Н. Коковцова с постов председателя Совета министров и министра финансов, чему предшествовало происходившее 10 января 1914 г. обсуждение в Государственном совете подготовленного Министерством финансов по настоянию IV Государственной думы законопроекта «Об изменении и дополнении некоторых статей Свода законов относительно продажи спиртных напитков». Хотя Коковцов представлял эту меру как «закон о борьбе с пьянством», однако С.Ю. Витте, автор винной монополии, атаковал премьера в верхней палате, объявив, что «монополька» задумывалась как способ ограничения пьянства, а Коковцов-де превратил ее в «Мефистофеля-искусителя» (см.: Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. Разложение третьеиюньской системы. Л., 1988. С. 172–173).
(обратно)221
Со вступлением России в Первую мировую войну для предотвращения беспорядков во время сбора призывников и отправки их на фронт последовало временное запрещение продажи спиртных напитков. Согласно Особому журналу Совета министров от 9 августа 1914 г. «По вопросу о разрешении торговли спиртными напитками», с 16 августа разрешалась торговля только виноградными винами и денатурированным спиртом «с соблюдением указанных в Особом журнале ограничений». Тем же порядком до 1 сентября 1914 г. продлевалось воспрещение продажи на вынос всех прочих крепких напитков. По результатам обсуждения вопроса о сухом законе 22 августа последовало повеление Николая II «О продлении воспрещения продажи спирта, вина и водочных изделий для местного потребления в Империи до окончания военного времени». 27 сентября 1914 г. царь утвердил Положение Совета министров «О сроках прекращения торговли крепкими напитками по ходатайствам о том сельских и городских общественных управлений» (Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени: В 2 т. Пг., 1915. Т. 1. С. 170–171, 238–239). См. также: Мак-Ки А. Сухой закон в годы Первой мировой войны: причины, концепция и последствия введения сухого закона в России 1914–1917 гг. // Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 147–159.
(обратно)222
Новое Положение о государственном промысловом налоге было подготовлено Министерством финансов под руководством С.Ю. Витте, рассмотрено в Государственном совете, утверждено Николаем II 8 июня 1898 г. и введено в действие с 1 января 1899 г. Согласно Положению, обложению промысловым налогом подлежали: 1) торговые предприятия, в т. ч. кредитные и страховые, торговое посредничество, подряды и поставки, 2) промышленные предприятия, 3) личные промысловые занятия. Промысловый налог распадался на основной и дополнительный. Основной налог, патентный сбор, уплачивался предприятиями при выборке промысловых свидетельств (патентов), причем размер оклада определялся в зависимости от размера предприятия, а не от социального положения его владельца (принадлежность к той или иной купеческой гильдии), как это наблюдалось ранее. Для определения размера основного налога местности Российской империи делились на 4 класса (Петербург и Москва находились вне классов), торговые предприятия – на 5 разрядов, промышленные предприятия – на 8 разрядов. Дополнительный налог с предприятий, не обязанных публичной отчетностью, разделялся на раскладочный и процентный сбор с прибыли (из расчета некой средней прибыли для разных типов предприятий) и взимался со всех предприятий, подлежавших основному налогу, а также с личных промысловых занятий (с экспедиторов на таможнях, не содержавших особых контор, и приказчиков, с биржевых маклеров и биржевых нотариусов). Дополнительный налог с предприятий, обязанных публичной отчетностью (акционерные компании), разделялся на налог с капитала и процентный сбор с прибыли, который взимался только в случае, если она превышала 3 % на основной капитал, и устанавливался на началах умеренной прогрессивности.
(обратно)223
Круговая порука – социально-экономический институт, который был установлен в связи с реформой 1861 г. и подразумевал солидарную ответственность крестьянской общины при внесении крестьянами прямых (окладных) налогов государству. В конце 1896 г., исполняя повеление Николая II, С.Ю. Витте и министр внутренних дел И.Л. Горемыкин начали готовить законопроект о частичной отмене круговой поруки, официальной целью которого объявлялось улучшение порядка взимания с крестьян податей и сборов. С.Ю. Витте настаивал, чтобы согласно новому порядку их взимание перешло от полицейских чинов к податным инспекторам, т. е. органам Министерства финансов, И.Л. Горемыкин же планировал передать эту функцию земским начальникам. Подготовка законопроекта была завершена к весне 1899 г., когда он поступил на рассмотрение Государственного совета, большинство которого встало на сторону министра финансов. Министр внутренних дел остался при своем мнении, однако компромисса в этом деле обе стороны достигли благодаря вмешательству председателя Департамента государственной экономии Д.М. Сольского. «Временные правила о порядке взыскания окладных сборов», утвержденные Николаем II 23 июня 1899 г., установили двойное подчинение крестьян – земскому начальнику и податному инспектору, а также отменили круговую поруку для крестьян в мелких селениях (с числом ревизских душ до 60) и для подворных владельцев. Через год, 12 июня 1900 г., царь утвердил «Временные правила по обеспечению продовольственных потребностей сельских обывателей», упразднившие круговую поруку при уплате продовольственных сборов. В апреле 1902 г. законопроект о полной отмене круговой поруки рассматривался в Государственном совете, на заседании Соединенных департаментов которого С.Ю. Витте заявил 25 апреля, что намечаемая реформа «не подрывает» общинного землевладения, чем содействовал объединению противников и сторонников общины, подписавших соответствующий журнал Соединенных департаментов. Николай II поддержал реформу и Манифестом 26 февраля 1903 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» повелел «принять безотлагательно меры к отмене стеснительной для крестьян круговой поруки». Решение Соединенных департаментов было одобрено Общим собранием Государственного совета 10 марта 1903 г. и 12 марта утверждено царем. Подробнее об этом см.: Симонова М.С. Отмена круговой поруки // Исторические записки. 1969. Т. 83. С. 159–195.
(обратно)224
Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг.
(обратно)225
Вопрос о пересмотре законодательства о крестьянах поставил на повестку дня не С.Ю. Витте, а Николай II, который на отчете государственного контролера Т.И. Филиппова за 1896 г. против слов о том, что «платежные силы сельского населения находятся в чрезвычайном напряжении», написал: «Мне то же кажется». В апреле – мае 1898 г. Комитет министров рассматривал отчет Т.И. Филиппова и, реагируя на царскую резолюцию, поддержал предложение С.Ю. Витте об образовании Особой комиссии по крестьянскому вопросу. Царь повелел «оставить ныне» соответствующий журнал Комитета «без движения» и испросить его председателю И.Н. Дурново «высочайших указаний относительно дальнейшего направления этого дела» осенью 1898 г. (Из архива С.Ю. Витте: Воспоминания: В 2 т. СПб., 2003. Т. 2. С. 535–536). Решение Николая II не означало, что он не согласен с предложением С.Ю. Витте, поскольку уже в декабре 1898 г. монарх утвердил отчетный доклад министра финансов, в котором упоминалось «о необходимости урегулировать положение крестьян», и сделал на полях отметку «о полном согласии со взглядами, высказанными относительно крестьянского дела». С образованием Особой комиссии царь, однако, полагал необходимым «повременить», поскольку, как выражал его точку зрения член Государственного совета А.А. Половцов, «множество возбужденных вопросов волнует ныне общество» (Половцов А.А. Указ. соч. С. 224). Николай II имел в виду студенческие волнения 1899 г., отвлекшие его от аграрной реформы. Либеральный корреспондент императора А.А. Клопов напоминал августейшему адресату 12 января 1902 г., что в 1899 г. он предполагал «образовать нечто вроде Главного комитета предшествовавшей реформы 19 февраля [1861 г.]» и «всей душой» отдался «этому делу, но затем возникшие студенческие волнения отодвинули этот вопрос на 3 года» (цит. по: Тайный советник императора / Сост. В.М. Крылов, Н.А. Малеванов и В.И. Травин. СПб., 2002. С. 64).
(обратно)226
Имеется в виду образованное Николаем II 23 января 1902 г. под председательством С.Ю. Витте Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Особое совещание ограничилось обсуждением проблем сельского хозяйства, так и не подготовив ни одного реального законопроекта для его подъема. См.: Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне Первой российской революции. М., 1987. С. 10–39, 90 – 217.
(обратно)227
Закрытие Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности В.И. Гурко объяснял тем, что под влиянием директора Департамента полиции А.А. Лопухина, находившегося в очень тревожном настроении по поводу назревавших аграрных беспорядков, С.Ю. Витте 23 марта заявил на заседании совещания: «Не пройдет и года, как мы в этом зале или в каком-либо ином будем говорить о переделе земли». Фраза эта, по словам В.И. Гурко, не вошла в протокол, но повредила репутации С.Ю. Витте при Дворе (Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 401).
(обратно)228
Особое совещание под председательством С.Ю. Витте о нуждах сельскохозяйственной промышленности Николай II закрыл 30 марта 1905 г., тогда же образовав Особое совещание под председательством И.Л. Горемыкина по вопросам о мерах к укреплению крестьянского землевладения, работавшее до 30 августа 1906 г. Итогом деятельности Совещания И.Л. Горемыкина стали последовавшие 6 мая 1905 г. учреждение Комитета по земельным делам и преобразование Министерства земледелия и государственных имуществ в Главное управление землеустройства и земледелия. Кроме того, Совещание выработало Наказ этому Главному управлению по вопросам крестьянского землевладения и инструкцию Крестьянскому поземельному банку об основаниях и порядке его деятельности.
(обратно)229
В действительности пересмотром крестьянского законодательства Министерство внутренних дел, возглавляемое В.К. Плеве, занималось в 1902–1904 гг., параллельно с деятельностью Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, причем в отличие от Особого совещания заседавшая при министерстве Редакционная комиссия по пересмотру законодательства о крестьянах довольно быстро разработала соответствующие проекты, которые, по свидетельству В.И. Гурко (одного из их авторов), «дали толчок разрешению вопроса о крестьянской земельной общине и легли в основу разрубившего этот вопрос Высочайшего указа 9 ноября 1906 г.» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 158–159). В.К. Плеве стал одним из авторов Манифеста 26 февраля 1903 г., объявившего о необходимости полной отмены круговой поруки, и инициатором издания Временных правил 6 июня 1904 г. о добровольном переселении крестьян в Сибирь и на Дальний Восток.
(обратно)230
С.Ю. Витте был уволен с поста министра финансов и назначен председателем Комитета министров 16 августа 1903 г.
(обратно)231
Подразумевается Русско-японская война 1904–1905 гг.
(обратно)232
Одновременно с подписанием в Москве 22 мая (3 июня) 1896 г. соглашения между Россией и Китаем об образовании русско-китайского союза вступил в силу контракт правительства Китая с Русско-Китайским банком на постройку Китайской восточной железной дороги, которая должна была пройти по северо-восточной части Маньчжурии. Окончательный вариант контракта был подписан 27 августа 1896 г. и подразумевал срок концессии в 80 лет, причем территория Китайской восточной железной дороги, полоса отчуждения, признавалась экстерриториальной.
(обратно)233
По конвенции, заключенной 15 (27) марта 1898 г., Китай уступал России в аренду на 25 лет Квантунский полуостров (южная часть Ляодунского полуострова) с городами Порт-Артур (Люйшунь) и Даляньван (Талиенван). Заключению конвенции предшествовало вхождение 2 декабря 1897 г. русской эскадры в Порт-Артур, вызванное занятием Германией в ноябре этого года китайского города Циндао.
(обратно)234
На самом деле, по свидетельству С.Ю. Витте, первоначально главой русской делегации на мирных переговорах с Японией Николай II предполагал назначить именно дипломатов – посла в Париже А.И. Нелидова, а затем посла в Риме Н.В. Муравьева, однако они отказались от этой миссии, сказавшись больными. Только после этого выбор императора пал на С.Ю. Витте (см.: Из архива С.Ю. Витте: Воспоминания. Т. 2. С. 694–696).
(обратно)235
Подробнее о роли С.Ю. Витте при подготовке мирного договора с Японией см.: Игнатьев А.В. С.Ю. Витте – дипломат. М., 1989. С. 218–238; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 189–203.
(обратно)236
Судя по содержанию следующего абзаца, здесь Н.Н. Покровский имеет в виду события конца 1904 г., т. е. во время Русско-японской войны, а не после нее.
(обратно)237
Имеется в виду Указ 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», у истоков которого находился не С.Ю. Витте, а министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский, который по повелению Николая II, в развитие Манифеста 26 февраля 1903 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», подготовил и представил императору 24 ноября 1904 г. всеподданнейший доклад, содержавший программу либеральных реформ (Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. // Река времен. М., 1996. Кн. 5. С. 216–262). Именно этот доклад и лег в основу Указа 12 декабря 1904 г. Подробнее о подготовке Указа и его проведении см.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. С. 5 – 51.
(обратно)238
Речь идет об Октябрьской всероссийской политической стачке 1905 г.
(обратно)239
В Манифесте 17 октября 1905 г. Николай II предписывал Совету министров подготовить дарование населению политических свобод, наделение Государственной думы законодательными полномочиями и расширение избирательного права. Сам С.Ю. Витте утверждал, что, кроме него, к составлению текста опубликованного Манифеста были причастны только помощник управляющего делами Комитета министров Н.И. Вуич и будущий обер-прокурор Синода князь А.Д. Оболенский. О подготовке Манифеста 17 октября см.: Островский А.В., Сафонов М.М. Манифест 17 октября 1905 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1981. Т. 12. С. 210–260; Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. С. 202–222. В действительности первоначально с просьбой о составлении проекта Манифеста Николай II обратился не к С.Ю. Витте, а к главноуправляющему Канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, барону А.А. Будбергу. При участии члена Государственного совета И.Л. Горемыкина и государственного секретаря барона Ю.А. Икскуля фон Гильденбандта барон 14–15 октября составил проект Манифеста более радикальный, чем виттевский. Там говорилось о придании Думе законодательного характера, даровании свободы личности, веры, слова и собраний, всеобщего избирательного права, введении выборных представителей в Государственный совет, ответственности министров перед палатами и политической амнистии. По просьбе царя 15–16 октября А.А. Будберг на основе обоих проектов подготовил новый проект Манифеста, в котором объявлялось о даровании «права народного представительства», неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов и расширении избирательного права. Николай II одобрил этот проект, надеясь на согласие С.Ю. Витте, но он его отверг, настояв на издании своего проекта под угрозой отказа от премьерства. Подробнее см.: Будберг А.А. 15–17 октября 1905 г. в царской резиденции (из записок) / Публ. А.В. Островского и М.М. Сафонова // Английская набережная, 4: Ежегодник. СПб., 1997. С. 391–412.
(обратно)240
Речь идет о противостоянии кабинета С.Ю. Витте и возглавляемого Г.С. Хрусталевым (Носарем) Петербургского Совета рабочих депутатов, образовавшегося 13 октября в ходе Всероссийской политической стачки 1905 г. и руководившего ею в столице. Совет рабочих депутатов был арестован 3 декабря 1905 г. по инициативе министра внутренних дел П.Н. Дурново после того, как накануне издал так называемый «финансовый манифест», в котором призывал население не платить налоги, требовать уплаты по всем сделкам золотом, изымать вклады из банков и сберегательных касс и не допускать уплаты по государственным займам. Согласно В.И. Гурко, П.Н. Дурново, ранее, в ноябре 1905 г., прекративший забастовку почтово-телеграфных служащих, решился на арест Совета вопреки С.Ю. Витте (Гурко В.И. Указ. соч. С. 518).
(обратно)241
С.Ю. Витте получил отставку с поста председателя Совета министров 22 апреля 1906 г., причем одни члены его кабинета были уволены одновременно с ним либо вскоре после него, а другие (министры военный – генерал А.Ф. Редигер, морской – адмирал А.А. Бирилев и Императорского двора – барон В.Б. Фредерикс) вошли в следующий кабинет под председательством И.Л. Горемыкина, назначенного премьером 22 апреля.
(обратно)242
I Государственная дума была открыта 27 апреля 1906 г.
(обратно)243
Статс-секретарь Его величества (не путать с должностью статс-секретаря Государственного совета) – высшее почетное гражданское звание, которым награждались сановники, пользовавшиеся особым доверием императора. Статс-секретари имели право личного доклада монарху и передачи его устных повелений.
(обратно)244
Летом 1911 г. С.Ю. Витте договорился с представителями Совета и Правления Русского для внешней торговли банка о предоставлении ему должности консультанта при Банке с определенным содержанием, сверх возможного его участия в прибылях. Желание Витте противоречило принятым в 1884 г. по инициативе Александра III «Правилам о порядке совмещения государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах, а равно и общественных и частных кредитных установлениях». Правилами 1884 г. запрещалось участвовать в учреждении акционерных обществ и в делах управления ими сановникам, состоявшим в высших должностях и званиях государственной службы, т. е. в должностях первых трех классов и в соответствующих придворных чинах (о последствиях действия правил см.: Куликов С.В. «Необычайно презрительное отношение к самой промышленности и торговле»: Придворные и предприниматели в начале ХХ в. // История глазами историков. СПб.; Пушкин, 2002. С. 218–235). Между тем Витте занимал должность назначенного члена Государственного совета, находившуюся во 2-м классе, и имел звание статс-секретаря его величества. По инициативе председателя Совета министров В.Н. Коковцова, с которым вели переговоры относительно улучшения материального положения Витте и жена графа, и он сам, Николай II согласился выдать Витте 200 000 руб., показав эту выдачу «на известное Его величеству употребление» (Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903–1919 гг.: В 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 76–81).
(обратно)245
Проект решения аграрного вопроса, разработанный под руководством главноуправляющего землеустройством и земледелием Н.Н. Кутлера и предусматривавший принудительное отчуждение помещичьих земель, был готов к началу 1906 г. Придя к выводу о необходимости принудительного отчуждения, Н.Н. Кутлер, однако, понимал утопичность надежд на то, что при помощи него удастся удовлетворить земельный голод крестьян. По оценке Н.Н. Кутлера, даже такая «сравнительно скромная» задача, как доведение наделов всего крестьянского населения до норм Положений 19 февраля 1861 г., представлялась «практически неосуществимою», поскольку во многих губерниях землевладение крестьян, имевших земли меньше, чем следовало бы по этим нормам, увеличилось бы в среднем на душу «на ничтожные доли десятины», составив «увеличение, за которым вовсе не может быть признано какого-либо существенного значения». Целью принудительного отчуждения Н.Н. Кутлер поэтому считал «отнюдь не всеобщее дополнительное наделение, а лишь устранение случаев особо резкого малоземелья». В основу исчисления размеров вознаграждения помещиков, недвижимость которых подлежала отчуждению, Н.Н. Кутлер предлагал положить принцип не рыночных цен, а справедливого вознаграждения по капитализации чистой рентной доходности отчуждаемых земель, исчисленной согласно арендным ценам при предпринимательской аренде либо чистой доходности земель данной местности при хозяйстве за счет владельцев (Объяснительная записка к Проекту закона о мерах к расширению и улучшению крестьянского землевладения. Не позднее 13 февраля 1906 г. // Аграрный вопрос в Совете министров (1906 г.). М.; Л., 1924. С. 42, 43, 44, 46, 47, 48). Проект Н.Н. Кутлера встретил сопротивление со стороны Николая II как посягающий на принцип неприкосновенности частной собственности, а потому С.Ю. Витте согласился с требованием императора дать Н.Н. Кутлеру полную отставку, впрочем обеспечив ему достойную пенсию. Более того, граф представил Николаю II проект Манифеста, провозглашавшего от имени монарха недопустимость принудительного отчуждения земли, который, однако, царь не одобрил и публиковать отказался (Д.Ф. Трепов – С.Ю. Витте. 5 марта 1906 г. // Там же. С. 147).
(обратно)246
По наблюдениям В.И. Гурко, способность С.Ю. Витте «изменять свои взгляды, и притом только что им высказанные» проявлялась особенно заметно в департаментах Государственного совета, где министр финансов поддерживал до перерыва заседания «одно мнение, а после перерыва переходил на другую сторону и защищал мнение обратное» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 65). По воспоминаниям министра просвещения графа И.И. Толстого, С.Ю. Витте мог «подпадать под влияния и менять убеждения под впечатлением обстоятельств». При рассмотрении в Совете министров в ноябре 1905 г. проектов избирательного закона премьер «менял мнения, горячо в заседании доказывал одно, объявляя на следующий день, что он ошибся, и столь же убедительно доказывая противоположное» (Толстой И.И. Мемуары. М., 2002. С. 40, 219). «Я, – писал Николай II матери 12 января 1906 г., имея в виду С.Ю. Витте, – никогда не видал такого хамелеона или человека, меняющего свои убеждения, как он» (Переписка Николая II и Марии Федоровны (1905–1906 гг.) // Красный архив. 1927. Т. 22. С. 187).
(обратно)247
В 1898–1899 гг. С.Ю. Витте полемизировал с министром внутренних дел И.Л. Горемыкиным, выступавшим за введение земства в Западном крае и Архангельской, Астраханской, Оренбургской и Ставропольской губерниях. Позиция С.Ю. Витте по данному вопросу была обоснована в двух записках (наибольшую известность получила вторая из них), содержавших принципиальную критику земства как института. Критическое отношение к земству С.Ю. Витте мотивировал как политическими соображениями, так и тем, что в деятельности земства появились «такие недостатки и такие темные стороны, отрицать которые не могут даже самые горячие его защитники». «Стесненное правительственною регламентациею, незаконченное в своей организации, – писал он, – земство, несомненно, стало весьма плохим средством управления». С.Ю. Витте признавал, что в этом виновато не только земство, но и государство, считая, что «спор попадал в заколдованный круг: земство стало плохим средством управления потому, что оно стеснено, его надо стеснить потому, что оно стало плохим средством управления». Между тем «выход из этого круга», т. е. приведение верховной власти в соответствие с началом самоуправления путем дарования конституции, был «очень прост». Однако одни его «не видели», а другие, составлявшие большинство, «не желали видеть или опасались указывать». «Земство, – полагал С.Ю. Витте, – пришло в упадок бесспорно потому, что поставлено было правительством в ненормальные условия, но изменить эти условия, дать ему свободу без последующего изменения самодержавного строя государства было нельзя» (Витте С.Ю. Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка (1899 г.). Stuttgart, 1903. С. 91, 92). Несмотря на двусмысленность аргументации, в полемике с И.Л. Горемыкиным Витте позиционировал себя в роли приверженца неограниченной монархии. См. также: Куликов С.В. С.Ю. Витте и земство. Взаимодействие государства и гражданского общества в России конца XIX – начала XX в. // Правовые состояния и взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и межотраслевой анализ: В 2 ч. СПб., 2006. Ч. 2. С. 363–372.
(обратно)248
Слухи о переговорах С.Ю. Витте с представителями Петербургского Совета рабочих депутатов появились по причине того, что 11 октября 1905 г. он принял делегатов от служащих Петербургского железнодорожного узла. В обращении к делегатам С.Ю. Витте сказал, что говорит с ними «не как председатель Комитета министров, а как частное лицо». Граф согласился, что военное положение на железных дорогах, против которого возражали делегаты, есть «анахронизм в настоящее время», выразив удивление, что «оно до сих пор не снято». Затем С.Ю. Витте заявил: «В этой борьбе может погибнуть правительство, но и вы, лучшие силы народа, погибнете тоже и сыграете в руку той буржуазии, против которой вы боретесь в настоящее время». Высказывания С.Ю. Витте В.И. Гурко трактовал как «чудовищные в устах председателя министерской коллегии». Считая, что слова графа характеризовали присутствие «грубой демагогии» и «отсутствие государственности», мемуарист писал: «…тут каждое слово – государственное преступление» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 465). Приведенное мнение объяснялось тем, что Петербургский стачечный комитет, выслушав сообщение своих делегатов о сказанном им С.Ю. Витте, расценил его слова как проявление слабости государственной власти, а потому немедленно постановил превратить частичную забастовку во всеобщую. В результате 12 октября к стачке присоединились Петербургский железнодорожный узел и столичные фабрики и заводы. Петербургский Совет был создан 13 октября.
(обратно)249
«очарователь» (фр.).
(обратно)250
В июле 1914 г. С.Ю. Витте говорил журналисту А.В. Руманову, что у России нет причин воевать с Германией, не считая таковыми защиту Сербии, «этой чепухи», и восстановление Польши, применительно к которому употребил слово «бедлам» (Руманов А.В. Штрихи к портретам: Витте, Распутин и другие // Время и мы. 1987. № 95. С. 219). Узнав о начале войны, С.Ю. Витте, возвращавшийся в Россию, заявил своим спутникам со слезами на глазах: «Война с немцами бессмысленна… Уничтожить Германию, как мечтают юнкера, невозможно… Это не лампа, какую можно бросить на пол, и она разобьется… Народ, с вековою культурою, впитавший в свою толщу наиболее высокие начала, не может погибнуть… Достояние культуры принадлежит всем, а не отдельным народам, и нельзя безнаказанно посягать на него» (Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 43).
(обратно)251
Совет съездов представителей промышленности и торговли – исполнительный (фактический – распорядительный) орган всероссийской профессиональной организации промышленников и торговцев. Учредительный съезд представителей промышленности и торговли состоялся 12–14 апреля 1906 г. в Петербурге. Совет собирался на краткие сессии по мере необходимости – всего до 1917 г. он имел 58 сессий (примерно по 5 в год). Реально постоянно действующим руководящим органом съездовской организации являлся Комитет Совета съездов, состоявший из председателя Совета (в 1906–1907 гг. – В.И. Тимирязев, в 1907–1915 гг. – Н.С. Авдаков), трех его товарищей (заместителей) и нескольких ординарных членов. Подробнее см.: Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Проблемы торгово-промышленной политики. Л., 1987. С. 88 – 117.
(обратно)252
После введения Николаем II 10 сентября 1914 г. сухого закона и отмены винной монополии Совет министров на заседании 13 сентября 1914 г. пришел к выводу, что царское решение налагает на правительство обязанность «беззамедлительно» войти в соображение вопроса о переустройстве бюджета Российской империи, поскольку из его доходной части отныне устранялась такая крупная статья, как прибыль, извлекавшаяся из казенной винной операции. Правительство поставило перед собой задачу изыскать новые источники доходов и затем окончательно пересмотреть сметные предположения на 1915 г. и установить условия сведения росписи доходов и расходов на предстоявший бюджетный год. Исходя из этого, Совет министров постановил образовать Особую комиссию под председательством государственного контролера П.А. Харитонова для предварительного обсуждения условий сведения государственной росписи доходов и расходов на 1915 г. и «всех вытекающих из сего вопросов».
(обратно)253
С.Ю. Витте скончался 28 февраля 1915 г. в Петрограде.
(обратно)254
См.: Сперанский М.М. План государственного преобразования. М., 1905. С. 289.
(обратно)255
Н.Х. Бунге вспоминал: «…эту истину я впервые услышал от Н.А. Милютина, который в шутку называл препирательства наших высших административных учреждений между собой “нашей конституцией”» (Бунге Н.Х. Загробные заметки. 1890–1894 гг. // Судьбы России. Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX в.) / Сост. Л.Е. Шепелев. СПб., 1999. С. 238).
(обратно)256
Комитет министров рассматривал представления министра путей сообщения (до 29 января 1874 г. – Комитета железных дорог) о разрешении постройки железных дорог и по вопросам их эксплуатации с 18 декабря 1858 г. Позднее, 10 декабря 1883 г., железнодорожные вопросы, связанные с непосредственным расходованием сумм из Государственного казначейства, были переданы в Департамент государственной экономии Государственного совета. С 11 декабря 1891 г. железнодорожные дела, связанные с правительственными гарантиями, субсидиями и другими казенными расходами, рассматривались в Соединенном присутствии Комитета министров и Департамента государственной экономии, дела о сооружении и эксплуатации железных дорог частными предпринимателями или обществами без казенных гарантий, субсидий и других пособий из казны – прежним порядком.
(обратно)257
Уставы акционерных обществ, не предусматривавшие особых преимуществ или привилегий, Комитет министров рассматривал с 4 октября 1811 г. Позднее его рассмотрению подлежали и вопросы об учреждении акционерных компаний и изменениях их основного капитала и устава. Подробнее об акционерных компаниях в Российской империи см.: Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России: XIX – начало XX в. СПб., 2006.
(обратно)258
Евреи (точнее – лица иудейского вероисповедания) не имели права: 1) в губерниях, входивших в черту общей еврейской оседлости, – совершать купчие крепости и закладные на недвижимые имущества, находившиеся вне городов и местечек (по высочайше утвержденному 3 мая 1882 г. Положению Комитета министров); 2) в губерниях, не входивших в черту общей еврейской оседлости, – совершать крепостные акты, закреплявшие за ними права собственности, владения и пользования недвижимыми имуществами, расположенными вне городских поселений, и предоставлявшие им возможность выдавать под обеспечение этих имуществ денежные ссуды (по высочайше утвержденному 10 мая 1903 г. Положению Комитета министров); 3) в Области Войска Донского и Кубанской и Терской областях – приобретать в собственность и содержать в найме или аренде недвижимые имущества (Свод законов Российской империи (далее – СЗРИ). Изд. 1899 г. Т. IX (Законы о состояниях). Ст. 782 и 783); 4) в губерниях Царства Польского – приобретать в собственность крестьянские усадьбы и земли, содержать их в аренде и владеть ими иными способами, отдельными от права собственности, а также владеть, пользоваться и заведовать упомянутыми имуществами в качестве поверенных или управляющих (закон 11 июня 1891 г.); 5) в Туркестанском крае (СЗРИ. Изд. 1892 г. Т. II (Положение об управлении Туркестанского края). Ст. 262) и Степных областях (СЗРИ. Изд. 1892 г. Т. II (Положение об управлении Степных областей). Ст. 136) – приобретать земли (за исключением «туземных» евреев). Заниматься промыслами евреям запрещалось не прямо, а косвенно, через запрет обладать недвижимостями в определенных местностях.
(обратно)259
«Во всех без изъятия компаниях, которые учреждены после издания Положения 6 декабря 1836 г., дозволяется один только род акций, именно: с точным означением в них лица получателя, званием или чином, именем, отчеством и фамилиею. Акции безыменные запрещаются. Цена акций определяется для каждой компании особо в ее частном уставе» (СЗРИ. Изд. 1887 г. Т. X (Законы гражданские). Ч. 1. Ст. 2160).
(обратно)260
Постановления, связанные с обязательством акционерных компаний иметь только именные акции или паи, включались в их уставы в соответствии с практикой, принятой в 1880-х и в начале 1890-х гг. (Особый журнал Совета министров 2 января, 11 марта и 29 апреля 1916 г. «О предоставлении министру торговли и промышленности некоторых особых, в отношении акционерных компаний, полномочий» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 181–182). В 1892–1894 гг. в уставы компаний, приобретавших недвижимости в запретных для еврейского землевладения местностях, включалось обычно требование, чтобы лица, не имеющие права владения и пользования этими недвижимостями, не допускались вовсе к владению акциями или паями. Вместе с тем ограничения состава администрации хотя и вводились в уставы, но, с точки зрения прав евреев-предпринимателей, имели тогда во многом формальное значение (Особый журнал Совета министров 3 января 1914 г. «По вопросам: 1) об условиях приобретения акционерными компаниями недвижимых имуществ и 2) об ограничении участия евреев в акционерных компаниях, получающих право приобретения сих имуществ в местностях, закрытых для еврейского землевладения» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 21).
(обратно)261
СЗРИ. Изд. 1900. Т. X (Законы гражданские). Ч. 1. Ст. 2160.
(обратно)262
По статье 4 Приложения к статье 698 (Прим. 2) Законов гражданских (СЗРИ. Изд. 1900 г. Т. X (Законы гражданские). Ч. I) акционерные компании и паевые товарищества могли приобретать земельную собственность в 9 Западных губерниях в размере не свыше 200 десятин.
(обратно)263
В 1895 г. Комитет министров признал, что участие в акционерных компаниях лиц иудейского вероисповедания только путем приобретения ими акций или паев предприятий, без ближайшего распоряжения его делами, не является обходом законов, воспрещавших приобретение ими недвижимых имуществ в известных местностях. Соответственно этому центр тяжести ограничений был перенесен с состава участников компаний на их администрацию, и в уставы предприятий, приобретавших землю, стало включаться лишь требование, чтобы евреи не допускались к занятию должностей членов правления, кандидатов к ним, директоров-распорядителей и заведующих и управляющих недвижимыми имуществами. Вместе с тем Комитет министров, осознавая необходимость открытия новых акционерных компаний для развития промышленности и торговли, разрешал в некоторых случаях, для отдельных компаний, изъятия из общего требования, дозволяя евреям занимать меньшинство должностей членов правления и кандидатов к ним. К началу XX в. создалась практика, согласно которой в предприятиях, имевших право приобретения недвижимых имуществ в местностях, закрытых для еврейского землевладения, евреи могли занимать лишь меньшинство должностей членов правления и кандидатов к ним и были вовсе устранены от занятия должностей директоров-распорядителей и заведующих и управляющих недвижимыми имуществами (Особый журнал Совета министров 3 января 1914 г. «По вопросам: 1) об условиях приобретения акционерными компаниями недвижимых имуществ и 2) об ограничении участия евреев в акционерных компаниях, получающих право приобретения сих имуществ в местностях, закрытых для еврейского землевладения» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 21).
(обратно)264
Попытку решить проблему нормального устава предпринял последний царский министр торговли и промышленности князь В.Н. Шаховской. В представлении от 11 октября 1915 г. В.Н. Шаховской, «озабочиваясь ускорением и упрощением существующего порядка разрешения дел об учреждении акционерных компаний и об изменении их уставов», передал на рассмотрение Совета министров разработанный его ведомством проект Нормального устава акционерных торгово-промышленных предприятий, ходатайствуя о наделении министра торговли и промышленности правом утверждать собственной властью, применительно к нормальному, уставы новых акционерных обществ и товариществ на паях, а также изменять, учитывая нормальный устав, действовавшие уставы по прошениям общих собраний акционеров и пайщиков. В тех случаях, когда при учреждении акционерных компаний либо при изменении их уставов испрашивались бы существенные отступления от нормального устава либо отступления от действовавших законов, соответствующие дела должны были, по мнению В.Н. Шаховского, направляться на разрешение Совета министров или законодательных учреждений, в зависимости от характера дела. На заседании 2 ноября 1915 г. Совет министров поручил В.Н. Шаховскому обратиться ко всем заинтересованным ведомствам для получения от них отзывов на проект, после чего внести свое окончательное заключение и эти отзывы на обсуждение правительства, что он и сделал в представлении от 29 апреля 1916 г. На заседании 24 мая того же года министры, поддержав мнение государственного секретаря С.Е. Крыжановского, пришли к выводу, что просимые В.Н. Шаховским полномочия могут быть даны ему «во всей их полноте» не иначе как в законодательном порядке. Между тем законодательное рассмотрение предположений князя, полагал кабинет, «едва ли является своевременным», ибо общий пересмотр акционерного законодательства во всем его объеме «поставлен уже на ближайшую очередь». Исходя из этого, правительство постановило, ни в чем не изменяя существовавший порядок прохождения дел об акционерных предприятиях, утвердить их нормальный устав, преподав его министру торговли и промышленности в качестве примерного образца для составления и изменения уставов акционерных компаний, в целях облегчения их последующего рассмотрения в Совете министров. Сам проект нормального устава кабинет рекомендовал В.Н. Шаховскому переработать с учетом отзывов, полученных от ведомств, и внести его новую редакцию сначала в Малый Совет министров (обсуждавший дела, до 1906 г. входившие в компетенцию Комитета министров), а затем в собственно Совет министров для его окончательного утверждения (Особый журнал Совета министров 24 мая 1916 г. «По проекту нового Нормального устава торгово-промышленных акционерных компаний (письма министра торговли и промышленности от 11 октября 1915 г. и 29 апреля 1916 г., за № 14231 и 5440) (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 223–224). Позиция правительства объяснялась, помимо прочего, тем, что на том же заседании, т. е. 24 мая 1916 г., оно рассмотрело внесенное 46 депутатами IV Государственной думы законодательное предположение «Об изменении действующих об акционерных обществах законоположений» и отзывы на него министерств внутренних дел, финансов, юстиции, земледелия и торговли и промышленности. Принимая во внимание, что Министерство торговли и промышленности заканчивало разработку проекта «Положения об акционерных компаниях», регулировавшего их организацию и деятельность, и законопроекта о выпуске ими облигаций и долгосрочных промышленных обязательств, Совет министров не нашел оснований для принятия на себя правительством составления нового законопроекта по тому же предмету и решил, что в этом именно смысле и надлежало высказаться представителю Министерства торговли и промышленности в Общем собрании Государственной думы при обсуждении ею законодательного предположения 46 депутатов (Особый журнал Совета министров 24 мая 1916 г. «По законодательному предположению 46 членов Государственной думы “Об изменении действующих об акционерных обществах законоположений” (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 225). Умолчание Н.Н. Покровского о попытке В.Н. Шаховского объясняется, вероятно, тем, что на заседании 24 мая 1916 г. государственный контролер отсутствовал, поскольку находился в пути, направляясь в качестве главы русской делегации на Парижскую экономическую конференцию стран Антанты. Имея в виду проект нормального устава акционерных обществ, сам В.Н. Шаховской вспоминал: «В мае 1916 г. я внес этот проект в Совет министров, не включив в него обычного ограничения для евреев, согласно которому они в некоторых случаях не могли быть председателями правлений и директорами-распорядителями. Некоторые члены Совета высказались против внесенного мною изменения. Я мотивировал свое мнение тем, что зачастую официально избираются на эти должности не евреи, которые являются лишь подставными лицами, фактически же делом руководят евреи. Я настаивал, чтобы на эти должности избирались лица, фактически руководящие делом, и не вижу никаких оснований к ограничению. Последовало голосование. Я остался с несколькими министрами в меньшинстве. Таким образом, разногласие должно было быть представлено на высочайшее благовоззрение. Журнал вернулся с резолюцией государя: “Согласен с мнением меньшинства”. Не могу не отметить этого факта» (Шаховской В.Н. Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава). 1893–1917 гг. Париж, 1952. С. 178).
(обратно)265
Постановлением Временного правительства 10 марта 1917 г. право утверждения акционерных компаний перешло от Совета министров к Министерству торговли и промышленности, т. е. явочный порядок учреждения компаний не вводился, но тем же постановлением отменялись распространявшиеся на их деятельность ограничения относительно иностранцев и евреев (Журнал заседания Временного правительства № 14. 10 марта 1917 г. // Журналы заседаний Временного правительства. Март – октябрь 1917 г.: В 4 т. М., 2001. Т. 1. С. 68).
(обратно)266
Отмена большинства касающихся евреев ограничений в области акционерного учредительства последовала в январе 1906 г., когда Комитет министров, «следуя неоднократно преподанным с высоты престола указаниям о недопущении в отношении инородцев не вызываемых необходимостью стеснений в правах», одобрил предположение министра торговли и промышленности В.И. Тимирязева о прекращении включения в проекты уставов акционерных компаний, приобретающих внегородскую недвижимость, ограничений для лиц иудейского исповедания, имевших акции либо входивших в правления этих компаний. Данное постановление, оформленное журналом Комитета министров от 24 января 1906 г. и представленное Николаю II, и привело к изменению последующей практики по акционерным делам Комитета, а после упразднения его 23 апреля 1906 г. – Совета министров. Отныне акционерные компании, получавшие право приобретения земли в местностях, закрытых для еврейского землевладения, лишь обязывались не назначать евреев на должности заведующих или управляющих землями, в отношении же членов правления, кандидатов к ним и директоров-распорядителей никаких ограничений не вводилось. Однако в середине 1913 г., в связи с постановкой общего вопроса об условиях предоставления акционерным компаниям права приобретения недвижимых имуществ, до разрешения этого вопроса Совет министров постановил временно придерживаться в отношении подобных компаний прежней, существовавшей до 1906 г. практики, по которой в их уставы вводили запрет на занятие евреями и большинства других управленческих должностей. На заседании Совета министров 3 января 1914 г. в отсутствие его председателя В.Н. Коковцова, находившегося за границей и к тому же накануне отставки, восемь министров поддержали мнение о полном недопущении евреев на административные должности акционерных предприятий, получавших право приобретения недвижимых имуществ в местностях, закрытых для еврейского землевладения, «с целью эксплуатации земли и ее богатств». Однако в отношении аналогичных акционерных предприятий, приобретавших землю «исключительно для возведения фабрик, заводов, складов и других торгово-промышленных сооружений», восемь министров полагали возможным допускать евреев на меньшинство управленческих должностей, за исключением должностей директоров-распорядителей и заведующих и управляющих недвижимыми имуществами предприятия. Меньшинство кабинета (три человека) выступили против занятия евреями всех вообще управленческих должностей, вплоть до самых низших, в акционерных предприятиях не только первой, но и второй категории. Николай II 18 апреля 1914 г. написал на соответствующем Особом журнале Совета министров: «Согласен с мнением большинства» (Особый журнал Совета министров 3 января 1914 г. «По вопросам: 1) об условиях приобретения акционерными компаниями недвижимых имуществ и 2) об ограничении участия евреев в акционерных компаниях, получающих право приобретения сих имуществ в местностях, закрытых для еврейского землевладения» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 15, 21–22, 25). Однако реализация Положения 18 апреля 1914 г., особенно в части, касавшейся предприятий первой категории, привела к возникновению проблем экономического характера, не говоря уже о политических, а потому по всеподданнейшему докладу нового председателя Совета министров И.Л. Горемыкина от 16 июля 1914 г. Николай II повелел временно приостановить действие упомянутого Положения. С этого момента в уставы акционерных компаний обеих категорий стало вводиться правило, чтобы большинство членов правления и кандидатов к ним, а также директора-распорядители и заведующие и управляющие недвижимыми имуществами не являлись лицами иудейского исповедания (Особый журнал Совета министров 2 января, 11 марта и 29 апреля 1916 г. «О предоставлении министру торговли и промышленности некоторых особых, в отношении акционерных компаний, полномочий» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 181–182).
(обратно)267
В данном случае Н.Н. Покровскому изменяет память, поскольку Первая мировая война, которая привела к эвакуации вглубь Российской империи предприятий, контролировавшихся евреями, создала предпосылки для фактической отмены большинства ограничений, затрагивавших лиц иудейского вероисповедания, в т. ч. и в области акционерного дела. На заседании 4 августа 1915 г. Совет министров, уполномочив управляющего Министерством внутренних дел князя Н.Б. Щербатова разрешить евреям жительство в городских поселениях вне черты общей еврейской оседлости, за исключением столиц и местностей, находившихся в ведении министров Императорского двора (царские резиденции) и военного (казачьи области и Туркестан), отметил, что одно лишь дозволение евреям жить в городах вне черты оседлости еще не разрешает вопроса о возобновлении деятельности на новых местах эвакуированных предприятий. Тем самым на повестку дня ставился другой вопрос – о предоставлении евреям, водворившимся в городах вне черты оседлости, права приобретать и арендовать недвижимые имущества. С другой стороны, согласно законодательству о евреях, они уже имели право везде, где им разрешалось постоянное пребывание, как в черте оседлости, так и вне ее, приобретать недвижимую собственность в пределах селитебной площади городских поселений. Предоставление евреям права жительства в городских поселениях вне черты оседлости влекло за собой, по мнению правительства, и получение евреями права приобретения и временного пользования недвижимыми имуществами, расположенными вне черты (Особый журнал Совета министров 4 августа 1915 г. «По вопросу о разрешении евреям, выселившимся из района военных действий, временного водворения в местностях вне черты оседлости (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 364, 365). На заседании 5 сентября 1915 г. Совет министров, обсудив по предложению его председателя И.Л. Горемыкина возбужденный Центральным военно-промышленным комитетом вопрос о желательности, в связи с обстоятельствами военного времени, отменить содержавшиеся в уставах акционерных компаний ограничительные постановления в отношении приобретения недвижимых имуществ, не усмотрел оснований к принятию подобной общей меры. Вместе с тем правительство предоставило министру торговли и промышленности князю В.Н. Шаховскому в виде временной меры, в связи с военными обстоятельствами, разрешать (с последующим сообщением о том Совету министров) акционерным обществам и товариществам на паях, эвакуируемым во внутренние губернии Европейской России, приобретать повсеместно в этих губерниях, в изъятие из действовавших уставов обществ и товариществ, необходимые недвижимые имущества «в мере действительной надобности». Постановление кабинета Николай II утвердил 21 сентября (Особый журнал Совета министров 5 сентября 1915 г. «О приобретении недвижимостей акционерными обществами и паевыми товариществами» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 386). Позднее по результатам заседаний Совета министров 11 марта и 29 апреля 1916 г. правительство предоставило министру торговли и промышленности на время войны разрешать (по соглашению, в каждом отдельном случае, с министром внутренних дел и с последующим доведением до сведения Совета министров) акционерным обществам и товариществам на паях, работавшим на нужды государственной обороны и переносившим заводы или фабрики, полностью или частично, либо расширявшим их, приобретать в собственность или в срочное владение и пользование в Европейской России, кроме Области Войска Донского, и в Сибири, за исключением Приамурского генерал-губернаторства, необходимые недвижимости размером не свыше 50 десятин по каждому предприятию. Предоставление таких разрешений министром торговли и промышленности обуславливалось тем, чтобы а) они давались лишь компаниям, предъявившим удостоверения Военного или Морского министерства «о действительном обслуживании данным предприятием потребностей обороны и существенности принимаемых им на себя поставок», и б) для устройства и приведения в действие на разрешенных к приобретению землях заводов, фабрик и складочных помещений министром устанавливался в каждом отдельном случае «возможно кратчайший» срок, не менее, однако, двухгодичного.
(обратно)268
Всеподданнейшие отчеты губернаторов и генерал-губернаторов Комитет министров рассматривал с 1827 г., государственного контролера – с 8 сентября 1802 г. С образованием 19 октября 1905 г. Совета министров как объединенного правительства рассмотрение губернаторских и генерал-губернаторских отчетов перешло к нему, с началом деятельности в апреле 1906 г. Государственной думы отчеты государственного контролера рассматривала она.
(обратно)269
О губернаторских отчетах см.: Минаков А.С. Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по материалам губерний Черноземного центра второй половины XIX – начала XX в.). Орел, 2011. С. 195–301.
(обратно)270
Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. А.Н. Куропаткин был главнокомандующим всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке с 13 октября 1904 по 3 марта 1905 г.
(обратно)271
В 1892 г. сенатор князь Г.С. Голицын производил ревизию Тобольской, Пермской и Оренбургской губерний. Сенаторская ревизия – учрежденная в 1722 г. форма чрезвычайного надзора Сената как высшего административно-судебного установления за местным управлением.
(обратно)272
Конец фразы вписан автором карандашом вместо зачеркнутого: «также не имел о них ни малейшего представления».
(обратно)273
Во всеподданнейшем отчете князя А.К. Имеретинского от 27 декабря 1898 г. он сообщил Николаю II, что Польская социалистическая партия опубликовала в Лондоне всеподданнейший отчет князя за 1897 г. с отметками императора и с двумя журналами Комитета министров, против чего царь начертал: «Это меня крайне удивляет». А.К. Имеретинский полагал, что утечка информация дала полякам возможность «ознакомиться с сокровеннейшими воззрениями русского правительства на современное положение дел в Царстве Польском» (цит. по: Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – нач. XX вв.). СПб., 1998. С. 343). Польская социалистическая партия (ППС) была создана в 1892 г. В Программе партии главной целью ее деятельности было объявлено создание в Польше «независимой демократической республики», реализация же социальных преобразований ставилась на второе место.
(обратно)274
Слова Репетилова, персонажа комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 4), об одном из своих товарищей.
(обратно)275
Судя по всему, это был С.Э. Зволянский.
(обратно)276
Система губернских жандармских управлений была создана согласно Положению о Корпусе жандармов от 19 сентября 1867 г. С 1871 г. главным в их деятельности становится дознание и политическое следствие, переданное от судебных следователей. Упразднены в ходе Февральской революции 1917 г.
(обратно)277
После введения в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 г. судебные палаты были окончательными апелляционными инстанциями для рассматривавшихся в окружных судах гражданских и уголовных дел. Прокурору судебной палаты и заменявшему его товарищу подчинялись следователи по особо важным делам.
(обратно)278
Общие пенсионные права служащих в гражданских ведомствах и их семей, за исключением лиц, которым назначались пенсии в силу особых законов (по придворному, учебному, медицинскому и некоторым другим ведомствам), определялись утвержденным Николаем I 6 декабря 1827 г. Общим уставом о пенсиях и единовременных пособиях. Недостаточность предусматривавшихся этим законом пенсионных окладов, чьи размеры колебались от 85 руб. 80 коп. до 1143 руб. 60 коп. в год, стала ощущаться уже вскоре после издания Устава. В связи с постепенным удорожанием жизни и усложнением и ростом потребностей выработалась практика предоставления чиновникам и их семействам более высокого послеслужебного обеспечения путем испрошения, «в порядке монаршей милости», усиленных пенсий и пособий вне правил. Подобная практика получила настолько широкое распространение, что возникла необходимость установить особые правила для исходатайствования усиленных пенсий и пособий. Соответствующие правила Комитет министров обсудил 25 июня и 5 июля 1883 г., после чего Александр III 8 июля того же года утвердил Положение (Журнал) Комитета об установлении правил относительно назначения усиленных пенсий. Хотя данная мера и внесла улучшение в дело пенсионного обеспечения чиновничества, однако она распространялась не на всех служащих, а на отдельных лиц по представлению их начальства, порождая значительные неудобства, поскольку вызывала сильные колебания в расходах казны по выдаче пенсий, многочисленные разногласия между ведомствами при определении размера усиленных окладов и увеличение рутинной деятельности монарха, вынужденного лично улаживать эти разногласия. Только Николай II повелел «безотлагательно выработать отвечающий современным потребностям пенсионный закон». На необходимость пенсионной реформы указывали также в конце 1912 – начале 1913 г. IV Государственная дума и Государственный совет. При Министерстве финансов была образована Особая межведомственная комиссия под председательством товарища министра финансов С.Ф. Вебера по пересмотру пенсионного законодательства. Задачей Особой комиссии стала разработка Общего пенсионного устава, который бы не касался специальных пенсионных правил по придворному, учебному, медицинскому и другим ведомствам, поскольку они, во-первых, представляли собой исключения из общего закона, а потому подлежали пересмотру лишь после закрепления в законодательном порядке основных пенсионных начал, а во-вторых, предоставляли удовлетворительное послеслужебное обеспечение и не вызывали неотложной необходимости в изменении норм, установленных этими специальными узаконениями. К началу июня 1913 г. Особая комиссия подготовила проекты Общего устава о пенсиях и единовременных пособиях служащим в гражданских ведомствах и их семействам и Закона о введении Общего устава в действие. В основу пересмотра пенсионного законодательства была положена система не страхования, а государственных пенсий, с тем чтобы вместо принятых в Уставе 1827 г. пенсионных окладов по разрядам эти оклады исчислялись в соответствии с получаемым на службе содержанием и числом лет пенсионной выслуги, а также в зависимости от условий выхода того или иного лица в отставку. На заседании Совета министров 12 сентября 1913 г. были обсуждены оба проекта и постановлено внести их в Государственную думу (Особый журнал Совета министров 12 сентября 1913 г. «По представлению министра финансов от 6 июня 1913 г., за № 6182 (по Департаменту государственного казначейства), об изменениях Общего устава о пенсиях и единовременных пособиях (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1913 год. М., 2005. С. 366–373). Однако Дума затянула рассмотрение законопроектов о пенсионной реформе до Февральской революции 1917 г.
(обратно)279
Канцелярия Его императорского величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, была создана 26 февраля 1895 г. В ее компетенцию входили рассмотрение жалоб на высшие государственные учреждения и удовлетворение прошений, адресованных императору. Упразднена 6 декабря 1917 г. Ей предшествовала Комиссия по принятию прошений при Государственном совете, которая существовала с 1810 г., с 1835 г. находилась в непосредственном ведении монарха и в 1884 г. была преобразована в Канцелярию по принятию прошений при Императорской Главной квартире.
(обратно)280
ПСЗ-III. Т. XIV. Отд. I. № 11035. О Манифесте 14 ноября 1894 г. по случаю бракосочетания Николая II и Александры Федоровны см.: Коронационный сборник 14 мая 1896 г. // История российской монархии. М., 2011. С. 262–263.
(обратно)281
ПСЗ-III. Т. XVI. Отд. I. № 12355.
(обратно)282
По поводу коронации.
(обратно)283
Торжества по случаю коронации Николая II начались после состоявшегося 6 мая 1896 г. приезда царя в Москву и закончились 26 мая.
(обратно)284
Бал в Дворянском собрании, происходивший в присутствии царя и царицы, состоялся вечером 21 мая 1896 г.
(обратно)285
Коронация Николая II была проведена 14 мая 1896 г. в Успенском соборе.
(обратно)286
С точки зрения своего персонального состава Двор являлся совокупностью членов императорской фамилии и лиц, имевших придворные чины и звания, которые символизировали ту или иную степень близости их обладателей к носителю верховной власти. Личный состав Императорского двора включал в себя Придворный штат его величества, царскую Свиту (т. е. носителей военно-придворных званий генерал-адъютантов, генералов Свиты, или свитских генералов, и флигель-адъютантов), лиц, имевших придворно-медицинские и придворно-духовные звания, и обладательниц женских придворных званий. Наиболее многочисленной и важной составной частью Двора был, несомненно, Придворный штат его величества, распадавшийся на носителей чинов и состоявших в должности чинов («чины Двора») и лиц, находившихся в придворных званиях («придворные кавалеры»). Чины Двора разделялись, в свою очередь, на первые (обер-гофмаршал, обер-гофмейстер, обер-егермейстер, обер-камергер, обер-шенк, обер-шталмейстер, а также, при наличии чина действительного тайного советника, – обер-церемониймейстер), эквивалентные общегражданскому чину 2-го класса – действительного тайного советника и военному чину полного генерала, и вторые (гофмаршал, гофмейстер, егермейстер, шталмейстер, обер-церемониймейстер, а также директор Императорских театров), равнозначные общегражданскому чину 3-го класса – тайного советника и военному чину генерал-лейтенанта. К чинам Двора примыкали и церемониймейстеры, т. е. обладатели чина 5-го класса, заменявшегося 4-м классом, когда церемониймейстеры получали чин действительного статского советника. Подробнее см.: Куликов С.В. Высшая царская бюрократия и Императорский двор накануне падения монархии // Из глубины времен. СПб., 1999. Вып. 11. С. 21–28.
(обратно)287
Скипетр, держава, государственное знамя и государственный меч.
(обратно)288
Имеется в виду массовая гибель людей, произошедшая ранним утром 18 мая 1896 г. на Ходынском поле около Москвы во время раздачи собравшейся там толпе подарков в честь коронации Николая II. Подарки заключались в сайке (булке) и узелке, содержавшем колбасу, пряник, сласти, эмалированную кружку и программу увеселений. На Ходынском поле было запланировано проведение днем 18 мая народного праздника, однако народ начал собираться на поле с полудня 17 мая и уже к часу ночи 18 мая толпа насчитывала около 400–500 тысяч человек. К 5 часам утра над народной массой стоял густой пар, образованный человеческими испарениями (не только естественного, но и искусственного характера – многие пили спиртное) и мешавший различать даже на близком расстоянии отдельные лица. Именно перенасыщенность атмосферы испарениями привела к тому, что люди умирали, задыхаясь от недостатка воздуха и зловония. Во время начавшихся на исходе 6 часов утра двух раздач подарков пришедшая в движение толпа затаптывала умерших или ослабевших. В результате Ходынской катастрофы пострадали 2690 человек, из них погибли 1389. См.: Документы о Ходынской катастрофе 1896 г. / Публ. А. Кобяко // Красный архив. 1936. Т. 76. С. 31–48.
(обратно)289
В 1770 г., во время торжеств, организованных по поводу бракосочетания будущего короля Франции Людовика XVI и Марии Антуанетты, произошли два трагических события. В Версале в ходе церемонии венчания придворные ринулись к алтарю и сбили с ног и задавили около сотни гвардейцев-швейцарцев. В Париже фейерверк, данный в связи с народными гуляньями, закончился давкой, когда, по одним данным, погибли 333 человека, по другим – более тысячи.
(обратно)290
Расследование обстоятельств Ходынской катастрофы проводил следователь по особо важным делам при Московском окружном суде П.Ф. Кейзер, который установил, что катастрофу вызвало чрезмерное скопление народа на небольшой площади, обусловленное тем, что движение людей по полю не было организовано. Именно на материалах этого расследования и основывались последующие заключения министра юстиции Н.В. Муравьева и верховного маршала коронации графа К.И. Палена. Вина за катастрофу могла быть возложена как на Министерство Императорского двора, возглавлявшееся графом И.И. Воронцовым-Дашковым, поскольку именно оно занималось непосредственной подготовкой народного гулянья на Ходынском поле, так и на руководимую обер-полицмейстером полковником А.А. Власовским московскую полицию, отвечавшую за поддержание порядка на Ходынке, причем в последнем случае вина косвенно падала и на московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Министр юстиции возложил ответственность за катастрофу на Министерство Двора, не обеляя, впрочем, и А.А. Власовского. По совету матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, покровительствовавшей И.И. Воронцову-Дашкову, Николай II поручил К.И. Палену сделать, помимо Н.В. Муравьева, еще одно заключение о причинах Ходынской катастрофы. Во всеподданнейшем докладе К.И. Пален признал виновником катастрофы не Министерство Двора, а руководство московской полиции, т. е. прежде всего А.А. Власовского, намекая и на Сергея Александровича. В результате в царской резолюции, наложенной на докладе, говорилось об исключении со службы А.А. Власовского.
(обратно)291
Намек на оппозиционных деятелей Государственной думы и министров Временного правительства.
(обратно)292
Статс-секретарь Государственного совета – начальник Отделения Государственной канцелярии, заведовавший делопроизводством соответствующего Департамента Государственного совета.
(обратно)293
Про Государственную канцелярию В.Б. Лопухин, служивший там вместе с Н.Н. Покровским, вспоминал: «Да, там и только там, путем постепенного, со времен Сперанского, усовершенствования форм делового изложения, выработались традиционно передаваемые от поколения к поколению приемы казенного писания и канцелярский стиль, поистине образцовые. Богатство содержания в немногих словах. Преимущественно короткие предложения. Всяческое воздержание от мало-мальски длинных периодов. Много точек. Мало запятых. Умелые переходы от одной мысли к другой. И умение связывать отдельные абзацы в непрерывной текучести изложения. Тщательная всесторонняя разработка основной темы, краткая, но сильная аргументация деталей. Стиль достойный, строгий, но простой, отнюдь не выспренний, не архаический, не смешной, как бывала смешна канцелярская бумага. Воздержание от повторения в близких предложениях одних и тех же слов. Строгость, убедительность и в то же время образность слова. Умение привести в стройную систему правила редактируемого закона и формулировать каждое правило настолько ясно, чтобы не могло возникнуть сомнений в его понимании и толковании. Писание, основанное на тщательном изучении прецедентов, опирающееся на солидное знакомство со всем действующим законодательством» (Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 110).
(обратно)294
Общее собрание Государственного совета – собрание, включавшее в себя всех членов Государственного совета. С 1906 г. Общее собрание образовывали все выборные члены Государственного совета и те из его назначенных членов, которые назначались к присутствованию в нем императором, в количестве, не превышавшем число выборных.
(обратно)295
Судя по всему, подразумеваются введенные Указом от 7 мая 1826 г., наряду с парадными, будничные мундиры членов Государственного совета. Они имели покрой, аналогичный парадным, и носились с темно-зелеными панталонами. По воротнику будничного мундира, его обшлагам и карманным клапанам полагался, как и в случае с парадным, зубчатый борт (кант). Подробнее см.: Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. М., 2004. С. 246–247.
(обратно)296
Департамент промышленности, наук и торговли Государственного совета был образован 1 января 1900 г. для предварительного рассмотрения, до внесения их в Общее собрание, законопроектов по вопросам промышленности, торговли и народного просвещения. Упразднен 24 апреля 1906 г.
(обратно)297
Русское общество пароходства и торговли (РОПИТ) – судоходная компания, основанная в 1856 г. в качестве акционерного общества открытого типа и специализировавшаяся на торговых, почтовых и пассажирских перевозках по Черному и Средиземному морям. Находилось под контролем императорского правительства, которое назначало его директоров и половину членов Правления. После 1917 г. ликвидировано. Подробнее см.: Лемачко Б.В., Трифонов Ю.Н. Русское общество пароходства и торговли. СПб., 2009.
(обратно)298
2-й департамент Государственного совета – учреждение в составе реформированного Государственного совета, существовавшее с 24 апреля 1906 по 14 декабря 1917 г. Занимался рассмотрением отчетов финансово-кредитных учреждений и дел о строительстве железных дорог и об отводе и продаже участков казенной земли.
(обратно)299
Князь М.С. Волконский являлся сыном декабриста князя С.Г. Волконского.
(обратно)300
Главное управление уделов – подразделение Министерства Императорского двора и уделов, учрежденное в 1892 г. в результате преобразования Департамента уделов. В его компетенцию входило управление имениями, имуществами и доходами, которые обеспечивали бытовую сторону жизни членов Императорской фамилии. Ликвидировано 14 апреля 1917 г.
(обратно)301
Четыреххвостка – просторечное наименование всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права.
(обратно)302
Князь Александр Д. Оболенский.
(обратно)303
Князь Л.Д. Вяземский.
(обратно)304
Статья 39 Учреждения Государственного совета, утвержденного Николаем II 30 марта 1901 г., гласила: «Государственный совет в делах, ему предлагаемых, пользуется всею свободою мнений. Он обязан вникать в существо и силу подлежащих разрешению вопросов, не удаляться от существа их и основывать свои заключения на суждениях положительных» (СЗРИ. Изд. 1901 г. Т. I. Ч. II. Кн. 1).
(обратно)305
Имеется в виду создание законодательной Государственной думы, в результате чего Государственный совет был преобразован в верхнюю палату российского парламента. Подробнее о нем в этом качестве см.: Демин В.А. Верхняя палата Российской империи. 1906–1917. М., 2006.
(обратно)306
В 1906–1917 гг. назначенные члены Государственного совета делились на две категории: присутствующих в его Общем собрании и не присутствующих в нем. Последние 1 января каждого года выводились императором из категории присутствующих либо изначально назначались им в верхнюю палату без определения к присутствованию в ней. Подробнее об этом см.: Куликов С.В. Практика пополнения состава членов Государственного совета по назначению в 1906–1917 гг. // Проблемы социального и гуманитарного знания. СПб., 2000. Вып. 2. С. 91 – 114.
(обратно)307
И.П. Шипов, являясь назначенным членом Государственного совета с 13 января 1909 г., был назначен 22 апреля 1914 г. управляющим Государственным банком с оставлением членом Государственного совета, но 1 января 1915 г. по рекомендации И.Я. Голубева был выведен из числа присутствующих членов. Однако 29 декабря 1915 г. Николай II снова сделал И.П. Шипова присутствующим членом с оставлением управляющим Государственным банком (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 126, 136).
(обратно)308
Н.П. Гарин, назначенный присутствующим членом Государственного совета 24 ноября 1915 г., 30 декабря того же года был назначен председателем Особого по делам г. Петрограда присутствия.
(обратно)309
Комитет съездов представителей русских земельных банков – распорядительный орган корпоративной организации русских акционерных земельных банков в конце XIX – начале XX в.
(обратно)310
В конце 1916 г. И.Я. Голубев сочувствовал оппозиционному Прогрессивному блоку, объединившему к этому времени большинство фракций и групп IV Государственной думы и Государственного совета. Замещая 22–26 ноября 1916 г. председателя верхней палаты А.Н. Куломзина, И.Я. Голубев как исполняющий обязанности председателя «сам вперед, – отмечал В.И. Гурко, выборный член Государственного совета и один из лидеров Прогрессивного блока в верхней палате, – предупреждал оппозиционных членов Государственного совета, что критика с их стороны ныне вполне своевременна» (Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 99). Непосредственным итогом покровительства И.Я. Голубева Прогрессивному блоку в верхней палате стало принятие 26 ноября 1916 г. большинством Государственного совета формулы перехода к очередным делам, которая отличалась беспримерной для истории верхней палаты оппозиционностью и подразумевала «решительное устранение влияния на дела государственные скрытых безответственных сил» и «образование правительства, действительно сплоченного и объединенного определенною программою, опирающегося на доверие и сочувствие страны». Принятие резолюции означало не только то, что оппозиция в верхней палате сомкнулась еще теснее с оппозицией в нижней палате, стремившейся к установлению парламентаризма, но и переориентирование назначенной части Государственного совета с монарха на Думу. Подробнее об этом см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). С. 345–358.
(обратно)311
В знак протеста против состоявшегося 1 января 1917 г. увольнения его с должности вице-председателя Государственного совета и перевода из присутствующих в неприсутствующие члены верхней палаты И.Я. Голубев сложил с себя звание члена Государственного совета, о чем уведомил нового председателя верхней палаты И.Г. Щегловитова письмом от 2 января 1917 г. Указ об увольнении И.Я. Голубева, «согласно прошению», из Государственного совета, но с оставлением в званиях статс-секретаря Его величества и сенатора Николай II подписал 4 января. Однако упомянутые звания И.Я. Голубев с себя не слагал и в полную отставку не подавал.
(обратно)312
Имеется в виду Февральская революция.
(обратно)313
И.Я. Голубев умер 15 апреля 1918 г.
(обратно)314
Имеется в виду Уголовное уложение, утвержденное Николаем II 22 марта 1903 г. и заменившее собой Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. По мнению Г.Б. Слиозберга, Уголовное уложение 1903 г. отличалось «огромными техническими совершенствами». Его проект был переведен на некоторые иностранные языки и «справедливо вызвал одобрительную оценку со стороны европейских ученых-криминалистов» (Слиозберг Г.Б. Дореволюционный строй России. Париж, 1933. С. 296). Однако в силу необеспеченности целого ряда статей Уголовного уложения соответствующими законами оно вводилось не сразу и в полном объеме, а постепенно и по частям, начало чему положил Закон 7 июня 1904 г., предусматривавший, в частности, передачу политических дел в ведение обычных судов. Подробнее об этом см.: Пушкаренко А.А. Введение к «Уголовному уложению 22 марта 1903 г.» // Российское законодательство X–XX вв. М., 1994. Т. 9. С. 240–271. Тексты частей Уголовного уложения 1903 г., введенные в действие с 7 июня 1904 по 20 марта 1911 г., см.: Уголовное уложение 22 марта 1903 г. // Там же. С. 275–320.
(обратно)315
Э.В. Фриш был назначен председателем реформированного Государственного совета 20 мая 1906 г., скончался 31 марта 1907 г.
(обратно)316
А.А. Сабуров занимал пост министра народного просвещения с 24 апреля 1880 по 24 марта 1881 г.
(обратно)317
Несмотря на готовность А.А. Сабурова идти навстречу студентам в сфере их корпоративных нужд, на акте в Петербургском университете, проходившем в присутствии министра народного просвещения 8 февраля 1881 г., он получил пощечину от студента Папия Подбельского (см.: Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870 – 1880-х гг. М., 1964. С. 341).
(обратно)318
А.А. Сабуров стал сенатором 1 апреля 1881 г., членом Государственного совета – 1 июля 1899 г.
(обратно)319
На заседании Общего собрания Государственного совета 24 февраля 1903 г. обсуждался Журнал его соединенных департаментов 7 декабря 1902 г. по проекту Положения об управлении земским хозяйством в губерниях Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской. В Общем собрании 20 его членов, в т. ч. А.А. Сабуров, выступили за то, чтобы поручить министру внутренних дел В.К. Плеве подготовить проект о введении в Западных губерниях общего положения о земских учреждениях. Однако 41 участник заседания, в т. ч. С.Ю. Витте, поддержали проект В.К. Плеве, оперируя аргументами и данными, содержавшимися в записках, подготовленных Министерством финансов, о национальном составе крупных землевладельцев Западного края (см.: Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 117–118).
(обратно)320
1-й департамент Государственного совета был создан 24 апреля 1906 г. для рассмотрения дел по административным, гражданским и судебным вопросам и разрешения разногласий, возникавших при решении этих вопросов в общих собраниях Сената между Сенатом и министром юстиции по делам, подлежавшим его ведению, когда согласительное предложение министра не получало законного большинства, а также при разногласиях между Общим собранием Сената и Военным советом или Адмиралтейств-советом. Упразднен в 1917 г.
(обратно)321
По повелению Александра II от 11 февраля 1881 г. графу А.П. Игнатьеву, после назначения его 11 января того же года начальником Штаба Гвардейского корпуса, было разрешено «сохранить навсегда» мундир лейб-гвардии Кавалергардского полка, которым он командовал с 18 декабря 1873 г.
(обратно)322
«Звездная палата» («Star Chamber») – существовавший в 1488–1641 гг. чрезвычайный суд при короле Англии. Получил название от места, где он заседал, – зала в Вестминстерском королевском дворце, потолок которого украшали позолоченные звезды. В переносном смысле – тайный штаб по организации расправы с противниками власти.
(обратно)323
В начале XX в. никаким влиянием при Дворе А.П. Игнатьев не пользовался и не стремился к этому, поскольку, как вспоминал его сын А.А. Игнатьев, «с болью в душе сознавал ничтожество Николая II и мечтал о “сильном” царе, который-де сможет укрепить пошатнувшийся монархический строй. Кадетскую партию и все петербургское общество он считал оторванными от России и русского народа, который, по его мнению, оставался верным монархии. Банки – как состоящие на службе иностранного капитала – считал растлителями государственности». Манифест 17 октября 1905 г. А.П. Игнатьев презирал «как ненужную уступку». «Мы попали в тупик, – говорил он в это время сыну, – и придется, пожалуй, пойти в Царское [Село] с военной силой и потребовать реформ». Под «реформами» А.П. Игнатьев понимал меры, которые содействовали бы «укреплению монархического принципа. Спасение он видел в возрождении старинных русских форм управления, с самодержавной властью царя и зависимыми от царя начальниками областей. Для осуществления этих принципов он был готов даже на государственный переворот». «Вот и думаю, – признавался А.П. Игнатьев сыну, – можно положиться из пехоты на Вторую гвардейскую дивизию, как на менее привилегированную, а из кавалерии – на полки, которые мне лично доверяют: кавалергардов, гусар, кирасир, пожалуй, казаков». А.П. Игнатьев даже показывал А.А. Игнатьеву «список кандидатов на министерские посты в будущем правительстве» (Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 20, 21).
(обратно)324
А.П. Игнатьева убил 9 декабря 1906 г. эсер С.Н. Ильинский в здании Тверского губернского земского собрания, гласным которого граф являлся.
(обратно)325
С.Ю. Витте был назначен управляющим Министерством финансов 30 августа 1892 г.
(обратно)326
Отец В.К. Плеве, отставной статский советник Константин Григорьевич Плеве, происходил, согласно его формулярному списку, «из иностранцев». Будучи реформатского вероисповедания, он присягнул на подданство России в 1842 г. Только в 1891 г. определением Сената К.Г. Плеве, по полученному им ордену, вместе с детьми был признан в потомственном дворянстве (РГИА. Ф. 1343. Оп. 27, ч. 2. Д. 3344. Л. 5, 24). «Происхождение Вячеслава Константиновича, – признавал С.Е. Крыжановский, – было действительно темное. По словам Н.Н. Покровского, отец его знавал деда Вячеслава Константиновича, состоявшего кистером при лютеранской церкви в местечке Кейданы Ковенской губернии; был он, как утверждала местная молва, выкрестом из евреев и был женат на польке из мелкой ковенской шляхты по фамилии Минькевич. Сын его, отец Вячеслава Константиновича, был в молодости не то почтмейстером, не то учителем в городе Мещовске, где женился на мелкопоместной дворянке. Впоследствии он служил в Варшаве по учебной части и вращался преимущественно в польских и ополяченных кругах. Наружность его, по отзывам близко знавших, являла резкие черты еврейского типа, как бы подтверждая слухи о том, что отец его был по рождению евреем. Когда старик умер в Санкт-Петербурге, то его долго не могли хоронить, так как нельзя было доказать его вероисповедание. Вячеслав Константинович объявил его сначала реформатом, потом лютеранином, но пасторы требовали документов, а их Плеве представить не мог или почему-то не хотел. Дело это, принимавшее уже и облик скандала, уладил, как тогда говорили, Эрштрем, в то время управляющий Канцелярией финляндского статс-секретаря, чем и положил будто бы основание своему быстрому повышению». «Молва утверждала, – вспоминал С.Е. Крыжановский, – что Плеве, рожденный от брака лютеранина с православной, крещен был, при частом в то время обходе закона о смешанных браках, в лютеранство. Позднее, будучи взят на воспитание знатным польским семейством, перешел в лоно католической церкви и, наконец, при поступлении на службу принял православие, дважды переменив таким образом веру. Говорили, что он был в действительности незаконным сыном польского магната, которого предал в начале [18]60-х годов в руки полиции по какому-то политическому делу (утверждение П. Струве)» (Крыжановский С.Е. Заметки русского консерватора / Публ. С.В. Пронкина // Вопросы истории. 1997. № 2/3. С. 130).
(обратно)327
В.К. Плеве учился в 1-й Варшавской гимназии в 1857–1863 гг., но затем переехал в Калугу, на место службы отца, и перешел в местную Николаевскую гимназию, которую и окончил в 1863 г. с золотой медалью.
(обратно)328
Д.С. Сипягин был смертельно ранен 2 апреля 1902 г. террористом-эсером С.В. Балмашевым в вестибюле Мариинского дворца (С. – Петербург), где размещались Комитет министров и Государственный совет.
(обратно)329
В.К. Плеве погиб 15 июля 1904 г. в результате террористического акта, осуществленного эсером Е.С. Сазоновым.
(обратно)330
Отдел промышленности Министерства финансов был создан 5 июня 1900 г. В его компетенцию входили заведование делами промышленности (кроме горной), проведение правительственной политики по рабочему вопросу и решение дел об устройстве и содержании промышленных заведений, о надзоре за благоустройством на фабриках и заводах, о таможенном тарифе, о художественно-промышленных выставках, об ограждении прав промышленной собственности. 27 октября 1905 г. переведен в состав Министерства торговли и промышленности, 26 октября 1917 г. – в ведение Наркомата торговли и промышленности.
(обратно)331
Законопроект о личной ответственности предпринимателей за несчастные случаи на производстве мог бы стать законом еще в 1893 г., если бы не С.Ю. Витте. Хотя тогда законопроект и встретил сопротивление К.П. Победоносцева и А.А. Половцова на заседании Государственного совета 24 мая 1893 г., но, по воспоминаниям С.Ю. Витте, получил поддержку самого Александра III (Из архива С.Ю. Витте: Воспоминания: В 2 т. СПб., 2003. Т. 1. С. 329–331). Тем не менее, идя навстречу промышленникам, министр финансов отказался от проведения законопроекта под предлогом того, что страхование рабочих «дело очень сложное, требующее тщательной разработки и большой постепенности» (Представление Министерства финансов в Государственный совет «Об изменении штатов Департамента торговли и мануфактур» с изложением целей, принципов и мер торгово-промышленной политики. 30 октября 1893 г. // Судьбы России. Доклады и записки государственных деятелей императорам о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX в.) / Сост. Л.Е. Шепелев. СПб., 1999. С. 313). К законопроекту 1893 г. С.Ю. Витте вернулся только после того, как Николай II повелением от 15 марта 1899 г. счел «благовременным» поставить на повестку дня страхование рабочих за счет капиталистов, находя необходимым «путем законодательных мер удовлетворить, при денежном содействии самих предпринимателей, назревшей потребности ограждения нравственных и материальных интересов фабричного люда» (Об основах экономической политики царского правительства в конце XIX – начале XX в. // Документы по истории монополистического капитализма в России. М., 1959. С. 208). Закон (оформленный как Мнение Государственного совета) «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности» был утвержден императором 2 июня 1903 г. (ПСЗ-III. Т. XXIII. № 23060). В том же законе Николай II поручил министру финансов войти в установленном порядке в течение 5 лет, с 1 января 1904 г., с представлением о введении обязательного, т. е. государственного, страхования рабочих. Соответствующие законы были приняты в 1912 г.
(обратно)332
Ср. с описанием этого эпизода, данным В.Б. Лопухиным, другом и тогдашним сослуживцем Н.Н. Покровского по Государственной канцелярии: «Диверсию внес приглашенный в заседание для дачи объяснений мой двоюродный брат, директор Департамента полиции Алексей Александрович Лопухин. Свойственный ему мальчишеский темперамент, лишавший его сплошь и рядом чувства меры, занес его и на этот раз. Не испросив инструкций своего принципала В. К. Плеве, Алексей Лопухин стал болтать о том, что происходило на самом деле, но раскрывать что во всей обнаженности отнюдь не входило в виды Министерства внутренних дел. Слово “революция” не сходило с языка Алексея Лопухина. Он напугал старцев Государственного совета до полусмерти. Скука прошла. Старцы жадно ловили каждое его слово. Витте ликовал. Враждебное ему ведомство лило воду на его мельницу. Мало того, настаивая на наличии революции à outrance [в преувеличении (фр.)], сотрудник В.К. Плеве утверждал предпосылку к брошенному министру внутренних дел политическим его противником Сергеем Юльевичем Витте обвинению в том, что насаждаемый Плеве порядок хуже всякого беспорядка. Сенсация была произведена значительная. Перепуганные старцы ходили к председателю Государственного совета великому князю Михаилу Николаевичу. Решено было на следующее заседание пригласить В.К. Плеве. И великий князь, сам встревожившийся не на шутку, обещал, что и он придет на заседание соединенных департаментов послушать Плеве. Обычно великий князь присутствовал и председательствовал только в общих собраниях Государственного совета. Памятно мне это заседание. Большое стечение членов Государственного совета. Михаил Николаевич расположился в сторонке на одном из маленьких диванов, расставленных вдоль боковых стен зала заседаний. По левую руку от председателя Чихачева, рядом с ним, сел Плеве. Алексей Лопухин на этот раз вызван не был. “В предшествовавшем заседании, – начал Плеве, – соединенным департаментам были представлены объяснения о внутреннем положении в Империи директором Департамента полиции. Освещение им этого положения не воспроизводит действительной его картины и не отвечает тем совершенно точным сведениям, которыми я располагаю в исчерпывающей полноте. Как мне передавали, было произнесено слово, которое я лично не произношу за отсутствием к тому поводов. И не могу произнести иначе, как с чувством глубокого отвращения. Это слово – революция. Надо называть вещи своими именами. А в нашей действительности отсутствует то, что разумеется под этим понятием. Происходят, правда, время от времени бьющие по нервам возмутительные террористические акты. Убийство министра. Убийство губернатора. Но они не характеризуют того, что разумеется под тем неудачно произнесенным словом. Акты эти врываются в жизнь, мгновенно нарушая мирное ее течение. Но оно столь же мгновенно восстанавливается. Они не вносят глубоких потрясений. Не оставляют возмущенной стихии. Напрашивается сравнение с гладкою поверхностью пруда, мирно покоящегося в своих берегах. Брошен камень. Поверхность возмущена. От места падения камня разбегаются концентрические круги все меньшей волны по мере удаления от места возникновения и замирают у берегов. Перед нами вновь спокойное зеркало пруда. Так и в нашем положении. Нет элементов, способных не то, чтобы разрушить, но и поколебать наши освященные веками устои. Нет поводов для опасений. И мы лишь не гарантированы, по крайней мере на ближайшее время, от повторения единичных политических преступлений”. Так говорил В.К. Плеве всего примерно за год перед тем, как был в клочья разнесен бомбою Сазонова, и за два года перед лишь не опознанными в качестве подлинной революции революционными событиями 1905 г. Но Плеве не был искренен. Он знал, конечно, все и более того, что знал Алексей Лопухин. И выводы последнего были, конечно, выводами самого Плеве. Самые эти выводы, очевидно, делались по докладам и на докладах директора Департамента полиции министру внутренних дел. Но Алексей Лопухин по свойственному ему легкомыслию выболтал то, чего не хотел высказывать его начальник. Плеве же, ведя определенную политику и естественно желая, чтобы вести ее ему не мешали, за лучшее и испытанное к тому средство почитал трафаретные заверения: по вверенной мне части все обстоит благополучно. Плеве успокоил Государственный совет. Ему была тут же заявлена благодарность присутствовавших за “ценные и вполне убедительные” разъяснения, и соединенные департаменты перешли к обсуждению подробностей проекта. Великий князь Михаил Николаевич и Плеве удалились. Удивительным представляется, что Плеве, определенно дисквалифицировав Алексея Лопухина, притом в таком высоком собрании как Государственный совет, все-таки оставил его в должности» (Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 123–124).
(обратно)333
Закон об учреждении института фабрично-заводских старост Николай II утвердил 10 июня 1903 г. (ПСЗ-III. Т. XXIII. № 23122), но петербургские и московские предприниматели, недовольные принятием этого закона, всячески затягивали его осуществление. На петербургских предприятиях старосты стали появляться только в конце февраля 1904 г. (см.: Кризис самодержавия в России. С. 89–90).
(обратно)334
К последней фамилии Н.Н. Покровский сделал подстрочное примечание: «Проверить». Генерал П.П. Дурново был назначен членом Государственного совета 11 августа 1904 г., а 24 декабря того же года определен в Департамент государственной экономии. Так что в данном случае память Н.Н. Покровскому не изменила.
(обратно)335
То есть Русско-японской войны 1904–1905 гг.
(обратно)336
Имеется в виду Особое совещание об ассигновании кредитов, вызываемых военными обстоятельствами, действовавшее с начала Русско-японской войны до 19 мая 1906 г.
(обратно)337
Многие современники считали, вслед за С.Ю. Витте, виновниками Русско-японской войны представителей «безобразовской клики» – близкой к Николаю II группы лиц во главе со статс-секретарем Его величества А.М. Безобразовым. В группу, начавшую складываться в 1898 г., в разное время входили контр-адмирал А.М. Абаза, великий князь Александр Михайлович (до 1900 г.), адмирал Е.И. Алексеев (до 1903 г.), один из директоров Невского судостроительного завода М.О. Альберт, егермейстер И.П. Балашев, генерал К.И. Вогак, отставной гвардейский офицер В.М. Вонлярлярский, член Государственного совета граф И.И. Воронцов-Дашков (до 1900 г.), дворцовый комендант П.П. Гессе, отставной гвардейский офицер А.И. Звегинцев, член Государственного совета граф А.П. Игнатьев, полковник А.И. Мадритов, бывший генеральный консул России в Корее Н.Г. Матюнин, министр внутренних дел В.К. Плеве (с 1902 г.), отставной гвардейский офицер М.В. Родзянко, генерал князь Ф.Ф. Юсупов граф Сумароков-Эльстон и др. Непосредственная цель безобразовцев состояла в фактическом подчинении России Северной Кореи через организацию на ее территории фиктивных коммерческих предприятий, противником чего являлся С.Ю. Витте, полагавший, что усиление влияния России в Корее вызовет недовольство Японии и приведет к Русско-японской войне. Союзниками С.Ю. Витте в противостоянии безобразовской клике были военный министр А.Н. Куропаткин и министр иностранных дел граф В.Н. Ламздорф. Безобразовцы выступали за отставку Витте, причем сложность отношений между ними предопределялась тем, что организованные группой предприятия существовали на Дальнем Востоке наряду с предприятиями Министерства финансов и носили такой же мнимо коммерческий характер, как и виттевские. Спор между С.Ю. Витте и безобразовцами возник не по поводу разных методов дальневосточной политики, а по поводу того, кому должна принадлежать монополия в реализации этой политики – министр финансов хотел, чтобы предприятия конкурентов контролировал зависимый от него Русско-Китайский банк. Основным из предприятий безобразовцев стала лесопромышленная концессия на реке Ялу в Корее, с 1901 г. принадлежавшая Русскому лесопромышленному товариществу на Дальнем Востоке, в правление которого входили члены группы. В 1900 г. безобразовцы выдвинули проект создания Восточно-азиатской промышленной компании и внесли ее Устав в Комитет министров, однако С.Ю. Витте, сославшись на Боксерское восстание в Китае, добился разрешения Николая II «не вносить это дело в Комитет, покуда не успокоятся события на Дальнем Востоке». Впрочем, в апреле 1901 г. С.Ю. Витте отнесся «сочувственно» к идее образования компании и в январе 1903 г. открыл А.М. Безобразову кредит в 2 миллиона рублей (см.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 320). Весной 1902 г. при поддержке С.Ю. Витте было создано Маньчжурское горное товарищество, с которым в 1903 г. объединилось Русское лесопромышленное товарищество. Неоднозначный характер отношений министра финансов и безобразовцев выразился на двух заседаниях Особого совещания под председательством Николая II по делам Дальнего Востока. На первом заседании, 26 марта 1903 г., рассматривался вопрос о превращении предприятия на Ялу в акционерное общество, причем С.Ю. Витте, как и другие министры, поддержал данную идею, в связи с чем В.И. Гурко отмечал: «…если признавать, что непосредственной причиной войны с Японией явилась эксплуатация нами лесов поблизости от устьев Ялу, то виновны в этом все министры, участвовавшие в совещании 26 марта 1903 г., а больше других тот же Витте, а отнюдь не Плеве, как это Витте впоследствии всюду утверждал» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 331). Второе заседание Особого совещания, 7 мая 1903 г., обсуждало записку К.И. Вогака, содержавшую обоснование «нового курса». К.И. Вогак полагал, что русская «политика уступок» Японии в Корее «приведет к войне», а потому надо подобную политику «окончить». На заседании С.Ю. Витте и В.Н. Ламздорф, по сведениям А.Н. Куропаткина, подтверждаемым журналом заседания, «сдали» и «поклонились новым светилам – Безобразову и Вогаку, которые доминировали» (см.: Куропаткин А.Н. Пролог маньчжурской трагедии // Русско-японская война. Из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. С. 9, 20, 21, 22, 23, 33). Результатом победы безобразовского курса стали назначение дальневосточным наместником Е.И. Алексеева и создание Особого комитета под председательством Николая II по делам Дальнего Востока. А.М. Безобразов являлся его членом, А.М. Абаза – членом и управляющим делами Комитета, Н.Г. Матюнин – помощником управляющего делами. Еще одним итогом победы безобразовцев стало перемещение С.Ю. Витте в августе 1903 г. с поста министра финансов на пост председателя Комитета министров. Только выйдя из игры, он заявил себя открытым противником безобразовской группы, считая ее виновницей Русско-японской войны 1904–1905 гг. Между тем В.И. Гурко полагал, что «первым виновником» был С.Ю. Витте, поскольку «именно он втравил Россию во всю дальневосточную авантюру» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 342, 343). Подробнее о причинах и виновниках Русско-японской войны см.: Романов Б.А. Очерки дипломатической истории Русско-японской войны. М.; Л., 1955; Лукоянов И.В. «Не отстать от держав…»: Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в. СПб., 2008; Схиммельпеннинк ванн дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. М., 2009.
(обратно)338
Манифест «Об открытии военных действий протия Японии» Николай II подписал 27 января 1904 г.
(обратно)339
Имеется в виду подавление Боксерского восстания (восстания ихэтуаней) – массового народного движения китайцев, имевшего антизападный и антихристианский характер. Символом восставших являлось изображение кулака, поэтому европейцы и называли их боксерами. Восстание происходило в 1898–1901 гг., причем его пик пришелся на лето 1900 г., когда боксеры осадили посольский квартал в Пекине, и было подавлено благодаря действиям интернационального военного отряда, сформированного Англией, Германией, Францией и другими западноевропейскими державами, а также Россией, США и Японией.
(обратно)340
Главное управление торгового мореплавания и портов, на правах министерства, было учреждено 7 ноября 1902 г. В состав нового ведомства, которое возглавил великий князь Александр Михайлович, из Министерства финансов был передан Отдел торгового мореплавания, Совет по делам торгового мореплавания и Комитет по портовым делам, из Министерства путей сообщения – Отдел торговых портов. В октябре 1905 г. вошло в состав вновь образованного Министерства торговли и промышленности.
(обратно)341
В.Н. Коковцов был назначен управляющим Министерством финансов 5 февраля 1904 г., утвержден в должности министра финансов 28 марта того же года.
(обратно)342
С.В. Рухлов был назначен министром путей сообщения 29 января 1909 г.
(обратно)343
А.Н. Куропаткин с поста военного министра был назначен 7 февраля 1904 г. не главнокомандующим, каковым с 28 января являлся адмирал Е.И. Алексеев, а лишь командующим Маньчжурской армией. Назначение А.Н. Куропаткина главнокомандующим всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке последовало только 13 октября 1904 г.
(обратно)344
З.П. Рожественский в апреле 1904 г. был назначен командующим 2-й Тихоокеанской эскадрой, созданной на базе Балтийского флота. В октябре того же года эскадра была отправлена на Дальний Восток из Либавы.
(обратно)345
Морское сражение, происходившее 14–15 мая 1905 г. в Цусимском проливе между русским (2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры) и японским флотами и закончившееся победой последнего.
(обратно)346
Н.Н. Покровский имеет в виду назначение 26 августа 1904 г. министром внутренних дел князя П.Д. Святополк-Мирского, который объявил о начале эры «доверия» между властью и обществом и представил Николаю II всеподданнейший доклад, содержавший развернутую программу либеральных реформ и легший в основу императорского Указа 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». Глава 4
(обратно)347
Государственный поземельный налог был введен законом 10 декабря 1874 г. для 52 губерний Европейской России посредством реформирования существовавшего с 1853 г. государственного земского сбора. Налогу подлежали все земли, облагавшиеся местными сборами на основании Устава о земских повинностях.
(обратно)348
Введение налога на городские недвижимые имущества последовало по указу 1 января 1863 г. взамен отмененного подушного налога, взимавшегося с мещан.
(обратно)349
При раскладочной системе заранее установленная сумма разверстывается между плательщиками в абсолютных цифрах.
(обратно)350
Промысловое налогообложение, установленное законом 8 июня 1898 г., состояло из двух частей. Основной (патентный) налог колебался от 500 до 1500 руб. для промышленных предприятий и от 12 до 500 руб. для торговых. Дополнительный налог был различен для неакционерных и акционерных предприятий. Первые должны были уплачивать так называемый раскладочный сбор, сумма которого определялась на 3 года в законодательном порядке и затем разверстывалась по губерниям, уездам и отдельным предприятиям, исходя из местных условий и экономического состояния предприятий. Кроме того, неакционерные предприятия уплачивали процентный сбор в размере 3,3 % с той части прибыли, которая в 30 раз превышала сумму основного промыслового налога. Акционерные компании должны были уплачивать налог с основного капитала и с прибыли (процентный сбор). Налог с капитала составлял 0,15 %, т. е. 15 коп. с каждой сотни рублей капитала (в счет его засчитывалась уже уплаченная сумма основного промыслового налога). Сбор с прибыли взимался в размере от 3 % до 6 %, если прибыль была более 3 %, но менее 10 %; при большей прибыли уплачивались 6 % со всей суммы прибыли плюс 5 % с излишка прибыли сверх 10 %.
(обратно)351
Земскими сборами, за счет которых формировались бюджеты органов земского самоуправления, облагались земли, строения, торговые и промышленные заведения и свидетельства на право торговли. Земства сами вырабатывали правила оценки облагаемых ими имуществ, причем эти правила иногда значительно отличались по губерниям и представляли собой весьма пеструю картину. Городская недвижимость облагалась земскими сборами в размере 25 % взимаемого с нее казенного налога, а промышленные и торговые здания – в размере, соответствующем сбору с городских имуществ. Торговые документы облагались земскими сборами в зависимости от купеческой гильдии.
(обратно)352
Городские сборы, пополнявшие бюджеты органов городского самоуправления, взимались с чистого дохода или стоимости городской недвижимости (наряду с земским сбором с этой недвижимости), с купеческих свидетельств и патентов, с трактирных заведений, а также с нотариальных актов, за клеймение мер и весов и с аукционных продаж. У городов было также право вводить иные формы обложения, например за пользование городскими имуществами.
(обратно)353
Мирские повинности – повинности, отправлявшиеся с 1861 г. крестьянским обществом, сельским или волостным, для покрытия его внутренних потребностей. Мирские сборы, образовывавшие бюджеты органов крестьянского сословного самоуправления, взимались наряду с установленными земствами сборами за землю. Крестьяне уплачивали также сборы с паспортов, на плату пастухам и на прочие мирские нужды. Применявшаяся при взимании мирских сборов круговая порука была частично отменена законом 12 марта 1903 г., а окончательно – указом 5 октября 1906 г.
(обратно)354
Налог в 5 % на доходы от денежных капиталов (банковских вкладов и ценных бумаг) был введен законом 20 мая 1885 г. Законами 12 января 1887 г. и 23 мая 1894 г. таким налогом обложили доходы от железнодорожных акций. Законом 13 июня 1905 г. были привлечены к обложению сбором в 5 % доходы от капиталов, ссуженных облагаемым промысловым налогом промышленным предприятием.
(обратно)355
Государственный квартирный налог был введен указом 14 мая 1893 г. и взимался с квартиронанимателей в городах. По внесению этого налога все города Российской империи подразделялись на пять классов в зависимости от наемной цены квартир. Для квартиросъемщиков с разными доходами устанавливались соответствующие оклады этого налога.
(обратно)356
Подушная подать была введена в 1718 г. Отменена рядом законов: 18 мая 1882, 14 мая 1883 и 28 мая 1885 г., причем последний из них подразумевал отмену подушной подати практически для всех категорий крестьянского населения с 1 января 1886 г.
(обратно)357
При освобождении крепостных крестьян в 1861 г. они получали от государства выкупную ссуду, которую должны были погасить в течение 49 лет по 6 % ежегодно (выкупной платеж), из них 0,5 % предназначались на покрытие расходов правительства, 5,5 % – на уплату процента и погашение долга. Выкупные ссуды и платежи устанавливались из расчета оброка, который крестьяне платили до реформы. Оброк капитализировался из 6 %, и от полученной суммы (выкупная оценка) помещику выдавались 75–80 %. Остальные 20–25 % составлял так называемый дополнительный платеж, который крестьяне вносили единовременно.
(обратно)358
В изданном по личной инициативе Николая II Манифесте 3 ноября 1905 г. «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского населения», сопровождавшемся соответствующими указами, говорилось об уменьшении выкупных платежей с 1 января 1906 г. наполовину и прекращении их с 1 января 1907 г.
(обратно)359
Наследственный налог был введен по закону 15 июня 1882 г. и взимался при переходе имуществ от одного лица к другому путем наследования или дарения. Со стоимости имущества, переходящего к супругам и родственникам по нисходящей и восходящей линиям (1-я категория), взимался 1 %, к братьям, сестрам, падчерицам и пасынкам (2-я категория) – 4 %, к родственникам по боковой линии (3-я категория) – 6 %, к остальным лицам (4-я категория) – 8 %. Закон 13 апреля 1905 г. увеличил ставки налога, установленного 15 июня 1882 г., на 50 %.
(обратно)360
Подразумевается Комиссия для пересмотра системы податей и сборов, заседавшая при Министерстве финансов с 10 июля 1859 г. по 9 июля 1882 г. и имевшая целью изыскание мер к увеличению государственных доходов путем пересмотра системы существовавших податей и сборов и введения новых налогов. Неоконченные дела Комиссии и собранные ею материалы были переданы в соответствующие департаменты Министерства финансов и в дальнейшем послужили основой для разработки ряда налоговых реформ.
(обратно)361
Департамент окладных сборов – учреждение в составе Министерства финансов, образованное 15 апреля 1863 г. и ведавшее прямыми (окладными) налогами (податями), а также повинностями, ревизионной частью и сборами за свидетельства на право торговли. Был преобразован 15 июля 1919 г. в Главное налоговое управление Наркомфина РСФСР.
(обратно)362
Совет министра финансов – коллегиальный совещательный орган, учрежденный 25 июня 1811 г. для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности министерства. Председателем Совета был (по должности) министр финансов, его членами являлись (также по должности) товарищи министра, директора департаментов и других подразделений Минфина, а также «особенные члены», назначавшиеся императором. Упразднен 25 ноября 1917 г.
(обратно)363
Государственный деятель Франции первой половины XVII в. кардинал А. – Ж. дю Плесси, герцог де Ришелье отличался изяществом своего облика и манер.
(обратно)364
Инициатором создания при казенных палатах (губернских органах Министерства финансов) института податных инспекторов являлся Н.Х. Бунге, видевший в этом институте зародыш будущей единой системы податного управления. В законопроекте, который он внес в Государственный совет 6 ноября 1884 г., предлагалось поручить податным инспекторам выявление облагаемых налогами доходов, надзор за поступлением окладных сборов и ревизию уездных казначейств. Александр III встал на сторону министра финансов и утвердил законопроект 30 апреля 1885 г.
(обратно)365
Комиссия по пересмотру узаконений о земском обложении работала с 1887 по 1893 г., а Комиссия по пересмотру узаконений о взимании с крестьян окладных сборов – в 1893 г.
(обратно)366
Законом 30 апреля 1885 г. была учреждена должность податных инспекторов, на которых вначале был возложен надзор за доходностью подлежавших обложению торгов и имуществ, а впоследствии надзор за исправностью платы налогов вообще. «Личный состав податной инспекции, представленный почти полностью, за редкими исключениями, лицами с высшим образованием, – вспоминал В.Б. Лопухин, – был повсеместно превосходный, даже на окраинах, куда люди отправлялись вообще неохотно и было неосмотрительно принято, особенно по другим ведомствам, “спускать для исправления” худшие элементы. Налоговое дело настолько тонкое, требует такой гибкости, широты взгляда, проницательности и такта, что его невозможно вверять людям недостаточно развитого интеллекта. Это было хорошо понято финансовым ведомством, и в результате институт податных инспекторов, благодаря соответствующему подбору, стоял высоко и внушал к себе вполне заслуженное уважение» (Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 169).
(обратно)367
Податной ревизор (ревизор по податной части) – чиновник Департамента окладных сборов.
(обратно)368
Казенная палата – местное учреждение Министерства финансов, имевшееся в каждой губернии и выполнявшее финансово-хозяйственные функции.
(обратно)369
Подробнее о судьбе подоходного налога в России начала ХХ в. см.: Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика России 1914–1917 гг. СПб., 2002. С. 168–198.
(обратно)370
Вопрос о введении подоходного налога рассматривался в мае 1905 г. в образованной при Министерстве финансов Комиссии под председательством Н.Н. Кутлера по вопросу о введении подоходного налога в России. Членами Комиссии, кроме упомянутых Н.Н. Покровским, были он сам, А.И. Вышнеградский и М.М. Федоров (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 174). Комиссия Н.Н. Кутлера пришла к заключению, что с точки зрения финансовой науки и практики «подоходное обложение при пропорциональных ставках не может считаться равномерным. Прогрессия же имеет основание только при общеподоходном личном налоге, взимаемом с совокупности всех доходов данного лица. Только такой доход, определенный за вычетом не только издержек производства, как в реальном обложении, но и платежей по долговым обязательствам, представляет собой имущественную личность плательщика. Поэтому все новейшие законодательства решительно вступили на почву установления не отдельных сборов с доходов от различных источников, а общеподоходного налога с прогрессивными ставками и с полным освобождением известного минимума от обложения» (Программа вопросов, вносимых на рассмотрение Государственной думы. Не позднее 23 апреля 1906 г. // Совет министров Российской империи 1905–1906 гг.: Документы и материалы. Л., 1990. С. 462).
(обратно)371
К подготовке законопроекта о введении подоходного налога Н.Н. Покровский, как директор Департамента окладных сборов, приступил, судя по всему, еще в конце мая 1905 г. «Николай Николаевич, – вспоминал В.Б. Лопухин, – еще до отъезда своего в отпуск успел собрать для этой цели обширный исторический, научный и справочный материал, включая иностранное законодательство о подоходном налоге с относящимися к нему инструкциями. Материал этот был сведен в отдельные обстоятельные записки, иностранные законы и инструкции переведены на русский язык, и все было отпечатано для обсуждения законопроекта в ведомственных комиссиях и для последующего законодательного рассмотрения проектируемой меры» (Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 147). Подробнее о ходе подготовки законопроекта см.: Там же. С. 147–149, 158.
(обратно)372
Имеется в виду издание Манифеста 17 октября 1905 г.
(обратно)373
Министерство торговли и промышленности – центральное ведомство по надзору за частной промышленностью и торговлей, управлению казенной промышленностью, проведению правительственной политики в области рабочего вопроса. Учреждено 27 октября 1905 г.
(обратно)374
Подразумевается реформа городского налогообложения в Царстве Польском, основанная на принципе соответствия нормы обложения доходности имущества. Утвержденное Николаем II 3 июня 1902 г. Мнение Государственного совета утвердило новое Положение о налоге с городских недвижимых имуществ (ПСЗ-III. Т. XII. Отд. I. № 21568). Основанием обложения городских недвижимых имуществ должна была служить их доходность, для определения которой предполагалось через каждые пять лет проводить общую перепись. Налог с городских недвижимых имуществ взимался в размере 10 % от чистой доходности имуществ. Общее управление сбором налога поручалось местной казенной палате и созданному при ней губернскому по налогу с городской недвижимости присутствию. Оно определяло оклад налога на основании заявлений, подававшихся владельцами объектов недвижимости. Новая система налогообложения городских недвижимых имуществ была введена 1 января 1904 г. Подробнее об этом см.: Правилова Е.А. Финансы Империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917. М., 2006. С. 189–190.
(обратно)375
Имеются в виду следующие труды Н.К. Бржеского: Государственные долги России: Историко-статистическое исследование. СПб., 1884; Податная реформа. Французские теории XVIII столетия. СПб., 1888; По поводу предстоящего пересмотра Устава о земских повинностях. СПб., 1894; Недоимочность и круговая порука сельских обществ: Историко-критический обзор действующего законодательства, в связи с практикой крестьянского податного дела. СПб., 1897; Очерки юридического быта крестьян. СПб., 1902; Очерки аграрного быта крестьян. СПб., 1908 и др.
(обратно)376
См.: Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных Его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 гг. СПб., 1912.
(обратно)377
См.: Министерство финансов. 1802–1902: В 2 ч. СПб., 1902.
(обратно)378
Подготовленная под руководством Н.Н. Покровского программа налоговых реформ, которыми, по его мысли, должно было сопровождаться введение подоходного налога, поступила к министру финансов И.П. Шипову, который 7 марта 1906 г. внес ее на рассмотрение кабинета С.Ю. Витте. Программа предусматривала преобразование всей системы прямых налогов, поставив целью, с одной стороны, «достижение возможной равномерности обложения, а с другой – облегчение податного бремени, лежащего на широких массах неимущего населения». На первое место ставилось изменение погубернских окладов государственного поземельного налога, причем законодательное предположение о таком изменении могло быть «безотлагательно внесено на законодательное рассмотрение». Согласно программе Н.Н. Покровского, поддержанной И.П. Шиповым, в первую очередь подлежали внесению в Государственную думу: проект подоходного налога, переработанное Положение о пошлинах с наследств, проект реформы налога с городских недвижимых имуществ и пересмотренные погубернские оклады государственного поземельного налога. Во вторую очередь на рассмотрение Думы могли быть переданы проекты налогов промыслового, с внегородских строений и с дохода от капиталов, отданных под залог недвижимостей. Меморию Совета министров 7 марта 1906 г., содержавшую программу Н.Н. Покровского, Николай II утвердил 14 марта того же года (Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 323–327). Министерство финансов внесло в I Государственную думу законопроекты об изменении расписания средних, по губерниям, окладов государственного поземельного налога на десятину удобной земли и леса и о пересмотре положения о налогах с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках (Савич Г.Г. Новый государственный строй России: Справочная книга. СПб., 1907. С. 146). Однако I Дума рассматривать их не стала. На заседании правительства 12 января 1907 г. в числе реформ, законопроекты о которых министры запланировали внести во II Государственную думу, имелось и «преобразование налога с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках в целях перехода от раскладочной системы к окладной». Постановление Совета министров Николай II утвердил 15 февраля (Особый журнал Совета министров 12 января 1907 г. «По вопросу о законопроектах, подлежащих внесению в Государственную думу» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1907 год. М., 2011. С. 78–81). При окладной системе, в отличие от раскладочной, устанавливался процент, который взимался с каждой окладной единицы.
(обратно)379
Законопроект о реформе налога с городских недвижимых имуществ был внесен министром финансов В.Н. Коковцовым во II Государственную думу 22 февраля 1907 г., откуда 29 марта попал в Финансовую комиссию. После роспуска II Думы и открытия III Думы В.Н. Коковцов 16 ноября 1907 г. внес тот же законопроект в нижнюю палату, которая тогда же передала его в Финансовую комиссию.
(обратно)380
Финансовая комиссия Государственной думы – постоянная комиссия, рассматривавшая законопроекты о налогах, пошлинах и др. государственных доходах, об отчуждении государственных имуществ, о земском и городском обложении.
(обратно)381
Бюджетная комиссия Государственной думы – постоянная комиссия, рассматривавшая вносившийся в нее правительством бюджет, обычно тратя на это 3–4 месяца.
(обратно)382
Первое обсуждение законопроекта в Общем собрании III Думы происходило 20 и 23 ноября 1909 г. Для получения заключения по внесенным в него поправкам законопроект передали на обсуждение соединенного заседания Комиссий финансовой и по городским делам. Второе обсуждение законопроекта состоялось 9, 11 и 14 декабря 1909 г., третье – 10 февраля 1910 г. Наконец, 27 марта 1910 г. он прошел через Редакционную комиссию и был одобрен Думой.
(обратно)383
Союз 17 октября – политическая партия, названная в честь Манифеста 17 октября 1905 г. Руководствовалась идеологией либерализма, занимая центральный сегмент политического спектра.
(обратно)384
Описывая этот случай, В.Б. Лопухин вспоминал: «Николай Николаевич Покровский расхворался. У него протекал какой-то процесс в легких при высокой температуре. Болезнь не поддавалась лечению из-за ослабления организма вследствие переутомления. Между тем, был назначен к рассмотрению в Общем собрании Государственной думы прошедший через Финансовую ее комиссию наш большой законопроект о реформе налога с городских недвижимых имуществ. Защищать проект должен был министр или его товарищ. Так как Коковцов был совершенно не в курсе налоговых реформ, полностью предоставив проведение их Н.Н. Покровскому, то последний, несмотря на болезнь, решил поехать в Думу. <…> После перерыва Государственная дума сразу приступила к нашему законопроекту. Выступали с трибуны многие и говорили много. Николай Николаевич слушал внимательно, отмечая карандашом на бумажке существо каждого возражения. Выступил и Н.Н. Кутлер с довольно бестактною критикою проекта, который сам выдвигал в недавнюю сравнительно бытность его директором Департамента окладных сборов. На это выступление Кутлера отвечал с трибуны В.М. Пуришкевич. Он заявил, что вынужден констатировать аналогию между атакою законопроекта Кутлером и поведением героя известной крыловской басни, подрывавшего корни дуба. Ведь Кутлер вышел в люди, работая над им же в настоящее время опорочиваемой системою обложения. Весьма еще недавно он считал ее и целесообразною, и правильною. После значительно затянувшихся речей других думских депутатов попросил слова Н.Н. Покровский и, взойдя на трибуну, совершенно больной, едва держась на ногах, в речи, продолжавшейся более часа, блестяще опроверг все высказанные возражения твердым, ясным голосом, крепнувшим по мере развития его соображений, убедительно и со спокойным достоинством отстаивая все подвергавшиеся критике положения законопроекта. И законопроект значительным большинством собрания был принят, за ничтожными поправками, не имевшими значения существа» (Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 183–184).
(обратно)385
Комиссия по городским делам III Государственной думы – комиссия, созданная в 1909 г. и обсуждавшая законопроекты, имевшие отношение к городскому самоуправлению.
(обратно)386
Закон «О государственном налоге с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках, за исключением посадов губерний Царства Польского» 6 июня 1910 г. был утвержден царем. Текст закона см.: П.А. Столыпин: Программа реформ: Документы и материалы: В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 577–589.
(обратно)387
Согласно Закону 6 июня 1910 г. об обложении городской недвижимости, с 1 января 1912 г. прежняя раскладочная системы заменялась окладной и размер обложения устанавливался на 2 года, 1912-й и 1913-й, в процентах от чистого дохода, приносимого городской недвижимостью.
(обратно)388
Inde irae [et lacrimae] (лат.) – отсюда гнев [и слезы] (Ювенал. Сатиры. I. 165).
(обратно)389
Прогрессист – член Фракции прогрессистов в III Государственной думе, которая придерживалась «общей конституционности и прогрессивности взглядов» и блокировалась, как правило, с Конституционно-демократической фракцией Думы. Образование Партии прогрессистов произошло на учредительном съезде, заседавшем в ноябре 1912 г. в Петербурге, ее неофициальным рупором являлись газеты «Русская молва» и «Утро России». Программные положения партии базировались на идеологии умеренного радикализма: как и программа Кадетской партии, эти положения подразумевали введение парламентаризма, кабинета, ответственного перед нижней палатой, однако, подобно Программе октябристов, имели в виду осуществление национально ориентированной внешней и экономической политики.
(обратно)390
Законом 21 декабря 1913 г. ставка в 6 % от чистого дохода, приносимого городской недвижимостью, была сохранена, причем 1 % из 6 % казна уступила в пользу земств и городов (см.: Министерство финансов. 1904–1913. СПб., 1913. С. 104).
(обратно)391
Совет министров на заседании 2 сентября 1914 г. постановил, согласно ст. 87 Основных законов 1906 г., повысить на 1915 г. государственный налог с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках, кроме посадов губерний Царства Польского, с 6 % до 8 % со средней чистой доходности этих имуществ. Николай II утвердил постановление правительства 4 октября (Особый журнал Совета министров 2 сентября 1914 г. «О повышении ставок некоторых видов существующего обложения и о введении новых налогов» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 342–348). Впоследствии, в порядке ст. 87, согласно решению кабинета от 19 июня 1915 г., одобренному царем 4 июля, размер налога с городских недвижимостей был сохранен на уровне 8 % до 1 января 1918 г. (Особый журнал Совета министров 19 июня 1915 г. «О продлении срока взимания в повышенном размере некоторых налогов и пошлин» // Там же. 1915 год. М., 2008. С. 321–322).
(обратно)392
дополнительные налоги (фр.).
(обратно)393
В 1891 г. Государственный совет признал необходимым произвести оценку земель и прочего недвижимого имущества по однообразным нормам. Позднее, 8 июня 1893 г., Александр III утвердил Правила оценки недвижимых имуществ для обложения их земскими сборами, которыми эта оценка возлагалась на особые комиссии под формальным председательством губернских предводителей дворянства.
(обратно)394
Имеется в виду Закон 18 января 1899 г., который установил, помимо выдачи земствам на оценочные работы ежегодного пособия от казны, и основные правила производства этих работ, распадавшиеся на три последовательных этапа: 1) собирание и разработка оценочно-статистического материала, 2) установление общих оснований оценки и 3) применение оценочных норм к отдельным имуществам по трем их главным категориям: земельным, городским и торгово-промышленным, включающим фабрики и заводы. Несмотря на помощь казны, отмечал В.И. Гурко, оценочные работы до самой Февральской революции «в большинстве земств были еще далеко не завершены, причем поглотили десятки миллионов рублей казенных, т. е. народных, средств» (Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 285–286).
(обратно)395
По причине крайне медленного хода и недостаточной удовлетворительности результатов оценочных работ, производившихся в земских губерниях во исполнение закона 8 июня 1893 г., Министерство финансов и Министерство внутренних дел выступали за то, чтобы разработать меры, которые способствовали бы ускорению переоценки облагаемых земскими сборами недвижимых имуществ и упорядочению земского оценочного дела. Для достижения намеченной цели упомянутые ведомства в 1913 г. считали необходимым: 1) установить общий для всех губерний план оценочных работ; 2) в случаях существенных нарушений земствами этого плана передавать исполнение работ в руки правительственной власти; 3) обусловить известным сроком рассмотрение земскими собраниями оценочных норм; 4) дополнить состав оценочных комиссий представителями от промышленников и крестьян и 5) учредить постоянный правительственный надзор за ходом оценочного дела, образовав особые органы в лице Главного оценочного комитета и Оценочного отдела при Департаменте окладных сборов Министерства финансов. Перечисленные предположения обоих ведомств подвергались обсуждению в межведомственном совещании и до внесения на законодательное рассмотрение были представлены В.Н. Коковцовым Совету министров вместе с разномыслиями, возникшими в совещании между представителями заинтересованных ведомств. На заседании Совета министров 17 октября 1913 г. он поручил министру финансов, по соглашению с министром внутренних дел Н.А. Маклаковым, выработать на намеченных ими главных основаниях и внести на законодательное рассмотрение согласованный с суждениями Совета министров законопроект о мерах к скорейшему завершению оценочных работ в земских губерниях (Особый журнал Совета министров 17 октября 1913 г. «По препровожденному при письме от 8 октября 1913 г., за № 12390 (по Департаменту окладных сборов), представлению Министерства финансов о мерах к скорейшему завершению оценочных работ в земских губерниях (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1913 год. М., 2005. С. 415–416). Данный законопроект правительство внесло в 1914 г. в IV Думу, которая не успела рассмотреть его до Февральской революции.
(обратно)396
В соответствии с Коронационным манифестом 1896 г. Николай II повелел начиная с этого года и в течение последующих 10 лет взимать государственный поземельный налог в Европейской России в половинном размере. На заседании 7 марта 1906 г. кабинет С.Ю. Витте одобрил программу налоговых реформ, которая предусматривала внесение в I Государственную думу законопроекта о пересмотре погубернских окладов государственного поземельного налога. Постановление кабинета Николай II утвердил 14 марта (Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 323–327). На заседании 12 января 1907 г. правительство решило внести теперь уже во II Думу законопроект об «изменении расписания средних по губерниям окладов государственного поземельного налога на десятину удобной земли и леса, установленного в 1887 г. по существовавшим в то время ценам земли». Царь утвердил это решение 15 февраля (Особый журнал Совета министров 12 января 1907 г. «По вопросу о законопроектах, подлежащих внесению в Государственную думу» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1907 год. М., 2011. С. 78–81). После открытия III Думы В.Н. Коковцов по поручению кабинета 31 октября 1908 г. внес в нижнюю палату законопроект «Об изменении средних по губерниям окладов государственного поземельного налога на десятину удобной земли и леса» (его текст см.: П.А. Столыпин: Программа реформ. Т. 2. С. 390–392). 7 ноября законопроект был заслушан в Общем собрании Думы и передан в Финансовую комиссию, заседания которой по этому поводу состоялись, однако, только через более чем два года – 29 января и 3 февраля 1911 г. Большинство членов Финансовой комиссии признали проектируемое обложение земли чрезмерно обременительным и предложили снизить налоговые ставки. Комиссия представила свой доклад нижней палате 7 мая 1911 г., но большинство депутатов не приняли ее поправки, и до конца легислатуры III Думы законопроект остался нерассмотренным. IV Государственная дума 25 января 1913 г. опять передала законопроект на рассмотрение Финансовой комиссии, где он оставался до Февральской революции.
(обратно)397
На заседании Совета министров 5 декабря 1914 г. министр финансов П.Л. Барк предложил, в порядке ст. 87 Основных законов 1906 г., повысить размер государственного поземельного налога для 50 губерний Европейской России, установив с 1 января 1915 г. новое расписание средних окладов налога по губерниям, причем среднее повышение для 50 губерний составляло 125 %. С этого же времени П.Л. Барк полагал необходимым увеличить оклады государственного поземельного налога, а равно государственной оброчной и поземельной податей в губерниях, областях и округах Закавказского края, Сибири, Туркестанского и Степного генерал-губернаторств, а также в Кубанской, Терской, Уральской и Тургайской областях. Большинство министров поддержали П.Л. Барка, и постановление правительства Николай II утвердил 24 декабря (Особый журнал Совета министров 5 декабря 1914 г. «О повышении окладов государственного поземельного налога, а также государственной оброчной и поземельной подати» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 577–583). Представление министра финансов по поводу этого временного закона 17 марта 1915 г. было направлено председателю IV Государственной думы М.В. Родзянко. Между тем, согласно ст. 87, Совет министров 19 июня 1915 г. решил сохранить повышенную ставку поземельного налога до 1 января 1918 г., с чем император согласился 4 июля (Особый журнал Совета министров 19 июня 1915 г. «О продлении срока взимания в повышенном размере некоторых налогов и пошлин» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 321–322). Внесенный П.Л. Барком законопроект о повышении поземельного налога 20 июля был оглашен в Общем собрании Думы, которая передала законопроект в Финансовую комиссию, не успевшую рассмотреть его до Февральской революции. Эта мера была приведена в исполнение по ст. 87 в виде временного закона, который не стал постоянным из-за Финансовой комиссии.
(обратно)398
Материалы о подготовке и введении Положения о государственном промысловом налоге см.: Витте С.Ю. Собр. соч. и документальных материалов: В 5 т. М., 2002. Т. 2, кн. 1. С. 39 – 179.
(обратно)399
По высочайшему повелению 28 марта 1903 г. при Министерстве финансов было образовано межведомственное совещание, с участием представителей промышленности и торговли, для пересмотра Положения 1898 г. о государственном промысловом налоге. В 1904 г. Министерство финансов представило на обсуждение совещания проект об изменении и дополнении Положения, в конце года совещание приступило к рассмотрению проекта, но в середине 1905 г., в связи с преобразованием высших государственных учреждений, работа совещания приостановилась. Однако с начала 1906 г. работало Межведомственное совещание под председательством Н.Н. Покровского по подготовке нового Положения о государственном промысловом налоге. Программа налоговых реформ, которая была одобрена кабинетом С.Ю. Витте 7 марта 1906 г. и подразумевала разработку и внесение в I Государственную думу законопроекта о реформе промыслового налога, получила утверждение Николая II 14 марта (Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 323–327). К началу 1908 г. предварительным итогом деятельности Совещания Н.Н. Покровского стали «Главнейшие основания проекта изменения Положения о государственном промысловом налоге» (их текст см.: П.А. Столыпин: Программа реформ. Т. 2. С. 745–754). На заседании кабинета П.А. Столыпина 26 февраля 1908 г. В.Н. Коковцов, представляя коллегам «Главнейшие основания», объяснил, что они «подлежат еще дальнейшему обсуждению в Министерстве финансов с участием представителей от торговли и промышленности». Тогда же правительство обсудило возникшие в Межведомственном совещании разногласия о личном промысловом обложении и об изъятиях от обложения (см.: Особый журнал Совета министров 26 февраля 1908 г. «По письму министра финансов к председателю Совета министров от 18 февраля 1908 г. за № 1592 (по Департаменту окладных сборов) с запиской о главнейших основаниях проекта изменений Положения о государственном промысловом налоге (По делу, по коему заключение Совета положено привести в исполнение, не испрашивая Высочайшего утверждения)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1908 год. М., 2011. С. 128).
(обратно)400
Третий съезд представителей промышленности и торговли заседал в Петербурге 27–31 марта 1908 г. и рассматривал представленные на его суд Министерством финансов «Главнейшие основания проекта изменения Положения о государственном промысловом налоге». Основное содержание проекта резюмировалось органом Совета съездов представителей промышленности и торговли, газетой «Промышленность и торговля», следующим образом: «Для большинства неотчетных предприятий проектируется окладной сбор в 6 % с прибыли. Патентный сбор оставляется для мелких предприятий. Для отчетных предприятий налог с основного капитала увеличивается, а процентный сбор уменьшается. Изъятия от обложения сокращаются». На совещании при Совете съездов промышленниками было высказано пожелание «оставить в силе существующую систему обложения для неотчетных предприятий». В начале 1909 г. в Межведомственном совещании Н.Н. Покровского приняли участие представители Совета съездов, после чего по ходатайству съездовской организации ее представителей пригласили к участию в «особом частном совещании для окончательной редакции законопроекта». В итоге газета «Промышленность и торговля» отмечала, что «проект во многих отношениях удовлетворяет пожеланиям представителей промышленности» (Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Проблемы торгово-промышленной политики. Л., 1987. С. 216, 217).
(обратно)401
Для непосредственного управления биржевыми делами собрание членов биржевого общества избирало биржевой комитет в составе председателя и нескольких старшин, по должности в комитет входил и старший маклер. Биржевые комитеты собирали сведения о местной торговле и промышленности, составляли правила биржевой торговли и своды местных торговых обычаев, посредничали в спорах по торговым сделкам, поддерживали порядок в биржевых собраниях, организовывали выборы в биржевые общества, представляли интересы местных предпринимательских кругов перед правительством и т. д. К 1911 г. в Российской империи насчитывалось 87 биржевых комитетов (см.: Торгово-промышленные палаты и биржевые комитеты России в годы Первой мировой войны. М., 2014. С. 13–14, 18–19).
(обратно)402
В октябре 1905 г. Министерство финансов внесло в Государственный совет проект временного изменения некоторых постановлений Положения 1898 г. о промысловом налоге. Проект был одобрен Государственным советом и 2 января 1906 г. утвержден Николаем II. Срок действия этого закона определялся в два года, впредь до выработки нового Положения о промысловом налоге. По Закону 2 января 1906 г. круг неакционерных предприятий, обязанных уплачивать процентный сбор с прибыли, расширялся. Размер этого сбора устанавливался теперь в 5 % с той части прибыли, которая в 20 раз превышала оклад основного промыслового налога. Тем же законом были увеличены налог с капитала акционерных предприятий до 0,2 %, а также процентный сбор с их прибыли (Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 215).
(обратно)403
16 февраля 1908 г. Николай II, утвердив соответствующий закон, продлил действие закона 2 января 1906 г. еще на два года, до 1 января 1910 г.
(обратно)404
Министерство финансов внесло проект нового Положения о государственном промысловом налоге в III Государственную думу 28 сентября 1909 г., и уже 10 октября он был оглашен в Общем собрании нижней палаты и передан в Финансовую комиссию, которая, однако, не успела рассмотреть проект до окончания полномочий III Думы. После открытия IV Думы, 10 декабря 1912 г., проект Положения снова огласили в Общем собрании Думы, которая передала его в Финансовую комиссию, но она, в свою очередь, не смогла рассмотреть проект до Февральской революции. Текст проекта нового Положения см.: П.А. Столыпин: Программа реформ. Т. 2. С. 401–458.
(обратно)405
Утвержденный Николаем II закон 20 декабря 1911 г. продлил действие закона 2 января 1906 г. до 1 января 1915 г. После начала Первой мировой войны 2 сентября 1914 г. Совет министров постановил, в порядке ст. 87 Основных законов 1906 г., продлить до 1 января 1916 г. действие статей 1–5 закона 2 января 1906 г. с некоторыми изменениями. Николай II утвердил это постановление правительства 4 октября (Особый журнал Совета министров 2 сентября 1914 г. «О повышении ставок некоторых видов существующего обложения и о введении новых налогов» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 342–348). На заседании 19 июня 1915 г. Совет министров, также на основании ст. 87, решил сохранить вышеприведенные постановления до 1 января 1918 г., на что монарх согласился 4 июля 1915 г. (Особый журнал Совета министров 19 июня 1915 г. «О продлении срока взимания в повышенном размере некоторых налогов и пошлин» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 321–322).
(обратно)406
См.: Журналы заседаний Третьего очередного съезда представителей промышленности и торговли, состоявшегося 27–31 марта 1908 г. в Петербурге. СПб., 1908.
(обратно)407
Внесение в I Государственную думу законопроекта о введении налога с внегородских строений предусматривала программа налоговых реформ, рассмотренная кабинетом С.Ю. Витте 7 марта 1906 г. и утвержденная Николаем II 14 марта (Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 323–327). Проект Положения о налоге с недвижимых имуществ, расположенных в уездных поселениях, был внесен в III Государственную думу и рассматривался в Финансовой комиссии в 1908–1909 гг. (см.: Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 168, 182–183). Дума, однако, так и не рассмотрела этот проект.
(обратно)408
На заседании 19 декабря 1914 г. Совет министров, принимая во внимание мнение Комиссии П.А. Харитонова по сведению росписи на 1915 г., постановил исключить из заключительной части обсуждаемого представления министра финансов П.Л. Барка все постановления, относящиеся к сбору с денежных капиталов. Постановление правительства Николай II утвердил 9 января 1915 г. (Особый журнал Совета министров 19 декабря 1914 г. «О некоторых мерах к увеличению доходных в казну поступлений» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 614–617).
(обратно)409
Программа налоговых реформ, одобренная кабинетом С.Ю. Витте 7 марта 1906 г. и утвержденная Николаем II 14 марта, содержала пункт о разработке и внесении в I Государственную думу законопроекта о введении налога с дохода от капиталов, отданных под залог недвижимостей (Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 323–327). На заседании правительства 13 июля 1907 г. В.Н. Коковцов представил главные положения реформы, которая предусматривала введение обложения капиталов, ссужаемых частными лицами под залог недвижимостей. Кабинет постановил одобрить положения как основание для выработки подробного законопроекта по этому предмету, подлежащего внесению на законодательное рассмотрение. Николай II утвердил постановление правительства 11 августа (Особый журнал Совета министров 13 июля 1907 г. «О введении обложения капиталов, ссужаемых частными лицами под залог недвижимостей» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1907 год. М., 2011. С. 476–477). В связи с началом Первой мировой войны министр финансов П.Л. Барк предложил ввести в виде постоянной меры обложение капиталов, обеспеченных в качестве долгов на недвижимых имуществах, в размере 20 коп. в полугодие с каждых 100 руб. суммы долга, с временным, на 1915 г., повышением этой ставки на 50 %, или до 30 коп. со 100 руб. в полугодие. На заседании 19 декабря 1914 г. Совет министров постановил ввести в действие с 1 января 1915 г., согласно ст. 87 Основных законов 1906 г., Положение о сборе с денежных капиталов, обеспеченных в качестве долгов на недвижимых имуществах, предоставив министру финансов установить срок для внесения указанного сбора за первую половину 1915 г. Николай II утвердил постановление правительства 9 января 1915 г. (Особый журнал Совета министров 19 декабря 1914 г. «О некоторых мерах к увеличению доходных в казну поступлений» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 614–617). На заседании 19 июня 1915 г. Совет министров, также в соответствии со ст. 87, решил продлить действие Положения до 1 января 1918 г., с чем император согласился 4 июля 1915 г. (Особый журнал Совета министров 19 июня 1915 г. «О продлении срока взимания в повышенном размере некоторых налогов и пошлин» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 321–322).
(обратно)410
См.: Цитович П.П. Лекции по торговому праву, читанные в Новороссийском университете в 1873/74 учебном году: В 2 вып. Одесса, 1873–1875 (Вып. 1. Введение. Исторический очерк развития торгового права. Теория торговых действий. Одесса, 1873; Вып. 2. Торговец в одиночку. Торговый персонал; торговые книги. Торговые товарищества: В 2 тетр. Тетр. 1. Одесса, 1874; Тетр. 2. Одесса, 1875).
(обратно)411
Судебный департамент Сената – существовавшая с 2 июня 1898 г. высшая апелляционная инстанция для рассмотрения гражданских, уголовных и межевых дел. Реорганизован 10 мая 1917 г. в Четвертый департамент. Упразднен 22 ноября 1917 г.
(обратно)412
«Изыскивая способы к увеличению государственных доходов, – отмечал сам С.Ю. Витте в ноябре 1892 г., – Министерство финансов останавливалось на мысли о введении у нас подоходного сбора. Это предположение вызвало, однако, весьма решительные возражения со стороны ведомств, на заключение которых Министерство финансов препроводило выработанный им проект». Учитывая сопротивление ведомств и «не касаясь принципиальной стороны вопроса о подоходном сборе», С.Ю. Витте признавал, со своей стороны, что «установление в России сего сбора представлялось бы во всяком случае мерой несвоевременной» (Представление С.Ю. Витте в Государственный совет «По проекту Положения о государственном квартирном налоге». 15 ноября 1892 г. // Витте С.Ю. Указ. соч. Т. 2, кн. 1. С. 180).
(обратно)413
Материалы о подготовке Положения о государственном квартирном налоге см.: Там же. С. 180–270.
(обратно)414
Материалы о подготовке введения винной монополии и осуществлении этой реформы см.: Там же. С. 271–634.
(обратно)415
Вопрос о необходимости введения подоходного налога был поднят в Государственном совете на соединенном заседании департаментов государственной экономии, законов, гражданских и духовных дел и промышленности, наук и торговли государственным контролером П.Л. Лобко 10 марта 1905 г. при обсуждении представления министра финансов В.Н. Коковцова об увеличении налогов в связи с расходами на Русско-японскую войну (Особый журнал Совета министров 24 октября 1906 г. «По вопросу о введении в России подоходного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1906 год. М., 2011. С. 261–262).
(обратно)416
На заседании 7 марта 1906 г. кабинет С.Ю. Витте одобрил подготовленную под руководством Н.Н. Покровского и представленную министром финансов И.П. Шиповым программу налоговых реформ, которая имела в виду разработку и внесение в I Государственную думу законопроекта о введении подоходного налога. Она была утверждена Николаем II 14 марта.
(обратно)417
В марте – апреле 1906 г. заседала Межведомственная комиссия под председательством И.П. Шипова, обсуждавшая уже подготовленный законопроект о подоходном налоге. В утвержденной Николаем II 26 апреля Программе реформ, которые кабинет С.Ю. Витте планировал внести в I Государственную думу, по поводу этого законопроекта сообщалось, что он «ныне разработан Министерством финансов» (Программа вопросов, вносимых на рассмотрение Государственной думы. Не позднее 23 апреля 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 462).
(обратно)418
Особенная канцелярия по кредитной части – учреждение в составе Министерства финансов, ведавшее делами по внешнему и внутреннему кредиту. Характеризуя Особенную канцелярию конца XIX – начала XX в., современник отмечал: «Это было почетное учреждение для детей высшей буржуазии, как Государственная канцелярия – для детей высшего чиновничества. Из деятелей Кредитной канцелярии выходили директора частных банков и провинциальных отделений Государственного банка». Здесь «густо пахло торгово-промышленной психологией» (Ивановский А.В. Воспоминания инженера. Последняя эпоха царизма в России и заря коммунизма // СПбФА РАН. Разр. IV. Оп. 72. № 1. Л. 142). Упразднена 1 декабря 1917 г.
(обратно)419
В мае 1906 г. под председательством И.П. Шипова заседало Особое совещание, обсуждавшее вопрос о коммерческой тайне при взимании подоходного налога. Возражая сторонникам сохранения принципа коммерческой тайны, Н.Н. Покровский ссылался на то, что русское законодательство допускает отступления от указанного принципа при взимании промыслового налога, предусматривая право податных инспекторов требовать от земельных банков и страховых обществ справки о ценности облагаемого имущества. В результате в законопроекте о подоходном налоге, внесенном во II Государственную думу, важность сохранения коммерческой тайны признавалась «лишь по отношению к той части клиентов банков, которая ведет коммерческие дела и может быть заинтересована в сохранении этой тайны ради целей конкуренции». Кроме того, в конце мая – начале июня 1906 г. заседало Совещание под председательством Н.Н. Покровского, рассматривавшее вопрос о сборе дополнительных сведений о доходах, подлежащих обложению подоходным налогом. Имея в виду неполноту статистических данных, на которые можно было бы опираться при расчете этого налога, Совещание обсудило предложение собирать сведения только о крупных доходах, однако данное предложение не встретило сочувствия у большинства членов Совещания, поскольку они не считали бесспорным, что именно крупные доходы при ограниченном количестве лиц, их получающих, дадут при взимании подоходного налога наибольшие поступления. Совещание пришло к выводу о необходимости собирать сведения о всех доходах, обусловив способы собирания видами источника доходов (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 180–182).
(обратно)420
Законопроект о введении подоходного налога вносился В.Н. Коковцовым в Совет министров в июне 1906 г., когда по нему были сделаны замечания, после чего он подвергся изменениям. Новое представление В.Н. Коковцова о введении подоходного налога рассматривалось на заседании Совета министров 24 октября 1906 г. Министр финансов сообщил, что, согласно законопроекту об этом, налогу подлежали доходы от недвижимых имуществ, предприятий и промыслов, от помещенных в России денежных капиталов, а также выдаваемые из Государственного казначейства пенсии и пособия. От подоходного налога освобождались все доходы, не превышающие прожиточного минимума, которым признавался доход в 1500 руб. в год. Обложение должно было расти с 1,1 % при доходе в 1500 руб. и затем постепенно повышаться, достигая 4 % при доходе свыше 30 000 руб. Далее повышение шло медленнее и доходило до 5 % при доходе свыше 100 000 руб. Положительное решение правительства по этому вопросу Николай II утвердил 26 января 1907 г. (Особый журнал Совета министров 24 октября 1906 г. «По вопросу о введении в России подоходного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1906 год. М., 2011. С. 259–269).
(обратно)421
Дед П.Х. Шванебаха происходил из Австрии и был полковником на русской службе, отец, Христиан Антонович, дослужился до чина тайного советника и принял русское подданство 14 мая 1862 г., между тем как Петр Христианович родился 21 января 1848 г., т. е. действительно формально происходил из иностранцев (см.: Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802–1917: Биобиблиографич. справочник. СПб., 2001. С. 733).
(обратно)422
На заседании Совета министров 24 октября 1906 г. П.Х. Шванебах заявил, что хотя он и является сторонником подоходного обложения, но тем не менее сомневается в том, «насколько этот вид обложения применим к современным условиям русской жизни». Трактуя подоходный налог как «не приспособленный к бытовым условиям» России, государственный контролер полагал, что данный налог «не может дать и удовлетворительных финансовых результатов». Подробной критике П.Х. Шванебаха подвергся способ определения дохода, подлежащего обложению. Принимая за основу самооценку, т. е. заявление самим плательщиком о размере получаемого дохода, проект устанавливал проверку заявлений особыми податными присутствиями при участии выборных от плательщиков, причем этим учреждениям давалось право определять нормы доходностей для различных групп имуществ и предприятий, требовать сведения и данные для проверки показаний плательщиков и проверять их путем опроса свидетелей и сведущих лиц. П.Х. Шванебах признавал, что «теоретически такой порядок, проектированный применительно к прусскому закону, как наиболее совершенному, представляется вполне правильным». «Полагаться только на одну декларацию, без критической поверки ее, – полагал, однако, он, – равносильно лишению закона практических результатов; устранить же самооценку и поставить все дело в зависимость от решений присутствий могло бы осложнить дело излишними формальностями и повести к произволу органов фиска». Кроме того, «соображая условия русской жизни», П.Х. Шванебах сомневался, что «трудная задача сочетания деклараций с фискальной их поверкой может быть решена у нас удовлетворительно». «На западноевропейской почве, – аргументировал свою позицию государственный контролер, – порядок этот складывался медленно и постепенно на основе крепкого своими традициями местного самоуправления, большей, чем у нас, деловой и коммерческой порядочности и вообще более высокого общего развития населения. Иное дело в России, где, даже допустив полную добросовестность плательщиков, только в столицах и в некоторых более крупных губернских городах могут найтись люди, умственно достаточно подготовленные, чтобы отнестись сознательно к возлагаемой на них обязанности; для главной же массы населения – крестьян и полуинтеллигенции, составляющих, конечно, подавляющее большинство будущих плательщиков, правильное исполнение требования нового закона об определении величины своего дохода будет непосильным, даже при полном желании дать правдивое показание, на что также возможно надеяться далеко не во всех случаях». Критику П.Х. Шванебаха вызвала и выборная организация присутствий, на которых законопроект возлагал проверку показания плательщиков и определение размера облагаемого дохода. «Есть полное основание опасаться, – предостерегал государственный контролер, – что в нынешнее смутное время, когда революция пользуется всеми средствами, начиная с учебных заведений, для проведения своих антигосударственных стремлений, подобные собрания плательщиков будут очень легко увлечены на путь классовой розни и преследования людей имущих». Высказав «некоторые сомнения в успешных практических последствиях задуманной меры», П.Х. Шванебах, однако, всецело поддержал положенную в ее основу мысль о безусловной необходимости более широкого привлечения к податному обложению состоятельных классов населения. Вместе с тем он полагал, что эта цель «скорее и лучше была бы достигнута не установлением общего подоходного налога, а путем обложения отдельных видов доходов, причем следовало бы воспользоваться существующими уже видами обложения и не создавать новых фискальных учреждений» (Особый журнал Совета министров 24 октября 1906 г. «По вопросу о введении в России подоходного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1906 год. М., 2011. С. 260–261).
(обратно)423
В.Н. Коковцов опроверг возражения П.Х. Шванебаха, указывая прежде всего, что эта реформа была предрешена правительством как минимум с 1905 г. С тех пор, отмечал В.Н. Коковцов, «сознание правительства в своевременности введения в России подоходного налога не изменялось, и как в ответном на адрес Государственной думы заявлении Горемыкина, так и в Правительственном сообщении 24 августа 1906 г. подоходный налог поставлен в ряду тех мер первостепенного государственного значения, которые в первую очередь подлежат представлению в Государственную думу». Признавая, что осуществление намеченной реформы встретит неизбежные трудности, В.Н. Коковцов тем не менее счел «безусловно необходимым во исполнение возвещенной правительством программы представить проект закона о подоходном налоге на рассмотрение Государственной думы». Совет министров полностью согласился с доводами В.Н. Коковцова (Особый журнал Совета министров 24 октября 1906 г. «По вопросу о введении в России подоходного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1906 год. М., 2011. С. 261–263, 264–265).
(обратно)424
На заседании Совета министров 12 января 1907 г. было решено внести во II Государственную думу законопроект о «введении общего подоходного налога в виде дополнительного к существующим налогам на отдельные источники доходов». Мнение правительства Николай II утвердил 15 февраля (Особый журнал Совета министров 12 января 1907 г. «По вопросу о законопроектах, подлежащих внесению в Государственную думу» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1907 год. М., 2011. С. 78–81). После открытия II Думы 20 февраля В.Н. Коковцов уже 23 февраля внес в нее Положение о государственном подоходном налоге.
(обратно)425
Законопроект о введении подоходного налога В.Н. Коковцов внес в III Государственную думу 1 ноября 1907 г., немедленно после ее открытия, 17 декабря он был оглашен в ее Общем собрании и передан в Финансовую комиссию.
(обратно)426
Имеется в виду Департамент окладных сборов Министерства финансов.
(обратно)427
Обсуждение вопроса о подоходном налоге на заседании Финансовой комиссии III Государственной думы началось 4 мая и продолжалось до 25 ноября 1910 г. Доклад Финансовой комиссии, представленный в Общее собрание нижней палаты 17 декабря 1910 г., остался не рассмотренным Общим собранием до окончания полномочий III Думы (Беляев С.Г. Указ. соч. СПб., 2002. С. 184–186).
(обратно)428
IV Государственная дума заседала с 15 ноября 1912 г. до Февральской революции, распущена 6 октября 1917 г.
(обратно)429
Внесенный В.Н. Коковцовым в IV Государственную думу законопроект о введении подоходного налога был передан ею 25 января 1913 г. в Финансовую комиссию, которая подготовила свой доклад только к июню 1914 г.
(обратно)430
П.Л. Барк был назначен управляющим Министерством финансов 30 января 1914 г., утвержден в должности министра финансов 6 мая того же года.
(обратно)431
Имеется в виду III Государственная дума, поскольку в IV Думу А.И. Гучков избран не был.
(обратно)432
Главное управление Генерального штаба (Генеральный штаб) – ключевое подразделение Военного министерства, учрежденное 21 июня 1905 г. и первоначально существовавшее как самостоятельное учреждение, подчиненное Совету государственной обороны и императору. С 1909 г. входило в состав Военного министерства. Имело целью разработку общих вопросов государственной обороны и соображений по подготовке к войне, объединение и направление оперативных и военно-статистических работ окружных штабов, сбор и обработку военно-статистических материалов и сведений о России и иностранных государствах и т. д. Упразднено 8 мая 1918 г.
(обратно)433
Штаб верховного главнокомандующего (при Ставке верховного главнокомандующего) – состоявший при верховном главнокомандующем орган управления всеми сухопутными и морскими силами, предназначенными для ведения войны. Был создан согласно утвержденному Николаем II 3 июня 1914 г. «Положению о полевом управлении войск в военное время» со вступлением России 19 июля того же года в Первую мировую войну. Упразднен в связи с заключением большевистским правительством в марте 1918 г. Брестского мирного договора с Германией и ее союзниками.
(обратно)434
В 1912 г. Министерство финансов внесло в IV Государственную думу законопроект об установлении военного налога, уплачиваемого в течение 4 лет в размере 6 руб. ежегодно всеми освобождаемыми от военной службы лицами. Финансовая комиссия Думы выступила за отклонение этого законопроекта, и Общим собранием нижней палаты он так и не обсуждался (Особый журнал Совета министров 13 февраля и 6 и 31 марта 1915 г. «Об установлении военного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 168–170).
(обратно)435
В октябре 1914 г. П.Л. Барк, «озабочиваясь изысканием новых источников доходов для усиления, в связи с обстоятельствами переживаемого военного времени, ресурсов Государственного казначейства», представил в Совет министров предположения об установлении военного налога с лиц, освобожденных от военной службы, построенного на иных началах, нежели законопроект, внесенный в 1912 г. в Думу, а также о введении на окраинах Российской империи, в которых отдельные местности или группы населения были изъяты от отбывания воинской повинности, особого, взамен исполнения повинности, налога в качестве дополнительного сбора к существующим видам прямого обложения. Представление П.Л. Барка Совет министров передал на заключение Комиссии П.А. Харитонова по сведению росписи на 1915 г., где проект Министерства финансов встретил возражения (Особый журнал Совета министров 13 февраля и 6 и 31 марта 1915 г. «Об установлении военного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 168–170).
(обратно)436
Имеется в виду Комиссия П.А. Харитонова по сведению росписи на 1915 г.
(обратно)437
По результатам рассмотрения в Комиссии П.А. Харитонова первоначальные предположения Министерства финансов относительно военного налога подверглись пересмотру, и в декабре 1914 г. П.Л. Барк внес в Совет министров новый проект, согласно которому военный налог планировалось распространить на лиц, не несущих личной военной повинности, начиная с призыва 1911 г. Эти лица должны были облагаться налогом в течение 18 лет, причем, однако, взимание его прекращалось бы ранее этого срока в случае призыва плательщика на действительную службу в военное время, а также при достижении им 43-летнего возраста и в некоторых других особо предусмотренных случаях. Годовой оклад налога определялся в зависимости от имущественной обеспеченности каждого плательщика в пределах от 6 руб. в год – при годовом доходе за год, предшествовавший окладному, не превышающем 1000 руб., до 200 руб. в год – при годовом доходе свыше 20 000 руб. (Особый журнал Совета министров 13 февраля и 6 и 31 марта 1915 г. «Об установлении военного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 168–170).
(обратно)438
После обсуждения в заседаниях 13 февраля и 6 и 31 марта 1915 г. вопроса о военном налоге Совет министров постановил ввести в действие, согласно ст. 87 Основных законов 1906 г., Положение о военном налоге с 1 января 1915 г., распространив его на лиц, призывавшихся к исполнению воинской повинности в 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. Решения кабинета Николай II утвердил 19 апреля (Особый журнал Совета министров 13 февраля и 6 и 31 марта 1915 г. «Об установлении военного налога» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 168–170). Позднее, 19 июня 1915 г., Совет министров постановил, в соответствии со ст. 87, продлить действие Положения о военном налоге до 1 января 1918 г., на что царь дал согласие 4 июля 1915 г. (Особый журнал Совета министров 19 июня 1915 г. «О продлении срока взимания в повышенном размере некоторых налогов и пошлин» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 321–322).
(обратно)439
Закон о подоходном налоге был утвержден Николаем II 4 апреля 1916 г.
(обратно)440
После открытия 19 июля 1915 г. очередной сессии законодательных учреждений IV Дума уже 20 июля назначила Финансовой комиссии двухнедельный срок для представления Общему собранию доклада по законопроекту о введении подоходного налога. Доклад был оглашен на Общем собрании 11 августа, постатейное обсуждение законопроекта проходило 13, 14 и 25 августа, когда его внесли в Редакционную комиссию. На следующий день она постановила представить законопроект на одобрение Думы, которая одобрила его 28 августа и в тот же день передала в Государственный совет (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 188).
(обратно)441
«Вестник финансов, промышленности и торговли» (Пб., Пг.; 1885–1917) – еженедельный журнал Министерства финансов, с 1915 г. – и Министерства торговли и промышленности.
(обратно)442
См.: Покровский Н.Н. О подоходном налоге // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1915. № 1–7.
(обратно)443
за и против (лат.).
(обратно)444
См.: Покровский Н.Н. О подоходном налоге. Пг., 1915.
(обратно)445
Финансовая комиссия Государственного совета рассматривала прежде всего проекты государственного бюджета, законы, предусматривавшие государственные расходы, и т. п.
(обратно)446
Обсуждение законопроекта о подоходном налоге в Финансовой комиссии Государственного совета происходило с 10 по 18 августа 1915 г., параллельно с обсуждением законопроекта в Думе. Докладчиком по законопроекту являлся Н.Н. Покровский. В его докладе подчеркивалось, что обращение правительства к проектам подоходного обложения всякий раз было связано с «особыми обстоятельствами», и в настоящий момент, несмотря на содержащиеся в докладе неоднократные указания на то, что подоходный налог вводится по стратегическим соображениям и станет основой преобразования всей налоговой системы, основные причины его введения – рост военных расходов при потере поступлений от винной монополии. Некоторые члены Финансовой комиссии верхней палаты высказывали сомнения в осуществимости этой меры при «низком культурном уровне нашего населения» и в своевременности введения подоходного обложения в условиях войны, разорения и застоя в экономике. Обращалось также внимание на то, что взимание нового налога потребует больших расходов, результаты же его введения в существующих условиях проблематичны. Тем не менее большинство Финансовой комиссии отвергло эти возражения как не имеющие значения либо надуманные. Комиссия верхней палаты предложила не затягивать процедуру принятия законопроекта и поставить его на голосование в том виде, в каком он поступил из Думы. Недостатки же законопроекта, полагало комиссионное большинство, можно будет исправлять уже после его принятия по ходу дела «соответственно указаниям опыта действия нового закона» (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 189–190).
(обратно)447
Отношение Совета министров к подоходному налогу предопределялось тем, что за его скорейшее введение выступали Николай II и председатель Совета министров Б.В. Штюрмер. Еще до его назначения на этот пост, 18 января 1916 г., на аудиенции у царя они затронули вопрос о подоходном налоге. После назначения Б.В. Штюрмера премьер-министром Николай II выразил ему желание, чтобы вопрос о подоходном налоге «был рассмотрен без замедления». При посещении 2 февраля Министерства финансов Б.В. Штюрмер заявил: «Война с ее огромными расходами требует огромного напряжения народных сил и средств, что возлагает на Министерство финансов обязанность направить это напряжение в русло, наиболее выгодное для общего хода хозяйства народного и хозяйства государственного». По инициативе Б.В. Штюрмера входившие в состав Государственного совета министры проголосовали вместе с членами Прогрессивного блока против возвращения законопроекта в Финансовую комиссию и за принятие его в думской редакции (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 177, 195–196).
(обратно)448
Общее собрание Государственного совета приступило к обсуждению законопроекта о подоходном налоге 12 февраля 1916 г.
(обратно)449
И.Г. Щегловитов, не отвергая в принципе необходимости введения подоходного налога, подверг законопроект критике в смысле его несвоевременности, недоработанности и непоследовательности (см.: Беляев С.Г. Указ. соч. С. 191).
(обратно)450
Подробнее см.: Куликов С.В. Указ. соч. С. 195–196.
(обратно)451
Далее в рукописи зачеркнуто: «От имени Правительства говорил я».
(обратно)452
См.: Государственный совет. Стенографические отчеты. 1916 г. Сессия XII. Пг., 1916. Стлб. 68 – 781.
(обратно)453
Согласительную комиссию Государственный совет образовал 10 марта 1916 г.; она заседала 23 и 24 марта, а 31 марта проект, прошедший Редакционную комиссию, поступил в IV Государственную думу, которая в тот же день утвердила доклад Согласительной комиссии и, в лице своего председателя М.В. Родзянко, препроводила принятый Думой законопроект в верхнюю палату, также его принявшую (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 194).
(обратно)454
Текст закона «О государственном подоходном налоге» см.: П.А. Столыпин: Программа реформ. Т. 1. С. 589–624.
(обратно)455
Николай II утвердил Закон «О государственном подоходном налоге» 6 апреля 1916 г.
(обратно)456
Программа Конституционно-демократической партии, исправленная согласно решениям 2-го делегатского съезда, состоявшегося в Петербурге 5 – 11 января 1906 г., в пункте 33 провозглашала необходимость реформы «прямых налогов на основе прогрессивного подоходного и поимущественного обложения» и введения «прогрессивного налога на наследство» (Программа Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) // Российские либералы: кадеты и октябристы. М., 1996. С. 56).
(обратно)457
Принятое 12 июня 1917 г. по представлению министра финансов А.И. Шингарева постановление Временного правительства «О повышении окладов государственного подоходного налога» см.: Журналы заседаний Временного правительства. М., 2002. Т. 2. С. 239–242.
(обратно)458
Строго говоря, советская власть не отказалась от подоходного принципа обложения и декретом от 24 ноября 1917 г. о взимании прямых налогов подтвердила закон 12 июня 1917 г., изданный Временным правительством в развитие закона 6 апреля 1916 г. Для рабочих национализированных предприятий предусматривалось взимание налога путем его удержания из заработной платы. Декрет от 23 сентября 1918 г. внес в Закон о подоходном обложении существенные изменения, которые расширили облагаемую базу доходов плательщиков. Постановление от 27 марта 1919 г. возродило принцип установления дифференцированных необлагаемых минимумов доходов. Однако поступления от подоходного налога не окупали даже содержание органов по его взиманию, и в декабре 1919 г. действие подоходного налога большевики приостановили. Подоходное обложение было введено вновь уже во времена НЭПа декретом от 23 ноября 1922 г. (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 196).
(обратно)459
Первое коалиционное Временное правительство 6 мая 1917 г. опубликовало декларацию, в которую под влиянием социалистических лидеров Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов внесло пункт 6, гласивший: «Временное правительство обратит особое внимание на усиление прямого обложения имущих классов» (Революционное движение в России в мае – июне 1917 г. Июньская демонстрация: Документы и материалы. М., 1959. С. 229–230). Соответствующее требование, выдвинутое Исполкомом Совета, выглядело еще более решительно, настаивая на переустройстве финансовой системы «на демократических началах в целях переложения финансовых тягот на имущие классы» (Известия. 1917. 6 мая). На заседании 4 августа 1917 г. Временное правительство одобрило намеченные министром финансов Н.В. Некрасовым основные положения финансово-экономической политики правительства и постановило, признав налоги и пошлины подлежащими дальнейшим преобразованиям, что «произведенная реформа прямого обложения нуждается в исправлениях и развитии», в связи с чем будет «введен поимущественный налог» (Журналы заседаний Временного правительства. М., 2004. Т. 3. С. 225–226).
(обратно)460
В напечатанной 1 июля 1917 г. статье «Поимущественный налог» Покровский подверг подробной критике произведенное Временным правительством повышение ставок подоходного налога, находя, что оно приведет к фактическому уничтожению источников данного налога, а значит, сведет на нет и сам подоходный налог, который в новом виде усложнил бы и без того сложные обязанности податной инспекции. Нецелесообразным было бы, по мнению Н.Н. Покровского, и введение поимущественного налога, поскольку согласно проекту, составленному П.П. Гензелем, налогоплательщик обязывался предоставлять податной инспекции информацию о цене своего имущества, оценивая его «по собственному крайнему разумению», что создавало многочисленные возможности для злоупотреблений или невольных ошибок. Подводя итоги, Покровский подчеркивал, что «если бы введение поимущественного налога было предположено до войны, то и тогда пришлось бы признать его преждевременным: надо подождать результатов оценки доходов от разного рода имуществ по подоходному налогу, и притом не за один, а за несколько лет; только тогда получится более серьезная база для поверки имущественных оценок» (Новое время. 1917. № 14817. С. 4).
(обратно)461
«Новый экономист» (1913–1917) – еженедельный журнал, в котором сотрудничали экономисты, близкие к Союзу 17 октября и Конституционно-демократической партии. Статья Ф.А. Менькова «Поимущественный налог» открытой полемики с Покровским, по крайней мере с упоминанием его имени, не содержала. Ф.А. Меньков занимал достаточно умеренную позицию, что видно из следующего пассажа: «Самостоятельный и высокий поимущественный налог при нашем, самом высоком в мире, подоходном налоге, нежелателен и несправедлив. Поэтому нельзя не приветствовать решения налогового совещания при Министерстве финансов, отвергнувшего проект высокого самостоятельного поимущественного налога, который защищали профессор Гензель и [Н.Д.] Соколов, и остановившегося на ставках поимущественного обложения, проектированных еще Бюджетной комиссией Государственной думы, а именно – в размере от 0,1 до 0,5 % ценности имущества, т. е. по отношению к доходу владельца имущества этот налог составит от 2 до 8 %. Нельзя не признать правильным и установленный совещанием минимум имущества, свободного от обложения, в размере 10000 руб., причем, если доход налогоплательщика не превышает 1000 руб., а также для вдов и сирот, минимум повышается до 20000 руб.» (Новый экономист. 1917. 15–22 июля. № 28/29. С. 5–7).
(обратно)462
Программа налоговых реформ, одобренная кабинетом С.Ю. Витте 7 марта 1916 г. и утвержденная Николаем II 14 марта, подразумевала разработку и внесение в I Государственную думу законопроекта о пересмотре Положения о пошлинах с безмездно переходящих имуществ (Мемория Совета министров «Об итогах обсуждения программы деятельности Министерства финансов по вопросам финансовой политики». 7 марта 1906 г. // Совет министров Российской империи. С. 323–327). В утвержденной Николаем II 26 апреля 1906 г. Программе преобразований, законопроекты о которых было намечено внести в I Государственную думу, упоминался и законопроект о пересмотре Положения о пошлинах с имуществ, переходящих безмездными способами, причем в Программе сообщалось, что данный законопроект Министерством финансов уже «выработан». Положение предполагало ввести в российское законодательство, подобно многим иностранным законодательствам, прогрессивные ставки обложения в зависимости не только от степени родства наследника с наследодателем, но и от размера переходящего наследства, значительно сократить число изъятий и предоставить финансовому управлению более непосредственное, чем ныне, участие в оценке наследственных имуществ (Программа вопросов, вносимых на рассмотрение Государственной думы. Не позднее 23 апреля 1906 г. // Там же. С. 462). Правительство на заседании 12 января 1907 г., наряду с другими реформаторскими законопроектами, планировало внести во II Государственную думу и законопроект о «преобразовании пошлин с безмездного перехода имуществ», согласно которому увеличения дохода от этих пошлин предполагалось достигнуть изменением ставок при сохранении существующих оценок. Решение Совета министров Николай IIутвердил 15 февраля (Особый журнал Совета министров 12 января 1907 г. «По вопросу о законопроектах, подлежащих внесению в Государственную думу» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906–1908 гг. 1907 год. М., 2011. С. 78–81).
(обратно)463
Сомнения Н.Н. Покровского, поставившего знак вопроса, не имели оснований, поскольку этот вопрос обсуждался в Государственном совете именно в 1903 г.
(обратно)464
В конце 1907 г., вскоре после открытия III Государственной думы, В.Н. Коковцов внес в нее законопроект о преобразовании наследственного налога, который поступил затем в Финансовую комиссию. Законопроект предполагал ввести для обложения переходящего по наследству имущества прогрессивную шкалу. С наследств в сумме от 1000 до 1 000 000 руб. и выше должны были взиматься от 1 % до 5 % для наследств 1-й категории, от 4 % до 12 % для наследств 2-й категории, от 7 % до 17,5 % для наследств 3-й категории и от 10 % до 24 % для наследств 4-й категории. Министр финансов П.Л. Барк 17 марта 1916 г. представил соответствующий законопроект в IV Думу, но она не успела рассмотреть его до Февральской революции.
(обратно)465
Совет министров на заседании 2 сентября 1914 г. решил, согласно ст. 87 Основных законов 1906 г., установить Правила о законных оценках имуществ для исчисления пошлин с безмездного перехода имуществ и крепостных и гербового актового сбора и Табель законной оценки земель для исчисления пошлин. Решение правительства Николай II утвердил 4 октября (Особый журнал Совета министров 2 сентября 1914 г. «О повышении ставок некоторых видов существующего обложения и о введении новых налогов» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 342–348). 5 декабря 1914 г. кабинет постановил, на основании ст. 87, увеличить гербовые пошлины, не повышенные ранее, кроме гербовых сборов с документов, удостоверяющих обороты по текущим счетам. Царь утвердил постановление Совета министров 16 декабря (Особый журнал Совета министров 5 декабря 1914 г. «О повышении ставок некоторых видов существующего обложения» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 569–570). На заседании Совета министров 19 июня 1915 г. было решено, в порядке ст. 87, продлить действие вышеприведенных постановлений до 1 января 1918 г., на что Николай II согласился 4 июля (Особый журнал Совета министров 19 июня 1915 г. «О продлении срока взимания в повышенном размере некоторых налогов и пошлин» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 321–322).
(обратно)466
На заседании 4 августа 1917 г. Временное правительство одобрило намеченные министром финансов Н.В. Некрасовым основные положения финансово-экономической политики правительства и постановило, что «будет произведена реформа наследственного налога» (Журналы заседаний Временного правительства. М., 2004. Т. 3. С. 225–226).
(обратно)467
Подразумевается Закон 12 июня 1900 г. «О предельности земского обложения», согласно которому земские сборы с недвижимого имущества не могли превышать 3 % в год. В случае превышения этого предела сметы представлялись губернатору, который утверждал их по заключению губернского по земским и городским делам присутствия или посылал на заключение центральных ведомств. Этот закон, вопреки мнению либеральной оппозиции, не имел антиземского характера, поскольку действовал временно – до окончания земствами оценочных работ – и гарантировал получение органами самоуправления новых денежных средств, подразумевая две меры. Первая из них освобождала земские учреждения от расходов общегосударственного характера, относившихся ранее на земские суммы (помещение воинских присутствий, квартирное довольствие полиции и судебных следователей). В соответствии со второй мерой губернаторам, при признании ими проектируемого земским собранием повышения сборов свыше 3 % посильным для населения, разрешалось утверждать земские сметы. Министрам внутренних дел и финансов предоставлялось право, в случае невозможности сократить земские расходы, выдавать земству помощь из особого кредита, отпускаемого Министерству внутренних дел, и входить в Государственный совет с представлениями об отнесении земских расходов на средства казны. Наконец, по Закону 12 июня 1900 г. ежегодное пособие в 1 000 000 руб., выдававшееся земствам на оценочные работы по Закону 18 января 1899 г., приобрело обязательный характер (см.: Куликов С.В. С.Ю. Витте и земство. Взаимодействие государства и гражданского общества в России конца XIX – начала XX в. // Правовые состояния и взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и межотраслевой анализ. СПб., 2006. Ч. II. С. 363–372).
(обратно)468
При подготовке законопроекта об улучшении местных финансов финансовое ведомство исходило из необходимости, с одной стороны, «пересмотреть возлагавшиеся на земства и города расходы и, в целях облегчения местных средств, освободить их от издержек, имеющих слабую связь с местными интересами, возложив эти издержки на средства Государственного казначейства, а с другой – расширить право местных учреждений в налоговой области» (Министерство финансов. 1904–1913. С. 104).
(обратно)469
Имеется в виду III Государственная дума.
(обратно)470
Внесенный кадетами в III Государственную думу законопроект «Об улучшении местных финансов» предусматривал также снятие с органов местного самоуправления всех обязательных расходов, отмену предельности земских сборов и превращение казны в главный источник пополнения местных финансов (Земское самоуправление в России. 1864–1918: В 2 кн. М., 2005. Кн. 2. С. 123–124).
(обратно)471
При обсуждении 13 мая 1911 г. доклада Финансовой комиссии III Думы о желательности выработки законопроекта об улучшения земских и городских финансов представители правительства заявили, что подготовку проекта возьмет на себя Министерство финансов. В январе 1912 г. в нижнюю палату был внесен думский законопроект, в марте – правительственный, переданный по решению ее Общего собрания 6 марта в Финансовую комиссию, которая рассматривала последний в заседаниях 23, 26 и 30 апреля, представив его в Общее собрание 31 мая, когда оно его обсудило и одобрило. Николай II утвердил Закон «Об улучшении земских и городских финансов» 5 декабря 1912 г.
(обратно)472
Текст Закона 5 декабря 1912 г. «Об улучшении земских и городских финансов» см.: П.А. Столыпин: Программа реформ. Т. 2. С. 238–242. Глава 5
(обратно)473
25 июля по н. ст. (т. е. 12 июля по ст. ст.) 1914 г. Сербия и Австро-Венгрия оказались в состоянии войны, поводом для которой стал отказ сербского правительства удовлетворить лишь один пункт австро-венгерского ультиматума, предъявленного славянскому государству в связи с произошедшим 28 июня в Сараево убийством наследника габсбургского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его морганатической супруги графини С. Гогенберг. Поскольку их убийцей был серб Г. Принцип, являвшийся членом тайного общества «Млада Босна», и имелись основания для предположений, что покушение готовилось на территории Сербии, Австро-Венгрия предъявила ей 23 июля ультиматум, который требовал от сербского правительства осудить антиавстрийскую пропаганду, ведущуюся в Сербии чиновниками и офицерами; заявить о неодобрении самой мысли о каком-либо вмешательстве во внутреннюю жизнь любой части территории Австро-Венгрии; запретить публикации, враждебные Австро-Венгрии; немедленно закрыть общество «Народная оборона» и другие общества, враждебные Австро-Венгрии, и конфисковать их средства пропаганды; удалить преподавателей, агитирующих против нее, и искоренить в народном образовании все, что могло бы служить этой агитации; начать судебное расследование обстоятельств убийства Франца Фердинанда, с тем чтобы представители Австро-Венгрии участвовали в следствии на территории Сербии; наказать офицеров и чиновников, оказывавших помощь участникам убийства, и т. д. Под давлением России Сербия согласилась выполнить все условия, кроме одного – об участии австро-венгерских представителей в следствии на ее территории. Австро-Венгрия не удовлетворилась ответом Сербии и 28 июля начала бомбардировку ее столицы Белграда (см.: Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг. М.; Л., 1928. С. 270–271, 273).
(обратно)474
Имеется в виду активная дипломатическая поддержка, которую Россия оказывала Сербии в дни июльского кризиса. См.: Писарев Ю.А. Тайны Первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М., 1990. С. 23–96.
(обратно)475
Всеобщая мобилизация русской армии, подразумевающая выдвижение армии не только к австро-венгерской, но и к германской границе, была объявлена Николаем II 17 июля (30 июля по н. ст.) 1914 г. в качестве меры давления на Австро-Венгрию, напавшую на Сербию. Поскольку немецкая военная наука, в отличие от русской, трактовала момент объявления мобилизации как начало войны, кайзеровское правительство сочло действия России началом войны не только против Австро-Венгрии, но и против Германии, что и заставило ее предъявить России ультиматум, содержавший дилемму: либо отмена мобилизации, либо русско-германская война. Отказ царского правительства от отмены мобилизации привел 19 июля (1 августа) 1914 г. к объявлению Германией войны России.
(обратно)476
Ковенская губерния была оккупирована германскими войсками в августе 1915 г.
(обратно)477
Патриотические манифестации происходили в Петербурге в течение нескольких дней после 19 июля, когда Германия объявила войну России, и достигли своего апогея в ночь с 22 на 23 июля 1914 г., когда толпа разгромила здание германского посольства на Исаакиевской площади. Описывая обстоятельства разгрома, столичный городской голова граф И.И. Толстой записал 23 июля 1914 г.: «Ночью был в Петербурге безобразный скандал: толпа в несколько десятков тысяч смяла охрану германского посольства, оставленного его жителями, уехавшими два дня перед этим на родину, и разгромила все здание, выбросив картины, вещи, мебель и стащив с крыши две декоративные статуи. Это последствие допускавшихся все эти дни патриотических манифестаций, принявших несомненно хулиганский вид. Толпу с трудом удалось разогнать с помощью пожарных насосов. Сегодня запрещены всякие уличные демонстрации, чего нельзя не одобрить. Надо, впрочем, сказать, что немцы обращаются безобразно с русскими в Германии» (Толстой И.И. Дневник: В 2 т. СПб., 2010. Т. 2. С. 581).
(обратно)478
Летом 1914 г. политическая обстановка в Петербурге предельно обострилась, особенно после разгона 3 июля митинга солидарности рабочих Путиловского завода с бастовавшими рабочими Баку, что вызвало массовую политическую стачку. Она сопровождалась митингами и демонстрациями, столкновениями демонстрантов с полицией, сооружением баррикад. Однако после начала войны волнения столичного пролетариата действительно прекратились (см.: Санкт-Петербург. 300 лет истории. СПб., 2003. С. 349).
(обратно)479
Речь идет о первом этапе Восточно-Прусской операции, начавшейся 4 августа 1914 г.
(обратно)480
Перед открытием 26 июля 1914 г. чрезвычайной сессии законодательных учреждений Николай II принял депутатов IV Государственной думы и членов Государственного совета в Зимнем дворце. В ответ на речи исправлявшего должность председателя Государственного совета И.Я. Голубева и председателя Думы М.В. Родзянко Николай II сказал: «Сердечно благодарю вас, господа, за проявленные вами патриотические чувства, в которых я никогда не сомневался и проявленные в такую минуту на деле. От всей души желаю вам всякого успеха. С нами Бог» (цит. по: Родзянко М.В. Крушение империи // Архив русской революции. 1926. Т. 17. С. 80–81).
(обратно)481
Романовский комитет для призрения сирот сельского состояния – благотворительное учреждение, созданное 21 февраля 1913 г. в ознаменование 300-летия со дня избрания на царство первого государя из Дома Романовых и состоявшее под покровительством императора Николая II. Председателем комитета являлся А.Н. Куломзин, товарищами председателя были А.А. Макаров и Н.Н. Покровский. Комитет имел целью оказание помощи детям сельского населения без различия национальностей, состояний и вероисповеданий и объединение в этом направлении правительственной, общественной и частной деятельности. Комитет участвовал также в призрении некоторых категорий инвалидов (глухонемых, слепых, душевнобольных и идиотов). После Февральской революции был передан Министерству государственного призрения.
(обратно)482
Романовский комитет был учрежден 21 февраля 1913 г., Куломзин был назначен его председателем 2 марта 1914 г., но положение о комитете, прошедшее через Думу и Государственный совет, император утвердил лишь 29 июня 1914 г. Н.Н. Покровский оставил место для последней цифры, решив уточнить дату, однако сделать это не успел.
(обратно)483
Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов – чрезвычайное учреждение военного времени, созданное 11 августа 1914 г. Осуществляло объединение правительственной, общественной и частной деятельности по оказанию помощи семьям офицеров, солдат, раненых и погибших на фронте, а также общее руководство деятельностью Особого петроградского комитета великой княжны Ольги Николаевны, московского Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, Комитета великой княгини Марии Павловны по снабжению одеждой солдат, отправляемых из лечебных заведений на родину, Главного кавказского комитета помощи пострадавшим от войны и других учреждений. Председательницей Верховного совета была императрица Александра Федоровна, по повелению которой на рассмотрение Верховного совета вносились наиболее сложные вопросы, вице-председательницами – великая княжна Ольга Николаевна и великая княгиня Елизавета Федоровна, председательствующим в нем (по должности) являлся председатель Совета министров (первоначально – И.Л. Горемыкин, затем – Б.В. Штюрмер, А.Ф. Трепов и князь Н.Д. Голицын). Верховный совет 21 марта 1917 г. был передан в ведение Военного министерства, 14 мая – включен в состав Министерства государственного призрения, 25 июля – упразднен.
(обратно)484
Попечительство об охране материнства и младенчества было учреждено 31 мая 1913 г. под покровительством императрицы Александры Федоровны. Согласно Положению о попечительстве, призванном объединить под своей эгидой существовавшие и вновь создаваемые благотворительные заведения, оно имело целью «путем охраны здоровья женщин во время их беременности и родов и непосредственно после таковых, а равно путем охраны здоровья детей младшего возраста и особенно грудных младенцев, способствовать уменьшению детской смертности и нарастанию здорового поколения в России». Попечительство имело право устраивать приюты для матерей и детей и, в частности, приюты-ясли, консультации для матерей и детей, молочные кухни, детские лечебницы, родильные приюты и т. п., а также распространять «здравые понятия» и способствовать «усвоению правильных навыков в деле ухода за младенцами и их питания». После Февральской революции 1917 г. перешло к Министерству государственного призрения (см.: Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. XIX – начало XX в. М., 2005. С. 179–180).
(обратно)485
Н.Н. Покровский не упомянул, что Г.Г. вон Витте являлся его двоюродным братом (см.: Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 265).
(обратно)486
Хозяйственный департамент – подразделение в составе Министерства внутренних дел, в компетенцию которого входили руководство городским хозяйством, организация снабжения населения продовольствием, усовершенствование земледелия и других отраслей сельского хозяйства, организация переселений и устройство колоний.
(обратно)487
Главное управление по делам местного хозяйства было образовано 22 марта 1904 г. на основе Хозяйственного департамента в составе Министерства внутренних дел. Руководило деятельностью местных административных учреждений и курировало деятельность органов земского и городского самоуправления. Было передано 16 декабря 1917 г. Наркомату по местному самоуправлению.
(обратно)488
Отдел народного здравия и общественного призрения ведал делами по оказанию врачебной помощи населению, принятию санитарных мер и заведованию подведомственными МВД больницами и другими лечебными заведениями, а также занимался устройством общественного призрения, осуществлял контроль за деятельностью благотворительных заведений и утверждал уставы обществ благотворительных и взаимопомощи.
(обратно)489
См.: Витте Г.Г. фон. Охрана материнства и грудных младенцев в Германии и Венгрии. СПб., 1912. См. также: Он же. Подготовка добровольных деятелей по благотворительности (По работам Миланского конгресса 1906 г.). СПб., 1908.
(обратно)490
Это предложение в рукописи исправлено от руки (не Н.Н. Покровским) следующим образом: «Попечительницей была императрица, председателем К.А. Раухфус, а Г.Г. фон Витте был тов[арищем] пред[седате]ля».
(обратно)491
Великие князья в состав Верховного совета не входили.
(обратно)492
Финансовая комиссия ведала изысканием и распределением средств на оказание помощи инвалидам войны и их семьям, а также семьям погибших; Законодательная (Подготовительная) имела целью предварительное обсуждение наиболее сложных вопросов до внесения их в Совет; Распорядительная рассматривала текущие дела, не подлежавшие внесению в Совет, отчеты о деятельности подведомственных Совету учреждений и составляла общий отчет о его деятельности.
(обратно)493
Речь идет о Санкт-Петербургском (Петроградском) учетном и ссудном (учетно-ссудном) банке, основанном в 1869 г. Занимался кредитованием торговли, железнодорожных обществ, предоставлением ссуд под залог ценных бумаг, реализацией облигационных займов российских железных дорог в России и за границей, финансированием промышленности.
(обратно)494
Имеется в виду Особенная канцелярия по кредитной части Министерства финансов.
(обратно)495
Имеется в виду Комитет великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий – благотворительное учреждение, созданное 14 сентября 1914 г. Почетной председательницей Комитета была великая княжна Татьяна Николаевна, его председателем являлся А.Б. Нейдгарт. В состав Комитета входили представители министерств военного, внутренних дел, путей сообщения и финансов, а также общественных организаций. Комитет пользовался правительственной поддержкой и широкими государственными субсидиями, небольшую часть поступлений давали всероссийские сборы пожертвований и частные взносы. В его ведении находились губернские отделения во главе с губернаторами не только на прифронтовой территории, но и по всей стране. Подробнее о Комитете см.: Очерк деятельности Комитета великой княжны Татьяны Николаевны. Пг., 1915; Курцев А.Н. Беженство // Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 129–146.
(обратно)496
Комитет помощи русским военнопленным, находящимся во вражеских странах, был образован в мае 1915 г. под председательством императрицы Александры Федоровны. Помощником императрицы и вице-председателем Комитета являлся князь Н.Д. Голицын, его членами были представители министерств военного, иностранных и внутренних дел, Главного управления Российского общества Красного Креста и т. д. Члены Комитета вели переписку с русскими военнопленными через свое бюро в Копенгагене и обеспечивали их переписку с родственниками, занимались переговорами с германским правительством о пересылке денег на содержание военнопленных, посещали их лагеря в Германии и Австро-Венгрии. В конце 1918 г. ликвидирован.
(обратно)497
Особая комиссия под председательством великой княгини Ксении Александровны по призрению воинских чинов и других лиц, пострадавших в продолжение войны, а также их семей была образована 10 января 1915 г. Позднее на нее возложили и призрение священнослужителей, гражданских чинов и служащих на железных дорогах в районах боевых действий и их семей (см.: Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 – 15 марта 1916 г.) // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 137). Особая комиссия занималась открытием специальных мастерских, развитием профессионального образования, устройством богаделен, приютов и организацией иной помощи инвалидам войны и семьям погибших, а также снабжением одеждой и деньгами солдат, выпускаемых из госпиталей.
(обратно)498
Имеется в виду находившийся в Москве Комитет великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, который она возглавляла с августа 1914 по март 1917 г. Задачи Комитета состояли в развертывании и поддержании сети благотворительных учреждений, в обеспечении работой жен солдат, а также в помощи семьям призванных на войну в возделывании крестьянских полей и в приобретении семян (см.: Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны. М., 2004. С. 224–232). Отделения Комитета Елизаветы Федоровны на местах являлись местными органами Особой комиссии под председательством Ксении Александровны (см.: Поливанов А.А. Указ. соч. С. 138).
(обратно)499
Имеется в виду Особый петроградский комитет великой княжны Ольги Николаевны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, действовавший с августа 1914 по март 1917 г.
(обратно)500
Далее оставлено место для одного слова.
(обратно)501
Имеется в виду созданный в феврале 1910 г. Отдел воздушного флота Особого комитета по усилению военного флота, возглавлявшегося Александром Михайловичем и учрежденного в феврале 1904 г. на добровольные пожертвования.
(обратно)502
Ср.: «Покровский мне объяснил, что Верховный совет, состоявший под председательством императрицы Александры Федоровны, выделил в качестве исполнительного своего органа Особую комиссию под председательством сестры царя великой княгини Ксении Александровны, супруги великого князя Александра Михайловича. Товарищем председателя комиссии был А.А. Поливанов. Но в бытность военным министром напряженная работа по военному ведомству вынудила его сложить с себя должность товарища председателя Особой комиссии. Она была предложена Покровскому и принята им. Верховный совет имел своего управляющего делами – сенатора Георгия Георгиевича Витте, а Особая комиссия – своего управляющего, навязанного великим князем Александром Михайловичем моряка Петра Владимировича Верховского. Императорская фамилия находилась в оппозиции к гибельной политике царя и к оказывавшей на царя пагубное влияние виновнице этой политики императрице Александре Федоровне. Ксения Александровна в эту оппозицию входила. Верховский был не только малодеятельный и несведущий в организационной работе, какая от него требовалась, управляющий делами Особой комиссии, но еще внес в задачу быстрой и эффективной организации помощи больным и раненым воинам тормозившую выполнение этой задачи политику борьбы Особой комиссии, состоявшей под председательством Ксении Александровны, с Верховным советом, состоявшим под председательством Александры Федоровны. Это было, прежде всего, глупо. Последствием же своим имело, при неспособности Верховского развить большое дело в требовавшемся крупном масштабе, полнейший маразм деятельности Особой комиссии. Ксению Александровну убедили расстаться с Верховским, на что она оказалась вынужденною согласиться. Заменить Верховского приглашался я. Николай Николаевич Покровский <…> предрешил мое согласие» (Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 264–265).
(обратно)503
Далее в тексте отсутствуют страницы воспоминаний за конец 1914 и начало 1915 г.
(обратно)504
На посту председателя Совета министров И.Л. Горемыкин был заменен Б.В. Штюрмером 20 января 1916 г.
(обратно)505
Н.Н. Покровский пристрастен по отношению к Б.В. Штюрмеру. Когда в 1892 г. Б.В. Штюрмера назначили председателем Тверской губернской земской управы, являвшейся оплотом радикального либерализма, он тем не менее, по воспоминаниям октябриста Н.А. Хомякова, уже «в две недели сумел стать общим любимцем» (Н.А. Хомяков о Государственной думе, правительстве и стране // Биржевые ведомости. 1916. 22 янв.). В 1896–1902 гг., будучи ярославским губернатором, Б.В. Штюрмер также пользовался популярностью и при оставлении им в 1902 г. губернии местное дворянское собрание, склонное к либерализму, приобрело на имя Б.В. Штюрмера земельный ценз, дававший право на причисление к ярославскому дворянству, и после этого само, без ходатайства о том Б.В. Штюрмера, приняло его в свои ряды. Николай II считал Б.В. Штюрмера лучшим губернатором Российской империи. На отчете министра внутренних дел Д.С. Сипягина о посещении им в 1901 г. Ярославской губернии в том месте, где он свидетельствовал «об административном опыте и энергичной деятельности» Б.В. Штюрмера, создавших ему «положение действительного хозяина губернии», царь подчеркнул последние слова и сделал на полях беспрецедентную отметку: «Желал бы, чтобы все вообще губернаторы так сознательно и правильно смотрели на себя и на вверенное им мною дело» (В.К. Плеве – Б.В. Штюрмеру. 22 июня 1902 г. // РГИА. Ф. 1284. Оп. 46. 1894. Д. 50. Л. 123). По мнению П.Г. Курлова, в 1902–1904 гг. как директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел Б.В. Штюрмер являлся «заметным деятелем» и «действительно руководил губернаторами, так как все указания его носили практический характер и невольно импонировали его подчиненным» (Курлов П.Г. Гибель императорской России. М., 1991. С. 153). В качестве члена Государственного совета Б.В. Штюрмер не отличался в качестве оратора, но его имя всплывало всякий раз, когда возникал вопрос о назначении нового министра внутренних дел (в 1904, 1905 и 1906 гг.) и даже премьера (в 1908, 1909 и 1911 гг.). Если учесть, что в течение предыдущих 12 лет Б.В. Штюрмер уже шесть раз оказывался близок к получению столь высоких должностей, странным должно показаться не то, что в январе 1916 г. Николай II назначил премьером именно его, а то, что царь не назначал его премьером так долго. О Б.В. Штюрмере как государственном деятеле см.: Куликов С.В. Непризнанный реформатор. Борис Владимирович Штюрмер (1848–1917) // Знаменитые и известные бежечане. М., 2005. Вып. 3. С. 27–97.
(обратно)506
Имеется в виду состоявшаяся в мае 1896 г. в Москве коронация Николая II, при подготовке которой Б.В. Штюрмер был прикомандирован к Министерству Императорского двора «для ведения Церемониальной части», поскольку ранее, в 1883 г., при подготовке коронации Александра III, состоял делопроизводителем Церемониального отдела Коронационной комиссии, а затем – правителем дел Канцелярии верховного церемониймейстера графа К.И. Палена. Назначение Б.В. Штюрмера членом Государственного совета сразу из директоров департамента, что составляло «совершенно исключительный пример в истории русской бюрократии» (Курлов П.Г. Указ. соч. С. 153), объяснялось тем, что он пользовался авторитетом у Николая II, который после убийства в июле 1904 г. министра внутренних дел В.К. Плеве хотел поставить его ближайшего сотрудника во главе этого министерства. Монарх даже подписал соответствующий указ, однако практически состоявшееся назначение Б.В. Штюрмера предотвратила вдовствующая императрица Мария Федоровна (см.: Святополк-Мирская Е.А. Дневник за 1904–1905 гг. // Исторические записки. 1966. Т. 77. 1966. С. 252). Вместо Б.В. Штюрмера в августе 1904 г. управляющим МВД стал генерал князь П.Д. Святополк-Мирский, и Николай II назначил Б.В. Штюрмера членом Государственного совета, принимая во внимание, что у него имелся необходимый для такого высокого назначения формальный служебный ценз пребывания, хотя и неофициального, на посту министра внутренних дел.
(обратно)507
Б.В. Штюрмер являлся сыном ротмистра В.В. Штюрмера, происходившего «от уроженца Остзейских губерний» и получившего потомственное дворянство в 1856 г. (см.: Куликов С.В. Политическая дифференциация членов Государственного совета в годы Первой мировой войны (август 1915 – февраль 1917) // Из глубины времен. 1997. Вып. 9. С. 11). По другим данным, отец Б.В. Штюрмера был «еврейского происхождения», воспитывался в Виленском раввинском училище, а потом крестился (см.: Симанович А.С. Распутин и евреи. М., 1991. С. 93). Имеются также сведения, что Б.В. Штюрмер – правнук консисторского советника и внук доктора медицины (Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917: Биобиблиогр. справочник. СПб., 2001. С. 757). Мать Б.В. Штюрмера принадлежала к нетитулованной ветви дворянского рода Паниных, через которых он и находился в дальнем родстве с Рюриковичами.
(обратно)508
Ср. показания Н.Н. Покровского о Б.В. Штюрмере, данные в 1917 г.: «Я его знал как члена Государственного совета. Встречал его в Финансовой комиссии Государственного совета, где он был членом и, кажется, докладчиком по каким-то сметам. Других отношений у меня с ним не было… Я видел его в качестве члена Государственного совета; по Финансовой комиссии несколько раз: он был докладчиком сметы Министерства иностранных дел, которая, конечно, не требовала никакого доклада» (Показания Н.Н. Покровского. 30 июня 1917 г. // Падение царского режима: Стенографич. отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в ЧСК Временного правительства: В 7 т. М.; Л., 1926. Т. 5. С. 337, 340). Однако как докладчик Финансовой комиссии Б.В. Штюрмер делал достаточно пространные доклады. См., например: Из протокола заседания 56 от 23 июня 1914 г. IX сессии Государственного совета // Министерская система в Российской империи. К 200-летию министерств в России. М., 2007. С. 344–348).
(обратно)509
Замена И.Л. Горемыкина Б.В. Штюрмером объяснялась желанием Николая II добиться соглашения с Прогрессивным блоком, т. е. оппозицией в законодательных учреждениях, поскольку еще с первой половины 1890-х гг., когда Б.В. Штюрмер занимал пост назначенного председателя Тверской губернской земской управы, он приобрел репутацию «ловкого дипломата», мастера политического компромисса. Подробнее о причинах назначения Б.В. Штюрмера председателем Совета министров см.: Куликов С.В. Назначение Бориса Штюрмера председателем Совета министров: предыстория и механизм // Источник. Историк. История. СПб., 2001. Вып. 1. С. 387–428.
(обратно)510
Комитет финансов – созданный 13 октября 1806 г. высший совещательный коллегиальный орган по вопросам финансовой политики, бюджета и кредита. Его председатель и члены назначались императором.
(обратно)511
Ср. с аналогичными показаниями Н.Н. Покровского Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (Показания Н.Н. Покровского. С. 337).
(обратно)512
Екатерина Петровна.
(обратно)513
Николай II записал 25 января 1916 г., что вечером принял «Покровского – будущего государственного контролера» (Дневники Николая II (1894–1918): В 2 т. М., 2013. Т. 2, ч. 2. С. 206).
(обратно)514
Указ о назначении Н.Н. Покровского Николай II действительно подписал 25 января 1916 г.
(обратно)515
Ср.: Показания Н.Н. Покровского. С. 337.
(обратно)516
подходящий человек на подходящем месте (англ.).
(обратно)517
Государственный контроль – учрежденное 29 ноября 1811 г. центральное Ведомство финансового контроля, приравненное к министерствам. Это был ревизионный орган, обладавший правом документальной ревизии центральных и местных (за небольшими исключениями) государственных учреждений. После 25 октября 1917 г. реорганизован в Народный комиссариат государственного контроля. Подробнее см.: Коняев А.И. Финансовый контроль в дореволюционной России. М., 1959.
(обратно)518
Департамент военной и морской отчетности был учрежден в 1883 г. Он ведал поверкой отчетности по оборотам денежных и материальных капиталов всех учреждений Военного ведомства, получавших содержание из Главного казначейства, и аптечно-материальной отчетности того же ведомства и поверкой оборотов всех без исключения учреждений Морского ведомства. Упразднен 8 марта 1918 г.
(обратно)519
Департамент гражданской отчетности был создан в 1883 г. Проводил ревизию денежных и материальных оборотов всех центральных государственных учреждений гражданского ведомства, получавших содержание из Главного казначейства, и оборотов Главного казначейства и касс специальных сборщиков, состоявших при центральных учреждениях. Упразднен 8 марта 1918 г.
(обратно)520
Департамент железнодорожной отчетности создан в 1891 г. Проводил ревизию отчетности по расходам на содержание всех центральных железнодорожных правительственных учреждений и по всем их операционным расходам, производившимся из Главного казначейства, и фактическую поверку операций Управления железных дорог Министерства путей собщения. Упразднен 6 марта 1918 г.
(обратно)521
Комиссия для поверки годовых отчетов частных железных дорог при Государственном контроле – совещательная коллегия, которая функционировала с 1880 г. С 16 января 1895 г. кроме ревизии годовых отчетов проводила также выборочную документальную и фактическую ревизию железнодорожных обществ и администраций частных железных дорог. Председателем Комиссии являлся генерал-контролер Департамента железнодорожной отчетности или лицо по назначению императора, ее членами были представители Государственного контроля и министерств финансов и путей сообщения. Упразднена в 1918 г.
(обратно)522
Канцелярия Государственного контроля вела делопроизводство государственного контролера и общие дела по контрольному ведомству. Упразднена в 1918 г.
(обратно)523
Совет Государственного контроля – совещательная административная и ревизионная коллегия при государственном контролере, существовавшая с 31 июля 1811 по 5 декабря 1917 г.
(обратно)524
Орден Белого орла – орден Российской империи, учрежденный в Речи Посполитой в 1705 г. Причислен к российским орденам в 1831 г. как императорский и царский орден. Имел одну степень. С 1835 г. в иерархии российских орденов следовал за орденом Св. Александра Невского.
(обратно)525
См.: Васильев А.Ф. Миру-народу мой отчет за прожитое время: Сб. статей, докладов, речей, стихов и заметок по вопросам христианской нравственности, права, государственного управления и хозяйства. СПб., 1908.
(обратно)526
Одна из причин этого – то, что, по наблюдениям А.В. Ивановского, в Государственный контроль «шел самый густой разночинец» (Ивановский А.В. Воспоминания инженера. Последняя эпоха царизма в России и заря коммунизма // СПбФА РАН. Разр. IV. Оп. 72. № 1. Л. 141).
(обратно)527
Имеется в виду так называемый Полевой контроль, органы которого начали действовать с первых же дней Первой мировой войны согласно Положению о полевом управлении войск в военное время. Эти органы были сформированы из служащих центральных и местных учреждений контроля, назначенных в Полевой контроль по мобилизационным спискам, а также изъявивших добровольное желание служить в Полевом контроле. За все время войны в нем работали около 2500 человек. Подробнее см.: Коняев А.И. Указ. соч. С. 147–152. Согласно утвержденному Николаем II 13 августа 1914 г. Положению о предметах и порядке действий Полевого контроля, для окончательной ревизии отчетности за военное время по соглашению государственного контролера с военным министром учреждались временные ревизионные комиссии, в которые в течение войны должна была поступать вся отчетность денежных касс и вещевых складов, распорядительных и всех вообще отчетных учреждений, принадлежавших армии и находившихся в районе ее действий, а по окончании войны – дела и счета Полевого контроля. На комиссии возлагалась также окончательная ревизия отчетности, возникшей за военное время, как денежной, так и материальной, составление финансового отчета за военное время, выдача кассам квитанций и уведомление распорядительных управлений и частей войск о ревизии их отчетности (см.: Особый журнал Совета министров 12 декабря 1914 г. «Об учреждении Временной ревизионной комиссии в г. Петрограде для поверки отчетности в расходах, вызванных войной 1914 г.» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 592–593).
(обратно)528
Реформа Государственного контроля привела к созданию в 1865 г. контрольных палат, осуществлявших ревизию казначейств, касс и всех местных оборотов. Каждой контрольной палате было подведомственно от одной до нескольких губерний.
(обратно)529
Ставка верховного главнокомандующего – высший орган руководства армией и флотом на театре военных действий, являвшийся местопребыванием верховного главнокомандующего. С июля 1914 по август 1915 г. располагалась в Барановичах, затем, до выхода России из Первой мировой войны, – в Могилеве.
(обратно)530
До 1903 г. учреждения Контрольного ведомства не имели нормальных штатов. Личный состав и оклады содержания чинов центральных учреждений Государственного контроля (Канцелярии, департаментов военной и морской и гражданской отчетности) и контрольных палат были определены утвержденным Александром III 1 февраля 1883 г. расписанием должностей и окладов, имевшим временный характер. В центральных учреждениях, образованных после 1883 г., а именно в Центральной бухгалтерии и в департаментах железнодорожной и кредитной отчетности, расписаниями определялись только наименования должностей (без указания их числа) и присвоенные этим должностям оклады содержания. В целях повышения материального обеспечения служащих Государственного контроля государственный контролер генерал П.Л. Лобко вошел в 1902 г. в Государственный совет с представлением об усилении средств контрольных учреждений, с установлением для них, вместо расписания должностей и окладов, нормальных штатов. Предположения П.Л. Лобко, значительно сокращенные в их финансовой части Государственным советом, были утверждены Николаем II 3 марта 1903 г. В нормальных штатах число должностей устанавливалось только для высших чинов, т. е. для начальников учреждений, их помощников и ревизоров, которые и производили ревизии. Для низших чинов (помощников ревизора и счетных чиновников) по-прежнему устанавливались лишь оклады содержания, их же численный состав в том или другом контрольном учреждении определялся ежегодными расписаниями государственного контролера в пределах положенных по штатам общих сумм (см.: Государственный контроль. 1811–1911. СПб., 1911. С. 338–339). Проект новых штатов Контрольного ведомства, внесенный в Государственную думу П.А. Харитоновым, остался не рассмотренным ею вплоть до Февральской революции.
(обратно)531
Военный фонд – вся сумма кредитов на удовлетворение потребностей военного времени, отличавшаяся от обыкновенного бюджета, который включал доходы и расходы в объеме, предназначавшемся для мирного времени, и пополнявшаяся за счет чрезвычайных сверхсметных ассигнований из Государственного казначейства, не подпадавших под контроль законодательных учреждений. Образование Военного фонда предусматривалось Правилами 26 февраля 1890 г. о порядке ассигнования Военному министерству средств на расходы военного времени. Военный министр генерал В.А. Сухомлинов 16 июля 1914 г. внес в Совет министров новые Правила о порядке испрошения, разрешения и ассигнования Военному министерству денежных средств на расходы, вызываемые военными обстоятельствами. Согласно Правилам, требования на кредиты за счет Военного фонда подавались управлениями начальников снабжений корпусов и армий главному начальнику снабжений соответствующего фронта, который направлял их в Управление дежурного генерала Ставки верховного главнокомандующего. Дежурному генералу предписывалось осуществлять учет отпускаемых кредитов и передавать представления в Канцелярию Военного министерства, она же вносила сметы на четырехмесячные кредиты из Военного фонда на рассмотрение Межведомственного совещания. Военный министр должен был представлять журналы этого Совещания в Совет министров, после чего соответствующие Особые журналы кабинета утверждал император. Сведения об отпускаемых кредитах Канцелярия Военного министерства обязывалась представлять также в Министерство финансов и Государственный контроль. Тот же порядок 19 июля 1914 г. Совет министров распространил и на Морское министерство. Николай II одобрил эти постановления правительства 9 августа. С учреждением в августе 1915 г. Особого совещания по обороне оно стало отдельной инстанцией при рассмотрении ассигнований на военные нужды (см.: Коняев А.И. Указ. соч. С. 131–138; Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика России. 1914–1917 гг. СПб., 2002. С. 264–265).
(обратно)532
На заседании 13 сентября 1916 г. Совет министров удовлетворил представление государственного контролера об отпуске 1 400 000 руб. на расходы по выдаче средств чинам контрольных палат и местных контролей по эксплуатации казенных железных дорог (см.: Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 709).
(обратно)533
Будучи государственным контролером, Н.Н. Покровский почти ежемесячно вносил в Совет министров представления о материальной поддержке различных категорий служащих Контрольного ведомства, которые обычно удовлетворялись (см.: Там же. С. 645, 651, 668, 669, 682, 684, 714, 723, 731).
(обратно)534
Вопрос о несменяемости чинов Государственного контроля, наподобие судей, поднимался в III, а затем в IV Государственной думе. В начале июня 1914 г. государственный контролер П.А. Харитонов внес в Совет министров проект Правил о порядке назначения и увольнения чинов, входящих в Совет Государственного контроля и общих присутствий контрольных учреждений. Реализация предложений П.А. Харитонова способствовала бы созданию в России «самостоятельно поставленного» Контрольного ведомства. Проект П.А. Харитонова не был рассмотрен Советом министров, поскольку началась Первая мировая война. Выступая в IV Думе 17 марта 1916 г., Н.Н. Покровский сообщил, что Государственный контроль «озабочен» вопросом о несменяемости его чинов и «разрабатывает соответствующий законопроект» (Выступление Н.Н. Покровского. 17 марта 1916 г. // Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографич. отчеты. Сессия 4. Пг., 1916. Стлб. 3517). В ноябре 1916 г. Н.Н. Покровский внес в Совет министров свой проект Правил о несменяемости ответственных сотрудников Контрольного ведомства, который воспроизводил с некоторыми изменениями предложения П.А. Харитонова. В отличие от предшественника Н.Н. Покровский полагал, что «введение в действие проектируемых Правил немедленно же по их издании встретило бы немалые практические затруднения в силу отсутствия в аппарате Контрольного ведомства должного количества лиц, достойных пользоваться “привилегией несменяемости”» (таковыми считались имевшие высшее образование). Ситуация, по мнению Н.Н. Покровского, могла измениться лишь после увеличения жалованья сотрудникам Государственного контроля. Имея в виду, что соответствующий законопроект уже был внесен в Думу, Н.Н. Покровский рекомендовал даровать старшим чинам Контрольного ведомства «привилегию несменяемости» лишь по истечении «пятилетнего срока со времени установления новых повышенных окладов содержания». Совет министров на заседании 23 ноября 1916 г. обсудил предложения Н.Н. Покровского. Высказавшись за внесение в его проект некоторых изменений частного характера, кабинет не встретил препятствий к направлению его на рассмотрение Думы и Государственного совета. Однако обсуждению предложений Н.Н. Покровского законодательными учреждениями помешала Февральская революция (см.: Флоринский М.Ф. К истории Государственного контроля России в нач. XX в. // Политическая история России первой четверти XX в. СПб., 2006. С. 17–18).
(обратно)535
Реформирование в 1860-е гг. Контрольного ведомства вызвало необходимость установления новых правил по сметной, кассовой и ревизионной части, однако в законодательном порядке были изданы только Сметные правила 22 мая 1862 г. и дополнявшие их Правила 8 марта 1906 г. о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, росписью не предусмотренных. По докладу П.Л. Лобко 23 февраля 1901 г. Николай II согласился на образование в составе центральных учреждений Государственного контроля Временной законодательной комиссии под председательством члена Совета Государственного контроля Н.Г. Тычино, имевшей целью кодификацию счетных уставов и исправление постановлений по сметной, кассовой, счетной и ревизионной частям, а также переработку Учреждения Государственного контроля и Учреждения контрольных палат. Соответствующие проекты счетно-ревизионных уставов, среди которых был и Устав ревизии, Временная законодательная комиссия подготовила к 1904 г., однако последовавшее в 1905–1906 гг. преобразование законодательных учреждений Российской империи потребовало пересмотра прежде всего Устава ревизии для согласования его с новым государственным строем, чем занималось Особое совещание под председательством П.А. Харитонова, образованное в 1909 г. из членов Совета Государственного контроля и некоторых контрольных чинов. Позднее пересмотренный Особым совещанием проект Устава ревизии обсуждался Межведомственным совещанием под председательством того же П.А. Харитонова из представителей Государственного контроля и заинтересованных ведомств (Государственный контроль. 1811–1911. СПб., 1911. С. 337–338). Окончательный проект Устава ревизии П.А. Харитонов внес в Совет министров, который рассматривал его на заседаниях 7 февраля и 8 и 25 апреля 1913 г. Согласно основным началам указанного проекта, воспроизводившего в своих главных чертах уже действовавшие на практике приемы контрольной поверки, Государственный контроль путем ревизии подотчетных ему правительственных установлений должен был удостоверяться в законности и правильности поверяемых им оборотов казенных капиталов и имуществ, как и сумм специальных средств и депозитов, и, кроме того, убеждаться в целости и сохранности упомянутых капиталов, имуществ и сумм, а также составлять соображения о выгодности или невыгодности производимых отчетными установлениями хозяйственных операций независимо от законности их производства. Совет министров постановил предоставить П.А. Харитонову внести в IV Государственную думу проект Устава ревизии, согласованный с суждениями, прозвучавшими на заседаниях кабинета. Постановление правительства Николай II утвердил 4 мая (см.: Особый журнал Совета министров 7 февраля и 8 и 25 апреля 1913 г. «По проекту Устава ревизии» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1913 год. М., 2005. С. 215–221). Устав ревизии Дума одобрила в 1916 г. и передала его в Государственный совет, который не успел рассмотреть его до Февральской революции. См.: Флоринский М.Ф. Указ. соч. С. 18–20.
(обратно)536
С.Г. Феодосьев был назначен государственным контролером 3 ноября 1916 г.
(обратно)537
Временная ревизионная комиссия в г. Петрограде для поверки отчетности в расходах, вызванных войной 1914 г., была создана по инициативе государственного контролера П.А. Харитонова, который признал более правильным как в целях объединения и ускорения производства ревизии, так и по финансовым соображениям не учреждать отдельных комиссий для каждой группы армий, а объединить все ревизионное дело в одной комиссии, образовав ее в Петрограде. Выработанный Государственным контролем проект Положения о Временной ревизионной комиссии в г. Петрограде П.А. Харитонов внес на рассмотрение Совета министров, который его одобрил. Решение правительства Николай II утвердил 24 декабря (см.: Особый журнал Совета министров 12 декабря 1914 г. «Об учреждении Временной ревизионной комиссии в г. Петрограде для поверки отчетности в расходах, вызванных войной 1914 г.» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 592–593). Временная комиссия действовала на правах департамента Государственного контроля и проводила ревизию отчетности полевых казначейств и касс специальных сборщиков по оборотам денежных и материальных капиталов, распорядительных учреждений и войск в суммах, отпускавшихся им из полевых казначейств (Беляев С.Г. Указ. соч. С. 266–267). Временная комиссия была упразднена в 1918 г.
(обратно)538
Российское общество Красного Креста (Красный Крест) – общеимперская общественная благотворительная организация, основанная в 1867 г. с целью помощи населению во время разного рода бедствий. Покровительницей ее была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Возглавлялась Главным управлением, которое образовывали председатель, его товарищ и члены. В губернских городах управления общества открывались при наличии 30 сочувствующих лиц, готовых платить членские взносы в размере 5 – 10 руб. в год. Созданное первоначально как организация общественной помощи населению во время войн, РОКК на деле стало осуществлять постоянное участие «во всех несчастьях, постигающих людей, начиная с самых обыденных и мелких, каковыми являются единичные заболевания, и кончая большими стихийными, каковы голод, эпидемии, землетрясения, пожары и т. п.» (Максимов Е.Д. Очерк исторического развития и современного положения общественного призрения в России // Общественное и частное призрение. СПб., 1907. С. 39). Другим направлением деятельности общества стала подготовка персонала (прежде всего – сестер милосердия), в мирное время постоянно работавшего в больницах и амбулаториях, а при чрезвычайных ситуациях входившего в состав летучих отрядов для борьбы с последствиями неурожаев и других бедствий (подробнее см.: Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. XIX – начало XX в. М., 2005. С. 272–275). К середине 1917 г. членами общества состояли 39 000 человек, под флагом Красного Креста работали 136 850 человек, в т. ч. административный персонал насчитывал 5500 человек. С августа 1914 по июль 1917 г. на содержание всех учреждений общества было израсходовано 281 900 000 руб., из них составили: правительственные дотации – 180 500 000 руб., пожертвования – 18 700 000 руб., ссуды Государственного банка под обеспечение принадлежавших Красному Кресту ценных бумаг – 12 900 000 руб. (см.: Васильчиков И.С. То, что мне вспомнилось… М., 2002. С. 188). Следовательно, в годы Первой мировой войны Красный Крест фактически превратился из общественной организации в государственную.
(обратно)539
Всероссийский городской союз помощи больным и раненым воинам – общественная благотворительная организация, возникшая в Москве в августе 1914 г., главноуполномоченным которой являлся М.В. Челноков. Параллельно с ним образовался и функционировал Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам с главноуполномоченным князем Г.Е. Львовым. Уже в конце 1914 г. Земский и Городской союзы фактически перестали быть как общественными организациями, поскольку работали главным образом на казенные субсидии, составившие к сентябрю 1916 г. более полумиллиарда рублей, так и, с 1915 г., чисто благотворительными, поддержав требование думской оппозиции, объединившейся в Прогрессивный блок, о создании «министерства общественного доверия», фактически – министерства, ответственного перед палатами, а не монархом. Лидеры Земского и Городского союзов сыграли видную роль в подготовке и проведении Февральской революции 1917 г. См. о них: Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны (1914–1917). Л., 1967; Шевырин В.М. Земский и Городской союзы. 1914–1917. М., 2000; Куликов С.В. Финансовые аспекты деятельности российских благотворительных организаций военного времени (июль 1914 – февраль 1917) // Благотворительность в истории России. Новые документы и исследования. СПб., 2008. С. 369–396.
(обратно)540
Особое совещание по рассмотрению ходатайств о пособиях на организацию помощи больным и раненым воинам при Главном управлении Генерального штаба Военного министерства – коллегия, образованная по решению Совета министров 14 августа 1914 г. при Генеральном штабе. Его председателем первоначально был генерал П.А. Фролов, затем, с 22 сентября 1915 г. по 5 августа 1917 г., – генерал А.А. Веденяпин. Членами Особого совещания являлись представители отделов Генерального штаба по эвакуации и по заведованию военнопленными, Главного военно-санитарного и Главного интендантского управлений Военного министерства, министерств морского, внутренних дел, финансов и путей сообщения, Государственного контроля и Главного управления Российского общества Красного Креста. В компетенцию Особого совещания входили рассмотрение ходатайств и смет и распределение средств из Государственного казначейства между благотворительными организациями (Российское общество Красного Креста, Всероссийские земский и городской союзы и др.), занимавшимися во время Первой мировой войны санитарным обеспечением армии, эвакуацией и организацией помощи больным и раненым воинам. Особое совещание было реорганизовано 5 августа 1917 г. и 15 февраля 1918 г. Ср. с показаниями Н.Н. Покровского: «Ведь кредиты отпускались через Комиссию Веденяпина. Вот в этой Комиссии и старались, по возможности, не дать лишнего. В некоторых случаях, не могу сказать, чтобы не было оснований к этому, потому что Земский союз, особенно, создавал должности с такими окладами, которые требовали известного сокращения. Так широко нельзя было идти в вопросе об увеличении содержания» (Показания Н.Н. Покровского. С. 352).
(обратно)541
образ жизни, способ (со)существования(лат.).
(обратно)542
На заседании 14 июня 1916 г. Совет министров установил порядок контроля над оборотами Всероссийских земского и городского союзов и других общественных организаций, а также уполномоченных союзами городских и земских учреждений по расходам за счет ассигнований из Государственного казначейства на потребности, вызванные войной. Высший контроль возлагался на Комиссию при Государственном контроле под председательством С.А. Гадзяцкого для поверки оборотов Всероссийских земского и городского союзов. На местах контроль осуществляли представители Государственного контроля, назначаемые государственным контролером в главные и, «по мере возможности», местные распорядительные комитеты союзов. Порядок контроля над оборотами союзов Николай II утвердил 10 июля (Особый журнал Совета министров 14 июня 1916 г. «Об установлении контроля над оборотами Всероссийских земского и городского союзов, а также общественных организаций по призрению больных и раненых воинов, по расходам за счет ассигнований из Государственного казначейства на потребности, вызванные текущей войной» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1916 г. М., 2008. С. 261–265).
(обратно)543
На заседании IV Думы 17 марта 1916 г. Н.Н. Покровский дал разъяснения по поводу законопроекта об Уставе ревизии, переработанного в думской комиссии. Обращаясь к депутатам, он заявил: «Главное мое ходатайство пред Государственной думой заключалось бы в том, чтобы рассмотреть этот проект и ввести его в действие по возможности незамедлительно» (Выступление Н.Н. Покровского. 17 марта 1916 г. // Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографич. отчеты. Сессия 4. Пг., 1916. Стлб. 3517).
(обратно)544
Вопрос о придании Государственному контролю автономного статуса по отношению к Совету министров возник еще до открытия I Государственной думы в самом правительстве. На заседании кабинета 8 апреля 1906 г. государственный контролер Д.А. Философов возбудил вопрос о том, что ввиду особого положения и задач Государственного контроля в общей системе государственного управления стоит выделить находящееся во главе этого ведомства должностное лицо из Совета министров, в состав которого оно вошло на основании Указа 19 октября 1905 г., преобразовавшего Совет министров в объединенное правительство. Д.А. Философов заметил, что его участие как постоянного члена Совета министров в распорядительных действиях высшего управления не согласуется с прямыми задачами Государственного контроля, поскольку он, поверяя и оценивая самостоятельные действия подотчетных ему распорядительных управлений, должен быть в отведенной ему области также безусловно самостоятельным. Совет министров не поддержал Д.А. Философова и разъяснил, что по общему смыслу Указа 19 октября 1905 г. ревизионная деятельность Государственного контроля ни в каком отношении не подлежит компетенции Совета министров. Николай II утвердил разъяснение правительства 9 апреля, а 14 апреля подписал соответствующий указ, опубликованный 18 апреля (Мемория Совета министров «Об участии государственного контролера в деятельности Совета министров». 8 апреля 1906 г. // Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Л., 1990. С. 420–423). Депутаты I Государственной думы заявили себя сторонниками «выделения Государственного контроля из общей системы министерств и установления органической связи между Контролем и Государственной думой». В дальнейшем III и IV Государственные думы не раз поддерживали это предложение (Коняев А.И. Указ. соч. С. 122, 124, 125, 128; Флоринский М.Ф. Указ. соч. С. 14–17).
(обратно)545
При государственном контролере в апреле – октябре 1917 г. функционировало Особое совещание по организационным вопросам, которое имело целью подготовку нового Ревизионного устава и проекта реорганизации Контрольного ведомства, однако из-за Октябрьской революции 1917 г. своей работы оно закончить не успело.
(обратно)546
Н.Н. Покровскому остался неизвестным эпизод, связанный с тем, что Б.В. Штюрмер выступил в качестве идеолога консервативно-либерального крыла бюрократической элиты. В апреле 1909 г., в самый разгар министерского кризиса, когда стали циркулировать слухи о возможности назначения Б.В. Штюрмера председателем Совета министров, он обратился к корреспонденту кадетской «Речи» Л.М. Клячко (Львову) и предложил ему напечатать под видом анонимной беседы свою политическую программу, надеясь на то, что одновременно с беседой («Речь» опубликовала ее 10 апреля) будет напечатан и указ о его назначении премьером. Б.В. Штюрмер констатировал, что «в обществе и печати составилось весьма превратное мнение о той части бюрократии, которая обобщается одним именем – правых». От лица своих единомышленников он заявлял: «…мы – правые, вопреки установившемуся в обществе мнению о том, будто по натуре своей состоим любителями исключительных положений, вопреки этому, мы отлично сознаем, что ни одна сторона жизни не может развиваться правильно и нормально при отсутствии твердых и постоянных законоположений или при их игнорировании. Если мы и являлись защитниками тех или иных исключительных мероприятий, то не по принципу, а только потому, что считали их неизбежным в данный момент злом». Полагая, что «необходимо приступить к переоценке ценностей», Б.В. Штюрмер приходил к заключению, что в результате нее «рассеялась бы легенда о том, что реакция составляет профессию правых бюрократов». Он утверждал «с полной уверенностью, что среди так называемых правых бюрократов течение к возврату к старому столь ослабло и имеет столь мало приверженцев, что серьезно считаться с ним не приходится». Согласно заверению Б.В. Штюрмера, «за три с лишним года совершенно определенно установилось, что в высших кругах бесповоротно оставлена мысль о старом и все направлено к созданию рациональных форм нового строя». «Я, – давал он публичную клятву, наделяя свои слова сугубой достоверностью, – совершенно категорически могу уверить, что отступление от начал манифеста 17 октября не будет допущено ни в каком случае». Принципиальное отличие «правой бюрократии» от «представителей крайних правых течений общественных», т. е. черносотенцев, Б.В. Штюрмер видел в том, что она «вовсе не задается задачей, во что бы то ни стало, идти против тех требований, которые предъявляет жизнь стране». «Подразделение бюрократов на правых и либералов, – полагал Б.В. Штюрмер, – требует весьма осторожного отношения. Быть может, так называемые либералы не столь преданы прогрессу, сколь правые считаются преданными реакции. Если правые чем-либо отличаются от их коллег, прослывших либералами, то, пожалуй, тем, что они не забегают вперед в области предначертаний верховной власти, но зато эти предначертания правые всегда будут выполнять. И выполнят на деле, а не на словах» (Куликов С.В. Непризнанный реформатор. Борис Владимирович Штюрмер (1848–1917) // Знаменитые и известные бежечане. М., 2005. Вып. 3. С. 48–51).
(обратно)547
Всеподданнейшие доклады Б.В. Штюрмера см.: Монархия перед крушением. 1914–1917: Бумаги Николая II и другие документы. М.; Л., 1927. С. 109–171; Всеподданнейшие записки Б.В. Штюрмера. 1916 г. // Исторический архив. 1994. № 6. С. 52–67. Их анализ позволяет утверждать, что интеллектуальный уровень Б.В. Штюрмера был, во всяком случае, не ниже, чем у других царских премьеров.
(обратно)548
Это предложение Н.Н. Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)549
Ср. показания Н.Н. Покровского ЧСК Временного правительства, где он давал Б.В. Штюрмеру следующую характеристику: «Что касается председателя Совета министров, и, так сказать, направления, им даваемого, то из наблюдений своих за время почти в двенадцать месяцев я имел возможность заключить, что лично он – и по своему умственному развитию, и по возрасту, и, может быть, по состоянию здоровья, – едва ли мог давать серьезное направление политике. Может быть, он был настолько скрытен, что не проявлялся в достаточной степени; может быть, людям, которые стояли ближе к нему, многое тут было яснее, но только на меня он всегда производил впечатление человека ограниченного и, что называется, находящегося уже в состоянии старческого склероза» (Показания Н.Н. Покровского. С. 338–339). Вместе с тем Н.Н. Покровский не настаивал на этой оценке, поскольку, имея в виду того же Штюрмера, подчеркивал, что «его, собственно, почти совсем не знал», добавляя: «Отдельных бесед с ним по более важным делам у меня не было. Он меня не приглашал. Так что я, может быть, ошибаюсь в его характеристике. Другие говорят, – никогда не было более хитрого председателя Совета министров». Показывая, что Штюрмер «связной мысли в разговоре высказать не мог» и «заранее записывал то, что ему нужно было сказать, иначе даже в маленьком кругу какой-нибудь речи он не мог произнести», Покровский делал следующее пояснение: «Видите ли, в тех случаях, когда я это наблюдал, это были дела не особенно существенные. У него было организовано при Совете министров Экономическое совещание под его председательством. И вот ему нужно было резюмировать что-то такое. Это резюме он не говорил, а читал. Может быть, кто-нибудь писал ему это: у него были люди в Канцелярии, которые при нем состояли и которые могли ему писать такие вещи. Но чтобы я отметил, так сказать, какую-нибудь тенденцию в этом отношении, этого я не могу сказать» (Там же. С. 339, 340).
(обратно)550
Алексеевский главный комитет (с 16 июня 1905 по 2 сентября 1914 г. – Алексеевский главный комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией) – благотворительная организация, созданная в июне 1905 г. и названная в честь наследника-цесаревича великого князя Алексея Николаевича. Первоначально имел целью призрение и воспитание детей военнослужащих, погибших, пропавших без вести или ставших инвалидами во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. Позднее на Комитет было возложено покровительство семьям солдат и офицеров, жандармов, полицейских и чиновников, пострадавших в борьбе с революцией 1905–1907 гг. С началом Первой мировой войны в компетенцию Комитета включили и призрение детей военнослужащих, пострадавших в период этой войны. Председателями Комитета, назначенными Николаем II, были П.П. Семенов-Тян-Шанский (1905–1914) и, с 27 февраля 1914 г., А.С. Стишинский. Упразднен в 1918 г.
(обратно)551
Назначение А.Ф. Трепова управляющим Министерством путей сообщения произошло 30 октября 1915 г. именно по рекомендации С.В. Рухлова, так как последний ушел в отставку 27 октября по состоянию здоровья (см.: Куликов С.В. Камарилья и «министерская чехарда». Соотношение вербальных и бюрократических практик в позднеимперской России // Новая политическая история. СПб., 2004. С. 82). В должности министра путей сообщения А.Ф. Трепов был утвержден 1 января 1916 г.
(обратно)552
Вопрос о развитии железнодорожной сети поднял Николай II, который перед последовавшим 24 апреля 1916 г. отъездом из Царского Села в Могилев, в Ставку верховного главнокомандующего, «приказал министрам выработать на много лет вперед обширный план постройки новых железных дорог» (Николай II – Александре Федоровне. 27 апреля 1916 г. // Переписка Николая и Александры. 1914–1917. М., 2013. С. 584).
(обратно)553
Во всеподданнейшем докладе от 25 июля 1916 г. А.Ф. Трепов сообщал Николаю II, что образованное при МПС Особое межведомственное совещание по выработке плана железнодорожного строительства обсудило предварительные меры, принятие которых было необходимо для осуществления этого плана. В их числе первое место занимало создание новых металлургических предприятий. В сентябре 1916 г. правительство объявило о выпуске гарантированного им 4½% железнодорожного займа на сумму в 350 000 000 руб. В этом займе, подписка на который проходила 27–29 сентября и дала свыше 1 400 000 000 руб., приняли участие 12 железнодорожных обществ (см.: Семенников В.П. Политика Романовых накануне революции (от Антанты к Германии). По новым документам. М.: Л., 1926. С. 131, 132–133).
(обратно)554
В заседании Совета министров 26 октября 1916 г. генерал Д.С. Шуваев внес на предварительное одобрение кабинета проект своего представления в Государственную думу об отпуске средств на постройку и оборудование первого в России казенного машиностроительного завода, призванного выполнять заказы Военного министерства. Н.Н. Покровский и министр торговли и промышленности князь В.Н. Шаховской не поддержали проект Д.С. Шуваева, указав, что за время войны не только во много раз развили производительность работавшие и в мирное время на Военное и Морское ведомства частные фабрики и заводы, но еще и создалось весьма значительное число новых предприятий, предназначенных специально для обслуживания потребностей, связанных с обороной. По окончании войны, прогнозировали оппоненты генерала, с неминуемым сокращением количества сделанных упомянутыми ведомствами заказов, частные предприятия, несомненно, окажутся в затруднительном положении, и на правительстве лежит задача заблаговременно озаботиться предупреждением весьма возможного при таких условиях промышленного кризиса. Между тем строительство новых казенных заводов, которые разовьют свою деятельность уже в послевоенный период, еще более сокращая размеры казенных заказов частной промышленности, существенно затруднит разрешение этой задачи. Учитывая данное обстоятельство, Н.Н. Покровский и В.Н. Шаховской полагали, что в деле насаждения новых производств средствами и распоряжением казны надлежит соблюдать особую осторожность, преимущественно сосредоточивая в руках казны лишь производства, самым тесным и непосредственным образом связанные со снабжением вооруженных сил наиболее необходимыми средствами обороны, и оставляя частной предприимчивости прочие отрасли промышленной деятельности, имеющие отношение к обороне. Рассматривая с этой точки зрения вопрос о создании казенного машиностроительного завода, Н.Н. Покровский и его единомышленник находили, что изготовление станков едва ли может быть отнесено к числу непосредственно связанных со снабжением армии производств, и считали наиболее правильным предоставить Военному министерству, по выяснении потребности его заводов и технических заведений в разного рода станках, войти в переговоры с частными заводами относительно производства ими необходимых типов станков. Поскольку, однако, Н.Н. Покровский и В.Н. Шаховской решили не заявлять особого мнения, Совет министров поручил Д.С. Шуваеву внести на законодательное рассмотрение согласованные с Министерством финансов и Государственным контролем предположения об отпуске средств на постройку и оборудование казенного машиностроительного завода (Особый журнал Совета министров 26 октября 1916 г. «По представлению Военного министерства от 16 октября 1916 г., за № 163690 (по Главному артиллерийскому управлению), об отпуске средств на постройку и оборудование казенного машиностроительного завода» (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 532–534).
(обратно)555
В частности, на заседании кабинета 14 октября 1916 г. А.Ф. Трепов доказывал, что необходимо построить крупный казенный металлургический завод на Керченском полуострове, поскольку в этом случае была бы достигнута сравнительно малая стоимость чугуна и изделий, лишь незначительно превышающая цены при работе на донецком коксе и значительно меньшая при работе на ткварчельском коксе. А.Ф. Трепов просил разрешения у коллег поручить ему внести в Государственную думу представление о сооружении казенного металлургического завода. Точку зрения А.Ф. Трепова оспорили Н.Н. Покровский и присоединившиеся к нему четыре члена кабинета: министры юстиции А.А. Макаров и торговли и промышленности князь В.Н. Шаховской, управляющий МВД А.Д. Протопопов и помощник морского министра адмирал П.П. Муравьев (заменявший адмирала И.К. Григоровича). Н.Н. Покровский и его единомышленники отмечали, что в данном случае предстоит не только рассмотреть вопрос об ассигновании той или иной суммы на сооружение казенного металлургического завода, но и предварительно разрешить принципиальный вопрос – надлежит ли вообще строить такой завод распоряжением министра путей сообщения. Они полагали, что создание столь крупного казенного предприятия существенным образом затрагивает интересы частной промышленности, так как казенный завод должен будет потреблять до 66 000 000 пудов руды, т. е. почти весь свободный остаток южной руды на рынке, приостановив в соответствующем размере развитие частной металлургической промышленности. Постройка казенного завода с производительностью в 39–40 000 000 пудов в год оттолкнет капиталы от металлургической промышленности, остановит рост существующих предприятий и может быть истолкована предпринимателями как попытка правительства монополизировать эту отрасль промышленности. Создание же затруднений для развития частной металлургической промышленности Н.Н. Покровскому и его сторонникам представлялось крайне нежелательным и даже опасным с точки зрения экономических интересов России, поскольку опыт войны наглядно показал, что страны с развитой частной промышленностью быстро приспосабливаются к удовлетворению чрезвычайных потребностей обороны, и строительство казенных предприятий не может заменить частной инициативы и предприимчивости и лишь стеснит и задержит развитие частной промышленности. Н.Н. Покровский и солидарные с ним министры полагали, что представление МПС должно быть отклонено и рассматриваемый вопрос подвергнут новому, более тщательному обсуждению. Однако план А.Ф. Трепова поддержали председатель Совета министров Б.В. Штюрмер и еще четыре члена кабинета: министр земледелия граф А.А. Бобринский, обер-прокурор Синода Н.П. Раев, помощник военного министра Н.П. Гарин (заменявший генерала Д.С. Шуваева) и товарищ министра финансов В.В. Кузьминский (заменявший П.Л. Барка). На Особом журнале Совета министров Николай II 25 октября 1916 г. написал: «Согласен с мнением председателя и пяти членов» (Особый журнал Совета министров 14 октября 1916 г. «О разрешении сооружения казенного металлургического завода и об ассигновании из казны потребных на означенный предмет кредитов» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 502–507).
(обратно)556
А.Ф. Трепов докладывал Николаю II 8 июня 1916 г., что образованное при МПС Особое межведомственное совещание по выработке плана железнодорожного строительства пришло к заключению, что надлежит соорудить в ближайшее пятилетие не менее 30 000 верст рельсовых путей, т. е. ежегодно строить до 6000 верст, в т. ч. 4000 верст на средства казны, а 2000 верст – на частные средства. Получив согласие царя, А.Ф. Трепов 10 июня внес в Государственную думу «законопроект о закреплении по смете чрезвычайных расходов Министерства путей сообщения определенных кредитов на пятилетие на постройку новых железных дорог средствами казны», причем к этому законопроекту была приложена и предварительная схема железных дорог, намеченных к сооружению на ближайшее пятилетие (см.: Семенников В.П. Указ. соч. С. 132).
(обратно)557
Речь идет об участии Н.Н. Покровского в Парижской экономической конференции представителей стран Антанты. Попытки Н.Н. Покровского прощупать почву относительно возможности займа для железнодорожного строительства встретили отрицательное отношение министра финансов А.Ф.Ж. Рибо, но более терпимое – со стороны министра торговли и промышленности Э. Клементеля (см.: Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны (1914–1917). М., 1960. С. 344).
(обратно)558
А.Ф. Трепов не являлся противником Государственной думы, выступая только против ее выхода за пределы Основных законов 1906 г., одним из создателей которых он был (см.: Куликов С.В. Неизвестный этап создания первой российской конституции: вокруг и внутри Совещания высших чинов Государственной канцелярии (декабрь 1905 г. – март 1906 г.) // Российская история XIX–XX вв.: Государство и общество. События и люди. СПб., 2013. С. 117–138). В ноябре 1916 г., став премьером, А.Ф. Трепов эволюционировал влево и собирался пойти навстречу оппозиции. «Это, – характеризовал А.Ф. Трепова М.В. Родзянко, – человек большой воли, большого ума, человек, способный на компромисс, во имя пользы. У нас уже были отношения налажены, и через него, может быть, мы получили бы ответственное министерство» (Допрос М.В. Родзянко // Падение царского режима. М.; Л., 1927. Т. 7. С. 136).
(обратно)559
Здесь и далее в других аналогичных упоминаниях имеются в виду сведения, содержащиеся в одном из утраченных фрагментов мемуаров (подробнее см. в Археографическом послесловии).
(обратно)560
Первый раз на заседании правительства Н.Н. Покровский присутствовал 26 января 1916 г. См.: Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 44–48.
(обратно)561
Имеется в виду адресованное Николаю II письмо от 21 августа 1915 г., в котором подавляющее большинство министров с фактическим премьером А.В. Кривошеиным во главе, указав на то, что в состоявшемся накануне, 20 августа, под председательством императора заседании правительства «воочию сказалось коренное разногласие между председателем Совета министров (т. е. И.Л. Горемыкиным. – С.К.) и нами в оценке происходящих внутри России событий и в установлении образа действий правительства», объявили царю о потере ими «веры в возможность с сознанием пользы служить Вам и Родине» (Сазонов С.Д. Воспоминания. М., 1991. С. 364–365). Это письмо отдалило отставку И.Л. Горемыкина на пять месяцев.
(обратно)562
Министр земледелия А.Н. Наумов после заседания 26 января, беседуя с одним из лидеров Прогрессивного блока в IV Думе князем И.С. Васильчиковым, пошел на нарушение служебной тайны и «сказал все откровенно». От Васильчикова новость о подготовке правительства к подкупу печати дошла до нижней палаты, предъявившей скандальный запрос, чему А.Н. Наумов «был рад». «По этому поводу, – вспоминал он не без ложного тщеславия, – в Совете министров было заявлено о том, что как это странно, некоторые вопросы, которые носят чисто конфиденциальный характер, делаются достоянием широких масс» (Показания А.Н. Наумова. 8 апреля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1924. Т. 1. С. 409.).
(обратно)563
Вопрос о покупке «Нового времени» возник по причине того, что в конце 1915 г. контроль над газетой установил банкир Д.Л. Рубинштейн. В июне 1916 г. М.А. Суворину «в целях подчинения газеты влиянию правительства» была выдана через Волжско-Камский банк негласная ссуда в 880 000 руб., обеспеченная 160 паями товарищества «Новое время», под векселя «по предъявлению». Постановлением Временного правительства от 1 июня 1917 г. эту ссуду вернули в казну (см.: Подкуп «Нового времени» царским правительством // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 223–226; Журналы заседаний Временного правительства. М., 2002. Т. 2. С. 198–199).
(обратно)564
Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств была учреждена указом Временного правительства 5 марта 1917 г. и работала до Октябрьской революции. Подробнее о ее деятельности см.: Аврех А.Я. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства: замысел и исполнение // Исторические записки. 1990. Т. 118. С. 72 – 101; Варфоломеев Ю.В. Закон и трепет: очерк деятельности Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Саратов, 2006; Лукоянов И.В. Наказанные без вины: Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства и ее подследственные // Власть, общество и реформы в России в XIX – начале XX в.: исследования, историография, источники. СПб., 2009. С. 2009. С. 226–240. Попытки Чрезвычайной следственной комиссии обвинить деятелей старого режима, в т. ч. и Б.В. Штюрмера, в нарушении законов, действовавших до Февральской революции, закончились неудачей. Как вспоминал член президиума ЧСК А.Ф. Романов, революционной власти «не удалось не только осудить деятелей прежней власти, но, несмотря на самое горячее желание и энергию, даже и обнаружить хотя бы намеки на те тяжкие преступления, которые приписывались ей так называемым общественным мнением». Комиссия была вынуждена прийти к выводу, что царские министры не совершали «тяжкие уголовно наказуемые деяния» (Романов А.Ф. Император Николай II и его правительство (по данным Чрезвычайной следственной комиссии) // Русская летопись. 1922. Кн. 2. С. 37, 38).
(обратно)565
См.: Показания Н.Н. Покровского. С. 342–345.
(обратно)566
Причиной состоявшейся 3 марта 1916 г. замены А.Н. Хвостова Б.В. Штюрмером было возникшее в феврале этого года «дело Б.М. Ржевского», давшее поводы для безосновательного, как выяснилось позднее, обвинения А.Н. Хвостова в том, что он готовит покушение на Г.Е. Распутина. Доказательство этого старец и его окружение (А.А. Вырубова, А.С. Симанович и др.) видели, в частности, в том, что, согласно сделанному старцу признанию журналиста Б.М. Ржевского, он по поручению А.Н. Хвостова ездил в Христианию (Норвегия), где жил ярый враг Распутина С.М. Труфанов (бывший иеромонах Илиодор), якобы для того, чтобы вместе с ним организовать убийство старца, используя сторонников Труфанова, находившихся в России. Сам А.Н. Хвостов утверждал, что послал Ржевского в Христианию для переговоров с Труфановым об условиях его отказа от публикации, на время войны, книги «Святой Черт», которую Труфанов посвятил разоблачению Распутина. Частное расследование «дела Б.М. Ржевского» вели по поручению Штюрмера состоявший при нем журналист И.Ф. Манасевич-Мануйлов и член Совета министра внутренних дел И.Я. Гурлянд, причем первый пришел к выводу о виновности А.Н. Хвостова, а второй – о его невиновности. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства пришла к выводу о провокационном характере этого дела. Подробнее см.: Куликов С.В. Дело Б.М. Ржевского // Из глубины времен. 2011. Вып. 14. С. 4 – 40.
(обратно)567
В.М. Волконский был назначен товарищем министра внутренних дел 27 июля 1915 г. по инициативе тогдашнего фактического премьера А.В. Кривошеина.
(обратно)568
Назначение А.В. Степанова товарищем министра внутренних дел произошло 15 марта 1916 г. (см.: Куликов С.В. «Министерская чехарда» в России периода Первой мировой войны. Хроника событий (июль 1914 – февраль 1917) // Из глубины времен. СПб., 1994. Вып. 3. С. 52). А.В. Степанов курировал Департамент полиции.
(обратно)569
Граф А.А. Бобринский, назначенный товарищем министра внутренних дел 25 марта 1916 г., являлся не только лидером Правой группы Государственного совета, но и близким другом Б.В. Штюрмера, с которым граф «был “на ты”» (Протокол допроса А.В. Степанова // ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 39. Л. 2), поскольку принадлежал к числу «близких друзей» премьера (Сазонов С.Д. Указ. соч. С. 380).
(обратно)570
По поводу назначения А.А. Бобринского, состоявшегося 25 марта, Б.В. Штюрмер заявил на заседании Совета министров: «Надо его благодарить за готовность отдать себя трудному служению. Хотя жалко лишаться его в качестве лидера правых, но сейчас важно упрочить положение товарища министра» (Запись заседания Совета министров 25 марта 1916 г. // Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999. С. 325).
(обратно)571
Бабушкой графов Алексея и Андрея Александровичей Бобринских была графиня Ф.И. Шувалова, урожденная Валентинович.
(обратно)572
Очевидно, речь идет о Правой группе Государственного совета, лидером которой был А.А. Бобринский.
(обратно)573
Подразумеваются прежде всего военно-промышленные комитеты и Земский и Городской союзы.
(обратно)574
Bête noire (фр.) – страшилище, пугало.
(обратно)575
В начале 1916 г. отношение Б.В. Штюрмера к Земскому и Городскому союзам и военно-промышленным комитетам, как и к Прогрессивному блоку в законодательных учреждениях, было отмечено печатью готовности к сотрудничеству с ними на базе Основных законов 1906 г. В речи, произнесенной новым премьером при посещении 25 января МВД, он вспомнил «подъем духа», с которым работал в Тверском земстве «в полном единении со всеми местными земскими деятелями, без всякого различия партий и групп». Б.В. Штюрмер вспомнил и свою службу на посту ярославского губернатора, протекавшую «в полном согласии с местными общественными учреждениями». Премьер выразил надежду, что «опыт, им приобретенный на службе в МВД» «поможет ему в деле разумения и проведения в жизнь мероприятий, необходимых для разрешения сложных и ответственных задач, ныне выдвигаемых государственной жизнью России». При посещении 1 февраля Министерства земледелия Б.В. Штюрмер поставил ему в заслугу «уменье привлечь к осуществлению своих заданий местные общественные силы и дружно с ними работать». Несмотря на рост оппозиционности Земского и Городского союзов и военно-промышленных комитетов, уже с конца января 1916 г. премьер оказывал им, в ущерб лояльным благотворительным организациям (типа Российского общества Красного Креста), усиленное финансовое покровительство, выражавшееся в казенных субсидиях, измерявшихся десятками миллионов рублей. Вообще, с января по сентябрь 1916 г. из 19 благотворительных организаций Совет министров, возглавляемый Б.В. Штюрмером, отдавал явное предпочтение тем, которые поддерживали Прогрессивный блок. Оппозиционные организации (Земский и Городской союзы, Московское и Петроградское общественные управления и Комитет членов Думы) получили 279 120 000 рублей (76,5 %), а правые организации (Всероссийский национальный союз, Курское земство и дворянство, Областной комитет земства Юго-Западного края и Общедворянская организация) – 3 390 000 рублей (0,9 %), т. е. в 82,3 раза меньше. Российское общество Красного Креста, игравшее в предыдущие войны главную роль в области благотворительной помощи больным и раненым воинам, за тот же период получило только 81 190 000, т. е. 22,3 % от всех правительственных субсидий. См.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 232–233, 242.
(обратно)576
Намек на Прогрессивный блок – межфракционное и межпалатное оппозиционное объединение шести фракций IV Государственной думы (кадеты, прогрессисты, октябристы, земцы-октябристы, центр и прогрессивные националисты) и трех групп Государственного совета (левые, Кружок внепартийного объединения и центр), образовавшееся в августе 1915 г. в обстановке летнего политического кризиса 1915 г., вызванного поражениями России в Первой мировой войне 1914–1918 гг., и функционировавшее до Февральской революции 1917 г. Идеологической базой Прогрессивного блока стала его программа, которая содержала пакет либеральных реформ, главная из которых заключалась в замене существовавшего Совета министров «министерством общественного доверия», зависимым от Думы, т. е. в фактическом установлении парламентарной системы управления. Официально в Думе Прогрессивный блок возглавлял октябрист С.И. Шидловский, председатель его Бюро, однако в действительности лидерство принадлежало кадету П.Н. Милюкову и Кадетской фракции в целом. Особенности доктрины Конституционно-демократической партии во многом обуславливали тактику Прогрессивного блока. В 1916 г., несмотря на замену И.Л. Горемыкина Б.В. Штюрмером, последнего – А.Ф. Треповым, а этого сановника – князем Н.Д. Голицыным, оппозиционность Прогрессивного блока имела тенденцию к дальнейшей радикализации и революционизации. Неудивительно, что он содействовал подготовке и победе Февральской революции 1917 г., после которой, как и IV Дума, практически прекратил свое существование. Подробнее о Прогрессивном блоке см.: Дякин В.С. Указ. соч.; Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М., 2003.
(обратно)577
Обвинения Александры Федоровны в государственной измене ЧСК полностью опровергла (см.: Романов А.Ф. Указ. соч. С. 22–23; Руднев В.М. Правда о царской семье и «темных силах» // Святой черт. Тайна Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы Следственной комиссии. М., 1990. С. 294). Подробнее см.: Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире. Канун революции. М., 2006. См. также: Васюков В.С. Внешняя политика России накануне Февральской революции. 1916 – февраль 1917 г. М., 1989. С. 232–295.
(обратно)578
Ср. с показаниями Н.Н. Покровского: «Главным предметом подозрения был Военно-промышленный комитет. Это несомненно. Не столько Земский и Городской союзы, сколько Военно-промышленный комитет. Но в Военно-промышленном комитете, действительно, была известная Группа рабочих, которая имела политическую окраску. Да и отрицать ту точку зрения, что все эти организации имели в то время политический характер, невозможно. Это совершенная истина: они, действительно, имели политический характер – и Земский, и Городской союзы, и Военно-промышленный комитет» (Показания Н.Н. Покровского. С. 354).
(обратно)579
Поскольку прошедшие в феврале – марте 1916 г. съезды военно-промышленных комитетов и Земского и Городского союзов имели ярко выраженный оппозиционный характер, Совет министров 7 апреля того же года постановил, что «при переживаемых чрезвычайных условиях военного времени и ожидаемом, с наступлением весны, развитии на театре войны событий исключительной важности созыв каких-либо съездов, не исключая научных, промышленных, сельскохозяйственных и иных, является вообще недопустимым». Это постановление правительства Николай II утвердил 10 апреля (Особый журнал Совета министров 7 апреля 1916 г. «По вопросу о приеме английских и французских представителей печати, выразивших желание посетить Россию» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 152). Впрочем, согласно установившейся затем практике возможность разрешения в отдельных случаях того или иного съезда не исключалась, но не иначе как с одобрения Совета министров, по докладу соответствующего министра (Особый журнал Совета министров 26 июля и 12 сентября 1916 г. «О полномочиях министра внутренних дел по разрешению съездов и собраний» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 397).
(обратно)580
Законопроект «Об учреждении Всероссийского земского союза», включавший в себя Положение о Всероссийском земском союзе, был внесен в IV Государственную думу 8 марта 1916 г. за подписью 56 депутатов. Текст законопроекта см.: Законотворчество думских фракций. 1906–1917 гг. М., 2006. С. 644–647. Тогда же, 8 марта 1916 г., в Думу был внесен и законопроект «Об учреждении Всероссийского союза городов» с Положением о Всероссийском союзе городов; см. его: Там же. С. 641–644.
(обратно)581
Подробнее о совещании см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 236–237. Н.Н. Покровский показывал, что к началу мая относятся два совещания о легализации союзов, причем за нее, хотя бы и ограниченную, высказались он сам, А.И. Маликов, А.А. Бобринский и В.М. Волконский (Показания Н.Н. Покровского. С. 353).
(обратно)582
Имеется в виду Совет министра внутренних дел – совещательное коллегиальное учреждение, существовавшее с 25 июня 1811 по 9 июня 1917 г. Имел целью рассмотрение дел, требовавших пояснения или изменения закона, выходивших за рамки компетенции одного департамента МВД, спорных, а также дел, предлагавшихся к рассмотрению министром внутренних дел, являвшимся по должности председателем Совета.
(обратно)583
111 «a outrance» – до конца (фр.).
(обратно)584
А.А. Поливанов был назначен управляющим Военным министерством 13 мая 1915 г., утвержден в должности военного министра 10 сентября того же года.
(обратно)585
Замена Поливанова Д.С. Шуваевым (15 марта 1916 г.) была вызвана политическими разногласиями между Поливановым и новым председателем Совета министров Б.В. Штюрмером. Непосредственной причиной увольнения стало слишком благоприятное, с точки зрения Николая II, отношение военного министра к военно-промышленным комитетам и прежде всего к Центральному военно-промышленному комитету, председателя которого, А.И. Гучкова, император подозревал в подготовке антидинастического заговора. Объясняя необходимость отставки А.А. Поливанова, Николай II писал ему 13 марта: «[Деятельность комитетов] мне не внушает доверия, а руководство Ваше этою деятельностью недостаточно властно в моих глазах» (см.: Поливанов А.А. Указ. соч. // Вопросы истории. 1994. № 11. С. 135).
(обратно)586
Идя навстречу требованиям начальника Штаба верховного главнокомандующего генерала М.В. Алексеева, Д.С. Шуваев выступил с инициативой издания 4 июля 1916 г. Указа об очередном призыве 15 июля ратников ополчения второго разряда по 1901 г. и первого разряда – по 1893 г. включительно. На заседании Совета министров 10 июля Б.В. Штюрмер сообщил о поступающих к нему заявлениях со стороны не только начальников ведомств, но и «со всех концов России» – от местной администрации, общественных учреждений и представителей сельского хозяйства – относительно тяжелых последствий, к которым приведет этот призыв, поскольку он совпадает с самым напряженным моментом уборки урожая и производства полевых работ. Кабинет, полагая «совершенно необходимым всемерную осторожность в производстве призывов и ограничение их пределами самой крайней надобности», поручил премьеру послать Николаю II, как верховному главнокомандующему, следующую телеграмму: «Совет министров в чрезвычайном заседании 10 июля, заслушав заявление председателя о поступающих к нему от многих ведомств и со всех концов России настояниях о необходимости отсрочить призыв ратников, объявленный на 15 сего июля, признал эти заявления имеющими самое серьезное значение в деле обеспечения армии и тыла продовольственными средствами. Не считая себя, однако, компетентным в вопросе о размере потребностей армии в людских пополнениях, Совет министров признал, что если командный состав армии найдет возможным, согласно телеграмме военного министра начальнику Штаба верховного главнокомандующего № 279, сократить размер набора 15 июля, то это имело бы крайне серьезное и важное значение. В сем случае было бы необходимо назначить первый день призыва 17 июля. Изложенные соображения приемлю всеподданнейшим долгом повергнуть на благовоззрение Вашего императорского величества». Николай II не только приостановил призыв, но и пошел еще дальше, чем Совет министров, и на его Особом журнале от 10 июля написал 30 июля: «Надеюсь, что удастся отсрочить призыв до 1 сентября» (Особый журнал Совета министров 10 июля 1916 г. «По вопросу об очередном призыве ратников ополчения» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 335–336).
(обратно)587
Отметим, что участники проходившей в январе – феврале 1917 г. Петроградской конференции союзников, на которой Н.Н. Покровский председательствовал как министр иностранных дел, обсуждая вопрос о пополнении сербской армии, сохранившей только 3 дивизии из 6, сочли, что в случае доведения ее до прежней численности она способствовала бы укреплению Салоникского фронта. Участникам Конференции «наиболее естественным и приемлемым способом для достижения означенной цели» представлялось «включение в ряды сербской армии военнопленных славянского происхождения, склонных сражаться в рядах доблестного и родственного по крови войска». «Всяческое содействие» союзных правительств использованию в качестве боевой силы «находящихся в распоряжении союзников военнопленных, готовых, в силу связи по духу и крови с тою или другою из союзных держав, служить их общему делу» Конференция признала «как нельзя более желательным» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде» // Монархия перед крушением. С. 72–73).
(обратно)588
Имеются в виду запасные батальоны гвардейских полков, расквартированные в Петрограде и готовившие пополнение для подразделений Гвардии, находившихся на фронте.
(обратно)589
Кандидатура адмирала И.К. Григоровича в премьеры исходила от лидеров оппозиции. Так, во время всеподданнейшего доклада, состоявшегося еще 24 июня 1916 г. в Ставке, председатель IV Думы М.В. Родзянко посоветовал Николаю II заменить Б.В. Штюрмера И.К. Григоровичем (см.: Родзянко М.В. Крушение империи. С. 130). В начале ноября 1916 г. чины размещавшегося в Могилеве (в Ставке верховного главнокомандующего) Морского штаба верховного главнокомандующего предложение о назначении адмирала на пост председателя Совета министров передали флигель-адъютанту Н.П. Саблину и начальнику Военно-походной канцелярии Николая II генералу К.А. Нарышкину, которые сообщили его царю. Николай II воспринял его положительно. Кандидатура адмирала была принята на совещании царя, начальника Штаба верховного главнокомандующего генерала М.В. Алексеева и находившегося в Могилеве 7–8 ноября кавказского наместника великого князя Николая Николаевича. Начальнику Штаба и великому князю Николай II заявил, что «твердо решил назначить Григоровича премьером». Имея в виду преемников Б.В. Штюрмера, император писал императрице 8 ноября, что «Трепов или Григорович были бы лучше на его месте». Утром 10 ноября о своем решении назначить премьером И.К. Григоровича Николай II сообщил чинам Свиты, но вечером этого дня, принимая приехавшего в Могилев адмирала, царь ничего не сказал относительно его назначения, поскольку сделал выбор в пользу А.Ф. Трепова (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 327).
(обратно)590
О деятельности П.Л. Барка как министра финансов см.: Беляев С.Г. Указ. соч.
(обратно)591
Со вступлением России в Первую мировую войну для предотвращения беспорядков во время сбора призывников и отправки их на фронт последовало временное запрещение продажи спиртных напитков. Согласно Особому журналу Совета министров от 9 августа 1914 г. «По вопросу о разрешении торговли спиртными напитками», с 16 августа разрешалась торговля виноградными винами и денатурированным спиртом «с соблюдением указанных в Особом журнале ограничений». Тем же порядком до 1 сентября 1914 г. продлевалось воспрещение продажи на вынос всех прочих крепких напитков. При подписании журнала министр внутренних дел Н.А. Маклаков заявил особое мнение. «Полагаю необходимым, – написал он, – закрыть винные лавки на все время военных действий, ясно и решительно объявив об этом решении во всеобщее сведение; думаю, нельзя делать этого периодическими возобновлениями отсрочки открытия лавок» (Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. С. 370). По результатам обсуждения вопроса о сухом законе 22 августа последовало повеление Николая II «О продлении воспрещения продажи спирта, вина и водочных изделий для местного потребления в Империи до окончания военного времени». Через месяц, 27 сентября, царь утвердил Положение Совета министров «О сроках прекращения торговли крепкими напитками по ходатайствам о том сельских и городских общественных управлений» (Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени: В 2 т. Пг., 1915. Т. 1. С. 170–171, 238–239). См. также: Мак-Ки А. Сухой закон в годы Первой мировой войны: причины, концепция и последствия введения сухого закона в России 1914–1917 гг. // Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 147–159.
(обратно)592
Сметными правилами кратко именовали Правила о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, росписью не предусмотренных. Статья 18 Сметных правил гласила: «Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени и на особые приготовления, предшествующие войне, открываются по всем ведомствам порядком, установленным Высочайше утвержденными 26 февраля 1890 г. Правилами» (Государственный строй Российской империи накануне крушения: Сб. законодательных актов. М., 1995. С. 144).
(обратно)593
Расходы, не имевшие прямого отношения к войне, но покрытые из Военного фонда, составили в 1915 г. около 900 000 000 руб., в 1916 г. – около 1 200 000 000 руб. Предложения IV Государственной думы внести в бюджет военные расходы и устранить его двойственность кабинет неизменно отклонял (см.: Коняев А.И. Указ. соч. С. 132–136).
(обратно)594
Еще 27 января 1915 г., выступая как докладчик Финансовой комиссии Государственного совета в Общем собрании верхней палаты при обсуждении бюджета на этот год, Н.Н. Покровский обратил внимание на нарождающуюся систему двух бюджетов, когда роспись доходов и расходов «заключает в себе лишь сравнительно меньшую часть государственных расходов 1915 г., так как кредиты на надобности военного времени открываются <…> в порядке верховного управления». Н.Н. Покровский поддержал предложение IV Государственной думы об исключении из проекта росписи кредитов, внесенных в нее по ст. 87 Основных законов 1906 г., несмотря на протест, выраженный в прениях А.А. Макаровым. Сокращения, произведенные Финансовой комиссией в министерском проекте бюджета, в целом соответствовали тем, которые были произведены Бюджетной комиссией Государственной думы (см.: Беляев С.Г. Указ. соч. С. 83).
(обратно)595
Назначение это произошло 30 ноября 1916 г.
(обратно)596
А.Н. Наумов был назначен 10 ноября 1915 г. управляющим Министерством земледелия по личному выбору Николая II и вопреки желанию И.Л. Горемыкина, имевшего своего кандидата в лице начальника Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства финансов С.С. Хрипунова.
(обратно)597
Объединенное дворянство (Объединенные дворянские общества) – всероссийская сословная организация дворянства, существовавшая в 1906–1917 гг. и включавшая в себя уполномоченных дворянских обществ губерний с дворянским сословным самоуправлением. Уполномоченные губернских дворянских обществ образовывали съезд Объединенного дворянства – его распорядительный орган. Помимо уполномоченных, на съезды Объединенного дворянства приглашались члены Государственного совета по выборам от дворянских обществ и эксперты («сведущие люди») из числа представителей высшей бюрократии. Съезды Объединенного дворянства функционировали на основе принятого в 1906 г. Устава съездов уполномоченных губернских дворянских обществ. Согласно Уставу, исполнительным органом съездов являлся Постоянный совет Объединенного дворянства, председатель которого, два его товарища (заместителя) и члены избирались съездами. Председателями Постоянного совета Объединенного дворянства были граф А.А. Бобринский (1906–1912), А.П. Струков (1912–1916) и А.Д. Самарин (1916–1917). После Февральской революции 1917 г. Постоянный совет Объединенного дворянства признал Временное правительство. Объединенное дворянство, равно как и его съезды, фактически упразднены 10 ноября 1917 г. в связи с уничтожением, согласно декрету большевистского правительства, сословий и гражданских чинов.
(обратно)598
Характер монархизма А.И. Наумова демонстрирует следующий эпизод. Вскоре после его выступления в Думе, состоявшегося 18 февраля 1916 г., «несколько человек», являвшиеся «заправилами Прогрессивного блока» (в т. ч. В.Н. Львов), которые «ранее принадлежали к лагерю стойких и убежденных монархистов», предложили А.Н. Наумову «вступить в Прогрессивный блок». Министр земледелия «поставил вопрос ребром» и спросил, намеревается ли Блок «учинить государственный переворот». Думцы ответили, что они «действительно задались целью свергнуть с престола “совершенно неспособного” для управления страной Николая II, и само собой отстранить вместе с ним “Александру Федоровну со всем ее распутинским окружением”». Свергнув монарха, заговорщики планировали сохранить монархию, однако считали, что выбор кандидата на престол – «вопрос будущего». А.Н. Наумов возражал заговорщикам, исходя не из принципиальных, а из чисто прагматических соображений, полагая, что они не должны «посягать на целость и неприкосновенность лица», занимающего престол, пока «не подысканы и определенно не намечены» его преемники (Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917: В 2 т. Нью-Йорк, 1954–1955. Т. 2. С. 448, 449). Николаю II об этом разговоре А.Н. Наумов не сообщил, несмотря на присягу на верность службе.
(обратно)599
Несмотря на политические расхождения А.Н. Наумова с Б.В. Штюрмером, министр земледелия пользовался полным доверием Николая II, который 15 июня 1916 г. предложил ему пост «верховного министра», однако Наумов отказался. 28 июня он поставил императора перед выбором: либо Б.В. Штюрмер, либо он, что и привело к увольнению его 21 июля и назначению членом Государственного совета (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 219–220, 224).
(обратно)600
Два последних предложения Покровский подчеркнул карандашом и взял в скобки. Ср. показания А.Н. Наумова: «По окончании прощальной аудиенции я встал, поклонился государю, хотел уходить совсем, потом предчувствие какое-то явилось, что я больше не увижу его, и мне хотелось дать ему несколько искренних советов: “Ваше императорское величество, разрешите мне высказать то, что я считаю своим долгом сказать перед уходом из министерства”. Он говорит: “Пожалуйста”. Я высказал ему свое мнение, что чем искреннее относиться ко всему тому, что составляет народное представительство, к общественности, тем сильнее будет само дело, тем сильнее будет родина, и его положение. И обратно, – искренность есть такое чувство, которое ничем не заменишь, и вместе с тем, это очень ясное чувство. Если эта искренность будет только показная, то это будет еще хуже, чем окончательный обман. Вот мои слова, то, что у меня накипело, то, что я сказал. Я поклонился и отошел. Слышу в зале шаги сзади, смотрю – идет государь. Я остановился, поклонился. Тогда государь подошел, взял за руку, приподнялся, он немного ниже меня ростом, и поцеловал. Был в слезах, такое чувство было у меня самого, что у меня спазмы сделались в горле» (Показания А.Н. Наумова. 8 апреля 1917 г. С. 347).
(обратно)601
«Министерская чехарда» – частые перемены в составе Совета министров, которые происходили в период Первой мировой войны, преимущественно с сентября 1915 по февраль 1917 г. Выражение «министерская чехарда» впервые употребил В.М. Пуришкевич, выступая в Думе 12 февраля 1916 г. Всего с июля 1914 по февраль 1917 г., т. е. за 31 месяц, министрами перебывали 39 человек. О «министерской чехарде» см.: Куликов С.В. «Министерская чехарда» в России… С. 42–57; Он же. Камарилья и «министерская чехарда».
(обратно)602
О продовольственном вопросе в России периода Первой мировой войны см.: Китанина Т.М. Война, хлеб и революция: (Продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917 г.). Л., 1985.
(обратно)603
Имеются в виду утвержденные А.Н. Наумовым 12 февраля 1916 г. новые Правила перевозок продовольственных продуктов, которые наделяли уполномоченных Особого совещания по продовольствию правом ходатайствовать о заготовках продуктов по твердым ценам в случае необеспеченности рынка их подвозом (см.: Китанина Т.М. Указ. соч. С. 190).
(обратно)604
Особое совещание по продовольствию (Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу) – высшее чрезвычайное государственное учреждение военного времени, образованное согласно Положению, утвержденному 17 августа 1915 г. Николаем II после одобрения его законодательными учреждениями. Председатель Особого совещания – главноуправляющий землеустройством и земледелием (26 октября 1915 г. переименованный в министра земледелия) – обладал решающим голосом, но исполнение санкционированных им постановлений могло приостанавливаться военным министром как председателем Особого совещания по обороне государства, в последней инстанции эти постановления при необходимости подлежали пересмотру в Совете министров. Председателями Особого совещания по продовольствию являлись: А.В. Кривошеин (17 августа – 26 октября 1915), А.Н. Наумов (10 ноября 1915 – 21 июля 1916), граф А.А. Бобринский (21 июля – 14 ноября 1916), А.А. Риттих (29 ноября 1916 – 28 февраля 1917), А.И. Шингарев (2–9 марта 1917). При Особом совещании состояли Управление делами (Канцелярия) (с 7 сентября 1915 г.) и несколько комиссий, главные из которых были созданы уже 31 августа 1915 г.: по снабжению армии и флота, а также сельского и городского населения хлебом и зерновым фуражом (председатель – главноуполномоченный по закупке хлеба для армии Г.В. Глинка), по снабжению армии и флота и городского населения мясом, маслом и сеном (председатель – главноуполномоченный по закупке мяса, масла и сена для армии С.Н. Ленин), по мерам борьбы с дороговизной предметов первой необходимости (председатель – Н.Н. Покровский), Статистическо-экономическая (председатель – член Государственного совета по выборам С.Е. Бразоль) и т. д. С 30 июня 1916 г. при Особом совещании действовало Центральное бюро по мукомолью, возглавлявшееся товарищем председателя совещания. Исполнительными органами Особого совещания по продовольствию в провинции с 25 октября 1915 г. являлись уполномоченные его председателя, при которых функционировали совещания, включавшие представителей Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов, местных военно-промышленных комитетов и лиц по усмотрению уполномоченных. Постановлением министра земледелия графа А.А. Бобринского 10 октября 1916 г. Особое совещание по продовольствию подверглось реорганизации. В результате нее прежние комиссии (за исключением Комиссии по мерам борьбы с дороговизной и Статистическо-экономической) были упразднены, созданы две новые комиссии – Финансовая и Транспортная (председатели, с 5 ноября 1916 г., первой – Б.И. Каразин, второй – товарищ министра путей сообщения Э.Б. Кригер-Войновский), руководство заготовительными операциями возлагалось на главноуполномоченных Министерства земледелия по закупке хлеба и других видов продовольствия. Упразднено 9 марта 1917 г.
(обратно)605
Особое совещание по обороне государства (Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства) – высшее чрезвычайное государственное учреждение военного времени, имевшее целью обсуждение и объединение мероприятий по обороне государства и для обеспечения армии и флота предметами боевого и прочего материального снабжения. 17 августа 1915 г. Николай II утвердил ранее одобренные обеими палатами законы об учреждении четырех особых совещаний – по обороне государства, по продовольствию, по топливу и по перевозкам. Особое совещание по обороне играло ключевую роль, поскольку только оно (точнее – его председатель) было наделено правом приостановки (но не отмены) и пересмотра решений остальных совещаний, причем при разногласиях в Особом совещании по обороне для окончательного решения вопрос передавался в Совет министров. Председателями Особого совещания по обороне и единственными из его членов, обладавшими решающим голосом, являлись по своей должности военные министры: А.А. Поливанов (17 августа 1915 – 15 марта 1916), Д.С. Шуваев (15 марта 1916 – 3 января 1917), М.А. Беляев (3 января – 28 февраля 1917), А.И. Гучков (2 марта – 30 апреля 1917), П.И. Пальчинский (и.о., 27 марта – 1 июня 1917 (в отношении вопросов, касающихся металлов и топлива), в полном объеме – 1 июня – 25 октября 1917). При Особом совещании состояли подчиненные ему вспомогательные и исполнительные органы, в соответствующих случаях исполнявшие роль первой инстанции: Подготовительная комиссия по общим вопросам (26 августа 1915 – 21 марта 1918, председатель – А.А. Саткевич), Подготовительная комиссия по артиллерийским вопросам (26 августа 1915 – 21 марта 1918, председатель – С.И. Тимашев), Наблюдательная комиссия (26 августа 1915 – 25 мая 1917, председатель – А.Н. Куломзин), делившаяся на четыре отдела (Артиллерийский, Военно-технический, Интендантский и Военно-санитарный), Эвакуационная комиссия (26 августа 1915 – 21 марта 1918, председатель – М.В. Родзянко), Комиссия по пересмотру норм санитарного и медицинского снабжения армии (24 октября 1915 – 26 января 1918, председатель (до 25 октября 1917) – А.И. Гучков), Реквизиционная комиссия (5 ноября 1915 – 21 марта 1918, председатель – А.С. Якимович), Статистическое бюро (24 декабря 1915 – 21 марта 1918, заведующий – Л.Л. Никитин), Комиссия по обеспечению рабочей силой обслуживающих оборону предприятий (1 июня 1916 – 27 мая 1917, председатель – А.С. Стишинский), Подготовительная комиссия по авиационным вопросам (20 июля 1916 – 21 марта 1918, председатель – В.И. Гурко). Помимо постоянных комиссий и бюро, при Особом совещании образовывались и временные комиссии и комитеты. В качестве центрального специального органа при председателе Особого совещания с 25 ноября 1915 по 21 марта 1918 г. действовал уполномоченный по делам металлургической промышленности генерал А.З. Мышлаевский, председательствовавший в Комитете по делам металлургической промышленности (Металлургическом комитете) (17 декабря 1915 – 26 января 1918). Местными специальными органами председателя Особого совещания были его районные уполномоченные, обладавшие исполнительными функциями. Делопроизводство Особого совещания обеспечивалось Управлением его делами, работавшим на основе Канцелярии Военного министерства и состоявшим из пяти делопроизводств. Решения Особого совещания по размещению военных заказов за границей исполняли Комитет под председательством генерала А.В. Сапожникова по заготовлению в Америке предметов боевого и материального снабжения армии и Русский правительственный комитет в Лондоне (Англо-Русский комитет) под почетным председательством великого князя Михаила Михайловича и реальным – генерала Э.К. Гермониуса. Распределение иностранной валюты по директивам Особого совещания осуществляла Комиссия по учету и распределению иностранной валюты при Военном министерстве (26 октября 1915 – 6 апреля 1917). Постановлением СНК 19 декабря 1917 г. Особое совещание подчинено Всероссийскому совету народного хозяйства и 20 декабря того же года переименовано в Совещание по финансированию, которое было ликвидировано 26 января 1918 г.
(обратно)606
Особое совещание по топливу (Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом, Осотоп) было образовано в соответствии с утвержденным Николаем II 17 августа 1915 г. и одобренным обеими палатами Положением как высшее чрезвычайное государственное учреждение военного времени. В компетенцию Осотопа входили обсуждение и объединение мероприятий по обеспечению топливом путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий, работавших на государственную оборону. Председателем Осотопа являлся министр торговли и промышленности, чьи решения были окончательными, однако их исполнение могло приостанавливаться председателем Особого совещания по обороне государства (т. е. военным министром), который в случае необходимости имел также право передавать эти решения на суждение Совета министров. Председателями Осотопа были: князь В.Н. Шаховской (17 августа 1915 – 28 февраля 1917), А.И. Коновалов (2 марта – 27 мая 1917), В.А. Степанов (27 мая – 4 июля 1917), С.Н. Прокопович (25 июля – 25 сентября 1917), А.И. Коновалов (25 сентября – 25 октября 1917). С начала заседаний Осотопа при нем действовали Управление делами (Канцелярия) и, в качестве первых инстанций, секции Угольная, Нефтяная, Дровяная и торфяная, по перевозкам топлива, по распределению топлива и нормировке его потребления, позднее – Исполнительная секция (с 9 сентября 1915 г.), координировавшая деятельность других секций, Тепловая комиссия (17 мая 1916 – 18 сентября 1917), Керосиновый комитет (6 декабря 1916 – 28 апреля 1917), два главноуполномоченных – по снабжению нефтью и нефтяными остатками потребителей всей Империи (Главнефть) (с 4 мая 1916 г.) и по Донецкому минеральному топливу (с 9 мая 1916 г.). Упразднено 30 декабря 1917 г.
(обратно)607
Особое совещание по перевозкам (Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по перевозке топлива, продовольствия и военных грузов) – высшее чрезвычайное государственное учреждение военного времени. Образовано по Положению, прошедшему через Государственную думу и Государственный совет и утвержденному Николаем II 17 августа 1915 г. Председателем Особого совещания являлся министр путей сообщения, который имел решающий голос, однако исполнение одобренных им постановлений военный министр как председатель Особого совещания по обороне мог приостанавливать, передавая эти постановления, если требовался их пересмотр, на обсуждение Совета министров. Особое совещание возглавляли: С.В. Рухлов (17 августа – 27 октября 1915), А.Ф. Трепов (30 октября 1915 – 27 декабря 1916), Э.Б. Кригер-Войновский (28 декабря 1916 – 28 февраля 1917), Н.В. Некрасов (2 марта – 4 июля 1917), Г.С. Тахтамышев (11–25 июля 1917), П.П. Юренев (25 июля – 27 августа 1917), А.В. Ливеровский (31 августа – 25 октября 1917). Потребности Особого совещания обслуживал Центральный комитет по регулированию массовых перевозок по железным дорогам при Управлении железных дорог МПС. В Центральный комитет поступали заявки на перевозки от Особого совещания по обороне, Особого совещания по топливу и Особого совещания по продовольствию. Центральный комитет заменил образованный 15 декабря 1915 г. также при Управлении железных дорог Временный распорядительный комитет по железнодорожным перевозкам (вне театра военных действий) (председатель – Э.Б. Кригер-Войновский). При МПС 17 января 1916 г. был образован Временный распорядительный комитет по водным перевозкам (председатель – начальник Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог МПС Н.Д. Тяпкин, преемником которого на обоих постах 15 апреля 1916 г. стал И.П. Калинин). С образованием распорядительных комитетов заявки на перевозки поступали в них и рассматривались комитетами в первой инстанции, при сложности заявки она поступала в Особое совещание. Местными органами Особого совещания были назначавшиеся его председателем уполномоченные. Упразднено в конце 1917 г.
(обратно)608
В результате функционирования особых совещаний, с Особым совещанием по обороне во главе, наметилось некоторое разделение исполнительной власти на две сферы – общеполитическую, находившуюся в ведении Совета министров, и военно-экономическую, подчинявшуюся, по законам 17 августа 1915 г., в значительной мере четырем особым совещаниям. Для координации деятельности Совета министров и особых совещаний осенью 1915 г. практиковались собрания четырех министров – председателей совещаний (военного, земледелия, путей сообщения и торговли и промышленности) под председательством военного министра, а также неформальные консультации председателя Совета министров с перечисленными министрами. С 21 декабря 1915 г. заседало Совещание министров – председателей особых совещаний с постоянным участием министра внутренних дел (как заведующего продовольственным делом в империи) и спорадическим – главами и представителями других ведомств («Совещание министров по обеспечению нуждающихся местностей империи продовольствием и топливом», в просторечии – Совещание пяти министров). Председателем Совещания пяти министров 6 января 1916 г. Николай II назначил министра путей сообщения А.Ф. Трепова, который занимал эту должность до 21 мая 1916 г., когда согласно всеподданнейшему докладу председателя Совета министров Б.В. Штюрмера (исполнившему в данном случае требование Особого совещания по обороне) Совещание пяти было упразднено, а его функции переданы Совету министров в целом. Однако уже 3 июля 1916 г. Николай II, наделив Б.В. Штюрмера чрезвычайными полномочиями (отныне премьер мог отдавать распоряжения, обязательные для исполнения, председателям особых совещаний, в т. ч. Особого совещания по обороне, и отменять их постановления), возложил на него объединение деятельности высших гражданских учреждений в сфере военно-экономического регулирования. При Б.В. Штюрмере было создано имевшее лишь консультативный характер Особое совещание для объединения всех мероприятий по снабжению армии и флота и организации тыла, постоянными членами которого стали министры – председатели четырех особых совещаний (военный, земледелия, торговли и промышленности и путей сообщения), внутренних дел, юстиции и морской. В это Особое совещание приглашались также министр финансов и государственный контролер. С назначением 10 ноября 1916 г. председателем Совета министров А.Ф. Трепова он, идя навстречу оппозиции, возмущенной предыдущей практикой умаления роли Особого совещания по обороне и прочих особых совещаний, использовал диктаторские полномочия при участии кабинета в целом на «особых заседаниях Совета министров по некоторым вопросам, касающимся объединения всех мероприятий по снабжению армии и флота и организации тыла». При последнем царском премьере князе Н.Д. Голицыне с 27 декабря 1916 г. перестали собираться и «особые» заседания Совета министров, а вопросы координации его деятельности с постановлениями собственно особых совещаний решались первоначально на обычных заседаниях Совета министров, затем, с середины января 1917 г., – под председательством премьера в «Совещании министров по продовольственному делу», которое посещали (из председателей особых совещаний) министры военный, земледелия и путей сообщения, а также морской. Подробнее см.: Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы Первой мировой войны. (Совет министров в 1914–1917 гг.). Л., 1988. С. 103–153.
(обратно)609
На заседании правительства 8 июля 1916 г., в присутствии Н.Н. Покровского, Б.В. Штюрмер представил Совету министров проект Положения об Особом комитете для борьбы с дороговизной, который образовывался под председательством лица по высочайшему назначению, облеченного правами товарища министра внутренних дел, из заведующего продовольственным делом в империи и представителей всех заинтересованных ведомств, Кавказского наместничества, Великого княжества Финляндского и председателей особых совещаний по обороне, по топливу, по продовольствию и по перевозкам. Однако Совет министров указал, что проект требует переработки в соответствии с возложением на председателя Совета министров 3 июля задачи по объединению руководства снабжением армии и флота и организацией тыла. Для решения подобной задачи, считали министры, необходимо наряду с согласованием, под руководством председателя Совета министров, деятельности председателей особых совещаний и Особого комитета по борьбе с немецким засильем также «ближайшее наблюдение» главы правительства и за деятельностью Особого комитета для борьбы с дороговизной. В связи с этим Особый комитет, по мнению кабинета, следовало сделать независимым от МВД, соответственно чему изменить и проект Положения об Особом комитете. Решение правительства Николай II утвердил 29 июля (см.: Особый журнал Совета министров 8 июля 1916 г. «По проекту Положения об Особом комитете для борьбы с дороговизной» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 326–327).
(обратно)610
На заседании 17 июня 1916 г. правительство признало, что «вопрос борьбы со спекуляцией и возрастающей дороговизной всех продуктов первой необходимости имеет, бесспорно, первостепенное государственное значение», а потому представляется «совершенно неотложным» принятие решительных мер, направленных против неоправданного повышения цен на сырье и изделия и на рабочий труд. Выработку и проведение подобных мер Совет министров решил поручить особому органу, который бы объединил все дело борьбы с дороговизной. Таким органом, по его мнению, мог бы стать образованный при МВД Особый комитет для борьбы с дороговизной, с привлечением к участию в нем представителей всех заинтересованных ведомств и особых совещаний по обороне, по топливу, по продовольствию и по перевозкам. Председательствование в Комитете предполагалось возложить на лицо по высочайшему назначению, облеченное правами товарища министра внутренних дел. Круг дел, права и обязанности Комитета намечалось определить особым Положением о нем, а делопроизводство Комитета приурочить к МВД. Правительство предоставило министру внутренних дел, которым на тот момент являлся Б.В. Штюрмер, подготовить и внести на рассмотрение Совета министров проект Положения о Комитете. Решение кабинета Николай II утвердил 24 июня (см.: Особый журнал Совета министров 17 июня 1916 г. «Об учреждении Особого комитета для борьбы с дороговизной» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 266–267).
(обратно)611
Состоявшееся 29–30 августа 1916 г. в Петрограде Общее собрание Съезда уполномоченных председателя Особого совещания по продовольственному делу установило твердые цены на хлеб нового урожая на местах производства. Затем 31 августа – 3 сентября вопрос о твердых ценах обсудило само Особое совещание. В результате этих обсуждений было выработано постановление министра земледелия А.А. Бобринского от 9 сентября 1916 г. за № 45 о введении твердых цен на хлеб и распространении их на частные сделки.
(обратно)612
А.Д. Протопопов был назначен 16 сентября 1916 г. не министром, а управляющим Министерством внутренних дел.
(обратно)613
На заседании кабинета 15 октября 1916 г. против предложенной А.Д. Протопоповым передачи продовольственного снабжения из Министерства земледелия в МВД высказались только два члена кабинета – сам министр земледелия граф А.А. Бобринский и министр народного просвещения граф П.Н. Игнатьев. Но после того, как Бюджетная комиссия IV Думы в пику А.Д. Протопопову выступила за сохранение прежнего положения, на заседании правительства 22 октября министры провалили предложение А.Д. Протопопова. Его план поддержали Б.В. Штюрмер, три близких к нему министра (юстиции – А.А. Макаров, путей сообщения – А.Ф. Трепов и главноуправляющий государственным здравоохранением Г.Е. Рейн), а также Н.Н. Покровский, не приняли пять министров (военный – генерал Д.С. Шуваев, морской – адмирал И.К. Григорович, финансов – П.Л. Барк, народного просвещения – П.Н. Игнатьев и торговли и промышленности – князь В.Н. Шаховской). Не желая обострять отношения с нижней палатой, от передачи продовольственного дела в МВД отказался не только Б.В. Штюрмер, но и А.Д. Протопопов, хотя с ними, вопреки мнению большинства, согласился Николай II.
(обратно)614
Деятельность Особого комитета для борьбы с дороговизной, несмотря на свою кратковременность, имела реальные результаты. На заседании 9 августа 1916 г., на котором присутствовал в т. ч. и Н.Н. Покровский, не заявивший разногласия, правительство решило провести, в порядке ст. 87 Основных законов 1906 г., инициированный Особым комитетом еще 14 июля 1916 г. законопроект об уголовной ответственности торговцев и промышленников за повышение или понижение цен на предметы продовольствия или первой необходимости. Николай II утвердил это решение 8 сентября, написав на соответствующем Особом журнале Совета министров: «Согласен. Наконец!» (Особый журнал Совета министров 9 августа 1916 г. «Об уголовной ответственности торговцев и промышленников за возвышение или понижение цен на предметы продовольствия или необходимой потребности» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 377–379). На заседании 23 августа 1916 г., также в присутствии Н.Н. Покровского, кабинет одобрил и внесенные председателем Особого комитета князем Н.Л. Оболенским проекты наказов членам Государственного совета В.Ф. Дейтриху и Н.П. Муратову, на которых 27 июля царь возложил обследование сахарной и кожевенной промышленности и торговли. Проекты наказов определяли объем обязанностей и полномочий упомянутых лиц по выполнению возложенных на них задач. Николай II утвердил наказы 10 сентября (см.: Особый журнал Совета министров 23 августа 1916 г. «По проектам наказов членам Государственного совета действительному тайному советнику Дейтриху и в звании камергера Муратову» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 408–409).
(обратно)615
А.А. Риттих был назначен управляющим Министерством земледелия 29 ноября 1916 г.
(обратно)616
Имеется в виду Особое совещание по продовольствию.
(обратно)617
А.А. Риттих выступал с объяснениями по поводу его плана решения продовольственного вопроса 14, 17, 23 и 25 февраля 1917 г. в Общем собрании IV Государственной думы (см.: Государственная дума. 1906–1917. Стенографич. отчеты: В 4 т. М., 1995. Т. 4. С. 226–233, 273–276, 309–310, 341–344), А.И. Шингарев выступал 23, 24 и 25 февраля (Там же. С. 322–324, 332–334, 346–347).
(обратно)618
Временное правительство ввело хлебную монополию, опубликовав 25 марта 1917 г. постановление «О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах». Постановление декларировало: «Все количество хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых лет, 1916 г. и будущего урожая 1917 г., за вычетом запаса <…> необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца, поступает <…> в распоряжение государства и может быть отчуждаемо лишь при посредстве государственных продовольственных органов». Это предусматривало принудительное отчуждение государством всех свободных запасов хлеба по твердой цене. Подробнее см.: Китанина Т.М. Указ. соч. С. 308–319.
(обратно)619
Замена С.Д. Сазонова Б.В. Штюрмером, переход А.А. Хвостова с поста министра юстиции на пост министра внутренних дел, освобожденный Б.В. Штюрмером, и назначение А.А. Макарова министром юстиции последовали 7 июля 1916 г. Замена С.Д. Сазонова Б.В. Штюрмером объяснялась не столько стремлением последнего к портфелю министра иностранных дел, сколько политическими разногласиями между ними, прежде всего по польскому вопросу (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 224–229).
(обратно)620
После кончины министра народного просвещения Л.А. Кассо главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин, являвшийся фактическим премьером, рекомендовал формальному премьеру И.Л. Горемыкину назначить преемником Л.А. Кассо своего протеже графа П.Н. Игнатьева, занимавшего пост товарища главноуправляющего землеустройством, и И.Л. Горемыкин учел эту рекомендацию, попросив Николая II поставить графа во главе Ведомства народного просвещения (Игнатьев П.Н. Совет министров в 1915–1916 гг. (Из воспоминаний) // Новый журнал. 1944. Кн. 8. С. 303). Управляющим Министерством народного просвещения П.Н. Игнатьев стал 9 января 1915 г.
(обратно)621
Виновником возвышения В.Н. Шаховского был фактический премьер и главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин, который выдвинул В.Н. Шаховского как «человека, пользующегося симпатиями Думы» (Дневник А.В. Клюжевой, жены депутата IV Государственной думы И.С. Клюжева // РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 15. Л. 115). Проведению князя в министры содействовали великий князь Александр Михайлович и министр путей сообщения С.В. Рухлов, рекомендовавший В.Н. Шаховского вниманию И.Л. Горемыкина (см.: Шаховской В.Н. Sic transit gloria mundi. 1893–1917 гг. Париж, 1952. С. 22).
(обратно)622
Совет Государственного банка – совещательный орган, председателем которого являлся управляющий Государственным банком, а членами были чины Министерства финансов и представители других ведомств. Создан 31 мая 1860 г., упразднен 26 октября 1917 г.
(обратно)623
Часть предложения (после слов «почтенный человек») Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)624
Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог – подразделение в составе МПС, преобразованное 3 мая 1899 г. из Департамента шоссейных и водяных сообщений. До 7 ноября 1902 г., т. е. до создания Главного управления торгового мореплавания и портов и передачи в него заведования последними, называлось Управлением водяных и шоссейных сообщений и торговых портов. После этого в компетенцию Управления входило общее заведование водными путями и шоссейными дорогами. При Управлении состояли инспекторы водяных сообщений и инженеры для технических работ. Преобразовано 18 сентября 1916 г. в Управление внутренних водных путей, переданное 5 марта 1918 г. в ведение ВСНХ.
(обратно)625
В.Н. Шаховской по должности начальника Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог сопровождал Николая II и его семью 18–21 мая 1913 г. во время их плавания по Волге на пароходе «Межень» в связи с празднованием 300-летия воцарения династии Романовых (см.: Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 42–43).
(обратно)626
После назначения В.Н. Шаховского 18 февраля 1915 г. управляющим Министерством торговли и промышленности военный министр генерал В.А. Сухомлинов и начальник Штаба верховного главнокомандующего генерал Н.Н. Янушкевич, полагая, что как министр В.Н. Шаховской не имеет необходимого опыта, стали готовить назначение В.П. Литвинова-Фалинского третьим товарищем министра торговли и промышленности «по обороне». Идею генералов поддержали Николай II и верховный главнокомандующий Николай Николаевич, который адресовал И.Л. Горемыкину рескрипт, зачитанный на заседании Совета министров 6 марта 1915 г. и предусматривавший создание третьей должности товарища министра «для объединения торговли и промышленности и частных заводов в целях обороны» с правом участия в заседаниях кабинета. В.Н. Шаховской расценил интригу Ставки как попытку установления в Министерстве торговли и промышленности двоевластия и покушение на свои права, а потому выступил перед Николаем II 12 марта не только против идеи создания нового поста, но и, в качестве наказания В.П. Литвинова, за увольнение подчиненного, присоединившегося к интриге против непосредственного начальника. Демарш В.Н. Шаховского закончился успехом – увольнение В.П. Литвинова последовало 16 марта (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 75).
(обратно)627
Это предложение Н.Н. Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки. В.Н. Шаховской, будучи министром, несколько раз встречался с Г.Е. Распутиным в своем служебном кабинете, причем первый раз – в июне 1915 г. по инициативе последнего, при посредничестве князя М.М. Андроникова и по совету И.Л. Горемыкина. В дальнейшем встречи В.Н. Шаховского и старца происходили сравнительно редко – «в три-четыре месяца раз» – и реального значения не имели, поскольку прошения, которые Г.Е. Распутин приносил с собой, В.Н. Шаховской не исполнял и складывал «в архив» (Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 115–118).
(обратно)628
Ср. с показаниями Н.Н. Покровского, который в 1917 г. говорил, что в кабинете Б.В. Штюрмера «выдержанных группировок усмотреть было нельзя» (Показания Н.Н. Покровского. С. 338).
(обратно)629
В начале января 1916 г., накануне отставки, И.Л. Горемыкин «успел вырвать» у начальника Штаба верховного главнокомандующего генерала М.В. Алексеева распоряжение, категорически воспрещавшее оставлять в газетах «белые места». «Независимо от морального вреда, – объяснял редактор кадетской “Речи” И.В. Гессен неприемлемость для прессы этого распоряжения, – и технически распоряжение убийственно отражалось на работе: чтобы выиграть время, мы обычно не ждали возвращения из цензуры корректурных гранок и вносили вынужденные поправки уже в сверстанный номер, а вычеркнутые строки изымали, оставляя пробелы. Запрещение пробелов требовало бы переверстки, что сопряжено с большой потерей времени и запаздыванием газеты». В конце января 1916 г. по просьбе представителя Общества редакторов ежедневных газет Петрограда И.В. Гессена Б.В. Штюрмер телеграфировал М.В. Алексееву о необходимости отменить запрет на оставление в газетах «белых мест», с чем генерал согласился, и с этого времени «белые места» снова стали появляться в газетах (Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции. Берлин, 1937. Т. 22. С. 343).
(обратно)630
На заседании 29 декабря 1915 г., т. е. еще при И.Л. Горемыкине, Совет министров постановил в целях направления, согласования и объединения финансово-экономической политики государства образовать под председательством председателя Совета министров, замещаемого в случае отсутствия государственным контролером, из министров финансов, земледелия, торговли и промышленности и иностранных дел, а также государственного контролера Совещание по финансово-экономическим вопросам, при ближайшем в этом Совещании участии прочих министров и главных начальников отдельных ведомств, по принадлежности вопросов. Постановление кабинета Николай II утвердил 17 января 1916 г., также еще до назначения Б.В. Штюрмера (см.: Особый журнал Совета министров 29 декабря 1915 г. «Об образовании Совещания по финансово-экономическим вопросам» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 605–608). Подробнее о создании Совещания по финансово-экономическим вопросам см.: Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 72–73.
(обратно)631
По утверждению чиновника Департамента общих дел МВД С.Н. Палеолога, Е.С. Фогель был «сыном кременчугского врача-еврея» (Палеолог С.Н. Около власти: Очерки пережитого. М., 2004. С. 31).
(обратно)632
На заседании 11 марта 1916 г. правительство решило для предварительного обсуждения вопросов финансово-экономической политики, как внутренней, так и международной, и связанных с ней законодательных предположений учредить Особую финансово-экономическую комиссию с привлечением к участию в ней, помимо правительственных чинов, также членов Государственного совета и Государственной думы, а также представителей сельского хозяйства, промышленности и торговли. Решение Совета министров об учреждении этой комиссии Николай II утвердил 22 марта (см.: Особый журнал Совета министров 26 октября 1916 г. «О Программе занятий Особой финансово-экономической комиссии (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 535, 647). Подробнее о создании и деятельности Особой финансово-экономической комиссии см.: Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 64–93.
(обратно)633
На заседании 24 февраля 1916 г. Совещания при Совете министров по финансово-экономическим вопросам только Н.Н. Покровский признал желательным избрание представителей законодательных учреждений в Особую финансово-экономическую комиссию, однако его предложение не получило поддержки других министров (см.: Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 79).
(обратно)634
То есть членов Правой группы Государственного совета. О группах в Государственном совете периода Первой мировой войны см.: Куликов С.В. Политическая дифференциация членов Государственного совета в годы Первой мировой войны (август 1915 – февраль 1917) // Из глубины времен. 1997. Вып. 9. С. 3 – 22.
(обратно)635
Имеется в виду Фракция центра Государственной думы, находившаяся между октябристами и правыми.
(обратно)636
Подразумевается, что Н.Е. Марков 2-й являлся членом Фракции правых Государственной думы.
(обратно)637
Торгово-промышленные (торговые) палаты – общественные организации, которые представляли интересы деловых кругов. В Российской империи существовали различные торгово-промышленные палаты: Славянская торговая палата (1908), Русско-английская торговая палата (1908), Российская экспортная палата (1910), Русско-итальянская торговая палата (1911), Русско-французская торговая палата (1912), Русско-американская торговая палата (1913), Всероссийская сельскохозяйственная палата (1913) и др. Все они занимались внешней торговлей и объединяли импортеров и экспортеров различных товаров, защищали интересы российских предпринимателей за границей и содействовали экономическому и политическому сближению Российской империи с другими государствами (см.: Торгово-промышленные палаты и биржевые комитеты России в годы Первой мировой войны. М., 2014. С. 24–25).
(обратно)638
Парижская экономическая конференция представителей стран Антанты проходила 14–17 июня (по н. ст.) 1916 г. и имела целью обсуждение принципов экономической войны с Германией и ее союзниками и послевоенного экономического устройства. На ней были представлены Франция, Великобритания, Россия, Бельгия, Италия, Португалия, Сербия и Япония. См. о ней: Николаев П.А. Отклики на Парижскую экономическую конференцию 1916 г. во Франции, Англии и России // Из истории империализма в России. М.; Л., 1959. С. 389–413; Бабичев Д.С. Россия на Парижской союзной конференции 1916 г. по экономическим вопросам // Исторические записки. 1969. Т. 83. С. 38–57.
(обратно)639
Н.Н. Покровский уехал 15 мая 1916 г. (см.: Показания Н.Н. Покровского. С. 349).
(обратно)640
Совещание по финансово-экономическим вопросам при Совете министров 8 августа 1916 г. обсудило и утвердило программу занятий Особой финансово-экономической комиссии. В первую очередь она должна была выработать мероприятия, способные облегчить переход к условиям мирного времени, и во вторую очередь – меры, направленные к развитию производительных сил России и касающиеся таких областей экономической жизни, как внешнеторговая политика, привлечение иностранных капиталов, развитие путей сообщения и промышленности, упорядочение внутренней и внешней торговли, использование естественных богатств и развитие казенного хозяйства и промышленности на Севере Европейской России. Комиссии следовало также наметить мероприятия, связанные с решениями Парижской экономической конференции (см.: Бабичев Д.С. Указ. соч. С. 56; Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 86–87). На заседании 26 октября 1916 г. правительство одобрило рассмотренный 21 сентября Совещанием по финансово-экономическим вопросам «Перечень вопросов, по которым Совет министров признал желательным иметь заключение Особой финансово-экономической комиссии» и Объяснительную записку к Перечню. Кабинет согласился с предложением министра финансов П.Л. Барка о необходимости внесения в Перечень уточнения в том смысле, что «в задачи Комиссии входит, между прочим, выяснение, однако только с народнохозяйственной точки зрения, вопроса о целесообразности установления государственных монополий в отдельных отраслях промышленности и торговли». Правительство также признало желательность изложения «в несколько менее категорической форме указания, относящегося до внесения ведомствами на рассмотрение Комиссии всех без исключения предположений, касающихся общих начал намечаемых ими в финансово-экономической области мероприятий» (Особый журнал Совета министров 26 октября 1916 г. «О Программе занятий Особой финансово-экономической комиссии (По журналу дел, разрешаемых собственной властью Совета министров)» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 535).
(обратно)641
В Объяснительной записке Н.Н. Покровский писал, что война вскрыла экономическую отсталость России и ее зависимость от Германии. Поэтому ближайшей задачей после окончания войны он считал осуществление мер, направленных на развитие производительных сил России. В целях создания наиболее благоприятных условий для возвращения русской промышленности к выработке продукции мирного времени Покровский предлагал сохранить на первый период после войны особые совещания по обороне, по перевозкам, по продовольствию и по топливу, с тем чтобы не делать резкого перехода к свободному рынку. Государственный контролер указывал на вызванную войной благоприятную обстановку в области внешней торговли, что позволяло ликвидировать систему торговых договоров, заключенных с неприятельскими странами в довоенный период. Покровский полагал необходимым уточнить экспортные возможности России и изучить емкость рынков союзных и нейтральных стран относительно сбыта сельскохозяйственных продуктов, сырья, полуфабрикатов и леса. Для защиты русской промышленности он рекомендовал рассмотреть вопрос о таможенной защите и выработать регулирующие начала торговли с союзниками и нейтральными странами. «Здесь на первую очередь, – отмечал Покровский, – должны быть поставлены вопросы о таможенно-тарифной автономии или о закреплении конвенционных тарифов, о принципе наибольшего благоприятствования, о системе преимущественных тарифов (предоставление преимуществ одним союзным странам или и нейтральным), а также о средствах контроля за ее осуществлением» (цит. по: Бабичев Д.С. Указ. соч. С. 56).
(обратно)642
Совет съездов представителей промышленности и торговли – функционировавший в 1906–1918 гг. исполнительный орган Съездов представителей промышленности и торговли, центральной и самой влиятельной из общероссийских представительных организаций деловых кругов. Подробнее о Съездах см.: Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Проблемы торгово-промышленной политики. Л., 1987.
(обратно)643
Анализ записки, принятой Комитетом Совета съездов 1 ноября 1916 г. и содержавшей обоснование программы деятельности Особой финансово-экономической комиссии, см.: Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 89–92.
(обратно)644
После двух общих заседаний Особая финансово-экономическая комиссия была разделена на четыре подкомиссии – промышленную, торговую, сельскохозяйственную и финансовую, причем председателем двух первых стал министр торговли и промышленности князь В.Н. Шаховской, а третьей и четвертой – соответственно министры земледелия и финансов А.А. Риттих и П.Л. Барк (см.: Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 92).
(обратно)645
При подготовке Парижской экономической конференции нетерпение проявляла Россия, между тем как Франция медлила с ответом. «Прошу Вас, – телеграфировал С.Д. Сазонов послу во Франции А.П. Извольскому 27 марта 1916 г., – ускорить ответ французского правительства касательно программы и срока экономической конференции. Обратите внимание Бриана, что, ввиду дальности пути и необходимости завершить выработку инструкций, указанные сведения нам нужны безотлагательно. Для Вашего сведения добавляю, что неполучение ответа может к тому же задержать и отъезд нашей парламентской делегации, которая желает иметь в виду окончательные инструкции тайного советника Покровского» (С.Д. Сазонов – А.П. Извольскому. 27 марта 1916 г. // Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств. 1878–1917 гг. Серия III. 1914–1917 гг. М., 1938. С. 255).
(обратно)646
Вопрос об инструкции представителям России на Парижской экономической конференции возник еще 2 февраля 1916 г., когда на всеподданнейшем докладе Б.В. Штюрмера о назначении представителей русского правительства Николай II наложил резолюцию: «Согласен. Нужно обсудить инструкцию для наших представителей на этой конференции». На заседании 5 февраля Совет министров постановил предоставить Совещанию по финансово-экономическим вопросам выработать проект инструкции, с тем чтобы он поступил на рассмотрение кабинета. Для предварительной разработки соответствующих предположений кабинет образовал Межведомственную комиссию под председательством Н.Н. Покровского, подготовившую «Перечень вопросов, требующих обсуждения при составлении инструкции для представителей русского правительства на предстоящей в Париже экономической конференции союзных государств». «Перечень вопросов» 10 февраля получил одобрение Совещания по финансово-экономическим вопросам, а затем его разослали заинтересованным ведомствам для дальнейшей разработки с обязательством внести свои предположения в это Совещание не позднее 5 марта (см.: Журнал образованного в составе Совета министров Совещания по финансово-экономическим вопросам. 10 февраля 1916 г. // Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств. 1878–1917 гг. Серия III. 1914–1917 гг. М., 1938. С. 253–255). В результате подготовительных мероприятий и обсуждения в Совете министров материалов, поступивших от министерств и главных управлений, 16 апреля 1916 г. была выработана инструкция русским представителям на Парижской экономической конференции. В общем разделе инструкции подчеркивалось, что члены русской делегации командируются на конференцию исключительно с целью обмена мнениями. Они должны были воздерживаться от каких-либо определенных обещаний в отношении будущей экономической политики России. Первый раздел инструкции посвятили вопросам периода войны, второй – вопросам, относившимся к периоду заключения мирных договоров, третий – вопросам сотрудничества между союзными странами в послевоенный период. «Основным положением нашей будущей экономической политики, – говорилось в инструкции, – является настоятельная для нас необходимость всестороннего развития наших производительных сил и возможно полного использования наших огромных природных богатств. Только этим путем мы в состоянии будем сбросить тяготеющую теперь над нами зависимость от иностранных (особенно германских) рынков, обеспечить себе более значительный вывоз произведений нашего сельского хозяйства и других отраслей нашей добывающей промышленности, достигнуть превышения нашего вывоза над ввозом, а следовательно, и создания благоприятного для нас торгового баланса, являющегося активной статьей в наших расчетах с заграницей». Русской делегации ставилась задача по возможности избегать обсуждения по существу системы таможенных тарифов. Эта система могла быть окончательно определена только после войны в соответствии с той политической конъюнктурой, которая сложится на международной арене. Русское правительство соглашалось на участие иностранного капитала в железнодорожном строительстве, в машиностроении, в химической и горнодобывающей промышленности (с обязательной переработкой сырья на месте, не допуская его вывоз за границу в необработанном виде), в сельском хозяйстве, в строительстве судоходных каналов, ирригационных систем и в других отраслях народного хозяйства. Для увеличения притока иностранного капитала в экономику России предусматривалось предоставить ему ряд льгот: правительственная гарантия для облигационных капиталов, облегчение правил образования концессий, выпуск долгосрочных промышленных обязательств, уравнение в правах иностранных подданных с русскими подданными в строительстве предприятий, предоставление иностранцам прав землевладения в Туркестане, Сибири, Степном крае и на Кавказе. Кроме того, иностранный капитал мог принять более широкое участие в банковском кредите, в облигационном капитале и в других финансовых операциях. Предусмотренные преимущества, которые могли предоставляться иностранному капиталу союзных стран, оговаривались взаимностью и свободой экономического развития России. В качестве одной из насущных задач, поставленной перед русской делегацией, было получение кредитов от союзников для погашения заграничной задолженности русских банков и торгово-промышленных предприятий. Кроме того, следовало добиться коммерческого кредита для предприятий, не связанных с выполнением заказов государственной обороны (Бабичев Д.С. Указ. соч. С. 42–45). Инструкция была одобрена Совещанием при Совете министров по финансово-экономическим вопросам 1 мая 1916 г., а затем, согласно решению Совещания от 20 марта, обсуждена в Особой финансово-экономической комиссии (Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России… С. 85).
(обратно)647
Р. Вивиани и А. Тома прибыли в Петроград 22 апреля 1916 г. В телеграмме от 12 апреля 1916 г. посол во Франции А.П. Извольский сообщал, что поездка французских министров в Россию является ответным визитом на двукратный приезд в Париж министра финансов П.Л. Барка. «Здешний министр финансов Рибо, – уточнял А.П. Извольский, – слишком стар, чтобы предпринять длинное и трудное путешествие, а потому отдача визита возложена на Вивиани, наиболее значительного члена кабинета после г. Бриана. Что касается г. Альбера Тома, то поездка его в Петроград имеет целью лишь его ознакомление с положением у нас столь важного вопроса о снабжении нашей армии орудиями и снарядами в связи с помощью, которая может быть оказана нам в этом деле Францией. Имею основания думать, что вышесказанная командировка вызвана отчасти тревогою, возбужденною здесь полученными из различных источников сведениями о нашем внутреннем положении, и недоверием к донесениям Палеолога, которому здешние политические и парламентские круги ставят в вину исключительную близость к придворным и великосветским сферам и недостаточное осведомление своего правительства о внутренней политической жизни России». Французы были не только в Петрограде, но и, 27–28 апреля, в Могилеве, в Ставке верховного главнокомандующего, где совещались с начальником Штаба верховного главнокомандующего генералом М.В. Алексеевым и полевым генерал-инспектором артиллерии великим князем Сергеем Михайловичем. В центре переговоров были два вопроса: о посылке русских войск во Францию и о доставке в Россию из Франции артиллерии и предметов снабжения. М.В. Алексеев согласился отправить 7 бригад по 10 000 человек в каждой, т. е. 70 000 человек. По второму вопросу французы ограничились обязательством доставить в Россию уже ранее обещанные 24 крупных орудия. Р. Вивиани 28 апреля вернулся из Ставки в Петроград, а А. Тома поехал в провинцию осматривать заводы. Миссия покинула Петроград 4 мая (см.: Вокруг поездки Вивиани и Альбера Тома // Красный архив. 1926. Т. 15. С. 225, 227–228; Палеолог Ж.М. Дневник посла. М., 2003. С. 506–508, 514).
(обратно)648
На врученной С.Д. Сазонову Ж.М. Палеологом памятной записке французского посольства от 11 апреля 1916 г. по поводу предстоящего приезда двух представителей Франции, которые были лидерами социалистов, Николай II написал 14 апреля: «Согласен на приезд, но о приеме сказать ничего не могу» (Вокруг поездки Вивиани и Альбера Тома. С. 225). Президент Франции Р. Пуанкаре 12 (25) апреля 1916 г. адресовал императору послание с просьбой принять Р. Вивиани и А. Тома, дав им, особенно последнему, самые лестные характеристики (Р. Пуанкаре – Николаю II. 12 (25) апреля 1916 г. // Монархия перед крушением. С. 8 – 10). Аудиенция состоялась 23 апреля 1916 г. в Александровском дворце Царского Села в присутствии Ж.М. Палеолога. «Император, которого его министры не балуют таким красноречием, – описывал аудиенцию французский посол, – видимо, тронут, он обещает сделать все возможное для развития военных ресурсов России и принять еще более близкое участие в операциях союзников» (Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 503–505).
(обратно)649
Имеется в виду петербургский (петроградский) ресторан, открытый 25 августа 1885 г. (Набережная р. Мойки, 58) и называемый обычно по фамилии владельца – А.С. Контана. Он славился великолепной кухней и оркестром румынской музыки под управлением Ж. Гулеско.
(обратно)650
Имеется в виду состоявшийся 3 мая 1916 г. банкет в честь Р. Вивиани и А. Тома, данный им не только «французской колонией», как пишет Н.Н. Покровский, но и IV Государственной думой и Петроградской городской думой. На банкете, непосредственным устройством которого занимался председатель Думы М.В. Родзянко, присутствовали около 400 человек. Банкет имел частный характер, однако «был встречен общим сочувствием и превратился в политическое событие». На нем присутствовали представители всех думских фракций – от правых до левых, все министры, в т. ч. Б.А. Штюрмер, а также английский, французский, итальянский и японский послы. Тосты произнесли М.В. Родзянко, Ж.М. Палеолог и С.Д. Сазонов, с более пространными речами выступили Р. Вивиани и В.А. Маклаков (Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 509–513).
(обратно)651
По словам Р. Вивиани, сказанным Ж.М. Палеологу 22 апреля 1916 г., т. е. в день прибытия французов в Петроград, они приехали в Россию, чтобы, «во-первых, выяснить военные ресурсы России и постараться дать им большее развитие; во-вторых, настаивать на посылке 400 000 человек во Францию, партиями по 40 000 человек; в-третьих, повлиять на Сазонова в том смысле, чтобы русский Генеральный штаб больше шел бы навстречу Румынии; в-четвертых, постараться получить какие-либо обещания относительно Польши» (Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 503).
(обратно)652
Всероссийская сельскохозяйственная палата – созданная в 1913 г. центральная представительная организация аграриев, имевшая целью развитие сельскохозяйственного экспорта Российской империи.
(обратно)653
Подразумевается международная конференция, происходившая в Брюсселе, на которой 5 марта 1902 г. была заключена Конвенция о регулировании торговли сахаром. Для наблюдения за исполнением постановлений конвенции в Брюсселе учредили Постоянную международную комиссию из представителей участвовавших в конвенции держав. Россия присоединилась к Брюссельской сахарной конвенции в 1907 г.
(обратно)654
Имеется в виду В.А. Прилежаев.
(обратно)655
Имеются в виду полуофициальные переговоры, которые Н.Н. Покровский, будучи на Парижской экономической конференции, вел с министром финансов А. Рибо об условиях соглашения относительно кредитования России Францией и Великобританией. Эти переговоры подготовили почву для официальных переговоров А. Рибо на ту же тему с министром финансов П.Л. Барком (см.: Сидоров А.Л. Указ. соч. С. 343; Беляев С.Г. Указ. соч. С. 375–376).
(обратно)656
Н.Ю. Жуковская-Лисенко (Лисенкова), автор пьес «Душа поэта» (1902), «Полководец» (1906), «Война и человек» (1906), «Лавина» (1911), «Когда грянул гром» (1914) и др., была членом Московского союза драматических писателей и оперных композиторов, печаталась в «Новом времени» и «Театральной газете» (1917), журнале «Лукоморье».
(обратно)657
Имеется в виду химик К.И. Лисенко (Лисенков).
(обратно)658
Речь идет об Институте Корпуса горных инженеров.
(обратно)659
На заседании Совета министров 13 мая 1916 г. помощник управляющего его делами А.Н. Яхонтов записал: «Одобрено включение в число делегатов сенатора Поленова (доложит его императорскому величеству Наумов)» (Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. С. 336).
(обратно)660
Далее в тексте лакуна.
(обратно)661
Часть предложения (после слова «ценили») Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)662
Замена С.Д. Сазонова Б.В. Штюрмером, предрешенная Николаем II 3 июля 1916 г., состоялась без участия Александры Федоровны, поскольку тогда царь находился в Ставке верховного главнокомандующего, куда его жена приехала только 7 июля. Более того, Александра Федоровна и Г.Е. Распутин выступили против назначения Б.В. Штюрмера преемником С.Д. Сазонова. Узнав об этом назначении, старец буквально «рвал и метал», возмущаясь тем, как мог премьер согласиться на получение министерства, в котором «ничего не понимает» (Допрос И.Ф. Манасевича-Мануйлова. 10 апреля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 51, 53–54). «Какой же он хозяин в иностранных… Собака, все себе забрать хочет… – говорил Г.Е. Распутин И.Ф. Манасевичу после назначения Б.В. Штюрмера, подразумевая его усилия по привлечению Румынии на сторону Антанты. – Хвастат, что румынцы пошли благодаря ему… Они и без него бы пошли… А он, понимашь, этим папу за горло схватил и оборудовал все там у него так, что мама даже ничего не знала… Вишь, как зазнался – даже не пожелал посоветоваться с самой… Теперь все пойдет шиворот на выворот, и старикашке не удержаться» (Александро-Невская лавра накануне свержения самодержавия // Красный архив. 1936. Т. 77. С. 208). Г.Е. Распутин советовал Б.В. Штюрмеру не принимать нового поста, полагая, что «это будет его погибелью: немецкая фамилия, и все станут говорить, что это, – писала царица мужу, – дело моих рук» (Александра Федоровна – Николаю II. 11 ноября 1916 г. // Переписка Николая и Александры. С. 827). Александра Федоровна и Г.Е. Распутин были правы, поскольку назначение Б.В. Штюрмера министром иностранных дел общественное мнение действительно восприняло как дело рук императрицы и старца, хотя ничего подобного не было. См.: Куликов С.В. Камарилья и «министерская чехарда». С. 87.
(обратно)663
О деятельности Б.В. Штюрмера на посту министра иностранных дел см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 246–259.
(обратно)664
«Мы полностью потеряли доверие» (фр.).
(обратно)665
Это предложение, как и два предыдущих, Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)666
Слова «под влиянием личной антипатии императрицы к Сазонову, то с ее стороны это была» Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)667
Назначение М.Ф. Шиллинга сенатором произошло 29 июля 1916 г., назначение же Б.А. Татищева директором Канцелярии министра иностранных дел (одновременно – советником I Политического отдела МИД) – 15 августа (Куликов С.В. «Министерская чехарда» в России… С. 53–54).
(обратно)668
В.А. Арцимович был назначен сенатором 13 октября 1916 г., А.А. Половцов товарищем министра иностранных дел – 16 октября (Там же. С. 54).
(обратно)669
Это и два предыдущих предложения Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства не смогла доказать факты взяточничества Б.В. Штюрмера (см.: Романов А.Ф. Указ. соч. С. 28).
(обратно)670
Об обстоятельствах этой замены см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 277–291.
(обратно)671
«Протопопов, – вспоминал М.В. Родзянко, – в 3-й Думе занимал позицию чрезвычайно левого октябриста, близкого если не к кадетам, то, по крайней мере, к прогрессистам. Например, в рабочем вопросе он председательствовал в Торгово-промышленной комиссии. Когда проходил рабочий закон, он стоял на чрезвычайно левых нотах и всегда отстаивал интересы рабочего класса против промышленников, хотя сам промышленник. Затем, в 4-ю Думу он перешел с тем же настроением» (Допрос М.В. Родзянко // Падение царского режима. М.; Л., 1927. Т. 7. С. 139–140).
(обратно)672
Ср., что писал по этому вопросу человек, относившийся к бывшему руководителю МВД однозначно отрицательно: «Протопопов, человек европейски образованный, знавший великолепно языки, хороший пианист, ученик Массне» (Постановление следователя ЧСК Временного правительства Ф.П. Симсона. 1 ноября 1917 г. // Искендеров А.А. Закат Империи. М., 2001. С. 357).
(обратно)673
Николаевское кавалерийское училище – привилегированное среднее военное учебное заведение, основанное 9 мая 1823 г. в Петербурге. Расформировано в октябре 1917 г. Н.Н. Покровский упускает из виду, что А.Д. Протопопов учился в Николаевской академии Генерального штаба, хотя и не окончил ее, выйдя в отставку и занявшись предпринимательством.
(обратно)674
То есть симбирским губернским предводителем дворянства.
(обратно)675
Как депутат III Государственной думы (1907–1912) и один из лидеров левого крыла Фракции Союза 17 октября А.Д. Протопопов являлся членом, затем – председателем Комиссии по торговле и промышленности и членом и докладчиком комиссий: по государственной обороне, по запросам, по рабочему вопросу (по законопроекту о страховании рабочих) и по направлению законодательных предположений; он был также членом Вероисповедной комиссии. В качестве депутата IV Государственной думы (1912–1917) и, с конца 1913 г., члена Фракции земцев-октябристов А.Д. Протопопов занимал следующие посты: председатель Комиссии по торговле и промышленности, член и докладчик комиссий: по военным и морским делам, по рабочему вопросу и финансовой, член комиссий: по запросам и по направлению законодательных предположений. В обеих Думах А.Д. Протопопов получил известность как один из лучших думских ораторов. Весной 1914 г. его избрали младшим (вторым) товарищем председателя Думы подавляющим большинством голосов (203 против 11), причем он был избран «с приветствием и с левой стороны Государственной думы» (Допрос М.В. Родзянко. С. 140).
(обратно)676
Имеется в виду заграничная делегация законодательных учреждений России, которую А.Д. Протопопов возглавил по предложению М.В. Родзянко и по избранию IV Думы. В апреле – июне 1916 г. делегация посетила Норвегию, Швецию, Великобританию, Францию и Италию. О делегации см.: Алексеева И.В. Агония сердечного согласия. Царизм, буржуазия и их союзники по Антанте. 1914–1917. Л., 1990. С. 168–195. В ходе поездки А.Д. Протопопов «очаровал всех членов-дипломатов» и «общественных государственных деятелей заграницей» (Допрос М.В. Родзянко. С. 141).
(обратно)677
Возвращаясь в Россию, в июне 1916 г. в Стокгольме А.Д. Протопопов и его коллега по делегации, член Государственного совета по выборам граф Д.А. Олсуфьев, беседовали с сотрудником посольства Германии в Швеции Ф. Варбургом, который изложил германские условия мира. Встреча произошла по инициативе не А.Д. Протопопова, а Д.А. Олсуфьева, разделявшего в годы Первой мировой войны германофильские и пацифистские взгляды. По признанию графа, его «соблазняла мысль побеседовать с настоящим “живым немцем”, только что прибывшим из Германии, чтобы ознакомиться с их тогдашним настроением, но тут же вскоре к нашей “затее” присоединился А.Д. Протопопов». «Спустя несколько часов, – отмечал Д.А. Олсуфьев, – нам было сообщено, что в Стокгольме находится некий господин Варбург, банкир из Гамбурга, который часто ездит в Швецию, и что он с полной готовностью отозвался на мое желание» (Показания графа Д.А. Олсуфьева // ГАРФ. Ф. 1467 (Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства). Оп. 1. Д. 552. Л. 25). После возвращения в Петроград П.Н. Милюков сообщил думцам, что А.Д. Протопопов «держал себя умно и тактично» (Родзянко М.В. Крушение империи. С. 128). Неудивительно, что М.В. Родзянко считал, что А.Д. Протопопов «успешно справился со своей задачей» (Родзянко М.В. Государственная дума и Февральская 1917 г. революция // Архив русской революции. 1922. Т. 6. С. 50). Вплоть до назначения А.Д. Протопопова управляющим МВД думцы не считали стокгольмскую встречу чем-то одиозным. Когда он после возвращения в Петроград рассказал о встрече депутатам, то Дума «удовлетворилась» его объяснениями (Родзянко М.В. Крушение империи. С. 128). Только после назначения А.Д. Протопопова, когда он как министр оказался неприемлемым для оппозиции, стокгольмской встрече было придано значение события, компрометирующего А.Д. Протопопова. Понимая это, Николай II заявил английскому послу Д.У. Бьюкенену 30 декабря 1916 г.: «Господин Протопопов не симпатизирует Германии, и слухи относительно его стокгольмской беседы грубо преувеличены» (Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910–1918. М., 2006. С. 234). Следователь ЧСК Г.П. Гирчич, отнюдь не заинтересованный в обелении А.Д. Протопопова, тем не менее пришел к выводу, что «поведение А.Д. Протопопова в эпизоде с Варбургом и то обстоятельство, что он в особую заслугу свою, признанную за ним и при Дворе, ставил удачное отклонение якобы сделанных ему предложений о сепаратном мире с Германией, не дает никаких оснований считать этот эпизод компрометирующим А.Д. Протопопова в каком бы то ни было отношении» (Заключение Г.П. Гирчича. 2 октября 1917 г. // ГАРФ. Ф. 1467 (ЧСК Временного правительства). Оп. 1. Д. 552. Л. 114). Другой член ЧСК, А.Ф. Романов, также свидетельствовал, что «не дало никаких указаний на государственную измену и расследование о заграничной поездке Протопопова» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 27). О стокгольмской встрече см. также: Дякин В.С. Указ. соч. С. 280–282; Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 187–192; Алексеева И.В. Указ. соч. С. 195–202.
(обратно)678
По возвращении в Россию А.Д. Протопопов «был рекомендован [министром иностранных дел С.Д.] Сазоновым в Ставку для доклада своей поездки, а с Сазоновым он был в особенно хороших отношениях» (Допрос М.В. Родзянко. С. 142). Встреча А.Д. Протопопова с Николаем II произошла 19 июля 1916 г. в Могилеве, в Ставке верховного главнокомандующего. «Вчера, – писал Николай II Александре Федоровне днем позже, – я видел человека, который мне очень понравился – Протопопов, товарищ председателя Государственной думы. Он ездил за границу с другими членами Думы и рассказал мне много интересного» (Николай II – Александре Федоровне. 20 июля 1916 г. // Переписка Николая и Александры. С. 687).
(обратно)679
без предупреждения (фр.). Во время состоявшегося 10 сентября 1916 г. всеподданнейшего доклада Б.В. Штюрмера Николай II заявил: «Хвостов просил его уволить, так как я обещал, что он будет назначен временно министром внутренних дел. Я нашел ему заместителя – Протопопова». Премьер информировал о решении царя товарища главноуправляющего Собственной его величества канцелярией Н.А. Воеводского. Указы об увольнении А.А. Хвостова и назначении управляющим МВД А.Д. Протопопова Н.А. Воеводский представил Николаю II 15 сентября, а 16 царь их подписал (см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 279).
(обратно)680
В ходе всеподданнейшего доклада, состоявшегося 24 июня 1916 г. в Ставке, председатель Думы М.В. Родзянко рекомендовал императору назначить А.Д. Протопопова министром торговли и промышленности, и эту рекомендацию монарх записал в записную книжку (Родзянко М.В. Крушение империи. С. 130). Николай II сообщил Александре Федоровне вскоре после 19 июля 1916 г., т. е. после встречи с товарищем председателя Думы, что «думает назначить его [Протопопова] министром внутренних дел». «Тем более, что я, – подчеркивал император, – всегда мечтал о министре внутренних дел, который будет работать совместно с Думой» (Танеева (Вырубова) А.А. Страницы моей жизни // Верная Богу, царю и Отечеству. А.А. Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. СПб., 2005. С. 108). «Государь и императрица думали, – свидетельствовал П.Л. Барк, – что назначение популярного депутата на ответственный министерский пост, в особенности в виду того, что этот депутат был рекомендован председателем Государственной думы, произведет отличное впечатление как среди депутатов, так и в стране. Вместе с тем, государь рассчитывал, что с привлечением Протопопова в состав правительства установятся более близкие отношения между Думой и Советом министров» (Барк П.Л. Воспоминания // Возрождение. 1966. № 179. С. 102). Назначая А.Д. Протопопова, подчеркивала княгиня Л.Л. Васильчикова, «лично государь хотел оказать внимание Государственной думе и уж никак не подозревал, что это назначение будет [ее] членами встречено с недоумением, неодобрением и насмешкой» (Васильчикова Л.Л. Исчезнувшая Россия: Воспоминания. 1886–1919. СПб., 1995. С. 335). Позднее, когда министр внутренних дел подвергался жесточайшей критике со стороны нижней палаты, Николай II признавался Д.У. Бьюкенену 30 декабря 1916 г.: «Я выбрал господина Протопопова из рядов Думы, чтобы им угодить, – и вот мне награда!» (Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 234). То, что назначение товарища председателя Думы руководителем МВД не понизило, а повысило оппозиционность нижней палаты, вызывало у царя неподдельное удивление. Во время аудиенции, данной М.В. Родзянко 16 ноября 1916 г., когда он заговорил о необходимости увольнения А.Д. Протопопова, Николай II воскликнул: «Да вы же сами мне его рекомендовали» (Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917. Дневник и воспоминания. М., 2001. С. 161, 162). М.В. Родзянко воспроизвел диалог с Николаем II по поводу А.Д. Протопопова более подробно: «Потрудитесь его удалить». – «Вы сами его рекомендовали». – «Да, рекомендовал, что же делать, но не на то амплуа…». – «Однако, что же, он был товарищем председателя Думы, и Дума его, так сказать, фетишировала?» (Допрос М.В. Родзянко. С. 144). «Чего еще они от меня хотят? – вопрошал император по поводу нападок думцев на бывшего коллегу. – Я взял товарища председателя Государственной думы… Раз он был ими избран, значит, Дума ему доверяла и ценила его. Иностранная пресса в течение его поездки с Милюковым и другими думскими выдвигала его преимущественно. Союзники от него в восторге… Кого мне было еще искать? Они не знают сами, чего хотят!» (Карабчевский Н.П. Что глаза мои видели // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991. С. 154–155).
(обратно)681
А.Д. Протопопов находил нужным отменить все ограничения для евреев, касающиеся промышленности, торговли и места жительства. Согласно циркуляру управляющего МВД, изданному 18 ноября 1916 г. с полного согласия Николая II, евреи получили разрешение на жительство без регистрации в Москве и городах, не находящихся на театре военных действий. Кроме того, циркуляром предписывалось выдавать евреям промысловые и торговые свидетельства. Намекая на подготовку им, согласно царскому повелению, предоставления евреям равных прав, А.Д. Протопопов писал барону Э. Ротшильду (французскому) 19 января 1917 г.: «Я искренне полагаю, что когда установится спокойствие в Империи моего августейшего повелителя, я смогу следовать его приказам с тем, чтобы дать всем его верноподданным их долю счастья и возможности его получить» (А.Д. Протопопов – Э. Ротшильду. 19 января 1917 г // ГАРФ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 30. Л. 2–3. Оригинал – на фр. яз.). А.Д. Протопопов и управляющий Министерством юстиции Н.А. Добровольский «были склонны» ввести еврейское равноправие «в самом непродолжительном времени». Подготовленный ими проект соответствующего Указа планировалось объявить «на Пасху», т. е. 2 апреля 1917 г. Подробнее см.: Куликов С.В., Трибунский П.А. К истории еврейского вопроса накануне Февральской революции (документы из архива С.Г. Сватикова) // Политическая история России первой четверти XX в. СПб., 2006. С. 238–248.
(обратно)682
В действительности А.Д. Протопопов как руководитель МВД не отказался от осуществления тех положений программы Прогрессивного блока, сторонником которых являлся, будучи в оппозиции, делая исключение только для главного пункта этой программы – немедленного введения парламентаризма если не де-юре («ответственное министерство»), то де-факто («министерство доверия»). Поведение А.Д. Протопопова объяснялось тем, что в парламентаризме радикальные оппозиционеры типа А.И. Гучкова видели лишь этап на пути к низложению Николая II, а потому бывший политический друг лидера октябристов находил образование, причем именно во время войны, «министерства доверия» или «ответственного министерства» весьма опасным. Установление парламентаризма, по мнению А.Д. Протопопова, начав цепную реакцию, ведущую к дальнейшей внутренней дестабилизации, открыло бы двери революции. Подразумевая «министерство доверия» и «ответственное министерство», он говорил в конце декабря 1916 г. сотруднику «Нового времени» Я.Я. Наумову: «Это прямой путь к повторению того, что было во Франции в 1789 г. до proces de la reine (процесса королевы. – С.К.) включительно» (Последний министр старого правительства // Новое время. 1917. № 14731. 19 марта). А.Д. Протопопов, показывал его телохранитель, исходил из того, что «одним ответственным министерством страна не удовлетворится <…>, последуют и другие требования и таким образом учреждение ответственного министерства кончится революцией» (Протокол допроса Р.Ю. Пиранга // ГАРФ. Ф. 1467 (ЧСК Временного правительства). Оп. 1. Д. 39. Л. 21 об.).
(обратно)683
А.Д. Протопопов не терял надежды на соглашение с оппозицией и попросил М.В. Родзянко устроить ему совещание с членами Сеньорен-конвента IV Государственной думы. Совещание состоялось 19 октября 1916 г. на квартире председателя Думы. Его участниками стали также секретарь Думы И.И. Дмитрюков, кадеты П.Н. Милюков и А.И. Шингарев, прогрессист Б.А. Энгельгардт, октябристы граф Д.П. Капнист и В.И. Стемпковский, земец-октябрист Н.В. Савич, члены Фракции центра Н.Д. Крупенский и Д.Н. Сверчков и прогрессивные националисты Д.Н. Чихачев и В.В. Шульгин. А.Д. Протопопов заявил: «Я сам член Думы и привык работать с Думой. Я был и останусь другом Думы». Вместе с тем он отмежевался от тех оппозиционеров, которые участвовали в заговоре против Николая II. «Вы, – заявил он, – хотите потрясений, перемены режима – но этого вы не добьетесь, тогда как я понемногу, кое что могу сделать» (Совещание членов Прогрессивного блока с А.Д. Протопоповым, устроенное на квартире М.В. Родзянко. 19 октября 1916 г. // Блок А.А. Последние дни императорской власти. Пг., 1921. С. 144, 148, 154). Однако позиция А.Д. Протопопова не встретила понимания у участников совещания, которые информацию о нем использовали для дискредитации управляющего МВД. Н.Н. Покровский показывал: «Потом мы узнали о его [Протопопова] посещении Родзянко. Вы знаете, тогда ходила по рукам стенограмма, – хотя, мне кажется, невероятно, чтобы это была стенограмма, потому что она так коротка и изображает такой длинный разговор; по-видимому, это было сокращение. Это стало известно, и вот тогда у всех, кто смотрел на Протопопова иначе, мнение о нем очень повернулось» (Показания Н.Н. Покровского. С. 356). Сам М.В. Родзянко показывал, имея в виду А.Д. Протопопова: «Делал он попытки примирения с Думой у меня на квартире. Это тоже по рукам ходило – протокол, записанный Милюковым» (Допрос М.В. Родзянко. С. 144).
(обратно)684
Версия о сумасшествии А.Д. Протопопова как результате прогрессивного паралича возникла уже после его назначения управляющим МВД. Летом 1915 г. на вопрос министра торговли и промышленности князя В.Н. Шаховского фактическому премьеру А.В. Кривошеину, как он смотрит на А.Д. Протопопова, «Александр Васильевич, – вспоминал князь, – рассыпался в самых горячих похвалах, отметил его хорошее положение в Думе, в качестве товарища председателя Думы, познания в торгово-промышленных областях» (Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 79–80). Будущий главноуправляющий государственным здравоохранением лейб-хирург Г.Е. Рейн, общавшийся с А.Д. Протопоповым в июле 1916 г., вспоминал: «Своими оживленными и интересными рассказами о заграничном путешествии товарищ председателя Государственной думы произвел на меня самое выгодное впечатление. Признаков психической ненормальности в нем тогда не замечалось. Напротив, в его интересных повествованиях и манере говорить проявлялся чарующий талантливый человек» (Рейн Г.Е. Из пережитого. 1907–1918: В 2 т. Берлин, б.г. Т. 2. С. 86). Сам Н.Н. Покровский до и сразу после назначения А.Д. Протопопова относился к нему положительно. «Протопопов, – вспоминал Н.Н. Покровский, – появился в Совете министров с обычной своей живостью, любезностью, – если хотите, внешнею привлекательностью манер, и в первую минуту никакого дурного отношения к нему не было. Напротив, думали, что что-нибудь выйдет» (Показания Н.Н. Покровского. С. 355). Показательно, что до и в первые недели после назначения А.Д. Протопопова управляющего МВД оценивали положительно и другие министры, которые впоследствии стали оценивать его резко отрицательно. «С Протопоповым у меня такие отношения, – писал министр народного просвещения граф П.Н. Игнатьев своему товарищу В.Т. Шевякову 21 сентября 1916 г., – что, думается, никаких трений и недоразумений между нами быть не должно. Не знаю, справится ли он со своей тяжелой задачей, но это человек, с которым приятно иметь дело и обо всем можно договориться» (П.Н. Игнатьев – В.Т. Шевякову. 21 сентября 1916 г. // РГИА. Ф. 1129 (В.Т. Шевяков). Оп. 1. Д. 107. Л. 32–32 об.). «Протопопова, – сообщал министр земледелия граф А.А. Бобринский дочери 22 сентября, – я знаю хорошо и давно; вместе провели 5 лет в Третьей Государственной думе. Это очень ловкий, изворотливый и много-много про всех и про вся знающий человек» (А.А. Бобринский – Д.А. Шереметевой. 22 сентября 1916 г. // РГИА. Ф. 899 (графы Бобринские). Оп. 1. Д. 150. Л. 13). М.В. Родзянко даже после Февральской революции утверждал, имея в виду компетентность А.Д. Протопопова в области торговли и промышленности: «Это человек с большими знаниями, умный и чрезвычайно грамотный в этом деле. Сам промышленник, много изучал это дело, очень толковый» (Допрос М.В. Родзянко. С. 142). Будучи министром, А.Д. Протопопов, указывал его недоброжелатель из числа руководителей МИД и друг Н.Н. Покровского В.Б. Лопухин, «не проявлял признаков такого острого умопомешательства, что требовалась горячечная рубашка. Особенно резкой перемены в состоянии здоровья не последовало» (Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 284). Более того, по наблюдениям товарища обер-прокурора Синода князя Н.Д. Жевахова, А.Д. Протопопов «был человеком блестящих способностей и дарований и лучше всех прочих министров понимал содержание политического момента» (Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 178). В январе 1917 г. «своей твердостью, решимостью и религиозным настроением» А.Д. Протопопов произвел на хозяйку религиозно-политического салона графиню С.С. Игнатьеву «самое отрадное и утешительное» впечатление. Она, доносил Л.К. Куманин председателю Совета министров князю Н.Д. Голицыну, «искренно негодует всем вздорным слухам о его “расслабленности и болезни”». Графиня полагала, что А.Д. Протопопов «очень бодр, моложав и свеж на вид» (Донесения Л.К. Куманина из Министерского павильона Государственной думы, декабрь 1911 – февраль 1917 г. // Вопросы истории. 2000. № 4/5. С. 22). После Февральской революции ЧСК Временного правительства не нашла у А.Д. Протопопова признаков прогрессивного паралича. «Я знаю, что о Протопопове говорили, будто он страдает прогрессивным параличем, – писал член ЧСК сенатор С.В. Завадский. – Правда ли это, мне судить трудно. Однако, на мой взгляд, ни в речи, ни в поведении последнего царского министра внутренних дел не было видимых признаков этой страшной болезни» (Завадский С.В. На великом изломе: (Отчет гражданина о пережитом в 1916–1917 гг.). Под знаком Временного правительства // Архив русской революции. 1923. Т. 11. С. 65). Согласно решению ЧСК от 6 сентября 1917 г., А.Д. Протопопова подвергли медицинскому обследованию, которое выявило у него дегенеративную психику и душевное расстройство «в форме депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза», что стало «лишь повторным обострением давно существовавшего у Протопопова душевного недуга – циклотомии» (Лукоянов И.В. Наказанные без вины: Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства и ее подследственные // Власть, общество и реформы в России в XIX – начале XX в.: исследования, историография, источники. СПб., 2009. С. 235). Однако данный диагноз поставили по инициативе товарища председателя Комитета помощи политическим заключенным (Политического Красного Креста) М.А. Рысс, чтобы обеспечить освобождение А.Д. Протопопова из Петропавловской крепости и перевод его в лечебницу для нервнобольных, отличавшуюся более свободным режимом (Протопопов А.Д. Предсмертная записка. Август 1918 г. // Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 2. С. 168). Суд, состоявшийся 30 октября, постановил: А.Д. Протопопов был психически здоров и когда являлся министром, и на момент вынесения судебного вердикта (Лукоянов И.В. Указ. соч. С. 235). Общавшемуся с экс-министром в конце 1917 – начале 1918 г. П.Я. Рыссу, мужу М.А. Рысс, А.Д. Протопопов запомнился как «удивительный рассказчик» (Рысс П.Я. [Предисловие] // Протопопов А.Д. Указ. соч. С. 168).
(обратно)685
Это произошло 20 декабря 1916 г., поскольку А.А. Макаров отказался от прекращения дел генерала В.А. Сухомлинова и И.Ф. Манасевича-Мануйлова, которых Николай II считал невиновными. Впрочем, Н.А. Добровольский убедил императора не прекращать упомянутые дела. Подробнее см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 293, 302–303.
(обратно)686
«С 1900 г., – показывал Н.А. Добровольский ЧСК Временного правительства, – я был камергером, а с 1906 г. – егермейстером Высочайшего двора. В более близких отношениях к семье царской я стал за время служения в Гродненской губернии. При посещении Беловежья я находился безотлучно при них. Я был приглашаем также и на все охоты в самом интимном кругу. Каждый день мы охотились вместе, вместе завтракали, обедали и вечером присутствовали на осмотре выставки убитых за день зверей. За эти пребывания я особо близко познакомился с великим князем Михаилом Александровичем» (Объяснения бывшего управляющего Министерством юстиции Н.А. Добровольского, данные им Верховной следственной комиссии 12 апреля 1917 г. // Звегинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Неизвестная Фемида. Документы, события, люди. М., 2003. С. 210).
(обратно)687
Первый департамент Сената – подразделение Сената, которое существовало с 15 декабря 1763 г. по 22 ноября 1917 г., возглавлялось обер-прокурором и состояло из нескольких сенаторов, назначавшихся императором. Ведал надзором за местным управлением и являлся высшим органом административной юстиции. Занимался обнародованием законов, указов и повелений и доставлением их на места и наблюдением за точным исполнением этих актов.
(обратно)688
«Добровольский обвинялся во взяточничестве, – вспоминал член президиума ЧСК Временного правительства А.Ф. Романов, – но все первоначально выдвигавшиеся против него улики были на следствии решительным образом опровергнуты» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 9).
(обратно)689
Проект Положения о состоящем под председательством великого князя Михаила Александровича Георгиевском комитете Н.А. Добровольский провел в декабре 1915 г. через Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, где проект получил одобрение его председательницы Александры Федоровны (Объяснения бывшего управляющего Министерством юстиции Н.А. Добровольского. С. 212). Тогда же проект был прислан военному министру генералу А.А. Поливанову для представления его на высочайшее утверждение, которое последовало 17 января 1916 г. Согласно Положению, Георгиевский комитет имел целью попечение о лицах, награжденных орденом Св. Георгия, георгиевским оружием и георгиевскими медалями, а также о неимущих семьях этих лиц и изыскание средств для их призрения (см.: Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 – 15 марта 1916 г.) // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 137). Георгиевский комитет занимался также устройством санаториев и больниц для георгиевских кавалеров. При нем функционировали несколько комиссий, которые организовывали театральные спектакли и концерты в санаториях, занимались сбором стихов, рассказов и воспоминаний о войне, устраивали выставки и собирали материалы для создания Музея трофеев Великой войны. Н.А. Добровольский стал вице-председателем Георгиевского комитета и его фактическим руководителем.
(обратно)690
Н.П. Раев заменил А.Н. Волжина на посту обер-прокурора Синода 30 августа 1916 г. Святейший правительствующий Синод – высший коллегиальный государственный орган по делам Русской православной церкви. Учрежден вместо патриаршества 25 января 1721 г. Синод образовывали 4 – 10 представителей черного духовенства (архиереев и архимандритов), из которых часть присутствовала постоянно, а часть приглашалась поочередно. Белое духовенство было представлено императорским духовником и протопресвитером армии и флота. Связь между церковью и государством осуществлял назначавшийся императором обер-прокурор Синода – должность, учрежденная 11 мая 1722 г. и в течение XIX в. приобретшая министерский статус. Фактически обер-прокурор являлся министром по делам Русской православной церкви, поскольку с 29 марта 1835 г приглашался на заседания Комитета министров, а с 19 октября 1905 г. являлся членом Совета министров как объединенного правительства. Делопроизводство Синода обеспечивала его Канцелярия, оформлявшая синодальные решения в виде журналов заседаний и указов. В состав Синода входили также Канцелярия обер-прокурора, Учебный комитет, Училищный совет, Хозяйственное управление, Контроль, Страховой отдел Духовного ведомства (с 1910 г.) и Комитет по делам епархиальных свечных заводов (с 1911 г.). В связи с восстановлением патриаршества должность обер-прокурора упразднена 5 августа 1917 г., Синод – 20 января 1918 г.
(обратно)691
Н.П. Раев был первым за всю 200-летнюю историю Синода обер-прокурором, который непосредственно происходил из духовного сословия, а потому считался знатоком нужд православного духовенства.
(обратно)692
Согласно высочайшему повелению 3 декабря 1905 г., Н.П. Раев основал в Петербурге и возглавил в качестве директора Высшие женские историко-литературные и юридические курсы (Вольный женский университет Н.П. Раева) – частный женский вуз с историко-литературным и юридическим факультетами. На них дозволялось принимать девушек иудейского вероисповедания, и хотя еврейки, учившиеся в подобных учебных заведениях, не имели права жительства в столице, Н.П. Раев устроил для своих курсов исключение из этого правила. Обучение на курсах началось осенью 1906 г. В 1913 г. Н.П. Раев добился также от Министерства народного просвещения, чтобы выпускницы историко-литературного факультета допускались к экзаменам в испытательных комиссиях наравне с выпускниками университетов, что давало девушкам право на преподавание в старших классах женских гимназий. Курсы Н.П. Раева считались одним из лучших частных женских вузов в России, в том числе и потому, что ему удалось обеспечить для них выдающийся состав преподавателей, который, очевидно, отражал политические взгляды Раева – многие из преподавателей курсов были членами Конституционно-демократической партии. Во всяком случае, в 1911 г. состоявшийся тогда съезд Объединенного дворянства «уличил» его в принадлежности к кадетской партии (см.: Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 гг.: В 2 т. М., 2001. Т. 2, кн. 2. С. 251). О курсах Н.П. Раева см.: Лaппo-Данилевский К.Ю. О преподавании Вячеслава Иванова на Курсах Н.П. Раева // Русская литература. 2011. № 4. С. 66–79; Cohn R., Russel J. Высшие женские историко-литературные курсы Н.П. Раева. Б.м., 2013.
(обратно)693
Второй женой Н.П. Раева была С.Г. Бедюх, на которой он женился в 1908 г.
(обратно)694
Г.Е. Распутин впервые появился в Петербурге в 1904 г.
(обратно)695
Когда дворцовый комендант генерал В.Н. Воейков заговорил с Николаем II о скандальной репутации Г.Е. Распутина, монарх заявил: «Все то, что вы мне говорите, я слышу уже много лет. П.А. Столыпин производил по этому делу расследование, и ни один из распространяемых слухов подтверждения не получил» (Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995. С. 144). Сенатор С.П. Белецкий показывал, что установить несомненную принадлежность Г.Е. Распутина к секте хлыстов «на основании фактических и к тому же проверенных данных не удалось» (Показания С.П. Белецкого // Падение царского режима. М.; Л., 1925. Т. 4. С. 505). В 1912 г. тобольский епископ Алексий, изучив заведенное в 1907 г. Тобольской духовной консисторией дело о принадлежности Г.Е. Распутина к упомянутой секте, пришел к выводу, что оно заведено «без достаточных к тому оснований», и, со своей стороны, признал старца «православным христианином, человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим правды, могущим подавать при случае добрый совет тому, кто в нем нуждается». По инициативе Алексия в ноябре 1912 г. Тобольская консистория дело о хлыстовстве Г.Е. Распутина прекратила (Г.Е. Распутин глазами официальных властей // Русское прошлое. 1996. Кн. 6. С. 137, 138). Не считали старца хлыстом и независимые эксперты. В том же 1912 г. крупнейший специалист по сектантству В.Д. Бонч-Бруевич по просьбе Канцелярии обер-прокурора Синода путем личного общения с Г.Е. Распутиным исследовал его на предмет принадлежности к какой-либо секте. «У Бонч-Бруевича, – вспоминал генерал А.С. Лукомский, – сложилось убеждение, что Распутин ни к одной из сект не принадлежал; что он даже плохо разбирается в сектах, зная о них очень поверхностно» (Лукомский А.С. Очерки из моей жизни: Воспоминания. М., 2012. С. 292). Более того, по итогам своего исследования В.Д. Бонч-Бруевич опубликовал статью, в которой писал, что «Г.Е. Распутин-Новых является полностью и совершенно убежденным православным христианином, а не сектантом» (Ляндрес С.М., Смолин А.В. Комментарии к публикации «А.И. Гучков рассказывает…» // Вопросы истории. 1991. № 11. С. 195). Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, по свидетельству ее следователя В.М. Руднева, также пришла к отрицательному выводу по этому вопросу. Приглашенный ею профессор кафедры сектантства Московской духовной академии И.М. Громогласов ознакомился «со всем следственным материалом» относительно Г.Е. Распутина и «не нашел никаких указаний на принадлежность его к хлыстам». Изучив тексты, написанные старцем по религиозным вопросам, профессор «также не усмотрел никаких признаков хлыстовства» (Руднев В.М. Правда о царской семье и «темных силах» // Святой черт. Тайна Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы Следственной комиссии. М., 1990. С. 284). Другой член ЧСК, А.Ф. Романов, отмечал, что главный источник по хлыстовству Г.Е. Распутина – книга «Святой черт», написанная С.М. Труфановым, другом старца, ставшим в 1912 г. его смертельным врагом, – «была проверена Комиссией документально и оказалась наполненной вымыслом» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 20). Что касается И.А. Гофштеттера, то хлыстовство Г.Е. Распутина отрицал и он (см.: Показания А.Д. Протопопова // Падение царского режима. М.; Л., 1925. Т. 4. С. 9).
(обратно)696
Г.А. Распутин был представлен Николаю II и Александре Федоровне в ноябре 1905 г. великими княгинями Анастасией и Милицей Николаевнами, которые считали своего протеже святым.
(обратно)697
Большое количество посетителей Г.Е. Распутин стал принимать только после того, как 1 мая 1914 г. поселился в квартире № 20 во флигеле дома № 64 на Гороховой улице в Петербурге (Петрограде) (см.: Постановление следователя ЧСК Временного правительства Ф.П. Симсона. 1 ноября 1917 г. // Искендеров А.А. Указ. соч. С. 289). «Распутин из особых источников получал на свое содержание, кажется, двенадцать тысяч в год, – сообщал А.Ф. Романов. – Комиссией не установлено, чтобы он за свое содействие в делах брал деньги, но имелись указания, что окружавшие Распутина брали за его записочки. “Милай, дорогой, сделай ты этому человеку то-то”, писал Распутин министрам и другим влиятельным лицам, но к чести многих из них надо сказать, записки эти очень часто не имели никакого успеха» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 24).
(обратно)698
В действительности А.А. Хвостов принял не ялуторовского нотариуса Г.И. Патушинского, земляка старца, а жену нотариуса, Елену Патушинскую, которая, предъявив письмо Г.Е. Распутина, просила перевести ее мужа нотариусом в Москву. Назначение нотариусов по закону принадлежало старшим председателям судебных палат по представлениям председателей соответствующих окружных судов и не имело никакого отношения к министру юстиции. Между тем председатель Московского окружного суда Д.Д. Иванов, которого жена ялуторовского нотариуса посетила ранее, отказался представить его в столичные нотариусы, а старший председатель Московской судебной палаты сенатор С.А. Линк не захотел назначить ее мужа без такого представления. Это и привело к обращению просительницы к помощи старца, чью письменную просьбу А.А. Хвостов проигнорировал. Позднее, 10 ноября 1916 г., в приемный день, к министру юстиции явился сам старец, однако А.А. Хвостов не стал принимать его вне очереди, и Г.Е. Распутин, заявив, что «ждать ему некогда», ушел. Однако он вернулся к окончанию общего приема, причем А.А. Хвостов принял старца стоя, не подал ему руки и не предложил сесть. На просьбу Г.Е. Распутина А.А. Хвостов ответил, что «назначение нотариусов не касается министра», и прекратил разговор, хотя старец указал, будто «в жене нотариуса принимает живое участие императрица». Жена нотариуса добилась лишь того, что ее мужа старший председатель Одесской судебной палаты Е.Н. Хлодовский перевел нотариусом в Одессу (см.: Завадский С.В. На великом изломе. (Отчет гражданина о пережитом в 1916–1917 гг.) // Архив русской революции. 1923. Т. 8. С. 41, 42; Александра Федоровна – Николаю II. 10 ноября 1915 г. // Переписка Николая и Александры. С. 375). Впрочем, вскоре после перевода в Одессу Г.И. Патушинский застрелился (Постановление следователя ЧСК Временного правительства Ф.П. Симсона. 1 ноября 1917 г. // Искендеров А.А. Указ. соч. С. 289). Показательно, что действия А.А. Хвостова, Д.Д. Иванова и С.А. Линка не имели для них отрицательных последствий, а Е.Н. Хлодовский повышения не получил.
(обратно)699
Г.Е. Распутин пришел к А.Н. Наумову в Министерство земледелия 21 января 1916 г., заявив секретарю министра о своем желании, чтобы А.Н. Наумов принял его сегодня же, в пять вечера, однако министр отказал старцу и объяснил через секретаря, что Г.Е. Распутин может прийти к нему в приемный день, т. е. завтра. Секретарь сообщил А.Н. Наумову, что после такого ответа старец «обиделся». Тем не менее 22 января Г.Е. Распутин явился на общий прием, во время которого министр подошел к нему только после того, как обошел в приемном зале предыдущих просителей. «Я в упор на него посмотрел, – записал тогда А.Н. Наумов в дневнике. – Он опустил глаза. Я чувствовал, что его поборол… Чувство гадливости. Впечатление я произвел на всех сильное. Все восхваляли мое гражданское мужество – для меня это было отвратительно!» (Показания А.Н. Наумова. 8 апреля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1924. Т. 1. С. 407). Поведение А.Н. Наумова по отношению к Г.Е. Распутину также никак не отразилось на положении министра.
(обратно)700
«Много было разговоров и о митрополите Питириме, будто бы назначенном тем же Распутиным, – писала А.А. Вырубова. – Государь познакомился с ним в 1914 г. во время посещения Кавказа. Митрополит Питирим был тогда экзархом Грузии. Государь и Свита были очарованы им, и когда мы в декабре встретились с государем в Воронеже, я помню, как государь говорил, что предназначает его при первой перемене митрополитом Петроградским. Сейчас же после его назначения начали кричать о близости митрополита Питирима к Распутину, тогда как, по правде сказать, они были только официально знакомы» (Танеева (Вырубова) А.А. Указ. соч. С. 111). Экзархом Грузии Питирим стал по рекомендации кавказского наместника графа И.И. Воронцова-Дашкова (Письма И.И. Воронцова-Дашкова Николаю Романову (1905–1915 гг.) // Красный архив. 1928. Т. 26. С. 121, 123; Постановление следователя ЧСК Временного правительства Ф.П. Симсона. 1 ноября 1917 г. // Искендеров А.А. Указ. соч. С. 366). Как церковный деятель Питирим производил впечатление «очень умного человека, резко выделявшегося из общего уровня наших иерархов» (Крыжановский С.Е. Воспоминания: из бумаг последнего государственного секретаря Российской империи. СПб., 2009. С. 144).
(обратно)701
Г.Е. Распутин действительно являлся сторонником установления сухого закона и отмены винной монополии, что, однако, произошло помимо него.
(обратно)702
По-видимому, речь идет об обвинении Г.Е. Распутина в скандальном поведении в ресторане «Яр» 26 марта 1915 г., во время посещения им Москвы. В донесении начальника Московского охранного отделения полковника А.П. Мартынова от 1 апреля 1915 г. о посещении Распутиным «Яра» было сказано кратко, а потому в середине мая противник старца, товарищ министра внутренних дел генерал В.Ф. Джунковский, вызвал московского градоначальника генерала А.А. Адрианова и заслушал его личный доклад, посвященный поездке Г.Е. Распутина. По приказанию В.Ф. Джунковского 27 мая А.А. Адрианов послал товарищу министра более подробный, впрочем «без номера и без числа», рапорт пристава 2-го участка Сущевской части Москвы о происшествии в ресторане «Яр», однако не решился написать что-либо от себя (см.: Джунковский В.Ф. Воспоминания: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 553). Пассивность А.А. Адрианова объяснялась, очевидно, тем, что, как установил градоначальник, «никакой неблагопристойности» в ресторане «Яр» Г.Е. Распутин «не производил» (Показания С.П. Белецкого. С. 151). Тем не менее 31 мая В.Ф. Джунковский отправил А.П. Мартынову телеграмму: «Вашем докладе от 1 апреля нет подробностей пребывания у “Яра”. Донесите». А.П. Мартынов послал донесение 5 июня, причем в сопроводительном письме сообщил, что во время пребывания Г.Е. Распутина в «Яре» хозяин ресторана уверял его посетителей: человек, выдающий себя за старца, «не настоящий Распутин, а кто-то другой, кто нарочно себя им назвал» (Распутин в Москве в 1915 г. (Из дел московской «охранки») // Утро России. 1917. 9 марта. № 66). В конце июня 1915 г. Николай II и Александра Федоровна поручили флигель-адъютанту Н.П. Саблину расследовать дело о скандале в «Яре», однако сведений, порочащих Г.Е. Распутина, это расследование не дало (Допрос генерала В.Ф. Джунковского // Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 5. С. 105, 109).
(обратно)703
Подобные слухи исходили от воспитательницы великих княжон фрейлины С.И. Тютчевой. «Приехав как-то раз в Москву, – вспоминала А.А. Вырубова, – я была огорошена рассказами моих родственников, князей Голицыных, о царской семье, вроде того, что “Распутин бывает чуть ли не ежедневно во дворце, купает великих княжен и т. д.”, говоря, что слышали это от самой Тютчевой. Их величества сперва смеялись над этими баснями, но позже государю кто-то из министров сказал, что надо обратить внимание на слухи, идущие из Дворца». В результате С.И. Тютчева получила отставку, но зато в глазах московского общества «прослыла “жертвой Распутина”» (Танеева (Вырубова) А.А. Указ. соч. С. 79). Как установила ЧСК, по словам А.Ф. Романова, «все россказни о неприличном поведении Распутина в спальне великих княжен – сплошная ложь; он никогда там и не бывал» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 19).
(обратно)704
Когда слух об изнасиловании Г.Е. Распутиным няни царских детей дошел до Николая II, он немедленно приказал произвести дознание. «Выяснилось, что молодую женщину, – вспоминала великая княгиня Ольга Александровна, – действительно застали в постели – но с казаком из Императорского конвоя» (Воррес Й. Последняя великая княгиня // Ден Л. Подлинная царица. Воррес Й. Последняя великая княгиня. М., 1998. С. 295). Интимные отношения фрейлины А.А. Вырубовой с Г.Е. Распутиным общественному мнению представлялись абсолютно бесспорными. Однако произведенное в мае 1917 г. по инициативе ЧСК Временного правительства медицинское освидетельствование поклонницы старца установило «с полной несомненностью, что госпожа Вырубова девственница» (Руднев В.М. Указ. соч. С. 292). Согласно мнению Р. Пайпса, «любовные подвиги», приписываемые Г.Е. Распутину, «были более чем сомнительны». Известный хирург Р.Р. Вреден, осматривавший Г.Е. Распутина в 1914 г., «нашел детородные органы пациента в состоянии, которое наблюдается у весьма пожилых людей, что заставило врача усомниться в его способности вообще вести половую жизнь» (Пайпс Р. Русская революция: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 292). «“Я бесстрастен, – признавался сам Г.Е. Распутин. – Бог мне за подвиги дал такой дар. Мне прикоснуться к женщине, али к чурбану, все равно”. Старец, поэтому, был уверен, что “баба, прикоснувшись меня, освобождается от блудных страстей”» (Илиодор (Труфанов С.И.) Святой черт (Записки о Распутине). М., 1917. С. 37).
(обратно)705
Накануне Французской революции 1789 г. получили распространение слухи, способствовавшие дискредитации королевы Марии Антуанетты и, косвенно, монархии Бурбонов. Поводы для этих слухов дало «дело об ожерелье королевы» – закончившееся в 1785–1786 гг. скандальным уголовным процессом дело о мошенничестве с целью завладения ожерельем, якобы предназначавшимся для Марии Антуанетты.
(обратно)706
Это предложение Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)707
«Следственный материал приводит к несомненному заключению, – констатировал следователь ЧСК В.М. Руднев, – что источником влияния Распутина при Дворе была наличность высокого религиозного настроения их величеств, и вместе с тем их искреннего убеждения в святости Распутина, единственного действительного предстателя и молитвенника за государя, его семью и Россию перед Богом». Венценосцы относились к старцу «как к проповеднику Слова Божия, к прорицателю и искреннейшему печальнику за царскую семью» (Руднев В.М. Указ. соч. С. 285, 294). В 1908 г., когда камердинер императора Н.А. Радциг назвал Г.Е. Распутина «грязным мужиком», Николай II гневно вскрикнул: «Как вы можете так говорить о человеке, столь религиозном!» (Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 493). Фрейлине С.И. Тютчевой, выступившей против Г.Е. Распутина, царь заявил в 1910 г.: «Так и вы тоже не верите в святость Григория Ефимовича? А что вы скажете, если я вам скажу, что все эти тяжелые годы я прожил только благодаря его молитвам?» (Постановление следователя ЧСК Временного правительства Ф.П. Симсона. 1 ноября 1917 г. // Искендеров А.А. Указ. соч. С. 308). В общении с Г.Е. Распутиным император находил удовлетворение своих самых глубоких душевных запросов. Николай II так охарактеризовал дворцовому коменданту генералу В.А. Дедюлину отношения со старцем: «В минуты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать и после такой беседы мне всегда на душе делается и легко, и спокойно» (Родзянко М.В. Крушение империи. С. 26). Объясняя в сентябре 1915 г. флигель-адъютанту А.А. Дрентельну причину привязанности к Г.Е. Распутину, царь говорил: «Итак, слушайте: когда у меня бывают заботы, сомнения, неприятности, мне достаточно поговорить в течение пяти минут с Григорием, чтобы почувствовать себя тотчас же уверенным и успокоенным. Он всегда умеет сказать мне то, что мне необходимо услышать. И впечатление от его добрых слов остается во мне в течение нескольких недель» (Палеолог Ж.М. Указ. соч. С. 377). Судя по дневниковым записям Николая II, он отнюдь не лукавил. Так, 5 сентября 1914 г. монарх записал: «Вечером имели утешение побеседовать с Григорием с 9.45 до 11.30». «Находился в бешеном настроении на немцев и турок из-за подлого их поведения вчера на Черном море! – записал император 17 октября 1914 г. – Только вечером под влиянием успокаивающей беседы Григория душа пришла в равновесие!» В записи за 4 ноября 1914 г. читаем: «Вечером имели утешение беседы Григория перед его отъездом на родину» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 57, 66, 70). Следовательно, в Г.Е. Распутине Николай II видел не только целителя наследника-цесаревича Алексея Николаевича (болевшего гемофилией), но и прежде всего собственного целителя, духовного наставника, который один способен даровать императору душевное равновесие. «Отец, – отмечала дочь Г.Е. Распутина, – был для Николая лекарем, а не советчиком» (Распутина М.Г. Распутин. Почему? Воспоминания дочери. М., 2000. С. 234). Получая от Г.Е. Распутина именно то, что хотел получить, монарх видел в этом доказательство неправоты тех, кто выступал с обвинениями старца в греховности. Николай II и Александра Федоровна полагали, что старец «“страдает за правду”, как страдали святые, и что только зависть и злоба толкали людей на лжесвидетельство против него» (Вырубова А.А. Неопубликованные воспоминания // Николай II: Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 215).
(обратно)708
Этот абзац Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)709
Имеется в виду речь П.Н. Милюкова, с которой он выступил 1 ноября 1916 г. при открытии пятой сессии IV Государственной думы. Текст речи см.: Ораторы России в Государственной думе (1906–1917 гг.): В 2 т. СПб., 2004. Т. 2. С. 245–255. Член ЧСК А.Ф. Романов писал: «Все факты, указанные в этой речи, были проверены Комиссией следственным путем, не нашли себе никакого подтверждения и оказались основанными лишь на слухах, неизвестно от кого исходивших, что должен был признать на допросе и сам Милюков» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 26). О реакции на речь П.Н. Милюкова Николая II, Александры Федоровны и Б.В. Штюрмера см.: Куликов С.В. Высшая царская бюрократия и Императорский двор накануне падения монархии // Из глубины времен. СПб., 1999. Вып. 11. С. 82–85.
(обратно)710
На заседании правительства 3 ноября 1916 г. председательствующий в Совете министров А.Ф. Трепов довел до сведения коллег о сделанном ему председателем Совета министров Б.В. Штюрмером заявлении, что депутатом Думы П.Н. Милюковым на заседании ее Общего собрания 1 ноября была произнесена речь, признаваемая Б.В. Штюрмером «глубоко для него оскорбительной и заключающей в себе признаки клеветы, т. е. деяния, караемого уголовным законом». Рассмотрев обвинения, содержавшиеся в речи лидера кадетов, министры пришли к заключению: «Такого рода обвинения составляют все признаки клеветы. Если, однако, правительство при рассмотрении случаев оскорбления должностных лиц административного управления высказывалось иногда за оставление такого рода дел без движения, дабы не обострять отношений правительства к законодательным учреждениям, то, само собой разумеется, что в данном случае эти соображения не могут иметь решающего значения, и клеветнические заявления члена Государственной думы Милюкова, направленные против главы правительства, не могут, конечно, оставаться не опровергнутыми». В соответствии с подобными соображениями Совет министров нашел «вполне справедливым» дать дальнейшее движение заявлению Б.В. Штюрмера и привлечь члена Государственной думы П.Н. Милюкова по обвинению его в клевете, т. е. деянии, предусмотренном ст. 1535 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1885 г.), предоставив министру юстиции А.А. Макарову дело о возбуждении уголовного преследования против П.Н. Милюкова направить в I департамент Государственного совета, в порядке ст. 87 и 88 Учреждения Государственного совета. Николай II утвердил это постановление правительства 9 ноября (см.: Особый журнал Совета министров 3 ноября 1916 г. «О возбуждении уголовного преследования за клевету против члена Государственной думы Милюкова» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1916 год. М., 2008. С. 544–545).
(обратно)711
Совещания министров у Б.В. Штюрмера происходили как до, так и после речи П.Н. Милюкова, между тем как из воспоминаний Н.Н. Покровского создается впечатление, что все эти совещания имели место после речи. Первое и второе совещания состоялись 29 и 30 октября (Показания графа П.Н. Игнатьева. 21 июня 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 6. С. 23), поскольку от одного из лидеров Прогрессивного блока П.Н. Крупенского Б.В. Штюрмер получил проект его декларации, которая была намечена к оглашению 1 ноября и содержала прямое обвинение кабинета Б.В. Штюрмера в «измене». Считая, что употребление слова «измена» сделает невозможными дальнейшие отношения правительства и Думы, на совещании 29 октября министры решили просить М.В. Родзянко и лидеров оппозиции убрать это слово, так как иначе пришлось бы распустить нижнюю палату.
(обратно)712
Давая показания ЧСК, Н.Н. Покровский характеризовал позицию А.Д. Протопопова не столь однозначно: «Я не могу сказать, что он имел в виду, – перерыв или роспуск, но, во всяком случае, он имел в виду уход Думы в данную минуту, тогда как даже Штюрмер был против этого, против роспуска или перерыва» (Показания Н.Н. Покровского. С. 356). В действительности А.Д. Протопопов являлся противником роспуска нижней палаты или перерыва ее занятий и после речи П.Н. Милюкова через Александру Федоровну советовал Николаю II, находившемуся в Ставке, «для умиротворения Думы» объявить о болезни Б.В. Штюрмера и дать ему трехнедельный отпуск (Александра Федоровна – Николаю II. 7 ноября 1916 г. // Переписка Николая и Александры. С. 818).
(обратно)713
Речь идет о неофициальном заседании Совета министров 29 октября 1916 г.
(обратно)714
Лесной (Лесная) – северная окраина Петербурга (Петрограда), где находится Петербургский (Петроградский) политехнический институт, профессором которого являлся А.С. Постников.
(обратно)715
П.Н. Игнатьеву правительство поручило встретиться с М.В. Родзянко, беседуя с которым 30 октября министр народного просвещения просил во избежание роспуска нижней палаты устранить слово «измена» из проекта декларации Прогрессивного блока. Однако М.В. Родзянко П.Н. Игнатьеву «ничего определенного» обещать «не мог» (Родзянко М.В. Крушение империи. С. 145). Тем не менее в окончательном варианте декларации, зачитанном председателем Бюро Прогрессивного блока октябристом С.И. Шидловским 1 ноября 1916 г., слово «измена» было опущено, хотя косвенное обвинение власти в «измене» думцы сохранили. Текст декларации см.: Ораторы России в Государственной думе. Т. 2. С. 352–355.
(обратно)716
На состоявшемся вечером 1 ноября 1916 г. заседании правительства Б.В. Штюрмер заявил себя противником роспуска Думы, поскольку он, заявил премьер, «стесняется» (!) поднимать вопрос о роспуске, не желая давать повода «к упреку за то, что возбуждает этот вопрос из личных чувств». Б.В. Штюрмер полагал необходимым «сделать попытку склонить Думу к более спокойному настроению и уверить ее, что правительство искренно желает работать совместно с нею». По предложению П.Н. Игнатьева, поддержанному А.Ф. Треповым, выступить от имени правительства в нижней палате было поручено военному и морскому министрам генералу Д.С. Шуваеву и адмиралу И.К. Григоровичу, т. е. министрам, с которыми Дума «еще готова иметь дело». Во всеподданнейшем докладе от 3 ноября Б.В. Штюрмер уверял Николая II, что роспуска нижней палаты возможно избежать. «Быть может, – писал премьер, подразумевая выступления военного и морского министров, – струя благоразумия возобладает в настроении Таврического дворца, и обращение правительства сплотит то меньшинство членов Государственной думы, которое стремится предотвратить необходимость в роспуске». Надежды Б.В. Штюрмера на И.К. Григоровича и Д.С. Шуваева оказались напрасными, поскольку, выступая в нижней палате 4 ноября, они не сообщили, что делают это по поручению правительства и прежде всего премьера. Более того, генерал, покидая думскую кафедру, пожал руку подошедшему к нему П.Н. Милюкову. Выступления И.К. Григоровича и Д.С. Шуваева думцы расценили не как примирительный жест со стороны Б.В. Штюрмера, а как дистанцирование от него ориентирующихся на оппозицию министров (Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 287–289). Тексты речей Д.С. Шуваева и И.К. Григоровича см.: Государственная дума. 1906–1917. Стенографич. отчеты. Т. 4. С. 77–78.
(обратно)717
Обер-камергер – первый чин Двора, находившийся по общегражданской Табели о рангах во 2-м классе. В отличие от некоторых других первых чинов Двора (обер-гофмейстер, обер-егермейстер), чин обер-камергера всегда имел лишь один сановник, носивший на парадном мундире, в качестве исключительного знака отличия, ключ, усыпанный бриллиантами.
(обратно)718
Николай II записал в дневнике 9 ноября 1916 г.: «Днем погулял полчаса в саду и затем принял Штюрмера. После чая – Трепова. Первый уходит, второй назначается на его место» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 263). Назначить своим преемником А.Ф. Трепова царю посоветовал Б.В. Штюрмер. Указы об увольнении Б.В. Штюрмера с постов председателя Совета министров и министра иностранных дел, с возведением его в обер-камергеры и с оставлением членом Государственного совета, и назначении премьером А.Ф. Трепова, с оставлением его министром путей сообщения, Николай II подписал 10 ноября.
(обратно)719
Это предложение Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)720
«В октябре и ноябре, – вспоминал П.Н. Игнатьев, – я не принимал участия и торопился закончить свои дела в полном убеждении, что дальше работать не буду. В это время произошла перемена Штюрмера на Трепова. Тогда у меня воскресла надежда; я к Трепову. Он меня просил не настаивать об уходе и говорил, что есть надежда, что уйдет Протопопов. Наши требования были очень скромные: не ответственное министерство, а чтобы Трепов выхлопотал право представить свой список и чтобы этот список был утвержден. Трепов сказал, что это его желание» (Показания графа П.Н. Игнатьева. С. 23). Исполнение Николаем II желания А.Ф. Трепова и П.Н. Игнатьева означало фактическое введение ответственного министерства, поскольку, по мысли министров, оно должно было опираться на Думу, т. е. зависеть от нее.
(обратно)721
А.Ф. Трепов выступил в Думе и Государственном совете 19 ноября 1916 г. с правительственной декларацией, благожелательной по отношению к Прогрессивному блоку. Текст декларации см.: Ораторы России в Государственной думе. Т. 2. С. 311–318.
(обратно)722
Имеется в виду состоявшееся 22 апреля 1914 г., вскоре после его вторичного назначения председателем Совета министров, выступление с правительственной декларацией И.Л. Горемыкина, когда он четыре раза поднимался на думскую кафедру и четыре раза сходил с нее из-за обструкции, устроенной социал-демократами. Масштабы обструкции были таковы, что впервые в истории дореволюционных Дум удалению на 15 заседаний подвергся 21 депутат (см.: Куликов С.В. Николай II и парламентаризм (1906–1917) // Таврические чтения – 2008. Актуальные проблемы истории парламентаризма в России. СПб., 2009. С. 58).
(обратно)723
Тексты речей В.М. Пуришкевича и графа В.А. Бобринского, произнесенных 19 ноября 1916 г., см.: Государственная дума. 1906–1917: Стенографич. отчеты. Т. 4. С. 89–97; 97 – 100. Анализ речи В.М. Пуришкевича и реакции на нее со стороны лидеров основных политических течений см.: Иванов А.А. Владимир Пуришкевич: опыт биографии правого политика (1870–1920). М.; СПб., 2011. С. 242–253.
(обратно)724
Министерский павильон – открывшийся 25 декабря 1909 г. особый павильон, соединенный с юго-восточным фасадом Таврического дворца, где заседала дореволюционная Государственная дума, остекленной галереей. Павильон предназначался для времяпрепровождения министров и других представителей правительства, приезжавших в Думу.
(обратно)725
Датировка встречи с Игнатьевым, даваемая Покровским, противоречит записи Николая II от 19 ноября: «В 6 ч. принял гр. Игнатьева» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 265). Если доверять дневнику, то встреча Н.Н. Покровского и П.Н. Игнатьева произошла не ранее 20 ноября, когда, судя по всему, граф вернулся из Ставки. Во время аудиенции 19 ноября министр народного просвещения пытался убедить Николая II немедленно уволить А.Д. Протопопова или его, П.Н. Игнатьева, но царь в ответ на это сказал: «Для родины оставайтесь на вашем месте» (Показания графа П.Н. Игнатьева. С. 23).
(обратно)726
Это и предыдущее предложение Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки. Далее в рукописи следует предложение, которым он, по-видимому, намеревался заменить этот пассаж: «Но я оценивал шансы его успеха не более как в пять процентов».
(обратно)727
О совещании министров, состоявшемся 19 ноября 1916 г. в Министерском павильоне Таврического дворца, см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 297.
(обратно)728
Во время неофициального заседания кабинета, собранного на квартире А.Ф. Трепова 20 ноября 1916 г., министр юстиции А.А. Макаров, исходя из настроений Думы, сделал вывод, что «нужна уступка» – отставка А.Д. Протопопова. К А.А. Макарову присоединились остальные министры, находя «полезной» эту «жертву собою». А.Ф. Трепов заявил, что только сам управляющий МВД может «уговорить царя», и А.Д. Протопопов согласился отправиться в Могилев (Показания А.Д. Протопопова. С. 17). По воспоминаниям министра торговли и промышленности князя В.Н. Шаховского, противоречащего в данном случае Н.Н. Покровскому, именно 20 ноября государственный контролер «чрезвычайно прямо и убедительно изложил, что ему очень тяжело высказать свою мысль, но он считает это своим долгом, и поэтому решается». Далее Н.Н. Покровский сказал, что «не видит другого исхода, кроме отставки Протопопова. Рекомендует ему сейчас же сесть в поезд, ехать в Ставку и там просить и умолять государя уволить его. Такой поступок докажет, насколько Протопопов имеет гражданское мужество и жертвует собой для общего блага». Характеризуя выступление Н.Н. Покровского, В.Н. Шаховской отмечал: «Сказано было сильно и убедительно. Это единственный раз, когда я видел от Покровского такое прямое и твердое выступление». Вообще же «обычно он высказывался гораздо мягче и закругленными фразами» (Шаховской В.Н. Указ. соч. С. 193).
(обратно)729
В рукописи текст от слов «а в этот вечер» не только подчеркнут, но и взят в скобки. Н.Н. Покровский воспроизводит слухи, не соответствующие реальности. Управляющему МВД не было смысла до поездки в Ставку наведываться в Царское Село, поскольку Александра Федоровна там отсутствовала, будучи вместе с Николаем II в той же Ставке, откуда они приехали в Царское 25 ноября (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 266).
(обратно)730
Перед отъездом в Ставку А.Д. Протопопов послал Николаю II письмо, в котором сообщал, что направленная против него интрига возникла «в виду проявления им стойкости в отстаивании прерогатив трона». Управляющий МВД отмечал, что, «будучи предан не за страх, а за совесть интересам его величества, подчинится всякому приказанию государя». В то же время А.Д. Протопопов заключал, что «политика уступок Государственной думе и общественности», проводимая А.Ф. Треповым, «не приведет к умиротворению, а наоборот, послужит основанием к настойчивым домогательствам к изменению порядка государственного управления, что может вызвать большие потрясения в стране» (Показания С.П. Белецкого. С. 531). «От 5¼ до 6 ч. принял Протопопова, – записал Николай II 22 ноября 1916 г. – Обедал и провел вечер в поезде; там же принял Протопопова вторично» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 266). Во время всеподданнейшего доклада управляющий МВД рассказал императору про заседание Думы 19 ноября и заседание кабинета 20 ноября. «Считая, что остаться мне, при таких обстоятельствах, нельзя, – вспоминал А.Д. Протопопов, – я просил меня отпустить». Однако Николай II ответил отказом, заметив, что «уступки Думе в это время вряд ли своевременны» и что «надо предвидеть необходимость реформ к концу войны» (Показания А.Д. Протопопова. С. 17). Для успокоения нижней палаты А.Д. Протопопов предложил уволить его в отпуск «по болезни», а временно управляющим МВД сделать товарища министра внутренних дел князя В.М. Волконского, с чем император согласился. Из-за отказа В.М. Волконского временно управляющим МВД стал другой товарищ министра внутренних дел – С.А. Куколь-Яснопольский.
(обратно)731
При вступлении А.Ф. Трепова в должность председателя Совета министров Н.А. Добровольский в правительство не входил, поскольку его назначение управляющим Министерством юстиции вместо А.А. Макарова произошло 20 декабря 1916 г. А.Ф. Трепов выступал перед Николаем II не за увольнение Н.А. Добровольского, а против его назначения министром.
(обратно)732
А.Ф. Трепов считал Н.А. Добровольского за «личного врага», хотя ранее они были «друзьями» (Клячко (Львов) Л.М. Повести прошлого. М.; Л., 1929. С. 69). Действительно, именно благодаря А.Ф. Трепову Н.А. Добровольский в 1906 г. получил придворный чин егермейстера, причем, ходатайствуя об этом перед управляющим Кабинетом его величества Министерства Императорского двора князем Н.Д. Оболенским, А.Ф. Трепов писал князю, что Н.А. Добровольский – «очень милый и порядочный человек» (А.Ф. Трепов – Н.Д. Оболенскому. Не позднее 6 декабря 1906 г. // РГИА. Ф. 472. Оп. 45. 1906. Д. 10 г. Л. 109–110.). См. также: Куликов С.В. Высшая царская бюрократия и Императорский двор накануне падения монархии. С. 28). Ссора А.Ф. Трепова и Н.А. Добровольского произошла после того, как Первый департамент Сената (Н.А. Добровольский являлся его обер-прокурором) принял по Атбасарскому делу решение, не удовлетворившее А.Ф. Трепова, который причиной своей неудачи счел получение Н.А. Добровольским взятки. Именно на это решение А.Ф. Трепов указывал Николаю II как на доказательство взяточничества Н.А. Добровольского, отговаривая царя от замены им А.А. Макарова. В начале декабря 1916 г. по поручению Николая II, уехавшего в Ставку, Александра Федоровна через А.А. Вырубову попросила сенатора С.П. Белецкого проверить, насколько основательны выдвигавшиеся А.Ф. Треповым обвинения. С.П. Белецкий выяснил, что относительно Атбасарского дела по распоряжению министра юстиции И.Г. Щегловитова было произведено негласное расследование, не давшее «существенных результатов» к обвинению Н.А. Добровольского «в служебной недоброкачественности» (Показания С.П. Белецкого. С. 524–525). С.П. Белецкий обращался за справкой к журналисту Л.М. Клячко. Последний сообщил, что А.Ф. Трепову «едва ли удобно с этической точки зрения говорить об Атбасарском деле, ибо он, Трепов, и его брат Владимир состоят акционерами Атбасарского общества, против интересов которого выступал в своем заключении обер-прокурор Сената Добровольский» (Клячко (Львов) Л.М. Указ. соч. С. 70). О результатах своего расследования С.П. Белецкий телефонировал в Царское Село А.А. Вырубовой, та информировала о них императрицу, а она – императора, что не способствовало упрочению доверия Николая II к А.Ф. Трепову. См. также: Куликов С.В. Камарилья и «министерская чехарда». С. 92–93.
(обратно)733
К середине декабря 1916 г. Николай II разочаровался в премьере, о котором писал Александре Федоровне 14 декабря: «Противно иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь» (Николай II – Александре Федоровне. 14 декабря 1916 г. // Переписка Николая и Александры. С. 858).
(обратно)734
Это вытекало из ст. 16 Учреждения Совета министров, которая постановляла: «Дела, относящиеся до Ведомства Императорского двора и уделов, государственной обороны и внешней политики, вносятся в Совет министров, когда последует на то высочайшее повеление, или когда начальники подлежащих ведомств признают сие необходимым, или же когда упомянутые дела касаются других ведомств» (Учреждение Совета министров // Государственный строй Российской империи накануне крушения. Сб. законодательных актов. М., 1995. С. 148).
(обратно)735
Н.Н. Покровский представлялся Николаю II не на следующий день после своего назначения, а через день, что видно из дневниковой записи царя за 2 декабря 1916 г.: «В 4 ч. принял Покровского, назначенного министром иностранных дел» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 268).
(обратно)736
Представление Н.Н. Покровского Марии Федоровне после назначения его государственным контролером произошло 9 февраля 1916 г., когда она записала, что приняла «государственного контролера Покровского», который «весьма мил» (Мария Федоровна. Дневники (1914–1920, 1923 гг.). М., 2005. С. 104).
(обратно)737
не расслабляться (фр.).
(обратно)738
С.Г. Феодосьев был назначен государственным контролером 30 ноября 1916 г.
(обратно)739
нарушитель (традиций) (фр.).
(обратно)740
Назначение А.А. Нератова членом Государственного совета состоялось 26 декабря 1916 г., причем к присутствию в нем он не определялся.
(обратно)741
Формально решение об увольнении А.А. Половцова с поста товарища министра иностранных дел, с оставлением его состоящим в ведомстве МИД, и назначении на этот пост барона Б.Э. Нольде было принято на заседании Временного правительства 8 апреля 1917 г. См.: Журнал заседания Временного правительства № 48. 8 апреля 1917 г. // Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. Март – апрель 1917 г. М., 2001. С. 260. Однако опубликованный указ о замещении А.А. Половцова Б.Э. Нольде датируется 14 марта того же года (см.: Куликов С.В. Временное правительство: кадровые перестановки (март – октябрь 1917) // Из глубины времен. 1996. Вып. 7. С. 34).
(обратно)742
Улучшение личного состава центральных учреждений МИД посредством их реформирования являлось одним из главных пунктов программы А.П. Извольского как министра иностранных дел. Уже в 1906 г., через несколько месяцев после получения им этого поста, в МИД была образована Комиссия по подготовке проекта реорганизации министерства. Комиссия закончила работу в начале 1910 г., после чего подготовленный ею законопроект о преобразовании штатов МИД обсуждался Советом министров, который в марте 1910 г. внес его в III Государственную думу. Однако только в 1914 г. данный законопроект был одобрен уже IV Думой и 14 июля того же года утвержден Николаем II. Подробнее о реформе центрального аппарата МИД см.: Bolsover G.H. Isvolsky and Reform of the Russian Ministry of Foreign Affairs // The Slavonic and East European Review. 1985. Vol. 63. № 1. P. 22–40; Очерки истории Министерства иностранных дел России: В 3 т. М., 2002. Т. 1. С. 537–547.
(обратно)743
Канцелярия МИД до 24 июня 1914 г. существовала как самостоятельное структурное подразделение, ведавшее текущими делами министерства и политической перепиской главы ведомства, а затем была переименована в Канцелярию министра иностранных дел. Ее начальник одновременно возглавлял и тогда же образованный Первый политический отдел МИД, который специализировался на руководстве сношениями России со странами Западной и Центральной Европы, Америки и Африки (кроме Абиссинии и Египта). Упразднены 28 октября 1917 г.
(обратно)744
Второй политический (Ближневосточный) отдел МИД, руководивший сношениями России со странами Балканского полуострова и Ближнего Востока, был образован 24 июня 1914 г. на основе прежних подразделений, занимавшихся этим. Отдел курировался товарищем министра иностранных дел и непосредственно возглавлялся советником. Ликвидирован 28 октября 1917 г.
(обратно)745
Третий политический (Среднеазиатский) отдел МИД был образован 24 июня 1914 г. на основе упраздненного Первого (Азиатского) департамента. В его компетенцию входило руководство сношениями России с Персией, государствами Центральной и Южной Азии, а также с Индией и Цейлоном. Отдел возглавлял советник, под общим наблюдением товарища министра иностранных дел. Ликвидирован 28 октября 1917 г.
(обратно)746
Четвертый политический (Дальневосточный) отдел МИД был учрежден 24 июня 1914 г. на основе Первого (Азиатского) департамента для руководства сношениями России со странами Дальнего Востока (Китай, Монголия, Япония) и Юго-Восточной Азии (Сиам), а также с Австралией и Океанией. Во главе отдела находился советник, непосредственно подчинявшийся одному из товарищей министра иностранных дел. Упразднен 28 октября 1917 г.
(обратно)747
Первый департамент – подразделение МИД, образованное 24 июня 1914 г. на основе прежних мидовских структур и ведавшее вопросами внутриведомственной кадровой политики и решением финансовых и хозяйственных дел. Возглавлялся директором, зависевшим только от министра иностранных дел. При департаменте состоял Хозяйственный комитет под председательством директора для наблюдения за хозяйственной частью, смотритель зданий, архитектор, врач и фельдшер, а также Временное присутствие, составлявшееся для производства торгов. Переименован 14 марта 1917 г. в Департамент общих дел. Ликвидирован 28 октября 1917 г.
(обратно)748
В.Я. Фан-дер-Флит был назначен сенатором 19 января 1917 г., а В.Б. Лопухин его преемником – 6 февраля того же года (см.: Куликов С.В. «Министерская чехарда» в России… С. 56, 57).
(обратно)749
Второй департамент – подразделение МИД, созданное 15 декабря 1897 г. на основе упраздненного Департамента внутренних сношений для ведения дипломатической переписки. В его компетенцию входили дела, касавшиеся консульской службы, и решение юридических вопросов, особенно международного права. При преобразовании центральных учреждений МИД 24 июня 1914 г. от Второго департамента отошли в ведение Первого, Третьего и Четвертого политических отделов все вопросы, относившиеся к Средней Азии, Ближнему и Дальнему Востоку. При департаменте состояла Библиотека МИД. Возглавлялся директором, подчинявшимся напрямую министру иностранных дел. Упразднен 14 марта 1917 г.
(обратно)750
Пост товарища министра иностранных дел Б.Э. Нольде занимал с 14 марта по 20 мая 1917 г. (см.: Куликов С.В. Временное правительство: кадровые перестановки… С. 34, 37).
(обратно)751
Отдел печати – подразделение МИД, учрежденное 24 июня 1914 г. на основе уже существовавшего Отдела печати, ставшего в 1908 г. наследником Второй (газетной) экспедиции Канцелярии МИД. Возглавлялся управляющим Отделом. Имел целью расширение контактов МИД с представителями прессы и общественности и усовершенствование наблюдения за печатью, подготовку обзоров прессы для осведомления руководства и нижестоящих инстанций Дипломатического ведомства. Отдел занимался изданием журнала «Известия Министерства иностранных дел», выходившего в 1912–1917 гг. под редакцией барона Б.Э. Нольде. С началом Первой мировой войны пропагандистские и осведомительные задачи Отдела чрезвычайно расширились. Ликвидирован 28 октября 1917 г.
(обратно)752
Б.А. Бахметев, назначенный 5 марта 1917 г. товарищем министра торговли и промышленности, 25 апреля того же года был назначен начальником Российской чрезвычайной миссии, отправляемой в США, управляющим посольством в США и чрезвычайным и полномочным послом там же с оставлением товарищем министра (см.: Куликов С.В. Временное правительство: кадровые перестановки… С. 31, 33).
(обратно)753
А.К. Бенкендорф скончался 29 декабря 1916 г.
(обратно)754
Выдвигая кандидатуру С.Д. Сазонова, Николай II учел мнение английского посла Д.У. Бьюкенена, который во время аудиенции, данной ему царем 30 декабря 1916 г., просил назначить преемником А.К. Бенкендорфа именно бывшего министра иностранных дел (Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 231).
(обратно)755
Послом России в Великобритании С.Д. Сазонов был назначен 12 января 1917 г.
(обратно)756
Георг V.
(обратно)757
Возглавляемый Германией Четверной союз (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турецкая империя) выдвинул предложение о мире 29 ноября (12 декабря) 1916 г. (см.: Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг. М.; Л., 1928. С. 344).
(обратно)758
В дневнике Николая II под 2 декабря 1916 г. записано: «От 11 ч. <…> принял Трепова» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 268).
(обратно)759
Текст речи Н.Н. Покровского, произнесенной им 2 декабря 1916 г. в Государственной думе, см.: Государственная дума. 1906–1917: Стенографич. отчеты. Т. 4. С. 146–147.
(обратно)760
«Речь» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в 1906–1917 гг. Являлась органом Конституционно-демократической партии.
(обратно)761
На самом деле кадетский официоз откликнулся на выступление Н.Н. Покровского через два дня. См.: Речь. 1916. 5 дек.
(обратно)762
Первый всеподданнейший доклад Н.Н. Покровского как министра иностранных дел состоялся 22 декабря 1916 г. «В 4 ч., – записал в этот день Николай II, – принял Протопопова, а после чая – Покровского» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 272).
(обратно)763
Последний всеподданнейший доклад А.Ф. Трепова состоялся 20 декабря 1916 г. «В 6 час., – записал в этот день Николай II, – принял Трепова» (Там же. С. 271). «Это сумасшедший дом, а не государственное управление! – возмущался 23 декабря 1916 г. П.Н. Игнатьев в письме А.В. Кривошеину. – Вы, конечно, знаете, что произошло и что завершилось утверждением Протопопова [в должности министра внутренних дел]. И это после того, как накануне А.Ф. Трепов ставил условием и своей службы, и возможности продолжать работу с законодательными палатами, условием успокоения страны, увольнение Протопопова! А утром он прочел в газетах указ [об утверждении Протопопова министром внутренних дел]. Стало быть, он уже был на столе (доклад был в 6 ч. вечера). Трепов послал прошение (второе) об отставке» (РГИА. Ф. 1571 (А.В. Кривошеин). Оп. 1. Д. 274. Л. 30–32 об.).
(обратно)764
Убийство Г.Е. Распутина произошло в Петрограде в ночь с 16 на 17 декабря 1916 г. в Юсуповском дворце на Мойке. Участие в убийстве, прямое или косвенное, принимали хозяин дворца князь Ф.Ф. Юсупов-младший граф Сумароков-Эльстон, депутат IV Государственной думы В.М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, врач С.С. Лазоверт и поручик Преображенского полка С.М. Сухотин.
(обратно)765
Первоначально утром 18 декабря 1916 г. по инициативе императрицы Александры Федоровны Дмитрий Павлович и князь Ф.Ф. Юсупов были подвергнуты домашнему аресту в связи с началом предварительного следствия. Павел Александрович посетил Николая II 19 декабря и просил освободить сына, однако царь сказал дяде, что «не может сейчас дать ему ответ, но пришлет завтра утром» (Андрей Владимирович, вел. кн. Военный дневник (1914–1917). М., 2008. С. 206). Послание Николая II, полученное Павлом Александровичем 20 декабря, содержало отказ освободить Дмитрия Павловича до окончания предварительного следствия. По просьбам своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и великого князя Александра Михайловича царь согласился дело против Дмитрия Павловича и Ф.Ф. Юсупова прекратить, но вместе с тем 23 декабря повелел сослать первого – в Русский экспедиционный корпус в Персии, а второго – в его имение в Курской губернии. См.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 366–368. О «великокняжеской фронде» см. также: Битюков К.О., Петрова Е.Е. Великокняжеская оппозиция в России 1915–1917 гг. СПб., 2009.
(обратно)766
На состоявшемся у великой княгини Марии Павловны Старшей 29 декабря 1916 г. совещании Романовых его участники по инициативе великого князя Николая Михайловича решили обратиться к Николаю II с просьбой о помиловании Дмитрия Павловича. В письме царю, составленном мачехой Дмитрия Павловича княгиней О.В. Палей и подписанном 16 царскими родственниками, они просили Николая II «смягчить суровое решение относительно судьбы великого князя Дмитрия Павловича». Среди подписавших письмо были великие князья Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи, Николай и Сергей Михайловичи и Павел Александрович, великие княгини Виктория Федоровна, Елизавета Маврикиевна, Марии Павловны Старшая и Младшая, королева эллинов Ольга Константиновна, князья императорской крови Иоанн, Гавриил, Константин и Игорь Константиновичи и княгиня Елена Петровна, жена Иоанна Константиновича. На письме царь наложил резолюцию: «Никому не дано права заниматься убийством; знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь Вашему обращению ко мне. Николай» (Гавриил Константинович, кн. В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 216–217).
(обратно)767
Находясь 1 ноября 1916 г. в Ставке верховного главнокомандующего, Николай Михайлович общался с Николаем II и передал императору свое письмо, содержание которого ранее одобрила императрица Мария Федоровна. В нем великий князь высказался за то, чтобы несомненное для него «постоянное вторгательство во все дела темных сил», т. е. Александры Федоровны, Г.Е. Распутина и лиц из их окружения, было устранено. Великий князь писал далее: «[После этого] вернулось бы утраченное Тобою доверие громадного большинства Твоих подданных» (Николай Михайлович – Николаю II. 1 ноября 1916 г. // Николай II и великие князья. Родственные письма к последнему царю. М., 1925. С. 146).
(обратно)768
Копии письма царских родственников в защиту Дмитрия Павловича Николай Михайлович раздавал членам Яхт-клуба, причем за клубным столом неоднократно высказывал «резкие суждения» по адресу «немецкой» политики «Алисы Гессен-Дармштадтской» и сетовал «на безвольность и недальновидность» Николая II (Донесения Л.К. Куманина… // Вопросы истории. 2000. № 4/5. С. 17), которому стало известно о поведении великого князя. Подразумевая Николая Михайловича, царь говорил флигель-адъютанту А.Н. Линевичу 3 января 1917 г.: «Но этот Бог знает, что себе позволял» (Андрей Владимирович, вел. кн. Указ. соч. С. 223). Николай II приказал Николаю Михайловичу 31 декабря 1916 г. отправиться на два месяца, до 1 марта 1917 г., в свое имение Грушевка.
(обратно)769
Очевидно, имеется в виду письмо Марии Федоровны Николаю II от 17 февраля 1917 г., отправленное из Киева, где в то время проживала вдовствующая императрица. «Ты знаешь, – обращалась мать к сыну, – как ты мне дорог и как мне тяжело, что не могу тебе помочь. Я только могу молиться за тебя и просить Бога подкрепить тебя и внушить тебе сделать все, что можешь, для блага нашей дорогой России. Я уверена, что ты сам чувствуешь, что твой резкий ответ семейству глубоко их оскорбил, бросив им ужасное и совершенно незаслуженное обвинение. От всего сердца надеюсь также, что ты смягчишь участь Дмитрия Павловича, не отправляя его в Персию, где летом настолько ужасный климат, что он, с его плохим здоровьем, просто его не вынесет. Бедный дядя Павел написал мне в отчаянии, что он не смог ни проститься с ним, ни благословить его, потому что его совершенно неожиданно отправили ночью. Подобные действия так непохожи на тебя, с твоим добрым сердцем, и очень огорчили меня» (цит. по: Мейлунас А., Мироненко С. Николай и Александра. Любовь и жизнь. М., 1998. С. 527).
(обратно)770
По наблюдениям В.С. Дякина, «вся буржуазная пресса заговорила в двадцатых числах [января 1917 г.] о возможности очередной реорганизации кабинета с назначением премьером Бобринского либо Трепова, причем из кабинета должны были якобы быть удалены самые непопулярные министры. В случае создания кабинета Бобринского в него будто бы должны были войти некоторые наиболее умеренные общественные деятели. К 25 января толки о новом правительстве прекратились» (Дякин В.С. Указ. соч. С. 267).
(обратно)771
Замена А.Ф. Трепова на посту председателя Совета министров князем Н.Д. Голицыным состоялась 27 декабря 1917 г.
(обратно)772
Назначение Н.Д. Голицына объяснялось тем, что в глазах Николая II князь имел репутацию сановника, способного на сотрудничество с общественностью без колебания престижа власти, к чему на рубеже 1916–1917 гг. стремился царь, надеявшийся добиться компромисса с оппозицией. Подробнее о назначении Н.Д. Голицына см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 304–306.
(обратно)773
Н.Д. Голицын, показывал Н.Н. Покровский ЧСК Временного правительства, «не выносил» А.Д. Протопопова и «решительно желал сбыть его как-нибудь из Совета министров» (Показания Н.Н. Покровского. С. 359). Во время состоявшегося 27 января 1917 г. очередного доклада у Николая II князь попытался доказать императору необходимость отставки А.Д. Протопопова. Монарх выслушал Н.Д. Голицына спокойно, в заключение заявив: «Я вам теперь ничего по этому поводу не скажу, а скажу в следующий раз». Однако через несколько дней Николай II дал отрицательный ответ: «Я вам хотел сказать по поводу Протопопова. Я долго думал и решил, что пока я его увольнять не буду» (Допрос князя Н.Д. Голицына. 21 апреля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 254).
(обратно)774
Замена А.Ф. Трепова на посту министра путей сообщения Э.Б. Кригер-Войновским и замена П.Н. Игнатьева Н.К. Кульчицким произошли 27 декабря 1916 г.
(обратно)775
Увольнение П.Н. Игнатьева стало результатом его всеподданнейшего доклада, состоявшегося не 19 ноября 1916 г., как пишет Н.Н. Покровский, а 21 декабря, когда граф, протестуя против последовавшего 20 декабря утверждения А.Д. Протопопова в должности министра внутренних дел, в очередной раз подал в отставку, причем оставил Николаю II и письменное прошение об этом (см.: Показания графа П.Н. Игнатьева. С. 23–24, 26). Царь отметил в дневнике 21 декабря: «Погулял до докладов. Принял Шаховского и Игнатьева» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 272). Описывая обстоятельства своего последнего всеподданнейшего доклада, П.Н. Игнатьев сообщал А.В. Кривошеину 23 декабря 1916 г.: «…утром (21 числа) я был с докладом (моя записка была послана так, что 20-го на следующее утро после вечернего приезда сюда из Ставки она была получена и мне было назначено на 21-е в 12 утра). Мой доклад длился 1 ч. 20 мин. Я все высказал, что было на душе, и просил, чтобы меня не заставляли служить с теми (я назвал по имени и фамилии), кто ведет к гибели самый монарх[ический] принцип, прикрывая свои бессмысленные или вредные действия именем тех, кого он должен охранять от всякой даже тени обвинения. Меня спросили на этот раз, кого же я могу рекомендовать на свое место; я ответил: “Никого, так как никто с Пр[отопоповым] и Раевым служить из моих знакомых и мне известных лиц не пойдет”. Видя такое направление мысли, я решил вручить известную Вам бумагу – прошение. Мне ответили: “Я вам напишу, оставьте это мне”. Сегодня 23-е и ничего нет. Так, как я, поступил кроме Треп[ова] и Покровский… Может быть, я поступил опрометчиво! Но сил больше не было терпеть глумление над Родиной и ее чувствами и мыслями. Готов терпеть все, что мож[ет] быть полезно для Родины, но молчать, когда делают такие шаги – не могу! Судите!» Подразумевая убийство Г.Е. Распутина, П.Н. Игнатьев далее сообщал: «На моем докладе я назвал это так: “Это ужасное преступление, быть может, проявление Милости Божьей…”. Меня перебили: “Вам кажется…”. “Нет, ‘милости’, – говорил я, – выразившейся в предупреждении большей беды и еще возможности теперь ее предотвратить!”» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 23 декабря 1916 г. // РГИА. Ф. 1571 (А.В. Кривошеин). Оп. 1. Д. 274. Л. 30–32 об.)
(обратно)776
П.Н. Игнатьев был возведен в шталмейстеры Высочайшего двора 1 января 1917 г. «Да, со мною расстались более чем недружелюбно по внешней форме, хотя были довольно любезны при личном прощании и обещали написать, – сообщал П.Н. Игнатьев А.В. Кривошеину 1 января 1917 г. – Милый старик гр[аф] Фредерикс всполошился, особенно когда узнал, что я собираюсь идти отбывать воинск[ую] повинность (мое положение меня не освобождает): он лично полетел в Царское и представил весь вред для него же в происшедшем! Ну и немедленно меня возвели в шталмейстеры и велели передать, что против меня лично ничуть не изменились и только уступили моей настойчивой просьбе. Это производство освободило меня от воинск[ой] повинн[ости]. Теперь январь, отдохну, устрою свои дела, а за сим буду проситься на работу или в Красный Кр[ест] или в одну из общественных организаций. Сидеть “мародером тыла” я не могу!» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 1 января 1917 г. // Там же. Л. 34 об.). П.Н. Игнатьев уже в эмиграции вспоминал: «[Фредерикс] радостно мне сообщил, что государь, видимо, был крайне доволен возможности хоть отчасти исправить то, что было напутано исполнительными органами». Более того, П.Н. Игнатьев «был вызван в Царское Село для принесения благодарности» по поводу производства в шталмейстеры (Игнатьев П.Н. Совет министров в 1915–1916 гг. (Из воспоминаний) // Новый журнал. 1944. Кн. 9. С. 291). Николай II записал в дневнике 9 января 1917 г.: «После доклада Григоровича принял Шуваева и графа Игнатьева» (Дневники императора Николая II. С. 286). Во время прощальной аудиенции Николай II сказал экс-министру: «Благодарю Вас за правду и очень рад, что Вы мне сказали правду так, как Вы ее понимаете» (Как произошла отставка графа П.Н. Игнатьева // Биржевые ведомости. 2-е изд. 1917. 15 марта. № 62). Подразумевая Николая II, П.Н. Игнатьев показывал ЧСК: «Я думаю, что он отдавал себе отчет. Когда прощался, он сказал: “Спасибо Вам за правду, как Вы ее понимаете”. “Как Вы ее понимаете” было сказано не сразу, а на меня посмотрели и сказали: “как Вы ее понимаете”. Как будто было колебание» (Показания графа П.Н. Игнатьева. С. 24).
(обратно)777
Н.К. Кульчицкий на момент назначения управляющим Министерством народного просвещения являлся сенатором. Пост попечителя Петроградского учебного округа он занимал до 20 января 1916 г., т. е. до назначения в Сенат.
(обратно)778
На момент назначения Н.К. Кульчицкому было 59 лет, и «старым и дряхлым человеком» он мог казаться только по сравнению с более молодым П.Н. Игнатьевым. Сравнивая Н.К. Кульчицкого с П.Н. Игнатьевым, помощник управляющего делами Совета министров А.С. Путилов отдавал явное предпочтение первому и, имея в виду Кульчицкого, писал: «Несомненно, человек умный, дельный, с хорошим научным стажем и изрядною административною опытностью, он, бесспорно, обладал бóльшими данными стоять во главе Ведомства народного просвещения, нежели его предшественник». Характеризуя положение Н.К. Кульчицкого в кабинете, А.С. Путилов вспоминал: «Никакой роли в вопросах общей политики и крупного значения в Совете министров он не играл <…> Незаметно было, чтобы он принадлежал к протопоповской клике. Добровольский и Раев действительно были близки с Протопоповым и всегда выступали в согласии с ним. Про Кульчицкого этого сказать было нельзя <…> Он, по-видимому, склонен был специализироваться на вопросах своего ведомства, а в делах, выходящих из круга последнего, видимо, не расходился с большинством и, во всяком случае, не руководствовался партийными соображениями. Мне кажется, поэтому, что иначе как предвзятостью нельзя себе объяснить исключительно враждебное отношение к нему со стороны Государственной думы» (Путилов А.С. Период князя Н.Д. Голицына // РГАЛИ. Ф. 1208 (Л.М. Клячко (Львов)). Оп. 1. Д. 46. Л. 16 об. – 17).
(обратно)779
Д.С. Шуваев был заменен М.А. Беляевым 3 января 1917 г.
(обратно)780
Увольнение Д.С. Шуваева объяснялось тем, что в области внутренней политики он, особенно после того, как 4 ноября 1916 г. публично пожал руку П.Н. Милюкову, расходился с Николаем II. «Григорович и Шуваев, – сообщал П.Н. Игнатьев А.В. Кривошеину 1 января 1917 г., – прямо говорят, что лишь военная присяга не позволяет им уходить, но что там (т. е. у царя. – С.К.) говорят все» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 1 января 1917 г. // РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 33–34 об.). Давая показания ЧСК, генерал отмечал: «…когда 3 января государь лично благодарил меня за службу, он сказал: “Я очень благодарен Вам, но при современном положении России наши взгляды (может быть, он употребил несколько другое выражение) не соответствуют общему политическому настроению”» (Допрос генерала Д.С. Шуваева. 11 октября 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1927. Т. 7. С. 283). Кроме того, Шуваев, в отличие от М.А. Беляева, не знал иностранных языков и не участвовал в заграничных переговорах, между тем это являлось абсолютно необходимым для военного министра, поскольку вскоре должна была открыться Петроградская конференция союзников. Принимая М.А. Беляева 31 декабря 1916 г., Николай II так мотивировал необходимость его назначения руководителем Военного министерства: «Нынешний военный министр не говорит по-французски, а вы вели заграницей целый ряд переговоров» (Допрос генерала М.А. Беляева. 17 апреля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 160). Выступая против намерения Шуваева заменить М.А. Беляева на посту помощника военного министра Ю.Н. Даниловым, князь М.М. Андроников писал дворцовому коменданту генералу В.Н. Воейкову еще в июле 1916 г.: «Если я позволяю себе так отстаивать генерала Беляева, то вовсе не в каких либо личных интересах, а исключительно для пользы военного дела. Посмотрите, какая получается картина. Допустим, что к нам приезжают союзники, как это уже неоднократно было. Военный министр по-французски ни слова, его помощник Фролов – еще того меньше. Начальник Главного штаба Михневич – тоже. Оставался один только генерал Беляев, отлично владеющий французским языком, а если и его не будет, то дело совсем швах, ибо черный Данилов так же говорит по-французски, как я по-китайски» («Успокоения нечего ожидать»: Письма князя М.М. Андроникова Николаю II, Александре Федоровне, А.А. Вырубовой и В.Н. Воейкову // Источник. 1999. № 1. С. 37). В конце апреля – начале мая 1916 г. переговоры с приехавшими в Россию французскими министрами Р. Вивиани и А. Тома велись именно Беляевым, поскольку, по его свидетельству, ни Д.С. Шуваев, ни П.А. Фролов, ни начальники главных управлений Военного министерства не знали иностранных языков (Допрос генерала М.А. Беляева. С. 158, 161). Летом 1916 г. министр финансов П.Л. Барк привлек Беляева к участию в заграничных переговорах с союзниками, причем предварительно запросил мнение о генерале у С.Д. Сазонова, получавшего через М.А. Беляева «сведения, интересовавшие союзников и касающиеся военных вопросов», и у великого князя Николая Михайловича (Барк П.Л. Глава из воспоминаний [О Николае II] // Возрождение. 1955. № 43. С. 18). С.Д. Сазонов и Николай Михайлович, который «знал генерала Беляева много лет и хорошо был осведомлен о его деятельности», подтвердили П.Л. Барку, что М.А. Беляев будет «чрезвычайно полезен» при ведении переговоров (Барк П.Л. Воспоминания // Там же. 1966. Кн. 177. С. 101). В сентябре 1916 г. Николай Михайлович, надеявшийся возглавить межведомственную комиссию по подготовке к будущему мирному конгрессу, считал, что на пост военного члена комиссии «был бы очень подходящим генерал Беляев, хорошо обо всем осведомленный» (Николай Михайлович – Николаю II. 21 сентября 1916 г. // Николай II и великие князья. С. 90, 92). Мысль о необходимости участия М.А. Беляева в Петроградской конференции союзников возникла в Ставке верховного главнокомандующего в начале декабря 1916 г. Директор Дипломатической канцелярии Ставки Н.А. Базили сообщал 8 декабря 1916 г. товарищу министра иностранных дел А.А. Нератову, что «существует предположение» вызвать М.А. Беляева «ко времени собрания предстоящей военно-политической конференции» (Ставка и Министерство иностранных дел // Красный архив. 1928. Т. 29. С. 47).
(обратно)781
В оценке М.А. Беляева Н.Н. Покровский следует за теми современниками, которые серьезным доказательством деловой несостоятельности М.А. Беляева считали, например, полученное им от коллег прозвище «мертвая голова», хотя шутливое прозвище М.А. Беляев получил «из-за его лысого и лишенного всякой жизни черепа» (Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 1989. Т. 1. С. 521). Между тем учитель М.А. Беляева по Николаевской академии Генерального штаба генерал А.А. Поливанов оценивал М.А. Беляева весьма высоко. А.А. Поливанов показывал ЧСК относительно М.А. Беляева, что это «был самый старательный и добросовестный из моих учеников» (Допрос генерала А.А. Поливанова. 25 августа 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1927. Т. 7. С. 85). В другом месте А.А. Поливанов отмечал, что, занимая высокие должности, М.А. Беляев «обнаруживал основные свои качества: тщательность и изучение дела, вдумчивость в его разработке, прекрасную память на факты и уменье их сопоставлять, неутомимость в работе и точность в исполнении данных указаний; подчиненные считали его педантом, и педантизма в своей работе не отрицал и он сам» (Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника. М., 1924. Т. 1. С. 151). Великий князь Михаил Михайлович, который летом 1916 г. присутствовал на переговорах М.А. Беляева с английскими государственными деятелями, нашел его «весьма интересным и симпатичным» (Михаил Михайлович – Николаю II. 4 июля 1916 г. // Николай II и великие князья. С. 103–104), а брат Михаила Михайловича, Николай Михайлович, относил М.А. Беляева к числу «благородных сынов родины, русских по духу, честных, бескорыстных и не политиканов» (Николай Михайлович – Николаю II. 21 сентября 1916 г. // Там же. С. 90, 92). Министр финансов П.Л. Барк называл М.А. Беляева «одним из наиболее компетентных лиц из состава Военного министерства» (Барк П.Л. Глава из воспоминаний [О Николае II]. С. 18). Ключевое положение М.А. Беляева в Военном министерстве подтверждается тем, что накануне Первой мировой войны именно он разработал «Большую военную программу» (см.: Беннигсен Э.П. Первые дни революции 1917 г. // Возрождение. 1954. № 33. С. 117). Председатель IV Думы М.В. Родзянко «всегда считал» М.А. Беляева «очень порядочным человеком» (Допрос М.В. Родзянко. С. 172). Согласно характеристике французского посла Ж.М. Палеолога, М.А. Беляев – «очень трудолюбивый», «олицетворение чести и совести», «один из наиболее образованных и добросовестных офицеров русской армии», поведение которого «вполне согласно с его скромностью и осторожностью» (Палеолог Ж.М. Дневник посла. М., 2003. С. 195, 524). Даже недоброжелатели М.А. Беляева признавали его выдающиеся качества. «Необычайной усидчивостью, крайней деловой добросовестностью и знанием канцелярских навыков, – отмечал генерал Ю.Н. Данилов, – Беляев впоследствии приобрел в Главном штабе прочное положение и стал довольно быстро продвигаться по военно-бюрократической лестнице» (Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 219–220). «Великолепные результаты мобилизации обеспечили ему, – писал о М.А. Беляеве генерал В.И. Гурко, – репутацию талантливого кабинетного работника» (Гурко В.И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914–1917. М., 2007. С. 274). Уже в начале Первой мировой войны деятельность М.А. Беляева на посту начальника Главного управления Генерального штаба приобрела столь огромное значение, что в награду за нее в декабре 1914 г., в 51 год, Николай II произвел его в полные генералы. Это произошло по ходатайству начальника Штаба верховного главнокомандующего генерала Н.Н. Янушкевича. В письме военному министру генералу В.А. Сухомлинову от 22 ноября 1914 г. Н.Н. Янушкевич нашел необходимым «бить челом за во сто крат более достойного Михаила Алексеевича». «Если кто по Вашим указаниям распластывается для нас, здесь сидящих, для армии, – подчеркивал Н.Н. Янушкевич, – то, несомненно, М.А. Беляев по праву – первый». «Относительно Михаила Алексеевича Беляева, – отвечал В.А. Сухомлинов Н.Н. Янушкевичу 24 ноября, – совершенно с Вами согласен и представление уже сделал: наши мысли сошлись» (Переписка В.А. Сухомлинова с Н.Н. Янушкевичем / Красный архив. 1922. Т. 2. С. 137, 139). Особое значение имело участие М.А. Беляева в руководстве материальным обеспечением армии. В конце 1914 г. в Ставке пришли к убеждению, что «если желательно добиться результата от обращения в Военное министерство по поводу высылки в армию разных видов снабжения», то «надлежит обращаться» к М.А. Беляеву, который «не только передаст таковое обращение в соответствующее главное управление, но и присмотрит за сроком его исполнения, хотя это в его прямые обязанности и не входит». В июне 1915 г. новый военный министр генерал А.А. Поливанов назначил М.А. Беляева своим помощником, и это встретило «полное сочувствие» у Н.Н. Янушкевича и генерал-квартирмейстера Ставки Ю.Н. Данилова (Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний… С. 151). Высокого мнения о деятельности М.А. Беляева придерживался и Николай II, который 2 августа 1916 г., когда П.Л. Барк отозвался с похвалой о генерале, заявил, что «всегда был хорошего мнения о нем» и считает его «наиболее подходящим кандидатом на должность министра снабжения» (Барк П.Л. Воспоминания // Возрождение. 1966. № 178. С. 98).
(обратно)782
Николай II записал в дневнике 14 января 1917 г.: «От 11 час. принял <…> Трепова» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 287).
(обратно)783
Орден Св. Владимира был учрежден в 1782 г. в честь Святого Равноапостольного князя Владимира I, в 988 г. крестившего Киевскую Русь. Имел четыре степени. Вторая степень давалась гражданским и военным лицам, обладавшим чинами 1–3 классов.
(обратно)784
Имеется в виду инцидент, давший повод к окончательному разрыву А.Д. Протопопова с Прогрессивным блоком. Во время этого инцидента министр внутренних дел, все еще надеявшийся на достижение компромисса с оппозицией, увидев М.В. Родзянко, обратился к нему со словами примирения: «Дорогой мой, ведь во всем можно согласиться». Председатель Думы, полагая, что А.Д. Протопопов хочет поздороваться с ним, заложил руку за спину и крикнул: «Нигде и никогда!» Результатом инцидента стало то, что 7 января 1917 г. А.Д. Протопопов послал председателю ЦК Союза 17 октября А.И. Гучкову письмо, в котором сообщал о своем выходе из Партии октябристов (А.Д. Протопопов – А.И. Гучкову. 7 января 1917 г. // РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1165. Л. 157). Позднее А.Д. Протопопов уверял, что о рукопожатии с М.В. Родзянко не думал и письменно на дуэль его не вызывал. «Родзянке руки не протягивал – письма не писал, это газетная выдумка, – сообщал А.Д. Протопопов через астраханского губернатора лидеру местных правых Н.Н. Тихановичу-Савицкому. – За некорректную форму прекращения знакомства и притом на Новогоднем приеме – расчет последует, когда лично буду свободен. Министрам дуэли не разрешаются» (Черновик телеграммы А.Д. Протопопова – И.Н. Соколовскому. Не ранее 1 января 1917 г. // Там же. Л. 172). Хотя 1 января 1917 г. А.Д. Протопопов пытался примириться с Думой, новогодний инцидент единомышленники Н.Н. Покровского безосновательно расценили как провокацию, имеющую в виду роспуск нижней палаты. «Сегодня, слышно, – сообщал П.Н. Игнатьев А.В. Кривошеину 1 января, – вышел инцидент с Родзянкой и Протопоповым на выходе во Дворце в Царском Селе: был небольшой выход (кабинет, председатели Государственного совета и Государственной думы, Свита); нахально Протопопов подошел к Родзянке и хотел подать руку, а тот заревел своим голосом полным – “прочь” и заложил руки за спину! Не знаю, правда ли это, но мне так рассказывали. Протопопов отлетел как бомба! Явно идут на провокацию и разгон Думы!» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 1 января 1917 г. // Там же. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 33 об.).
(обратно)785
А.Д. Протопопов, до того являвшийся управляющим МВД, был утвержден в должности министра внутренних дел 20 декабря 1916 г.
(обратно)786
Николай II записал в дневнике 3 января 1917 г.: «После небольшой прогулки принял <…> Покровского» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 285). П.Н. Игнатьев сообщал А.В. Кривошеину 1 января 1917 г.: «Судьба Покровского решается во вторник» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 1 января 1917 г. // РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 33–34 об.).
(обратно)787
«Барк – неясен, – сообщал 23 декабря 1916 г. П.Н. Игнатьев А.В. Кривошеину, подразумевая отставку министра финансов. – Мне раньше сказал, что тоже так должен поступить, а сегодня был на докладе и, по-видимому, ничего не говорил» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 23 декабря 1916 г. // РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 30–32 об.). Всеподданнейший доклад П.Л. Барка, на котором он ходатайствовал об отставке, произошел 30 декабря 1916 г., когда Николай II записал: «В 11 час. принял английского посла Бьюкенена и Барка» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 273). И 1 января 1917 г. П.Н. Игнатьев информировал А.В. Кривошеина: «Барк уже уходит, а пока получил двухмесячный отпуск» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 1 января 1917 г. // РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 33–34 об.).
(обратно)788
«Кн[язь] Шаховской, – сообщал П.Н. Игнатьев Кривошеину 1 января 1917 г., – посидев заседание [Совета министров] в пятницу, пришел в ужас и пошел к председ[ателю] просить об освобождении» (П.Н. Игнатьев – А.В. Кривошеину. 1 января 1917 г. // РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 33–34 об.). Под 3 января 1917 г. Николай II записал: «В 6 ч. принял Шаховского» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 285).
(обратно)789
«что я старый маразматик» (фр.).
(обратно)790
Имеется в виду Указ о перерыве занятий IV Думы 16 декабря 1916 г. и ее созыве 12 января 1917 г.
(обратно)791
О рескрипте Николая II, данном князю Н.Д. Голицыну 6 января 1917 г., см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита… С. 308, 339.
(обратно)792
А.А. Риттих был назначен управляющим Министерством земледелия 29 ноября 1916 г.
(обратно)793
В дневниковой записи за 2 января 1917 г. Николай II отметил, что днем «принял <…> Риттиха» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 285).
(обратно)794
в полном составе.
(обратно)795
Ср.: Показания Н.Н. Покровского. С. 355–357.
(обратно)796
Относительно «теории» А.Д. Протопопова Н.Н. Покровский показывал: «Насколько я помню, он высказывался по этому вопросу дважды: один раз в январском заседании, а затем в заседании 25 февраля [1917 г.], причем повторял ту же самую теорию. Я бы очень затруднился точно передать вам, что он говорил. Достаточно вам сказать, что тогда, 25 февраля, он повторил эту теорию так, что это не было новым для нас, и тем не менее несколько лиц, сидевших тут, слушая его, переглянулись и спросили друг друга: “Вы что-нибудь поняли?” И мы здесь же сказали друг другу, что ничего не поняли. Изложить вам точно то, чего нельзя было хорошо понять, довольно трудно. Это очень сложная теория, сочиненная, вероятно, кем-нибудь другим, – может быть, каким-нибудь мудрецом или каким-нибудь государственником. Во всяком случае, это очень сложно, так что если я буду передавать, то боюсь, что, может быть, навру… Насколько могу припомнить, у него выдвигалась идея двух каких-то течений: если не ошибаюсь, – революционного течения и оппозиционного течения, причем революционное течение изображается рабочими учреждениями и вот этими разными советами рабочих депутатов, анархистами, социалистами и проч., а оппозиционное – общественными элементами, с Государственной думой во главе. И вот революционное течение втекает постепенно, по его мнению, в оппозиционное, так что в результате нельзя уже опираться и на эту оппозиционную часть, потому что она, так сказать, совпадает постепенно с революционной частью и стремится к власти. Оппозиционная часть самой Думы постепенно сливается с революционным течением; идея о захвате власти является и у нее, и она будет пользоваться всякими случаями, чтобы захватить эту власть, а потому следует бороться с этим самыми решительными средствами, надо распускать Думу. Вот какое течение мысли было у него, – приблизительно так. Но поручиться вам, что это точно, что это верно, я не могу» (Показания Н.Н. Покровского. С. 357).
(обратно)797
Начало этого предложения до слова «говорят» Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)798
Имеется в виду старшинство в гражданских чинах: Н.Н. Покровский был самым «молодым» тайным советником (чин 3-го кл.), А.Д. Протопопов – самым «старым» действительным статским советником (4-й кл.).
(обратно)799
Ср.: «Одной из особенностей его [А.Д. Протопопова] характера был талант приспосабливаться к людям, придерживавшимся противоположных политических взглядов. Такое свойство, надо полагать, широко распространено в странах, где политическая жизнь и конституционный порядок правления установились давно; но является редкостью в государствах в политическом смысле еще молодых – там различия политических воззрений чаще всего препятствуют доброжелательному ведению дискуссий, в особенности – среди людей, целиком посвятивших себя общественной деятельности. Естественно, что такое положение вещей в ярко выраженной форме все еще существует у нас в России. У политических партий нет убеждения, что нормальная жизнь страны может быть достигнута только ценой взаимных уступок» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 225).
(обратно)800
В увольнении А.Д. Протопопова под давлением Думы царь видел шаг по пути к замене дуалистической системы, провозглашенной Основными законами 1906 г., парламентаризмом, установление которого во время войны, а тем более накануне решающего наступления на фронте Николай II считал гибельным, ибо в условиях войны столь фундаментальная политическая реформа могла привести, по мнению царя, к дальнейшей дестабилизации положения внутри России и в конечном счете к революции. Подробнее см.: Куликов С.В. Николай II и парламентаризм (1906–1917) // Таврические чтения – 2008. Актуальные проблемы истории парламентаризма в России. СПб., 2009. С. 60–75. Кроме того, поддерживать А.Д. Протопопова Николая II заставляло и его возмущение использованием оппозиционерами версии о сумасшествии их бывшего коллеги. В ответ на сделанное 6 ноября 1916 г. протопресвитером армии и флота Г.И. Шавельским заявление о том, что А.Д. Протопопов – сумасшедший, Николай II, «несколько волнуясь», возразил: «Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, как я его назначил министром? Ведь в Государственную думу выбирал его не я, а губерния. В губернские симбирские предводители дворянства его избрало симбирское дворянство; товарищем председателя Думы, а затем председателем посылавшейся в Лондон комиссии его избрала Дума. Тогда он не был сумасшедшим? А как только я выбрал Протопопова, все закричали, что он с ума сошел» (Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 219). Рассказав А.А. Вырубовой, как М.В. Родзянко во время состоявшегося 16 ноября 1916 г. всеподданнейшего доклада уверял Николая II, что А.Д. Протопопов сумасшедший, царь усмехнулся и заметил: «Вероятно с тех пор, как я назначил его министром». «Родзянко, – сказал тогда же Николай II А.А. Вырубовой, – has worried me awfully. I feel his motives are quite false (ужасно меня измучил. Я чувствую, что его доводы полностью фальшивы. – С.К.)». Ударив рукой по столу, царь однажды воскликнул: «Протопопов был хорош и даже был выбран Думой и Родзянко делегатом за границу; но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим!» (Танеева (Вырубова) А.А. Указ. соч. С. 100, 108). В конце ноября 1916 г. митрополит Петроградский Питирим, до этого общавшийся с Николаем II, рассказал государственному секретарю С.Е. Крыжановскому, что «его величество сам сознает непригодность Протопопова как министра, но не считает возможным теперь же его уволить», поскольку «вся поднятая против него травля исходит, по убеждению государя, от тех самых лиц, которые, как Родзянко, только что перед тем советовали назначить Протопопова министром торговли и всячески его хвалили и которые все ополчились против, как только государь, по своему почину, дал ему другое назначение. “Стоило мне его назначить, – сказал, по словам Питирима, государь, – как тотчас Протопопов оказался сумасшедшим”. Поэтому его величество хотел бы несколько отсрочить выход Протопопова из состава правительства» (Крыжановский С.Е. Воспоминания. СПб., 2009. С. 145). Во время состоявшегося 10 февраля 1917 г. последнего всеподданнейшего доклада М.В. Родзянко он опять выступил перед императором за увольнение А.Д. Протопопова, но в ответ на это Николай II «раздраженно спросил»: «Ведь Протопопов был вашим товарищем председателя в Думе… Почему же теперь он вам не нравится?» Председатель Думы, однако, снова заявил, что «с тех пор как Протопопов стал министром, он положительно сошел с ума» (Родзянко М.В. Крушение империи. С. 167).
(обратно)801
C момента образования в августе 1915 г. в законодательных учреждениях Прогрессивного блока, требовавшего немедленного фактического введения парламентаризма, Николай II сознательно сохранял в составе Совета министров прогрессивную группу, состоявшую из министров, в той или иной степени ориентировавшихся на оппозицию. Сохранение в кабинете прогрессивной группы вплоть до Февральской революции свидетельствовало о наличии у царя стремления к соглашению с Прогрессивным блоком, но на условии постепенного, а не немедленного (как того желала Дума) перехода от дуализма к парламентаризму.
(обратно)802
До 22 февраля 1917 г., т. е. до отъезда Николая II в Ставку верховного главнокомандующего, царь и царица хотели встать на путь «компромиссных мер», которые предусматривали, в частности, возвращение великого князя Дмитрия Павловича из Персии. Незадолго до переворота Павел Александрович уведомил сына, что Николай II «почти окончательно» решил перевести двоюродного брата в марте из Персии в Усово, поместье Дмитрия Павловича (Письма Д.П. Романова к отцу // Красный архив. 1928. Т. 30. С. 203). Примирение царской семьи с ее родственниками сделала невозможным Февральская революция.
(обратно)803
Часть предложения после запятой Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)804
Эти наблюдения Н.Н. Покровского относятся к периоду с 1894 по 1902 г., т. е. к периоду, когда А.Н. Куломзин в царствование Николая II являлся управляющим делами Комитета министров.
(обратно)805
Действительно, как государственный контролер Н.Н. Покровский имел всеподданнейшие доклады только четыре раза – 27 января, 25 февраля, 26 марта и 15 июля 1916 г. (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 207, 212–213, 218, 242).
(обратно)806
Как министр иностранных дел Н.Н. Покровский всеподданнейше докладывал девять раз – 2 и 22 декабря 1916 г. и 3, 17, 24 и 31 января и 7, 14 и 21 февраля 1917 г. (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 268, 272, 285, 287, 289, 290, 291, 293, 294).
(обратно)807
Ср.: «Многие, – писал член Президиума ЧСК А.Ф. Романов. – действительно, удостоверили перед Комиссией, что нередко государь говорил одно, а потом неожиданно делал другое. Эта сторона характера государя легко находит себе объяснение, если постараться представить живо его положение. Вечно среди происходившей вокруг него борьбы личных интересов, стремясь избавиться от бесконечно повторяемых попыток воздействовать на него, желая прекратить их, он, конечно, мог обещать, только бы избавиться сейчас, но хотел идти своим путем, как казалось ему, указанным Богом или собственной совестью. Хорошо, хорошо, только оставьте меня сейчас, ну а там я сделаю по своему, как “вспало на душу”, “как внушил мне Преподобный”, так, вероятно, думал он в эти минуты. Отсюда же и видимое упрямство, которое, быть может, было проявлением той настойчивости и воли, в отсутствии которых его упрекали. Любопытно отметить, что те, кому государь не верил, доводы которых разбивались о немотивированное, но часто правильное и справедливое “мне так вспало на душу”, считали его упрямым. Если же еще при этом он охотнее слушал других, то к упрямству присоединяли и безволие. В этом отношении показания таких лиц очень легко расшифровываются» (Романов А.Ф. Указ. соч. С. 14–15). Во время общения с докладчиками Николай II иногда выражал исключительно внешнее согласие с теми предложениями, с которыми внутренне не соглашался. «Ему, – описывал царя директор Императорских театров князь С.М. Волконский, – можно было все говорить; он на все отвечал: “Конечно, конечно”. По бегающим глазам и по руке, теребящей ус, только можно было заключить, что то, что он слышит, ему не нравится, но он не прерывал, иногда даже подбадривал говорящего своим поощрительным “конечно”» (Волконский С.М. Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2. С. 170). В августе 1900 г. Николай II заявил К.П. Победоносцеву, который сообщил об этом А.А. Половцову: «Зачем вы постоянно спорите? Я всегда во всем со всеми соглашаюсь, а потом делаю по-своему» (Половцов А.А. Дневник. 1893–1909. СПб., 2014. С. 273).
(обратно)808
Текст от слов «…и прежде всего…» Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки. Ср.: «Государыня, – вспоминала Ю.А. Ден, подруга Александры Федоровны, – главным для себя лицом считала государя императора. Только и было слышно от нее: “Так желает его величество”, “Так сказал его величество”» (Ден Л. Подлинная царица // Ден Л. Подлинная царица. Воррес Й. Последняя великая княгиня. М., 1998. С. 54). Хотя характер Александры Федоровны, показывал следователю Н.А. Соколову англичанин С.И. Гиббс, гувернер наследника-цесаревича Алексея Николаевича, «был более властный и твердый, чем у императора», но в то же время «она так сильно и глубоко его любила, что, если только она заранее знала, что его желание иное, она всегда подчинялась» (Соколов Н.А. Предварительное следствие 1919–1922 гг. // Российский архив. 1998. Т. 8. С. 116).
(обратно)809
Последние два предложения Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки. Граф С.Ю. Витте и А.В. Кривошеин потеряли доверие Николая II в силу чисто политических причин. См. об этом: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 231–348; Кривошеин К.А. А.В. Кривошеин (1857–1921 гг.). Его значение в истории России нач. ХХ в. // Судьба века. Кривошеины. СПб., 2002. С. 238–271. Что касается П.А. Столыпина, то доверия к нему царь не терял вплоть до кончины этого государственного деятеля. См.: Куликов С.В. Столыпин и Николай II: соперничество или сотрудничество? // П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России. М., 2012. С. 93 – 135.
(обратно)810
Это предложение Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)811
По поводу отношения Николая II к Г.Е. Распутину ср.: «После убийства отца на второй или третий день, – показывала следователю Н.А. Соколову дочь старца М.Г. Соловьева, имея в виду себя и свою младшую сестру Варвару, – мы были вызваны во дворец. Там мы видели государя, государыню и княжен. Государь и княжны плакали, государыня держалась и утешала нас» (цит. по: Соколов Н.А. Предварительное следствие 1919–1922 гг. С. 184). В дневнике царя под 21 декабря 1916 г. записано: «В 9 час. поехали всей семьей мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря извергами в доме Ф. Юсупова, который стоял уже опущенным в могилу» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 271–272). Что касается А.Д. Протопопова, то 21 февраля 1917 г., накануне отъезда в Ставку верховного главнокомандующего, Николай II говорил министру внутренних дел: «Берегите себя, вам много будет труда по моем возвращении» (Протопопов А.Д. Предсмертная записка. Август 1918 г. // Искендеров А.А. Указ. соч. С. 571).
(обратно)812
Подробнее о нем см.: Лукоянов И.В. Тайный корреспондент Николая II А.А. Клопов // Из глубины времен. 1996. Вып. 6. С. 64–86.
(обратно)813
А.А. Клопов через князя П.М. Волконского познакомился с великим князем Николаем Михайловичем, через него – с Александром Михайловичем, а тот устроил ему аудиенцию у Николая II (см.: Волконский С.М. Указ. соч. С. 85).
(обратно)814
Описываемый эпизод относится к 1898 г.
(обратно)815
Публикацию этих писем см.: Тайный советник императора. СПб., 2002.
(обратно)816
Имеется в виду состоявшееся 9 февраля 1916 г. посещение Николаем II Государственной думы, к чему действительно был причастен А.А. Клопов (см.: Куликов С.В. Император Николай II в годы Первой мировой войны // Английская набережная, 4. Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. СПб., 2000. С. 302–307; Витенберг Б.М. 9 февраля 1916 г.: Николай II в Государственной думе // На пути к революционным потрясениям. Из истории России второй половины XIX – начала XX в. СПб.; Кишинев, 2001. С. 311–340). «Учительским съездом» Н.Н. Покровский, судя по всему, именует 1-й Всероссийский съезд по вопросам народного образования, проходивший в Петербурге в декабре 1913 – январе 1914 г.
(обратно)817
Ср. с отзывами о Николае II, представляющими иную точку зрения. Сенатор граф А.А. Бобринский записал в марте 1895 г., характеризуя молодого монарха: «Сфинкс» (Бобринский А.А. Дневник // Красный архив. 1928. Т. 26. С. 129). Княгиня Е.А. Святополк-Мирская со слов супруга, министра внутренних дел князя П.Д. Святополк-Мирского, записала в январе 1905 г. о Николае II: «Он – совершеннейший сфинкс. Те, кто знают его лучше всего, признают, что невозможно понять его» (Святополк-Мирская Е.А. Дневник // Исторические записки. 1966. Т. 77. С. 271). В июле 1906 г. премьер-министр П.А. Столыпин заявил лидерам октябристов А.И. Гучкову и Н.Н. Львову: «Государь – это загадка» (Львов Н.Н. Граф Витте и П.А. Столыпин // П.А. Столыпин глазами современников. М., 2008. С. 151). В октября 1907 г. хозяйка политического салона А.В. Богданович записала: «Вообще про царя нашего можно сказать, что он – загадка». В июне 1908 г. член Государственного совета А.С. Стишинский говорил в салоне Богдановичей, что Николай II – «сфинкс, которого разгадать нельзя» (Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 439, 459). «Неразгаданным ушел он из жизни», – писал о последнем самодержце в 1924 г., уже в эмиграции, общественный деятель Н.А. Павлов (Павлов Н.А. Его величество государь Николай II. СПб., 2003. С. 5). Критически оценив Николая II, генерал Ю.Н. Данилов тем не менее заключал в 1926 г.: «Впрочем, это была очень сложная натура, разгадать и описать которую еще никому не удалось» (Данилов Ю.Н. Указ. соч. С. 144). В 1929 г. камер-юнкер С.Н. Палеолог полагал, что «для многих русских интеллигентных людей последний русский царь был далеко не разгаданной загадкой» (Палеолог С.Н. Около власти. М., 2004. С. 61). «Личность государя, – подчеркивал кадет В.А. Маклаков в 1939 г., – сложнее, чем она казалась и ревнителям, и врагам его памяти» (Маклаков В.А. Первая Государственная дума. Воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006. С. 155). См. также: Куликов С.В. Император Николай II как реформатор: к постановке проблемы // Российская история. 2009. № 4. С. 45–60.
(обратно)818
Текст от слов «…полною бесхарактерностью…» до слов «…взявших над ним верх влияний» Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)819
Это слово Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки.
(обратно)820
Италия присоединилась к Антанте в мае 1915 г.
(обратно)821
Черносотенный публицист и издатель П.Ф. Булацель в издаваемом им журнале «Российский гражданин» 22 июля 1916 г. в рубрике «Дневник» подверг резкой критике главу английского кабинета Г.Г. Асквита за его заявление о необходимости подвергнуть суду международного трибунала германского императора Вильгельма II и Великобританию в целом за крайнюю неэффективность ее военных усилий. Текст «Дневника» за 22 июля см.: Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914–1918. М., 2014. Т. 2. С. 293–295. Исполняя распоряжение Б.В. Штюрмера, П.Ф. Булацель посетил английское посольство 10 августа и лично принес послу Д.У. Бьюкенену извинения за свой поступок, о чем уведомил читателей «Российского гражданина» в «Дневнике» за тот же день (Там же. С. 296–297).
(обратно)822
Сам Д.У. Бьюкенен сообщил Николаю II 30 декабря 1916 г., что знал о намерении убить Г.Е. Распутина за неделю до убийства (см.: Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 234–235). Тем не менее английский посол не сообщил об этом ни императору, ни Департаменту полиции. Более того, согласно недавно рассекреченным данным английской разведки, ее офицеры Освальд Райнер (друг князя Ф.Ф. Юсупова) и Стивен Элли, прикомандированные к посольству Великобритании, присутствовали во дворце Юсуповых в ночь убийства старца, а Райнер сделал последний, контрольный выстрел в голову Г.Е. Распутина. Подробнее см.: Кук Э. Убить Распутина. Жизнь и смерть Григория Распутина. М., 2007. С. 350–359.
(обратно)823
Во время состоявшегося 1 января 1917 г. новогоднего приема в Царском Селе Д.У. Бьюкенен, поскольку он «слышал», что «царь подозревает молодого англичанина, школьного друга князя Феликса Юсупова, в соучастии в убийстве Распутина», воспользовался случаем убедить Николая II, будто «такие подозрения абсолютно беспочвенны» (Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 236–237).
(обратно)824
Д.У. Бьюкенен признавал, что 8 января 1917 г. А.И. Гучков предупредил посла через прикомандированного к посольству Великобритании английского разведчика полковника К. Торнхилла, что «еще до Пасхи», т. е. до 2 апреля 1917 г., «будет революция», которая «продлится не дольше двух недель» (Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 237). Однако этими сведениями посол не стал делиться с Николаем II.
(обратно)825
Имеется в виду аудиенция, данная Д.У. Бьюкенену Николаем II 30 декабря 1916 г. См. о ней: Бьюкенен Д.У. Указ. соч. С. 230–235.
(обратно)826
Речь идет о Петроградской конференции союзников.
(обратно)827
Николай II записал в дневнике 20 января 1917 г., что принял «в 12 час. Lord Milner» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 288).
(обратно)828
Вероятно, речь идет о перехваченной российским МИД телеграмме Д.У. Бьюкенена в Форин-офис от 16 января 1917 г. Генералы «Главного штаба», сообщалось в этой телеграмме, открыто говорили, что «они более не желают государя». «Здесь общее чувство таково, – подчеркивал посол, – что если государь не уступит, то в течение ближайших недель что-нибудь произойдет или в форме дворцового переворота, или в форме убийства» (цит. по: Сторожев В.Н. Дипломатия и революция // Вестник НКИД. 1920. № 4/5. С. 80).
(обратно)829
Императорский Яхт-клуб – элитарный клуб, основанный в 1847 г. и в начале XX в. располагавшийся на Малой Морской в Петербурге. Членами Яхт-клуба, командором которого долгое время состоял министр Императорского двора граф И.И. Воронцов-Дашков, а затем – его преемник граф В.Б. Фредерикс, были великие князья, придворные, дипломаты, высокопоставленные бюрократы и гвардейские офицеры. По воспоминаниям директора Императорских театров В.А. Теляковского, Яхт-клуб затмевал «своим блеском, пышностью и влиянием все решительно клубы в России». Члены императорской фамилии и представители дипломатического корпуса принимались в Яхт-клуб без баллотировки, но для остальных кандидатов существовал очень строгий отбор, не практиковавшийся в других клубах: один черный шар уничтожал пять белых, причем среди посетителей Яхт-клуба были такие члены, которые всегда и всем клали черные шары. Яхт-клуб «играл большую роль в петербургском высшем свете – не только общественную, но и политическую», и в нем узнавали «все самые последние новости придворные, служебные, общественные и политические, до театральных, – конечно, балетных, – включительно». По воспоминаниям В.А. Теляковского, «если говорилось, что это сказано было в Яхт-клубе, то считалось, что источник был серьезный, ибо здесь вращались и великие князья, и сановники, и дипломаты самой высокой марки» (Теляковский В.А. Воспоминания. 1898–1917. Пб., 1924. С. 138–139, 141). Среди членов клуба сановники черносотенного направления отсутствовали, между тем как представители правительственного либерализма преобладали (Алфавитный список почетных, непременных, действительных и недействительных членов, постоянных посетителей и временных членов Императорского санкт-петербургского Яхт-клуба по 1 мая 1912 г. СПб., 1912). Объясняя в декабре 1910 г. причины того, почему «общественное мнение опять поворачивает влево», тогдашний лидер правых в III Государственной думе граф А.А. Бобринский записал: «Это значит: Яхт-клуб» (Бобринский А.А. Указ. соч. С. 140). Неудивительно, что в Яхт-клубе, вспоминал великий князь Николай Михайлович, «открыто критиковались поступки и поведение» императрицы Александры Федоровны (Николай Михайлович, вел. кн. Записки // Гибель монархии. М., 2000. С. 75). Впрочем, на этом поприще отличался прежде всего сам великий князь Николай Михайлович, о котором генерал А.А. Мосолов писал: «В Яхт-клубе, где его любили слушать, едкая критика великого князя немало способствовала ослаблению режима. Всеразлагающий сарказм порождал в обществе болезненное отрицание авторитета царской власти» (Мосолов А.А. При Дворе последнего императора: Записки начальника Канцелярии министра Двора. СПб., 1992. С. 146). Николай Михайлович и его брат Александр Михайлович, «стараясь подделаться под общественное настроение, либеральничали и открыто критиковали царскую чету в Яхт-клубе, сыгравшем, – по наблюдениям журналиста Е.Н. Шелькинга, – столь грустную роль в дни, предшествовавшие революции. В этом великосветском притоне усердно раздувались всевозможные легенды о Распутине, и те же лица, которые поносили старца в клубе, унижались затем перед ним, чтобы через него приобрести себе те или иные “богатые милости”» (Шелькинг Е.Н. Ключевые фигуры российской политики в канун войны и революции // Аринштейн Л.М. Во власти хаоса: Современники о войнах и революциях 1914–1920. М., 2007. С. 290).
(обратно)830
Имеется в виду Антанта.
(обратно)831
Ряд донесений японского посла на родину см.: Иностранные дипломаты о революции 1917 г. // Красный архив. 1927. Т. 24. С. 108–163.
(обратно)832
Подробнее о русско-шведских экономических отношениях начала XX в. см.: Новикова И.Н. «Между молотом и наковальней»: Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны. СПб., 2006. С. 187–222; Табаровская К.А. Российско-шведские отношения накануне Первой мировой войны (экономический аспект) // Новая и новейшая история. 2008. № 2. С. 184–196.
(обратно)833
Город Нарвик находится в Норвегии, а не в Швеции.
(обратно)834
Густав V.
(обратно)835
Статус Аландских островов, принадлежавших Российской империи, регулировался заключенной 18 (30) марта 1856 г. Аландской конвенцией, по которой Россия обязалась не укреплять эти острова и не сооружать на них военные объекты. С началом Первой мировой войны демилитаризованный статус островов оказался под угрозой, поскольку, опасаясь высадки на них германского десанта, с конца 1914 г. российские власти начали возводить там военные укрепления, что вызвало недовольство у шведского правительства, тем более что в Швеции существовала влиятельная германофильская партия. Шведский король Густав V писал Николаю II 29 мая 1916 г., подразумевая вопрос об Аландах: «В настоящее время <…> обе палаты шведского парламента единодушно высказались в том смысле, что этот вопрос является для Швеции жизненным. Я надеюсь поэтому, что ты окажешь теперь такое же дружеское содействие для облегчения предстоящих по этому поводу переговоров, которые нам было бы желательно начать в самое ближайшее время» (Густав V – Николаю II. 29 мая 1916 г. // Монархия перед крушением. С. 33–34). Разъяснив позицию России по Аландскому вопросу, царь отвечал королю 4 июня 1916 г.: «Таким образом, кажется мне, у твоей страны нет оснований для беспокойства в связи с этим вопросом. Если, тем не менее, ты считаешь целесообразным, чтобы шведское правительство начало по этому поводу новые переговоры, я изъявляю на это мое согласие. Но чрезвычайно важно, чтобы обе стороны вели их в <…> примирительном духе; только на почве взаимного понимания можно охранять взаимные интересы в целях укрепления добрососедских отношений» (Николай II – Густаву V. 4 июня 1916 г. // Там же. С. 34). В конце января 1917 г. Густав V в своей тронной речи по случаю открытия сессии шведского риксдага затронул аландский вопрос публично и предложил начать переговоры с Россией о демилитаризации островов, причем о заявлении короля был заранее уведомлен посланник России в Стокгольме А.В. Неклюдов. Царское, а затем Временное правительство от переговоров не отказывалось, но затягивало их начало, поскольку не было заинтересовано обсуждать в условиях войны вопрос о построенных военных укреплениях. Только в августе 1917 г. Временное правительство согласилось обсудить аландский вопрос на официальном уровне, и в конце октября 1917 г. новый российский посланник в Стокгольме К.Н. Гулькевич информировал шведов о готовности России начать обсуждение этого вопроса. Подробнее см.: Новикова И.Н. Указ. соч. С. 349–384. Острова перешли к Финляндии после получения ею независимости в конце 1917 г.
(обратно)836
Н.Н. Покровский посетил Стокгольм два раза в течение мая – июля 1916 г.: при поездке на Парижскую экономическую конференцию и при возвращении оттуда.
(обратно)837
Договор о присоединении Румынии к Антанте был заключен 4 (17) августа 1916 г., вступление Румынии в войну произошло 15 (28) августа.
(обратно)838
Бо́льшую настойчивость проявила, однако, Россия в лице Б.В. Штюрмера, который вскоре после назначения министром иностранных дел телеграфировал 26 июля 1916 г. послам России в Англии, Италии и Франции, подразумевая заключение Румынией с Россией военной и со всеми перечисленными странами – политической конвенций: «Считаю необходимым настаивать на подписании военной и политической конвенций к 1 августу с тем, чтобы определенный день выступления был точно обозначен в военной конвенции, по возможности, не позже недели. В случае же уклонения от этого Румынии она лишается права рассчитывать на получение впоследствии тех материальных и политических выгод, которые в настоящее время ей предлагаются державами, о чем следует теперь же предупредить Братиано (румынского премьер-министра. – С.К.) и осведомить общественное мнение и оппозицию. Благоволите просить правительство, при коем Вы аккредитованы, дать посланнику в Бухаресте надлежащие инструкции». Сообщая содержание этой телеграммы российскому посланнику в Румынии С.А. Поклевскому-Козеллу, Б.В. Штюрмер инструктировал его дополнительно: «По получении Вашими коллегами соответствующих инструкций Вам надлежит в согласии с ними предложить румынскому правительству для подписания проект политического соглашения и сделать указанное в настоящей телеграмме заявление» (Б.В. Штюрмер – графу А.К. Бенкендорфу, М.Н. Гирсу и А.П. Извольскому. 26 июля 1916 г. // Царская Россия в Мировой войне. Пг., 1923. Т. 1. С. 223). Следовательно, именно Б.В. Штюрмер организовал демарш союзных представителей в Бухаресте, с тем чтобы подвигнуть его присоединиться к Антанте, причем этот демарш имел успех. «Здешние представители держав Согласия, ознакомленные мною с <…> инструкциями Вашего высокопревосходительства, – телеграфировал С.А. Поклевский Б.В. Штюрмеру 27 июля, – заявили, что общий смысл получаемых ими указаний позволяет им не только поддержать перед Братиано предлагаемый ныне нами текст политического соглашения, но даже его подписать» (С.А. Поклевский-Козелл – Б.В. Штюрмеру. 27 июля 1916 г. // Там же. С. 225). Успех Б.В. Штюрмера объяснялся тем, что ради присоединения Румынии к Антанте он пошел на некоторые уступки Бухаресту. «Нашему посланнику в Бухаресте, – сообщал министр иностранных дел послам в Англии, Италии и Франции 31 июля, – дается предписание, одновременно с заключением военной конвенции, немедленно подписать совместно с союзными представителями и румынским правительством политическую конвенцию в последней румынской редакции, предложенной Братиано». От имени императорского правительства Б.В. Штюрмер выражал уверенность, что «огромные уступки и жертвы, которые оно сделало для успеха общего дела, вследствие настояний своих союзников, будут приняты в должное внимание и что в случае необходимости толкования в будущем некоторых не совсем ясных обязательств, устанавливаемых текстом конвенции, союзные правительства не откажутся поддерживать точку зрения России». Министр иностранных дел находил желательным, чтобы послы получили подтверждение этого от правительств, при которых они были аккредитованы (Б.В. Штюрмер – графу А.К. Бенкендорфу, М.Н. Гирсу и А.П. Извольскому. 31 июля 1916 г. // Там же. С. 226). Результатом настойчивости Б.В. Штюрмера стало то, что не прошло и десяти дней после отправки им телеграммы от 26 июля, как уже 4 августа Румыния заключила политическую конвенцию с Великобританией, Италией, Россией и Францией и военную конвенцию – с Россией, причем в последней Румыния обязывалась напасть на Австро-Венгрию не позже 15 августа (см.: Русско-румынская военная конвенция 1916 г. // Там же. С. 136). Именно в этот день и произошло нападение Румынии на Австро-Венгрию.
(обратно)839
К декабрю 1916 г. территория Румынии, армия которой понесла несколько тяжелых поражений, была почти полностью оккупирована австро-германскими войсками, а ее король Фердинанд I, его семья и правительство бежали в русские Яссы. Более того, через год, после заключения большевиками перемирия с Центральными державами, Румыния оказалась вынужденной также пойти на это, а 7 мая 1918 г. (по н. ст.) – заключить с ними мирный договор, хотя, с другой стороны, в марте того же года румынские войска заняли территорию бывшей Бессарабской губернии и присоединили ее к Румынии. После того как стало очевидным поражение Германии и ее союзников, Румыния 10 ноября 1918 г. снова объявила им войну, закончив ее на стороне Антанты, которая признала факт аннексии Бессарабии, что, видимо, и вызвало замечания со стороны Н.Н. Покровского.
(обратно)840
Принц Кароль и возглавляемая им чрезвычайная миссия прибыли в Петроград 7 января 1917 г. Отъезд Кароля из Петрограда состоялся 26 января (см.: Николай II накануне отречения: камер-фурьерские журналы (декабрь 1916 – февраль 1917 гг.). СПб., 2001. С. 35–37, 56–58).
(обратно)841
Имеется в виду Петроградская конференция союзников.
(обратно)842
Николай II «изволил принимать» И. Братиано «от 4 час. 5 мин.» 27 января 1917 г. (Николай II накануне отречения. С. 59).
(обратно)843
Расположенное в конце страницы, это предложение не дописано. На следующей странице на полях перед текстом имеется помета: «Н.Н. Покровский (окончание 3-й части)».
(обратно)844
За участие И. Братиано в конференции выступал В.И. Гурко (см.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 293).
(обратно)845
Орден Св. Александра Невского был учрежден в 1725 г. Имел одну степень. Им награждались особы первых трех классов.
(обратно)846
В связи с эвакуацией короля и правительства Румынии в Яссы генерал А.А. Мосолов 30 октября 1916 г. был назначен временно управляющим Российской миссией в Румынии, с оставлением в должности начальника Канцелярии Министерства двора (обязанности которого исполнял помощник начальника – князь С.В. Гагарин) и с сохранением на посту русского посланника С.А. Поклевского-Козелла, что не предусматривало вручение А.А. Мосоловым верительных грамот, а С.А. Поклевским – отзывных, чем подчеркивался особый чрезвычайный характер поручения, возложенного на генерала.
(обратно)847
Генерал В.Н. Воейков по должности дворцового коменданта отвечал за личную безопасность Николая II, его семьи и вдовствующей императрицы Марии Федоровны, потому Н.Н. Покровский, независимо от своего отношения к генералу, должен был сообщить ему содержание перехваченной МИД телеграммы Д.У. Бьюкенена.
(обратно)848
«По слухам, – сообщал П.Н. Игнатьев А.В. Кривошеину 23 декабря 1916 г., – и старик Танеев по случаю утверждения Протоп[опова в должности министра внутренних дел] сделал какое-то выступление, но какое – он скрывает. Поговаривают об его ходатайстве об отставке по расстроенному здоровью; опасались удара, когда пришла записка [от императора о составлении указа о Протопопове]! Это особенно между нами по известной Вам причине, так как источник этих сведений Вам и мне известен» (РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 274. Л. 32 об.). Записка Николая II главноуправляющему Собственной его величества канцелярией А.С. Танееву, о которой упоминает П.Н. Игнатьев, гласила: «Представьте мне указ об увольнении Макарова в Государственный совет и о назначении сенатора Добровольского (он же – вице-председатель Георгиевского комитета) управляющим Министерством юстиции». Как бы вспомнив о А.Д. Протопопове, на обороте этой записки царь приписал: «Еще указ о назначении управляющего МВД Протопопова – министром внутренних дел» (Николай II – А.С. Танееву. 19 декабря 1916 г. // РГИА. Ф. 1409. Оп. 9. Д. 334. Л. 8). Появление последнего предложения в письме П.Н. Игнатьева объясняется тем, что он являлся близким родственником Танеевых. Николай II записал в дневнике 23 декабря, что «в 6 ч.» принял А.С. Танеева (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 272).
(обратно)849
Николай II принимал М.В. Родзянко 7 января и 10 февраля 1917 г.
(обратно)850
По-видимому, имеется в виду Ричард Филлимор – контр-адмирал, военно-морской представитель Великобритании при Ставке верховного главнокомандующего.
(обратно)851
Кувака – имение В.Н. Воейкова в Пензенской губернии, на территории которого в начале XX в. был открыт источник минеральной воды. Эксплуатацией источника занималось основанное им акционерное общество «Кувака». С началом Первой мировой войны В.Н. Воейков отошел от участия в руководстве акционерным обществом и имел к нему отношение лишь как владелец акций и почетный председатель Правления. Выступая в Думе 19 ноября 1916 г., В.М. Пуришкевич назвал В.Н. Воейкова «генералом от кувакерии», обвинив дворцового коменданта в том, что для вывоза минеральной воды из его имения была проведена «стратегическая железная дорога», на постройку которой он якобы получил от МПС 1 000 000 руб. Председатель Совета министров и министр путей сообщения А.Ф. Трепов 22 ноября с думской кафедры полностью опроверг измышления В.М. Пуришкевича (см.: Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995. С. 139–140).
(обратно)852
О положении Греции в период Первой мировой войны см.: Европейские державы и Греция в эпоху мировой войны: Сб. документов. М., 1922; Соколовская О.В. Греция в годы Первой мировой войны. 1914–1918. М., 1990.
(обратно)853
Имеется в виду королева София, с 1889 г. жена короля эллинов Константина I.
(обратно)854
Речь идет о конфликте между германофилами и антантофилами. В мае 1915 г. на выборах победила Либеральная партия Э. Венизелоса, но король Константин I назначил его премьер-министром только в августе. Венизелос предоставил английским и французским войскам плацдарм в Македонии для подготовки нападения на Галлиполи (Турция). В ответ в сентябре 1915 г. Константин дал отставку правительству Венизелоса и распустил парламент, назначив новые выборы, которые Либеральная партия бойкотировала. Между тем в течение первой половины 1916 г. британские и французские войска высадились в Салониках, а Центральные державы взяли под свой контроль Македонию. В результате переворота в Салониках, совершенного 30 августа 1916 г. Движением народной обороны при поддержке Великобритании и Франции, в этом городе образовалось правительство во главе с Венизелосом, которое противопоставило себя официальному правительству короля. В конце 1916 г. союзники признали правительство Движения народной обороны законным правительством Греции.
(обратно)855
Римская конференция, заседавшая 5–7 января 1917 г. (по н. ст.), приняла текст декларации от имени Англии, Италии, России и Франции, суть которой заключалась в следующем: если греческое правительство в течение 48 часов не подчинится всем требованиям держав, уже сформулированным в нотах от 14 и 31 декабря 1916 г. (об отводе греческих войск и перевозке военного имущества на Пелопоннес, об учреждении специальной комиссии для наблюдения за выполнением требований и т. д.), то командующему находящегося в Салониках Союзного экспедиционного корпуса генералу М. – П. – Э. Саррайлю будет дано право по своему усмотрению принимать любые меры для обеспечения безопасности подчиненных ему войск; если же условия, указанные в декларации, будут приняты и выполнены греческим правительством, М. – П. – Э. Саррайль не должен предпринимать военные действия против Греции без согласования с союзными правительствами. Со своей стороны, союзники обещали относиться с уважением к желанию афинского правительства сохранить нейтралитет в мировой войне и не допускать вторжения сил Временного республиканского правительства Э. Венизелоса на территорию Старой Греции, выражали готовность в случае выполнения требований держав королевским правительством Греции облегчить условия ее блокады, установленной союзными флотами в декабре 1916 г. Текст ультиматума был передан королевскому правительству 8 января 1917 г., причем державы Антанты оставили за собой право оккупировать в военных целях любые территории, контролируемые роялистами. В результате Греция пошла на уступки (см.: Соколовская О.В. Указ. соч. С. 104–107).
(обратно)856
В течение февраля – мая 1916 г. на основании нескольких дипломатических документов Россия присоединилась к англо-французскому договору Сайкса – Пико, который подразумевал раздел между союзниками Азиатской Турции, прежде всего – Малой Азии. Некий итог переговорам подвела телеграмма от 17 (30) мая 1916 г. посла России в Великобритании графа А.К. Бенкендорфа министру иностранных дел С.Д. Сазонову. В телеграмме, в частности, констатировалось, что после войны «1) Россия аннексирует область Эрзерума, Трапезонда, Вана, Битлиса, вплоть до пункта, подлежащего определению впоследствии, на побережье Черного моря, к западу от Трапезонда; 2) область Курдистана, расположенная к югу от Вана и Битлиса, между Мушем, Сертом, течением Тигра, Джезире-ибн Рмаром, линией горных вершин, господствующих над Амадией и областью Мергевера, будет уступлена России; начиная от области Мергевера, граница арабского государства пойдет по линии горных вершин, отделяющих в настоящее время оттоманскую территорию от персидской». На подлиннике телеграммы Николай II написал 22 мая: «Согласен, кроме 1-й ст. Если нашей армии удастся дойти до Синопа, то там и должна будет пройти наша граница» (Российский посол в Лондоне Бенкендорф министру иностранных дел Сазонову. 17/30 мая 1916 г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952. С. 452, 453). См. также: Раздел Азиатской Турции: По секретным документам бывшего Министерства иностранных дел. М., 1924.
(обратно)857
«Ход военных событий, ныне развертывающихся на европейском театре войны, – говорится во всеподданнейшем докладе Н.Н. Покровского от 21 февраля 1917 г., – может еще в течение этого года поставить нас лицом к лицу с вопросом о ликвидации войны и началом переговоров о мире. В предвидении этого момента Россия, целым рядом дипломатических соглашений со своими союзниками, более или менее наметила направление новых государственных границ, с включением разных земельных приобретений, среди которых первое место занимает, конечно, обладание Константинополем и Проливами. Нисколько не преуменьшая политического значения этих документов, тем не менее, было бы ошибочно думать, что мы только ими осуществим наши главные стремления и при каких бы то ни было обстоятельствах получим все то, что в них предусмотрено. Надо иметь в виду, что важнейшее для нас соглашение о Константинополе и Проливах является, в сущности, лишь векселем, выданным нам Великобританией, Францией и Италией, но платеж по нему должен быть произведен третьим лицом – Турцией, которая в соглашении не участвовала и, в зависимости от обстановки на интересующем ее театре войны, может отказаться удовлетворить наши требования. Несомненно, что состояние географической карты войны к моменту открытия мирных переговоров будет иметь решающее значение для проведения в жизнь политических проектов. Отсюда для нас вытекает необходимость ко времени заключения мира овладеть Проливами, или же, во всяком случае, настолько к ним приблизиться, чтобы при решении этого вопроса быть в силах оказать должное давление на Турцию. Без этого мы едва ли когда-нибудь получим Константинополь и Проливы, и самое соглашение о них превратится в простой клочок бумаги. <…> Эти соображения приводят к заключению, что в этом вопросе мы должны исключительно полагаться на свои собственные силы и теперь же приступить к практическому осуществлению нашей задачи движения к Проливам и на Константинополь, если к этому, с точки зрения чисто военной, не представляется в настоящих условиях препятствий, грозящих конечному успеху наших военных операций. Для этого важного дела необходимо было бы образовать особую экспедицию, которой должно быть поставлено задание произвести высадку на одном из пунктов вблизи Босфора. Самый факт нахождения нашего у Босфора и закрепления за нами хотя бы незначительной части территории поставит нас в исключительно выгодное положение во время переговоров об обеспечении наших интересов. <…> Мы не должны упускать из виду, что понятие полной победы, о которой много раз союзные правительства заявляли, на практике представляется не всем союзникам одинаковым. Очевидно, с практической точки зрения, каждое союзное правительство будет считать победу полной постольку, поскольку оно достигнет осуществления своих притязаний. Поэтому, если по ходу военных событий окажется, что военные успехи французов и англичан на Западном фронте дадут удовлетворительные, по их понятию, результаты, то очень мало надежды рассчитывать на то, чтобы они продолжали войну для отвоевывания в пользу России Константинополя и Проливов. Вследствие сего, мы должны сами принять меры к тому, чтобы обеспечить себе благоприятное решение интересующих нас вопросов» (Всеподданнейшая записка Н.Н. Покровского. 21 февраля 1917 г. // Константинополь и проливы: По секретным документам бывшего МИД: В 2 т. М., 1926. Т. 2. С. 387–390).
(обратно)858
Вопрос о посылке Россией десанта для овладения Константинополем и Проливами в случае обострения внутриполитического кризиса в Турецкой империи рассматривался в Особом совещании под председательством Николая II еще в 1896 г. См.: Проект захвата Босфора в 1896 г. // Красный архив. 1931. Т. 47/48. С. 50–70.
(обратно)859
О взаимоотношениях России и Японии накануне Февральской революции см.: Васюков В.С. Внешняя политика России накануне Февральской революции. 1916 – февраль 1917 г. М., 1989. С. 96 – 126.
(обратно)860
Правительство Дуань Цижуя разорвало дипломатические отношения с Германией и Австро-Венгрией 1 (14) марта 1917 г., но войну этим державам объявило только 1 (14) августа того же года. Об усилиях царской дипломатии по вовлечению в войну Китая см.: Васюков В.С. Указ. соч. С. 127–158.
(обратно)861
К 1917 г. в Российской империи находились до 300 000 китайцев, в основном завербованных в ходе Первой мировой войны для работы на промышленных предприятиях, в портах, на золотых приисках и лесоразработках Дальнего Востока, Сибири и Урала, на шахтах Донбасса, на заводах Петрограда, Екатеринбурга, Луганска, Мариуполя, Одессы и др. В 1917 г. из китайцев стали создавать революционные военные отряды. Китайские подразделения воевали практически на всех фронтах Гражданской войны, а также участвовали в партизанском движении. В основанный в декабре 1918 г. Союз китайских рабочих России входило до 60 000 человек (см: Китайские интернационалисты // Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1983. С. 259).
(обратно)862
Провозглашение Германией и Австро-Венгрией независимости Польши (Польского королевства) произошло 23 октября (5 ноября) 1916 г.
(обратно)863
Подразумевается воззвание верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича к полякам от 1 августа 1914 г., которое содержало следующие строки: «Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ! Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя! Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении» (Воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. 1 августа 1914 г. // Русско-польские отношения в период мировой войны. М., 1925. С. 155). Текст воззвания написал находившийся в Петербурге посланник в Сербии князь Г.Н. Трубецкой, отредактировали его А.В. Кривошеин и министр иностранных дел С.Д. Сазонов.
(обратно)864
Текст речи Я.С. Гарусевича, с которой он выступил в Думе 1 ноября 1916 г., см.: Государственная дума. 1906–1917. Стенографич. отчеты. Т. 4. С. 30–32.
(обратно)865
О политике России в Восточной Галиции, оккупированной русскими войсками во время Первой мировой войны, см.: Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. М., 2000.
(обратно)866
Выступая в Думе 19 июля 1915 г., И.Л. Горемыкин сообщил: «Ныне государь император высочайше соизволил уполномочить меня объявить вам, господа члены Государственной думы, что Его величеством повелено Совету министров разработать законопроект о предоставлении Польше по завершении войны права свободного строения своей национальной, культурной и хозяйственной жизни на началах автономии под державным скипетром государей российских и при сохранении единой государственности» (Ораторы России в Государственной думе. Т. 2. С. 88). Кроме того, о чем не упоминает Н.Н. Покровский, польский вопрос непосредственно затрагивался и в декларации Б.В. Штюрмера, зачитанной им в Думе 9 февраля 1916 г. «По воле государя императора, – заявил тогда премьер, – для Польши открывается новая жизнь, обеспечивающая за польским народом свободное развитие его духовных даров и культурных и экономических стремлений» (Там же. С. 372).
(обратно)867
В Приказе Николая II по армии и флоту от 12 декабря 1916 г. одной из целей России было объявлено «создание свободной Польши из всех трех ее ныне разрозненных областей» (Приказ армии и флоту 12 декабря 1916 г. № 870 // Русско-польские отношения в период мировой войны. С. 131). Как явствует из Камер-фурьерского журнала, 23 декабря 1916 г. «от 11 ч.» «представляться Его величеству имел счастие» «член Государственного совета по выборам в должности шталмейстера граф Велепольский» (Николай II накануне отречения. С. 25). В дневнике царь об этом не сообщил, сделав только следующую запись: «В 11 ч. принял Барка, а затем представляющихся» (Дневники императора Николая II. Т. 2, ч. 2. С. 272). «23 декабря, – показывал С.И. Велепольский ЧСК, – я обратился к государю императору, в связи с разговором, который имел в июне. Тогда я говорил (это мне было довольно легко) о распространяющихся слухах, что немцы подготовляют акт (о независимости Польши. – С.К.). Теперь это произошло. И вот, в виду появления Приказа по армии и флоту, я обратился к государю императору с просьбою указать, как следует нам понимать слова “свобода Польши”, потому что я должен был дать комментарии. Я спросил государя и получил ответ, выяснившийся из разговора (о чем мне было разрешено государем императором опубликовать, и это было напечатано), что Польше будет дарован собственный государственный строй со своими законодательными палатами и собственная армия. И это решение, это последнее отношение к польскому вопросу, как я заявил, всегда благожелательное, благосклонное у государя императора, могло только глубокое произвести на меня впечатление» (Допрос графа С.И. Велепольского. 14 июля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 6. С. 44).
(обратно)868
Во всеподданнейшем докладе от 12 января 1917 г. князь Н.Д. Голицын полагал необходимым, в связи с Приказом по армии и флоту от 12 декабря 1916 г., «определенным образом разработать» основные начала будущего государственного устройства Польши и ее отношений к Российской империи. Для «соображения вышеуказанных вопросов» премьер предлагал собрать под своим председательством Особое совещание. После выработки Особым совещанием главных начал государственного устройства Польши и одобрения их императором окончательную редакцию ее Основных законов Н.Д. Голицын рекомендовал возложить на то же Особое совещание, с привлечением в него «представителей польского народа» в лице выборных членов Государственного совета графа С.И. Велепольского и И.А. Шебеко и, «если сие будет признано желательным», некоторых депутатов Думы польской национальности. Премьер предлагал также, «в виду нынешнего общего политического положения», придать работам Особого совещания по польскому вопросу «характер срочности». Царь утвердил всеподданнейший доклад Н.Д. Голицына в день его представления, т. е. 12 января (см.: Доклад кн. Голицына Николаю Романову 12 января 1917 г. // Русско-польские отношения в период мировой войны. С. 132–133). В другом всеподданнейшем докладе Н.Д. Голицына, от 20 января, он уведомил Николая II, что сведения о создании Особого совещания проникли в печать, в частности в газеты «Речь» и «Новое время», причем последняя опубликовала неверную информацию, что польский вопрос будет решаться не Особым совещанием, а МВД. Во избежание ложных слухов и неблагоприятного впечатления у зарубежных поляков князь предлагал опубликовать сообщение о высочайшем повелении относительно учреждения Особого совещания, а затем по возможности давать в печать краткие сведения о его работе. Этот всеподданнейший доклад император утвердил на следующий день, 21 января (Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX вв.). СПб., 1998. С. 428). Графу С.И. Велепольскому Н.Д. Голицын сообщил, что когда Особое совещание по Польше «выскажет свои соображения», то «для согласования их будут приглашены представители Польши». Рассказав ЧСК о беседе с князем, граф отметил: «Но должен заявить, что, говоря с князем Голицыным по этому поводу, я находил такое решение правильным. Дело русских государственных деятелей составить целый проект, а мы можем явиться только тогда, когда он будет готов, и не должны принимать участия в составлении его. Так что я против этого совсем не возражал» (Допрос графа С.И. Велепольского. 14 июля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 6. С. 46).
(обратно)869
Н.Н. Покровский пропустил министра финансов П.Л. Барка, вместо которого в заседаниях Особого совещания по Польше (они прошли 8, 9 и 12 февраля 1917 г.) участвовал товарищ министра финансов А.И. Николаенко. «Членом комиссии, – вспоминал В.И. Гурко об участии Н.Н. Анциферова в Особом совещании, – должен был быть и Протопопов. Перед самым началом заседания я встретился с ним в кабинете Голицына, где уже был подготовлен для совещания стол. Тем не менее, когда туда вошел Родзянко, Протопопов резко повернулся и вышел из комнаты через другую дверь. На первом заседании его место пустовало, а в следующие дни он присылал вместо себя одного из товарищей министра» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 309).
(обратно)870
В.И. Гурко, пригрозив отставкой, выступил против Декларации прав солдата в мае 1917 г. в присутствии А.Ф. Керенского на Совещании главнокомандующих (верховного и фронтами), министров Временного правительства, членов Временного комитета Думы и Президиума Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Однако по личному приказу А.Ф. Керенского генерал был заключен 22 июля 1917 г. в Петропавловскую крепость отнюдь не за это выступление, а за его письмо отрекшемуся Николаю II от 4 марта 1917 г., обнаруженное в личном архиве императора только через четыре месяца. Сообщая историю письма, В.И. Гурко вспоминал, что 2 марта 1917 г. в Луцке он, тогда командующий Особой армией, стал получать газеты, в которых сообщалось, что «бесчинствующие толпы врываются в дома всех сколько-нибудь известных деятелей старого режима» и подвергают их «заключению в стенах Петропавловской крепости». «Среди заключенных таким образом, – отмечал генерал, – оказались прекрасно известные мне люди, ничем не запятнавшие свое доброе имя, причем многие из них уже в очень преклонных летах». Жена В.И. Гурко «первая высказала мысль написать императору с просьбой использовать свое влияние для облегчения положения людей, заключенных в крепость, которым угрожала теперь опасность стать жертвой безответственных толп». Подразумевая отречение Николая II не в пользу сына Алексея Николаевича, а в пользу брата Михаила Александровича, генерал обращался к бывшему монарху 4 марта со следующими соображениями: «Может быть, Вы сохраняете для своего сына возможность получить, покуда он повзрослеет, более правильное и последовательное образование, обстоятельно изучить общественные науки и узнать жизнь и людей, чтобы в должный срок, по окончании бурного периода в жизни государства, глаза всех тех, кто желает России добра, обратились к нему, как к надежде России. Однако, даже не рассматривая перспективы достаточно отдаленного будущего, невозможно не предвидеть возможность того, что после приобретения болезненного опыта внутренних неурядиц, после испытания жизнью государственного устройства и форм правления, к которым, исторически и социально, русский народ отнюдь не готов, страна вновь обратится к законному императору и Помазаннику Божию. Прошлая история народов учит нас, что в этом нет ничего невозможного, а исключительность обстоятельств, при которых произошла перемена правительства в Петрограде, и тот факт, что для большинства народа эта перемена стала такой же неожиданностью, какой она была для нас и для всей Вашей армии, – все это дает основания предположить, что подобное развитие событий весьма вероятно». В.И. Гурко обратился также к Николаю II, самому находившемуся накануне ареста, с просьбой содействовать освобождению сановников, арестованных в ходе Февральской революции. Указав, что власти содержат их в заключении, хотя если они и были повинны в чем-либо, то, во всяком случае, действовали в рамках существовавших в то время законов, между тем такое отношение к ним «посягает на ту самую свободу, которую захватившие власть люди провозгласили, написав на своих знаменах», В.И. Гурко переходил к главному: «Предположим, возможно допустить вероятность того, что страна пожелает вернуться в состояние законопослушания и порядка. В таком случае необходимо, чтобы лица, которые могут тогда составить центр, способный объединить всех, кто стремится не к временной власти, но к поступательному развитию и постепенной эволюции русского народа, не были остановлены воспоминанием о том, что в то время, когда их идеалы временно отступили, они не приложили усилий, пусть даже, при необходимости, исключительных, для обеспечения безопасности и личной свободы, а возможно, и жизни тех людей, большинство из которых в свое время искренне и верно служили своей стране, хотя и руководствовались при этом законами, быть может, устаревшими, но тем не менее юридически сохранявшими силу». Временное правительство после кратковременного заключения генерала в Петропавловской крепости выслало его за границу (Гурко В.И. Указ. соч. С. 331–332, 361–363, 380–386, 389–392).
(обратно)871
Сторонниками предоставления независимости Польши были четверо участников Особого совещания – Н.Н. Анциферов (говоривший от имени А.Д. Протопопова), генерал В.И. Гурко, С.Е. Крыжановский и И.Г. Щегловитов. Отвечая на вопрос, должна ли Польша быть связана с Россией унией или стать совсем независимой, они заявили, что сохранение связи между получающей независимость Польшей и Россией противоречит принципу единства и неделимости Российской империи, поскольку вызовет замешательство во внутренней жизни страны, в составе которой «немало народностей, издавна проникнутых мечтами о племенном самоопределении», и пример Польши возбудит в них «затаенные вожделения об автономии». При сохранении связи между Польшей и Россией польская интеллигенция, воспитанная «в условиях прогрессивного течения мысли Западной Европы», еще больше заполонит интеллигентные профессии в России и «внесет с собою политическую отраву в широкие круги русского населения», а в Западных губерниях укрепит в умах местных поляков мысль о присоединении к Польше. «Только проведение государственной границы между Россией и совершенно отделенной от нее независимой Польшей, – полагали перечисленные сановники, – могло бы дать средства для борьбы с такими посягательствами». Будучи в составе России, Польша получила бы и нежелательное влияние на деятельность имперских законодательных учреждений, т. е. Думы и Государственного совета. Наконец, сохранение связи России с Польшей представлялось им невыгодным и экономически, так как в этом случае пришлось бы ассигновать средства на ее восстановление, а впоследствии Польша наводнила бы Россию дешевыми товарами и создала «непосильную для русской промышленности конкуренцию». Отделение Польши от России представлялось четырем членам Особого совещания неопасным и в военном отношении, поскольку в этом случае потери людских ресурсов будут не так уж велики, а граница Российской империи станет более удобной. Прогнозируя реакцию русского населения на создание независимой Польши, упомянутые сановники считали, что раз это окажется возможным только в случае победы, то другие территориальные приобретения перекроют потерю Польши, дарование которой свободы общественное мнение России воспримет как «добровольный щедрый дар русского царя». И.Г. Щегловитов предложил для предотвращения угрожающего положения, какое могло бы создаться от образования в Польше самостоятельной армии, объявить ее нейтральным государством при международных гарантиях безопасности (Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма. С. 428–429). Согласно В.И. Гурко, на заседаниях Особого совещания он играл ведущую роль, поскольку в начале его работы выступил с толкованием слов о Польше в Приказе царя по армии и флоту от 12 декабря 1916 г. В связи с этим генерал развернул «все аргументы, которые привели меня, – вспоминал он, – к мысли о том, что благополучие двух славянских народов – русского и польского – несовместимо с их насильственным объединением в одной империи и должно быть упразднено. Польше должно быть позволено вести такое же независимое существование, как России». По наблюдениям В.И. Гурко, «дальнейшие дебаты свелись к обсуждению справедливости или ошибочности представленных мной доводов» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 308–309).
(обратно)872
Имеется в виду Великое княжество Литовское, возникшее в середине XIII в., когда Киевская Русь переживала период фактической раздробленности, распавшись на отдельные княжества – уделы, в которых правили представители династии Рюриковичей.
(обратно)873
Шесть членов Особого совещания – князь Н.Д. Голицын, генерал М.А. Беляев, И.Л. Горемыкин, А.И. Николаенко (говоривший от лица П.Л. Барка), Н.Н. Покровский и С.Д. Сазонов – полагали, что сохранение связи России с Польшей полезнее для обоих государств, ибо именно в этом случае сохранится принцип единства и неделимости Российской империи, полное же отделение Польши «возбудит умы других населяющих Государство Российское народностей и зародит у них мысль о получении такой же самостоятельности». Опасаться захвата свободных профессий поляками не стоит, поскольку, отмечали шесть сановников, он не так велик и происходит за счет поляков из других местностей империи, а не из Царства Польского, тем более что вообще прилив культурных сил полезен. «Если же исходить из того соображения, что во избежание распространения польского влияния Россия должна отделиться от Польши крепкой стеной государственной границы, – считали сторонники сохранения связи между ними, – то пришлось бы меру эту применить также и в отношении других местностей с преобладающим инородческим населением, как, например, к Прибалтийскому краю и к Кавказу». Между тем России необходимо не отмежевываться от Польши, а «поднятием культурного развития внутри страны» уничтожить опасность захвата интеллигентских профессий инородцами. Независимая Польша, ослабленная после войны, приводился еще один аргумент за сохранение связи между ней и Россией, станет искать союзников и найдет их прежде всего в Германии, которая в результате поработит поляков, а потому полное отделение Польши было бы воспринято как отречение от нее и как фактическая передача славянского государства в руки государства с неславянской культурой. Для недопущения этого пришлось бы и после отделения Польши тратить на нее государственные средства, отрывая их от России и не получая взамен никаких материальных, политических и стратегических выгод. Принимая во внимание приведенные соображения, указанные члены Особого совещания выступили за сохранение единства России и Польши в династическом, дипломатическом, военном, таможенном и финансовом аспектах и дарование полякам «свободы внутреннего строительства» в остальных сферах (см.: Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма. С. 429–430). С.Д. Сазонов «и другие, склонные поддержать его мнение, – вспоминал В.И. Гурко, – излагали свое понимание будущего устройства Польши и той роли, которую она будет играть в составе Российской империи. Некоторые из них считали, что автономия должна давать Польше право иметь собственные войска; некоторые представляли себе в будущем образование некоего двуединого царства, напоминающего Австро-Венгрию. Большинство этих людей более всего страшились того, что независимая Польша попадет под германское влияние, что отзовется ущемлением русских интересов». «Среди моих оппонентов, – отмечал В.И. Гурко, – был генерал Беляев, который признал, что голосовал против, руководствуясь своими представлениями о стратегическом положении России. Позднее, в частной беседе, Беляев согласился с моим мнением, но в заседаниях комиссии он никогда больше не высказывался на эту тему, так что я не вполне уверен, каких взглядов он в действительности придерживался» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 309).
(обратно)874
И.Л. Горемыкин занял более либеральную точку зрения, полагая, что главное при решении польского вопроса – это сохранение единства престолов, дипломатии и войска, в то время как другие вопросы, в т. ч. о таможенной границе, могли бы быть решены законодательными учреждениями обоих государств (см.: Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма. С. 430).
(обратно)875
М.В. Родзянко представил особое мнение, содержание которого неизвестно, поскольку соответствующий документ до сих пор не найден (см.: Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма. С. 430). «После трех заседаний, – подчеркивал В.И. Гурко, – князь Голицын провел подсчет голосов членов комиссии, поддерживавших мою позицию или высказавшихся против. Мои противники, получив на один голос больше, оказались в большинстве». Поскольку членами Особого совещания были 11 человек, причем точно известно о мнении десяти из них, можно утверждать, что М.В. Родзянко высказался за полное отделение Польши от России. Что касается мнения Н.Н. Анциферова, то он также присоединился к В.И. Гурко. «К моему изумлению, – вспоминал генерал, – при подсчете голосов этот чиновник объявил, что министр Протопопов, которого он представляет, согласен с моим мнением» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 309).
(обратно)876
Вспоминая последнее заседание Особого совещания, В.И. Гурко писал: «Несмотря на исход голосования, на следующее заседание, дата которого заранее не оговаривалась, решено было пригласить нескольких наиболее значительных польских политических деятелей. Предполагалось дать им возможность изложить надежды и чаяния пускай хотя бы только тех поляков, мнения которых они сами представляли» (Там же. С. 309–310).
(обратно)877
С началом Первой мировой войны чешский и сопряженный с ним словацкий вопросы обострились, поскольку их решение зависело от послевоенной судьбы Австро-Венгрии, от того, сохранится ли она в качестве преобразованного на основе триализма (Австрия, Венгрия и Чехословакия) государства или распадется. Представители чешской колонии в России в августе и сентябре 1914 г. были дважды приняты Николаем II. При второй встрече с императором ему преподнесли обращение «О восстановлении Чешского королевства», которое мыслилось авторам «под лучами великой и могущественной династии Романовых». Беседуя с чешскими представителями 15 сентября 1914 г., министр иностранных дел С.Д. Сазонов заявил, что «если Бог пошлет победу русскому оружию, то воссоздание вполне самостоятельного Чешского королевства стоит в планах русского правительства». Однако в 1914–1915 гг. Россия избегала включать чешский вопрос, в отличие от польского, в официальную повестку дня. В течение 1915 г. происходит переориентация лидеров чешской эмиграции, прежде всего – группы Т.Г. Масарика, с России на Англию и Францию как на страны, способные решить чешский вопрос в приемлемом для этой группы духе. Данная ситуация обратила на себя внимание чиновника МИД, бывшего генерального консула в Будапеште М.Г. Приклонского, подготовившего 19 мая 1916 г. записку, в которой деятельность Масарика и возглавлявшегося им Чешского заграничного комитета в Париже подверглась критике и обосновывалась необходимость активного участия России в подготовке послевоенной судьбы Чехии и Словакии. Приклонский предлагал создать в Петрограде под негласным надзором МИД Чешский и Словацкий комитеты, вызвать в Россию депутата Австрийского рейхсрата и русофильского чешского деятеля Й. Дюриха, снабдить его достаточными средствами, наладить контакты с чехами и словаками, жившими в Москве, Киеве и Одессе, и «выработать план действий для направления чешского и славянского вопросов». Через месяц Приклонский подготовил и проект всеподданнейшего доклада, содержавший указанные соображения. План Приклонского, проигнорированный Сазоновым, взял на вооружение его преемник Б.В. Штюрмер, который специально под Приклонского создал Особый политический отдел, учрежденный 27 августа 1916 г. как временное подразделение МИД. В его компетенцию входили вопросы, касавшиеся не только чешских и словацких, но и ватиканских, польских, карпато-русинских, югославянских и венгерских дел, а также издание специального печатного органа на русском и чешском языках. С согласия МИД 10 января 1917 г. был образован Чешский национальный совет в России из 12 человек во главе с Дюрихом, имевший целью, помимо прочего, созыв в Петрограде чешского съезда. После Февральской революции Чешский национальный совет был распущен 13 апреля, а Особый политический отдел упразднен 4 октября 1917 г. Подробнее см.: Савваитова М.Д. Чешский вопрос в официальных кругах России в годы Первой мировой войны // Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 113–126. См. также: Чехословацкий вопрос и царская дипломатия в 1914–1917 гг. // Красный архив. 1929. Т. 33. С. 3 – 33; Т. 34. С. 3 – 38.
(обратно)878
В ответ на обращение Четверного союза Антанта объявила 17 (30) декабря 1916 г.: «Никакой мир невозможен до тех пор, пока не будет осуществлено восстановление всех нарушенных прав и свобод, пока не будут признаны национальный принцип и принцип свободы малых стран и обеспечено такое урегулирование, которое раз навсегда устранит причины, в течение стольких лет угрожавшие безопасности народов, и тем самым будут созданы единственно эффективные гарантии безопасности во всем мире» (Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 55).
(обратно)879
Президент В. Вильсон 5 (18) декабря 1916 г. обратился к воюющим странам с нотой, в которой предложил им изложить свои условия мира (см.: Гершов З.М. Вудро Вильсон. М., 1983. С. 119).
(обратно)880
Ответ Антанты на ноту В. Вильсона последовал 28 декабря 1916 г. (10 января 1917 г.) и содержал следующие требования, объявленные «существенным условием любого мирного урегулирования, на которое могли бы согласиться союзные державы»: восстановление Бельгии, Сербии и Черногории и возмещение этим странам убытков, причиненных им неприятельским вторжением; освобождение занятых областей Франции, России и Румынии и соответствующее возмещение; реорганизация Европы, обеспеченная твердым соглашением, основанным в одинаковой мере на национальном принципе, на праве каждого народа – великого или малого – пользоваться полной безопасностью и свободой экономического развития, а также на территориальных и международных договорах, составленных таким образом, чтобы гарантировать сухопутные и морские границы от несправедливого нападения; возвращение областей, ранее отнятых у союзников насильно или против воли их населения; освобождение итальянцев, славян, румын, чехов и словаков от иностранного владычества; освобождение нетурецких народностей, подчиненных «кровавой тирании турок», и изгнание из Европы Оттоманской империи, которая «показала себя совершенно чуждой западной цивилизации»; проведение в жизнь воззвания великого князя Николая Николаевича от 1 августа 1914 г. об освобождении Польши; избавление всех стран Европы от «грубого насилия прусского милитаризма» (Ллойд Джордж Д. Указ. соч. С. 58–59).
(обратно)881
Четверной союз ответил на ноту В. Вильсона уже 13 (26) декабря 1916 г., однако этот ответ содержал только предложение «созыва в ближайшем будущем съезда представителей воюющих государств в каком-либо нейтральном пункте. Они, – вспоминал Э. Людендорф, имея в виду страны Германского блока, – уклонились от предложения Вильсона, так как хотели вести переговоры с противником непосредственно» (Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. М., 2014. С. 275).
(обратно)882
Объявление Германией неограниченной подводной войны произошло 19 января (1 февраля) 1917 г., объявление США войны Германии – 24 марта (6 апреля) того же года.
(обратно)883
В середине января 1917 г. посланнику России в Швеции А.В. Неклюдову телефонировал болгарский посланник в Германии Д. Ризов, сообщивший, что «очень хотел бы» побеседовать с А.В. Неклюдовым. Последний пригласил к себе английского, французского и итальянского посланников, уведомил их о звонке и спросил, должен ли он принимать Д. Ризова. Дипломаты решили, что А.В. Неклюдов должен принять болгарского посланника «хотя бы для того, чтобы увидеть, как он себя будет вести». А.В. Неклюдов принял Д. Ризова, который рассказал, что «предпринятый им шаг носит совершенно частный характер», поскольку он пришел, чтобы «сообщить о политических мнениях и комбинациях, являющихся его личными убеждениями», однако он «имеет основание полагать, после своего недавнего посещения Софии, что взгляды болгарского правительства совершенно согласуются с его взглядами». На прямой вопрос, имеет ли Германия отношение к его миссии, Д. Ризов ответил отрицательно, заметив, что «путешествует по Скандинавии под вымышленным именем». Болгарский посланник заговорил далее о том, что «настоящая война между Болгарией и Россией является совершенно ненормальной и должна быть прекращена как можно скорее». «Болгары, – полагал он, – имеют достаточные основания, чтобы таить злобу против официальной России; но в сердце своем они питают нерушимую любовь к русскому народу. Для обеих сторон было бы важно облегчить примирение; быть может, настоящий момент является подходящим, чтобы начать совершенно конфиденциальные беседы, которые могут привести к действительным переговорам». Неклюдов обещал Ризову телеграфировать о его предложении Министерству иностранных дел, однако в целом отнесся к Ризову и его предложениям нарочито холодно, что заставило болгарского посланника перед уходом заявить следующее: «Я вижу, что вы мало обращаете внимания на то, что я вам сказал, и не хотите говорить со мной откровенно. Но через месяц, или самое позднее – через полтора, произойдут события, после которых, я уверен, что с русской стороны будут более склонны к разговорам с нами. Быть может, вы меня тогда вновь увидите!» В тот же вечер Неклюдов телеграфировал Н.Н. Покровскому, описав ему беседу с Ризовым и прибавив, что «если в Софии действительно желают вступить с нами в переговоры, то Ризов – в силу своего настоящего положения и той роли, которую он играл раньше, – является человеком, наименее способным вызвать наше доверие. В этом случае, – заключал Неклюдов, – была бы интересной и успешной беседа с влиятельными болгарскими генералами или их доверенными лицами; и так как обе армии противостоят друг другу на нижнем Дунае, то было бы в высшей степени легко для болгар устроить там свидание с нашими представителями». Через четыре дня Ризов позвонил Неклюдову, но тот сообщил, что ответа из МИД еще не получил, после чего болгарин заявил, что не намерен больше ждать и уезжает в Христианию (столицу Норвегии). Через два дня после отъезда Ризова Неклюдов получил от Н.Н. Покровского телеграмму, рекомендовавшую, в случае вторичного визита болгарского посланника, «внимательно выслушать его и постараться заставить его сделать более определенные предложения». Неклюдов отмечал, что такие же инструкции получил и посланник России в Норвегии К.Н. Гулькевич, но его беседы с Ризовым «окончились ничем» (Неклюдов А.В. Предсказание русской революции // Архив русской революции. 1921. Т. 1. С. 257–259). Действительно, в начале 20-х чисел января 1917 г. Д. Ризов посетил К.Н. Гулькевича в здании российской миссии без предупреждения, поскольку их связывали дружеские отношения по довоенной службе в Риме, когда болгарский дипломат «афишировал безграничную преданность России». Ризов заявил, что «как личные его чувства, так и чувства Болгарии к России не изменились», и «будущее это подтвердит». Болгарин добавил, что специально приехал из Берлина, чтобы просить Гулькевича телеграфировать Н.Н. Покровскому «о желании Германии на чрезвычайно выгодных условиях заключить сепаратный с Россией мир». Ризов, телеграфировал посланник в Норвегии министру иностранных дел, сообщил, что имеется «решение Германии обеспечить выход из Черного моря не только нашей торговле, но и военным и морским силам». Ризов также заметил, что «не имеет полномочий ни от германского, ни от своего правительства» и «действует на свой страх, дабы оберечь нас от бедствий, которые могут угрожать нам, ибо немцы, будто бы, в мае удивят мир чудовищными вооружениями», но не оставил в Гулькевиче «малейшего сомнения», что «действовал по поручению немцев». Российский посланник ответил, что не может передать его слов в Петроград, так как не имеет права «выслушивать предложения наших врагов», однако телеграфировал об этом эпизоде Покровскому, а через два дня рассказал о нем посланникам союзных держав в Норвегии. Как Неклюдов, так и Гулькевич получили от Покровского общую инструкцию, сводившуюся к тому, чтобы в случае новых попыток со стороны Ризова добиться от него более точной формулировки условий прекращения войны (К.Н. Гулькевич – Н.Н. Покровскому. 22 и 24 января 1917 г. // Константинополь и проливы: По секретным документам бывшего МИД: В 2 т. М., 1926. Т. 2. С. 384, 385). Между тем в своих воспоминаниях Н.Н. Покровский пишет иное.
(обратно)884
А.В. Неклюдов телеграфировал Н.Н. Покровскому 4 (17) января 1917 г.: «В миссию явился американский доктор Карл Перен, заявивший, что получил личное приглашение министра внутренних дел Протопопова спешно прибыть в Россию. Срок американского паспорта Перена истек в октябре. Новый документ им еще не получен. Перен просит, чтобы министр внутренних дел, если желает видеть его, разрешил ему въехать в Россию и выехать из нее в исключительном порядке, без американского паспорта. Не откажите передать изложенное Протопопову. Миссия не имеет никаких сведений о личности Перена. Вообще он производит впечатление скорее странное» (Хиромант Перен и русский министр // Красный архив. 1926. Т. 14. С. 288).
(обратно)885
То есть 21 февраля 1917 г.
(обратно)886
В контактах А.Д. Протопопова с К. Перреном современники видели доказательство того, что первый стремится к сепаратному миру, однако вот что явствует из Справки от 20 сентября 1917 г., сохранившейся в делах ЧСК Временного правительства и составленной ее следователем Г.П. Гирчичем: «Находившиеся в производстве в 27-й следственной части ЧСК расследования о деятельности А.Д. Протопопова, возникшие по признакам ст. 108 Уголовного уложения (сношения его с Варбургом, Переном, переписка о сношениях Манасевича-Мануйлова с Каро), направляются командированным в ЧСК Г.П. Гирчичем в названную Комиссию, применительно к 277 ст. Устава уголовного судопроизводства, для прекращения за отсутствием указаний на признаки какого-либо преступления». Подробнее об инциденте с К. Перреном см.: Хиромант Перен и русский министр. С. 270–278.
(обратно)887
Петроградская конференция союзников проходила с 19 января (1 февраля) по 7 (20) февраля 1917 г. В ней участвовали представители Великобритании, Италии, России и Франции, а также, на одном заседании, Румынии. Подробнее о ней см.: Конференция союзников в Петрограде в 1917 г. // Красный архив. 1927. Т. 20. С. 39–55; Емец В.А., Карлинер М.М. Англия и Петроградская конференция Антанты 1917 г. // Международные отношения, политика, дипломатия. XVI–XX вв. М., 1964. С. 322–358; Сидоров А.Л. Указ. соч. С. 415–442; Он же. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973. С. 310–332; Емец В.А. Петроградская конференция 1917 г. и Франция // Исторические записки. 1969. Т. 83. С. 23–37; Он же. Очерки внешней политики России в период Первой мировой войны. Взаимоотношения России с союзниками по вопросам ведения войны. М., 1977. C. 335–352; Алексеева И.В. Указ. соч. С. 239–251.
(обратно)888
Всего в состав делегации Великобритании входили 19 человек, Италии – 10 и Франции – 15 (см.: Николай II накануне отречения. С. 51–52). Официальными представителями Великобритании являлись член Кабинета министров и Военного совета лорд А. Мильнер, посол Великобритании в России Д.У. Бьюкенен, полномочный министр лорд Д. Ревельсток и генерал Г.Ю. Вильсон; Италии – член Кабинета министров и сенатор В. Шалойя, посол Италии в России маркиз А. Карлотти ди Рипарбелла и генерал граф П. Руджиери-Ладерки; Франции – министр колоний Г. Думерг, посол Франции в России Ж.М. Палеолог и генерал виконт Н.Ж. де Кастельно. Единственным представителем Румынии был председатель ее Совета министров И. Братиано. Россию на конференции представляли 11 человек – министры: иностранных дел Н.Н. Покровский (ее председатель), военный – генерал М.А. Беляев, морской – адмирал И.К. Григорович, финансов – П.Л. Барк, торговли и промышленности – князь В.Н. Шаховской, управляющий МПС – Э.Б. Кригер-Войновский, товарищ министра иностранных дел А.А. Нератов и посол России в Англии С.Д. Сазонов, а также исполняющий обязанности начальника Штаба верховного главнокомандующего генерал В.И. Гурко, начальник Морского штаба при верховном главнокомандующем адмирал А.И. Русин и полевой генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович. Управление делами конференции (заведование ее делопроизводством) было возложено на товарища министра финансов С.А. Шателена (см.: Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде» // Монархия перед крушением. С. 68).
(обратно)889
Союзные делегации прибыли в Колу (Мурманск) 12 (25) января, где их встретил генерал Свиты его величества граф Г.И. Ностиц, который, по воспоминаниям члена итальянской делегации, начальника Кабинета министра иностранных дел графа Л. Альдрованди-Марескотти ди Виана, передал делегатам «привет от русского правительства» (Альдрованди-Марескотти Л. Дипломатическая война: Воспоминания и отрывки из дневника (1914–1919 гг.). М., 1944. С. 62). Г.И. Ностиц был послан в Мурман специально для того, чтобы официально встретить иностранных гостей (Гурко В.И. Указ. соч. С. 290).
(обратно)890
Союзные делегации приехали в Петроград 16 (29) января, и в тот же день их главы отправились в МИД, где с участием Н.Н. Покровского состоялся «предварительный обмен мнений для установления общего плана работ конференции». После этого главы делегаций посетили Военное министерство и встретились с генералом М.А. Беляевым, затем – с генералом В.И. Гурко (см.: Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 68; Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 63, 64).
(обратно)891
Лорд А. Мильнер передал Николаю II записку, датированную 4 (17) февраля 1917 г. Призывая царя назначать на министерские посты представителей оппозиционной общественности, А. Мильнер советовал проявить «мудрость», которая заключается «в привлечении лучших специалистов, где бы они ни находились, и в назначении их, совершенно не считаясь с официальными традициями, на те высокие правительственные посты, где техническая сноровка имеет величайшее значение». Текст записки см.: Монархия перед крушением. С. 77–85.
(обратно)892
Первое пленарное заседание конференции в Мариинском дворце произошло 19 января (1 февраля) (см.: Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 68). «Покровский, – записал в этот день Л. Альдрованди-Марескотти, – зачитывает программу работ конференции. Программа эта обнимает многочисленные вопросы и проблемы, касающиеся нынешнего международного положения. Слишком многочисленные» (Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 67).
(обратно)893
Имеются в виду департаменты дореформенного Государственного совета.
(обратно)894
«Открыв заседание, – докладывал Н.Н. Покровский Николаю II, – я счел долгом, от лица Императорского правительства, обратиться к представителям союзных держав со словами приветствия, выразив уверенность, что приезд их явится залогом еще более тесного, чем доныне, единения между союзниками; мною было при этом указано, что центральные державы, благодаря преимуществам своего географического положения, сумели достигнуть ряда успехов, создающих видимость такого положения вещей, что военная удача не находится на стороне союзников. Этому должен быть положен конец, и задача, властно требующая своего разрешения со стороны держав Согласия, сводится к тому, чтобы, вырвав из рук противника почин военных действий, нанести ему решительный удар». Затем выступил генерал В.И. Гурко, который, «отметив, со своей стороны, всю важность тесного согласования действий союзников, указал, что Россия доныне лишена была возможности в полной мере проявить свои силы, в виду недостатка в военном снабжении, и указал при этом, что русская армия должна быть снабжена необходимым военным снаряжением для ускорения успешного конца войны». Главы союзных делегаций – Г. Думерг, А. Мильнер и В. Шалойя – «в сердечных выражениях благодарили Императорское правительство за оказанный им радушный прием и единодушно указывали на необходимость установления полного между союзниками единства действий, доведения войны до успешного конца и завершения ее миром, но не на тех условиях, которым союзники вынуждены были бы подчиниться, а на условиях, которые они сами властно предъявят врагу» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 68–69).
(обратно)895
«Перейдя затем к вопросам делового порядка, – сообщал Н.Н. Покровский царю, – конференция одобрила представленную ее вниманию программу занятий, предусматривавшую обсуждение вопросов о дальнейшем направлении военных действий, о способах разрешения стоящих на очереди политических задач, об обеспечении русской армии необходимым боевым снаряжением и, наконец, об облегчении нам производства платежей по заграничным военным покупкам и заказам, а равно об упорядочении других наших финансовых потребностей. Имея в виду многообразие и сложность предстоящих ей работ, конференция высказалась за предоставление, для скорейшего и наиболее успешного выполнения этих работ, обсуждения вопросов политического и стратегического свойства в более тесной среде членов конференции, ближайше к ним прикосновенных, а для рассмотрения вопросов по снабжению армии и финансовых постановила образовать отдельные комиссии, с тем, чтобы принятые ими решения были, затем, представлены на утверждение конференции». Работы конференции протекали в двух совещаниях, по политическим и стратегическим вопросам, и в двух комиссиях, по снабжению армии и Финансовой (см.: Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 69). В воспоминаниях Н.Н. Покровский несколько упростил структуру конференции, которая в действительности разделилась не на три «секции» (Военную, Финансовую и Политическую), а на два совещания и две комиссии, причем Совещание по стратегическим вопросам и Комиссию по снабжению армии Н.Н. Покровский соединил в одну – Военную – «секцию».
(обратно)896
«Европейская гостиница» (гостиница «Европейская») – одна из самых фешенебельных гостиниц дореволюционного Петербурга (Петрограда), находится около Невского проспекта (Думская ул., 1/7). Сооружена в 1873–1875 г. архитектором Л.Ф. Фонтана на основе бывшего отеля Г. Клее и доходного дома А. Рогова. В 1905 г. интерьеры гостиницы были переделаны в стиле модерн по проекту К.Э. Маккензена, в 1908–1914 гг. – Ф.И. Лидваля, который в 1908 г. надстроил 5-й этаж, где в 1910 г. открылся ресторан «Крыша» с летним залом и садом.
(обратно)897
В «Европейской гостинице» заседало Совещание по стратегическим вопросам, а в Генеральном штабе – Комиссия по снабжению армии.
(обратно)898
Председателем Финансовой секции был П.Л. Барк, а ее единственным постоянным членом – Д. Ревельсток. В более представительном составе эта секция собиралась только один раз – в конце конференции, когда на ее заседание пригласили руководителей делегаций (Гурко В.И. Указ. соч. С. 295).
(обратно)899
Совет министра финансов – образованный 25 июня 1811 г. совещательный орган при министре финансов, занимавшийся рассмотрением наиболее важных вопросов деятельности Министерства финансов. Председателем Совета являлся министр финансов, его членами были (по должности) товарищи министра, директора департаментов и других подразделений Министерства, а также «особенные члены», назначавшиеся императором. Упразднен 25 ноября 1917 г.
(обратно)900
Председателем Политической секции являлся Н.Н. Покровский, ее членами были со стороны Англии, Италии и Франции – А. Мильнер, Д. Ревельсток, В. Шалойя и Г. Думерг, а также послы Д.У. Бьюкенен, А. Карлотти ди Рипарбелла и Ж.М. Палеолог, со стороны России – П.Л. Барк, генерал В.И. Гурко, А.А. Нератов и С.Д. Сазонов. На одно из заседаний Политической секции и пригласили И. Братиано (см.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 295–296).
(обратно)901
Заключительное пленарное заседание конференции произошло 7 (20) февраля 1917 г. На нем были приняты, в частности, резолюции о финансовой помощи России, об усилении участия Японии в войне и о центральном координирующем органе (см.: Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 77–78). «По завершении трудов образованных в ее составе совещаний и комиссий, – докладывал Н.Н. Покровский Николаю II, – конференция собралась 7 сего февраля, в заключительное заседание, в коем были одобрены разработанные означенными совещаниями и комиссиями предположения, а на следующий день, 8 февраля, союзные делегаты отбыли из Петрограда» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 69–70).
(обратно)902
Заседание Финансовой комиссии, на котором выступил П.Л. Барк, состоялось 25 января (7 февраля) (см.: Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 72–73). «В области финансовой, – докладывал Н.Н. Покровский Николаю II, – с нашей стороны были высказаны пожелания о предоставлении нам необходимых кредитов для оплаты наших заграничных заказов и для производства заграничных платежей по государственному долгу, об оказании нам содействия по делу поддержания курса рубля, и некоторые другие, как-то: об удовлетворении потребности в серебре нашей армии в Персии, о совместном с союзниками изыскании средств для оплаты военных заказов, производимых в Японии. Представители союзных держав, признавая полную основательность наших пожеланий, выразили готовность представить своим правительствам об удовлетворении их в кратчайший срок. Достижение этих результатов, как то засвидетельствовано министром финансов, облегчалось серьезным отношением к нашим нуждам и благожелательною готовностью со стороны представителей союзных правительств идти нам навстречу, и далеко не представляло тех трудностей, с которыми приходилось встречаться при предшествующих финансовых переговорах, особливо летом минувшего года» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 75–76).
(обратно)903
То есть в Комиссии по снабжению армии.
(обратно)904
«В отношении вопросов снабжения армии, – информировал императора министр иностранных дел, – трудная и ответственная задача конференции сводилась, прежде всего, к выяснению нашей потребности к предметам и изделиям заграничного производства, которая и была определена путем вычета из общей суммы потребных для армии предметов количества их, могущего быть полученным за счет отечественного производства. Установленные таким образом, и оказавшиеся весьма крупными, размеры нашей потребности в предметах, подлежащих ввозу к нам из союзных стран, должны были подвергнуться известному сокращению, сообразно довольно ограниченной провозоспособности русских железных дорог и наличного, главным образом в распоряжении Великобритании, морского тоннажа, могущего быть использованным для доставления в наши порты означенных предметов. За всем тем, однако, получение предусмотренных соглашением предметов обороны и воинского снаряжения должно представить, по удостоверению военного министра, весьма существенное значение для поддержания боевой мощи нашей армии. Общая сумма преднамеченных к ввозу в Россию согласно достигнутому соглашению материалов выражается в 4 250 000 тонн (не считая заказов, могущих быть размещенными в Японии и Швеции). Хотя количество это и подразделено по отдельным родам предметов, однако нами выговорено право, не выходя из указанной общей суммы тоннажа, заменять одни предметы другими, что представляет немаловажное, конечно, для нас преимущество» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 75).
(обратно)905
«Первый из вопросов, поставленных на обсуждение Совещания по политическим вопросам, – подчеркивал Н.Н. Покровский, – сводился к установлению дальнейшего образа действия союзников касательно Греции <…>. При рассмотрении этого вопроса одни из членов конференции заявили себя сторонниками проведения решительных мер по отношению к Греции с целью надлежащего подчинения действий местного правительства воле и интересам союзников. <…> Согласно другому высказывавшемуся взгляду, выразителем коего явился, главным образом, представитель Италии сенатор Шалойя, державам Согласия следует, по возможности, избегать принятия таких мер, которые способны были бы обострить отношения их с Грециею и создать в ее лице лишнего врага <…>. Перейдя к обсуждению отдельных сторон этого общего вопроса, конференция остановилась на двух представляющих особливую важность его частностях: на вопросе о блокаде Греции и об объеме полномочий главнокомандующего Салоникской армии генерала Саррайля <…>. После весьма обстоятельного рассмотрения указанных вопросов, при котором некоторыми делегатами поддерживалось мнение о желательности возможно более настойчивого образа действий в отношении Греции и предоставления генералу Саррайлю, поскольку он пользуется доверием союзных правительств, полной свободы почина, конференция признала предпочтительным сохранить в силе в настоящее время <…> постановления Римской конференции» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 70–72). При обсуждении 20 января (2 февраля) в Совещании по политическим вопросам греческого вопроса В. Шалойя предложил оставить в силе решения Римской конференции (см.: Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 68). Постановления Петроградской конференции по греческому вопросу гласили: 1) конференция, констатируя недостаточность связи, обнаружившейся в прошлом и продолжающей обнаруживаться после Римской конференции, между посланниками союзных держав в Афинах, постановляет, что следует принять необходимые меры для обеспечения между ними вполне согласованных действий; 2) ссылаясь на решения упомянутой конференции, конференция постановляет, что когда специальные делегаты, на которых возложен контроль, засвидетельствуют полное выполнение требований, предъявленных к Греции, тогда ослабление блокады позволит дать известное количество запасов жизненных припасов, не превышающее необходимого количества таковых запасов для снабжения ими страны на срок в два или три дня, и чтобы количество портов, через которые можно будет производить ввоз, было строго ограничено для обеспечения действительного контроля (Конференция союзников в Петрограде в 1917 г. С. 54–55).
(обратно)906
На заседании Политической секции 22 января (4 февраля) Н.Н. Покровский в ходе рассмотрения греческого вопроса предложил образовать «постоянный комитет делегатов союзных правительств для непосредственного и быстрейшего разрешения вопросов, касающихся Греции». Г. Думерг, в развитие предложения Н.Н. Покровского, высказался за то, чтобы учредить «постоянный комитет делегатов союзников для быстрейшего разрешения всех политических и военных вопросов, интересующих союзников, с правом непосредственного вынесения решений». Вопрос о создании центрального координирующего органа Н.Н. Покровский обсудил 30 января (12 февраля) в частном совещании с Г. Думергом, А. Мильнером и В. Шалойей. На следующий день, 31 января (13 февраля), Политическая секция одобрила идею создания такого органа (см.: Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 70, 75, 76). Конференция, докладывал по ее итогам Н.Н. Покровский Николаю II, остановилась «на соображении весьма важного общего вопроса о создании такого порядка общения между союзными правительствами, который наилучшим образом обеспечил бы на деле полную согласованность и единство их действий. <…> Сочувствие, коим была встречена положенная в основу этого предположения общая мысль, позволило дать ей более полное развитие и внести на обсуждение конференции, в более широкой постановке, предложение об устройстве подобного органа для разрешения политических и военных вопросов, связанных с ведением войны вообще. <…> В итоге подробного обсуждения настоящего вопроса конференция находила, что осуществление преднамеченного начинания, в виду того крупного морального значения и тех важных практических последствий, которые, несомненно, имело бы проведение его в жизнь, представлялось бы безусловно желательным» (Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 73–75). Созданию центрального координирующего органа посвящен пункт 5 политических постановлений конференции. «Конференция, – согласно упомянутому пункту, – признала необходимость создания центрального органа четырех держав, представленных на этой конференции, для более быстрого соглашения по вопросам, касающимся высшего направления войны. С этой целью конференция полагает, что этот орган должен бы составляться при помощи регулярных и частных собраний председателей советов министров. Председатель Совета мог бы быть заменен другим членом правительства или политическим делегатом, специально для этого уполномоченным. Конференция высказывает пожелание, чтобы, поскольку возможно, на собраниях этого Совета принимали участие те же самые лица» (Конференция союзников в Петрограде в 1917 г. С. 54).
(обратно)907
Вспоминая Петроградскую конференцию, генерал В.И. Гурко писал, что «заседания перемежались с официальными обедами в министерствах и посольствах. Должен заметить, – отмечал он, – что этот скверный обычай был заведен не нами – мы только придерживались традиции, установившейся на межсоюзнических конференциях, проходивших ранее в других странах. Следует признать, однако, что эти обеды играли и свою положительную роль. Они давали гостям возможность в перерывах между подачей блюд обменяться мнениями, лучше познакомиться друг с другом и переговорить на темы, которые не всегда удобно было обсуждать на заседаниях» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 298).
(обратно)908
Аудиенцию лорду А. Мильнеру Николай II дал 20 января (2 февраля), Г. Думергу – 21 января (3 февраля), В. Шалойе – 22 января (4 февраля) (Николай II накануне отречения. С. 49, 50, 54).
(обратно)909
Орден Почетного легиона – высший французский орден, учрежденный 19 мая 1802 г. Большой крест – самая высокая степень (из пяти) этого ордена.
(обратно)910
В действительности общий прием Николаем II делегаций Англии, Италии и Франции в Александровском дворце Царского Села состоялся не после, а до приема монархом старших делегатов, а именно 18 (31) января, что видно из следующей записи в Камер-фурьерском журнале: «По окончании представления Его величество с делегатами проследовал в Круглый зал, где изволил сняться в фотографической группе» (Николай II накануне отречения. С. 48). Ср.: Доклад министра иностранных дел Н.Н. Покровского Николаю II «О работах союзнической конференции в Петрограде». С. 68.
(обратно)911
Описание состоявшегося 21 января (3 февраля) в Царском Селе, в Александровском дворце, высочайшего обеда в честь «делегаций трех союзных держав» (Англии, Италии и Франции) см.: Николай II накануне отречения. С. 49–54.
(обратно)912
«Во время обеда – согласно Камер-фурьерскому журналу, – государь император изволил произнести следующую речь: “С чувством живейшего удовлетворения я приветствую ваше прибытие в Россию и благодарю правительства, которые благоволили прислать столь выдающихся государственных людей и генералов для принятия участия в конференции союзников в Петрограде. Будучи твердо убежден в благотворном влиянии согласованности усилий каждого из союзников на ход дальнейших операций, я рассчитываю, что ваш труд окажет мощное содействие скорейшему наступлению часа окончательной победы, которая нам обеспечена выдающеюся доблестью морских и сухопутных сил союзников. Я поднимаю бокал за здоровье государей и глав дружественных и союзных России государств, а также за делегатов, здесь присутствующих, и пью за торжество нашего благородного дела, которое равным образом является делом справедливости и свободы народов”» (Николай II накануне отречения. С. 53–54).
(обратно)913
Ср. с записью в Камер-фурьерском журнале: «По окончании обеда Его величество с приглашенными к обеду особами проходили в Портретный зал, где государь император изволил милостиво беседовать с членами делегаций, куда подавался кофе с рук. В это же время Ее величество в Новой гостиной изволила принимать: французского министра колоний Думерга, министра итальянского кабинета сенатора Шалойя, генерала итальянской службы графа Руджери-Ладерки, генерала английской службы сэра Генри Вильсона и английского полномочного министра лорда Ревельстока» (Николай II накануне отречения. С. 54). Объясняя отсутствие на обеде Александры Федоровны и дам из ее Свиты, В.И. Гурко писал: «Возможно, это было сделано для того, чтобы ведущие представители союзников имели возможность расположиться за столом недалеко от императора и лично с ним побеседовать. После обеда все гости, по заведенному правилу, собирались в одной из гостиных; образовывалось то, что французы называют cercle. В это время обер-гофмаршал Императорского двора граф Бенкендорф приглашал главных гражданских и военных представителей союзников и по очереди провожал на прием к императрице Александре» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 299–300).
(обратно)914
О приеме в Петроградской городской думе Л. Альдрованди-Марескотти записал 24 января (6 февраля): «Обед в Думе. Дума была закрыта по случаю нашего приезда, так как ввиду царящих в ней настроений иностранные миссии могли бы оказаться свидетелями фрондерских выступлений или каких-либо инцидентов. Дума откроется после нашего отъезда, и тогда сдерживаемое, хотя и трудно скрываемое, недовольство прорвется наружу» (Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 72).
(обратно)915
Под 22 января (4 февраля) Л. Альдрованди-Марескотти записал: «Днем состоялся прием, устроенный в нашу честь Думой во дворце, подаренном Екатериной II Потемкину. Недовольство царем и нынешним правительством высказывают гораздо свободнее, чем я мог бы себе представить» (Там же. С. 71).
(обратно)916
В.И. Гурко раут у премьера запомнился несколько иначе: «Особенно многолюден был парадный прием, устроенный главой русского правительства князем Голицыным. Присутствовали, помимо иностранных гостей, множество русских общественных деятелей, членов Государственного совета и Думы» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 299).
(обратно)917
Имеется в виду здание Офицерского собрания армии и флота в Петербурге (Петрограде) на пересечении Литейного проспекта и Кирочной улицы. Построено в 1895–1898 гг. по проекту В.К. Гаугера, А.И. фон Гогена и В.М. Иванова в русском стиле.
(обратно)918
Русско-английское общество (РАО) было создано 21 ноября 1916 г. в Петрограде на базе Общества английского флага, образованного там же 4 сентября 1915 г. Председателем РАО являлся М.В. Родзянко, почетным председателем – Д.У. Бьюкенен. Существовало до лета 1917 г.
(обратно)919
Русско-французское общество «Французский институт в С. – Петербурге» открылось 18 октября 1911 г. Почетной председательницей Попечительного комитета Французского института 20 апреля 1913 г. стала великая княгиня Мария Павловна Старшая. Членами Французского института были 27 человек: высшие придворные чины и должностные лица Российской империи, депутаты Думы и члены Государственного совета, выдающиеся отечественные ученые, представители французского истеблишмента в Петербурге.
(обратно)920
«Кюба» – ресторан в Петербурге, существовавший с 1840-х гг. и первоначально называвшийся «Restaurant de Paris». В 1887–1894 гг. владельцем ресторана был французский повар Жорж Кюба, который и дал ему второе название, которое бытовало и позднее, хотя с 1894 г. рестораном владел Альмир Жуэн. Находился на углу Большой Морской улицы (д. 16) и Кирпичного переулка.
(обратно)921
Итальянская торгово-промышленная делегация прибыла ранее делегаций, направленных на Петроградскую конференцию союзников, поскольку последние приехали в Петроград 16 (29) января 1917 г. около трех часов, между тем как «в 12 час. 15 мин.» этого дня Николай II в Александровском дворце Царского Села начал прием торгово-промышленной делегации, которая включала в себя 11 человек (см.: Николай II накануне отречения. С. 44). «Вчера вечером, – отметил Л. Альдрованди-Марескотти 23 января (5 февраля), – Протопопов дал обед в честь итальянской торговой комиссии. В разговоре с Шалойей и Карлотти Протопопов упомянул о сомнениях некоторых иностранных делегатов насчет внутреннего положения России. Он заявил, что не считает вероятной возможность беспорядков в России, но что, во всяком случае, страна и армия хотят довести войну до победного концы и что внутреннее положение не может помешать достижению этой цели» (Альдрованди-Марескотти Л. Указ. соч. С. 71).
(обратно)922
26 января (8 февраля) военные делегаты конференции выехали на фронт, гражданские – в Москву, куда приехали 27 января (9 февраля) и откуда выехали обратно 28 января (10 февраля). Военные делегаты вернулись в Петроград 7 (20) февраля (Там же. С. 73, 75, 77).
(обратно)923
Ср. с записью Л. Альдрованди-Марескотти за 8 (21) февраля: «Готовимся к отъезду. Принимаются строгие меры к обеспечению нашей безопасности. С этой целью был пущен слух, что мы пока остаемся в России, но едем вглубь страны, поэтому наши апартаменты останутся пока за нами и не будут сдаваться, чтобы создать впечатление о предполагаемом возвращении нашем в Петроград перед окончательным выездом. Меры эти кажутся наивными и напрасными, тем более, что наш багаж полностью на виду у всех погружается в поезд, направляющийся в Колу. И, как бы не довольствуясь этим, вечером за несколько минут до нашего отъезда к нам в столовую приносят на подпись все протоколы конференции на виду у всей гостиницы» (Там же. С. 78).
(обратно)924
Заключение Совещания по стратегическим вопросам, состоявшегося 1 февраля 1917 г., обсуждали под председательством В.И. Гурко генералы Г.Ю. Вильсон, Н.Ж. де Кастельно и П. Руджиери-Ладерки, а также адмирал А.И. Русин. Это заключение сводилось к следующим ответам на 7 вопросов: 1) операции 1917 г. будут иметь решающий характер, т. е. наступательные действия на разных фронтах будут вестись с максимумом средств, которыми будут располагать союзные армии и с целью добиться решительных результатов; 2) и 3) на каждом из главных фронтов коалиции к 15 февраля будут приняты все меры в целях воспрепятствовать противнику захватить инициативу операций. Если, с целью обеспечить за собою эту инициативу, один из союзников будет вынужден выступить ранее весны, то другие союзники выступят, в свою очередь, в срок, не превышающий 3 недель, при этом они используют максимум имеющихся в их распоряжении средств, учитывая климатические особенности каждого фронта; 4) если тому не будут противодействовать обстоятельства, общее наступление со всеми имеющимися в распоряжении союзников средствами будет произведено на всех фронтах между 1 апреля и 1 мая, причем последняя дата признается предельной всеми союзниками, если, однако, климатические условия не создадут непреодолимых условий; 5) при настоящей обстановке Балканский театр войны с точки зрения общего успеха операций уже не представляет той важности, какая была за ним признаваема ранее. Следовательно, более нет надобности стремиться к приведению в исполнение проекта изоляции Турции совместным действием русско-румынской и салоникской армий против Болгарии; 6) и 7) делегаты присоединяются к решению о взаимной поддержке, принятому конференцией в Шантильи 15 ноября 1916 г., а именно: если одна из держав будет атакована, то другие придут ей немедленно на помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами или, косвенно, переходом в самостоятельное наступление в кратчайший срок (в срок, который не должен превышать 3 недель, выше назначенных для перехода в наступление) или же, непосредственно, путем посылки подкреплений на другие союзные фронты, если сообщения между ними не представляют особых затруднений (Конференция союзников в Петрограде в 1917 г. С. 53–54).
(обратно)925
Имеется в виду Русско-японская войны 1904–1905 гг.
(обратно)926
То есть из Петербурга (Петрограда).
(обратно)927
Имеется в виду Великое переселение народов – совокупность этнических перемещений в Европе в IV–VII вв., преимущественно с периферии Римской империи, инициированных вторжением гуннов с Востока в середине IV в. н. э.
(обратно)928
Семилетняя война проходила в 1756–1763 гг. в Европе, Азии, Африке и Америке. На главном театре войны, в Европе, противниками были Пруссия и Священная Римская империя Габсбургов. На стороне Пруссии воевали Британская империя, Португалия, Брауншвейг-Люнебург, Гессен-Кассель и Российская империя (в 1762 г.), на стороне австрийских Габсбургов – Франция, Испания, Швеция, Саксония, Неаполитанское и Сардинское королевства и Российская империя (в 1757–1761 гг.). Тридцатилетняя война продолжалась с 1618 по 1648 г. и велась в Европе между протестантами и католиками Священной Римской империи. В Евангелическую унию входили Богемия, Курпфальц, Саксония, Бранденбург, Ансбах, Баден-Дурлах, Гессен-Кассель, 17 имперских городов и другие протестантские государства Империи, которых поддерживали Швеция, Датско-Норвежская уния, Республика соединенных провинций (Голландия), Трансильвания, Франция, Шотландия, Англия, Швейцария, Савойя, Венеция, Московское царство и Оттоманская империя. На другой стороне была Католическая лига, объединившая Баварию, Кельн, Трир, Майнц, Вюрцбург и остальные католические государства империи, а также Австрия, Испания, Португалия, Датско-Норвежская уния (в 1643–1645 гг.), Речь Посполитая и Папская область.
(обратно)929
Подразумеваются войны, вызванные Великой французской революцией 1789 г., начавшиеся в 1792 г. и продолжавшиеся с небольшими перерывами вплоть до 1815 г. Французской республике, затем, с 1804 г., империи и императору Наполеону I противостояли пять антифранцузских коалиций, в которые входили европейские монархии, вдохновлявшиеся и поддерживавшиеся Англией.
(обратно)930
Имеются в виду события, происходившие во время Февральской революции в Ставке верховного главнокомандующего в Могилеве и в Штабе Северного фронта в Пскове, где находился тогда Николай II, закончившиеся 2 марта 1917 г. его отречением от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. Царь отрекся от престола не добровольно, а под давлением руководства армии, которое ориентировалось на Государственную думу в лице М.В. Родзянко, чье телеграфное требование о необходимости отречения Николая II поставило его перед дилеммой – бороться за власть, что означало начало гражданской войны и резкое ухудшение ситуации на русско-германском фронте, или отойти в сторону, чтобы создать условия для достижения Россией победы, и он выбрал последнее. См.: Куликов С.В. Ставка: 23 февраля – 1 марта // Первая мировая война и конец Российской империи: В 3 т. СПб., 2014. Т. 3. С. 343–369; Он же. Отречение Николая II // Там же. С. 385–407.
(обратно)931
Этот абзац и последнее предложение предыдущего абзаца (начиная со слов «Но там многие из слухов…») Покровский подчеркнул простым карандашом и взял в скобки. Имеется в виду последовавший 3 марта 1917 г. отказ великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти до решения Учредительного собрания и передача ее великим князем Временному правительству. См. об этом: Куликов С.В. «Вполне присоединились к новому правительству…». Великие князья как участники революции (февраль – март 1917 г.) // Страницы истории. СПб., 2008. С. 423–439.
(обратно)932
Речь идет о Конторе Двора великой княгини Марии Павловны Старшей, являвшейся подразделением Министерства Императорского двора и уделов и ведавшей обеспечением быта этой великой княгини. Учреждена 14 марта 1909 г., упразднена 23 июля 1918 г.
(обратно)933
По согласованию с М.В. Родзянко князь Н.Д. Голицын около полудня 24 февраля 1917 г. «ввиду наблюдаемого за последние дни в деле снабжения продовольствием населения столицы обострения, приведшего уже к уличным беспорядкам» решил собрать под своим председательством «экстренное совещание» для обсуждения продовольственного положения Петрограда, с тем чтобы выработать «доступные для его облегчения меры», о чем князь телеграфировал Николаю II в Ставку верховного главнокомандующего в 13 час. 13 мин. В Совещании, собравшемся вечером того же дня в Мариинском дворце, участвовали министры: земледелия – А.А. Риттих, военный – генерал М.А. Беляев, морской – адмирал И.К. Григорович, путей сообщения – Э.Б. Кригер-Войновский и торговли и промышленности – князь В.Н. Шаховской, председатели Государственной думы М.В. Родзянко и Государственного совета И.Г. Щегловитов, их товарищи Н.В. Некрасов и В.Ф. Дейтрих, секретарь Государственной думы И.И. Дмитрюков, государственный секретарь С.Е. Крыжановский, петроградский городской голова П.И. Лелянов и председатель Петроградской губернской земской управы Е.И. Яковлев. Участники совещания единогласно постановили передать продовольственное обеспечение Петрограда от Министерства земледелия и МВД столичному самоуправлению, причем Н.Д. Голицын информировал об этом императора во втором часу ночи 25 февраля. О совещании 24 февраля см.: Куликов С.В. Совет министров в дни Февральской революции // Революция 1917 г. в России. СПб., 1995. С. 78–80; Он же. Совет министров и Прогрессивный блок во время падения монархии // Нестор. 2005. № 7. С. 280–299.
(обратно)934
«Дума дипломатически пообедала Империей» (фр.).
(обратно)935
«Дума пообедала Империей» (фр.).
(обратно)936
О заседаниях Совета министров 25, 26 и 27 февраля 1917 г. см.: Куликов С.В. Совет министров и падение монархии // Первая мировая война и конец Российской империи: В 3 т. СПб., 2014. Т. 3. С. 165–186.
(обратно)937
Возглавлявшийся А.И. Гучковым Центральный военно-промышленный комитет использовал состоявшую при нем Рабочую группу и ее структуры на фабриках и заводах Петрограда для политической мобилизации столичного пролетариата в целях совершения государственного переворота, что и стало главной причиной проходивших в столице 23–26 февраля забастовок и демонстраций. Подробнее о роли ЦВПК в подготовке и проведении Февральской революции см.: Куликов С.В. Центральный военно-промышленный комитет накануне и в ходе Февральской революции 1917 г. // Российская история. 2012. № 1. С. 69–90.
(обратно)938
Генерал С.С. Хабалов являлся командующим войсками Петроградского военного округа.
(обратно)939
Осадное положение в Петрограде Совет министров ввел только после полудня 27 февраля 1917 г. См.: Куликов С.В. Совет министров и Прогрессивный блок во время падения монархии // Нестор. 2005. № 7. С. 295–296.
(обратно)940
О военных властях Петрограда в дни Февральской революции см.: Куликов С.В. Петроградское офицерство 23–28 февраля 1917 г. Настроение и поведение // Новый часовой. 2006. № 17/18. С. 101–127.
(обратно)941
О происходивших 26 февраля 1917 г. переговорах Н.Н. Покровского и А.А. Риттиха с думцами см.: Куликов С.В. Последние попытки. Переговоры министров и думцев 26 февраля 1917 г. // Политическая история России первой четверти XX в. СПб., 2006. С. 227–237.
(обратно)942
См.: Показания Н.Н. Покровского. С. 350–352.
(обратно)943
Имеется в виду начавшееся утром 27 февраля 1917 г. восстание Запасного батальона Волынского полка, вскоре охватившее запасные батальоны некоторых других гвардейских полков.
(обратно)944
Беспорядки в Запасном батальоне Павловского полка произошли во второй половине дня воскресенья, 26 февраля 1917 г., и были быстро подавлены. Подробнее см.: Черняев В.Ю. Восстание Павловского полка 26 февраля 1917 г. // Рабочий класс России, его союзники и политические противники в 1917 г. Л., 1989. С. 152–177.
(обратно)945
Тенишевское училище – среднее учебное заведение Петербурга (Петрограда), основанное в 1898 г. меценатом князем В.Н. Тенишевым как 3-классная общеобразовательная средняя школа. В 1900 г. получило статус коммерческого училища. Находилось по адресу: Моховая ул., д. 33–35. Упразднено в 1922 г.
(обратно)946
Имеется в виду главный военный прокурор и начальник Главного военно-судного управления Военного министерства генерал А.С. Макаренко.
(обратно)947
Телеграмма Н.Д. Голицына Николаю II, составленная по итогам заседания Совета министров П.Л. Барком и Н.Н. Покровским и отправленная в Ставку около 18.00, сообщала: «Совет министров… дерзает представить Вашему величеству о безотложной необходимости принятия следующих… мер… с объявлением столицы на осадном положении, каковое распоряжение уже сделано военным министром по уполномочию Совета министров собственною властью. Совет министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе оставшихся верными войск одного из военачальников действующих армий с популярным для населения именем». Далее указывалось, что «Совет министров не может справиться с создавшимся положением, предлагает себя распустить, назначить председателем Совета министров лицо, пользующееся общим доверием, и составить ответственное министерство» (Блок А.А. Последние дни императорской власти // Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 240).
(обратно)948
Канава – просторечное название Екатерининского канала в Петербурге (Петрограде) (с 1923 г. – канал А.С. Грибоедова). Находится между реками Мойка и Фонтанка.
(обратно)949
Согласно Ж.М. Палеологу, Н.Н. Покровский 27 февраля после 6 вечера вернулся в МИД и около половины 7-го принял Д.У. Бьюкенена и Ж.М. Палеолога и проинформировал о решениях, принятых Советом министров, а также сообщил им о создании Думой Временного комитета во главе с М.В. Родзянко (Палеолог Ж.М. Дневник посла. М., 2003. С. 733). Затем Н.Н. Покровский вернулся в Мариинский дворец. Память изменила либо Покровскому, либо Палеологу, но поскольку последний вел дневник, то скорее следует доверять его свидетельству.
(обратно)950
Еще днем 27 февраля 1917 г. М.В. Родзянко вызвал великого князя Михаила Александровича из Гатчины. Приехав оттуда, великий князь около 17 часов телефонировал председателю Думы и договорился с ним о встрече. Переговоры с Михаилом Александровичем члены Временного комитета Думы уполномочили провести М.В. Родзянко, товарища председателя Думы Н.В. Некрасова, ее секретаря И.И. Дмитрюкова и лидера Фракции земцев-октябристов Н.В. Савича. Местом переговоров была выбрана резиденция царского правительства, т. е. Мариинский дворец, поскольку ранее, на частном совещании, депутаты поручили членам Временного комитета посетить Н.Д. Голицына и убедить его, что только отставка существующего кабинета и немедленное образование «ответственного министерства» «могло бы ввести в законное русло разраставшееся движение». Переговоры начались около 7 вечера и происходили в кабинете государственного секретаря С.Е. Крыжановского. Представители Временного комитета заявили великому князю, что «единственным спасением» является передача власти Думе, которая «сможет образовать правительство для успокоения страны». Михаил Александрович заметил, что «у него нет такой власти, чтобы санкционировать эту меру», и пожелал посоветоваться с Н.Д. Голицыным, поддержавшим рекомендации думцев. Далее Н.В. Савич и И.И. Дмитрюков указали, что «течение событий требует отстранения от власти императора Николая II» и «принятия на себя регентства великим князем». Около 21 часа Михаил Александрович согласился «принять на себя власть», но только в том случае, если «это окажется совершенно неизбежным» («Протокол событий» Февральской революции // Февральская революция 1917 г. Сб. документов и материалов. М., 1996. С. 115, 116). Затем великий князь отправился вместе с военным министром генералом М.А. Беляевым в Дом военного министра на Мойке, откуда Михаил Александрович намеревался сообщить по прямому проводу в Ставку содержание телеграммы, адресованной Николаю II и составленной М.В. Родзянко и Н.Д. Голицыным, при участии М.А. Беляева и С.Е. Крыжановского (Куликов С.В. «Вполне присоединились к новому правительству…»: Великие князья как участники революции (февраль – март 1917 г.) // Страницы истории. СПб., 2008. С. 424–425).
(обратно)951
Точнее – в Доме военного министра (Довмин) на Мойке, 67, где находилась его служебная квартира.
(обратно)952
В Доме военного министра 27 февраля 1917 г. около половины одиннадцатого вечера Михаил Александрович вел переговоры по прямому проводу не непосредственно с Николаем II, а с начальником Штаба верховного главнокомандующего генералом М.В. Алексеевым, которого великий князь просил доложить брату следующую телеграмму, составленную вечером этого дня в Мариинском дворце: «Для немедленного успокоения принявшего крупные размеры движения, по моему глубокому убеждению, необходимо увольнение всего состава Совета министров, что подтвердил мне и князь Голицын. В случае увольнения кабинета необходимо одновременно назначить заместителей. При теперешних условиях полагаю единственно остановить выбор на лице, облеченном доверием Вашего императорского величества и пользующемся уважением в широких слоях, возложив на такое лицо обязанности председателя Совета министров, ответственного единственно перед Вашим императорским величеством. Необходимо поручить ему составить кабинет по его усмотрению. В виду чрезвычайно серьезного положения, не угодно ли будет Вашему императорскому величеству уполномочить меня безотлагательно объявить об этом от высочайшего Вашего императорского величества имени, причем, с своей стороны, полагаю, что таким лицом в настоящий момент мог бы быть князь Львов». «Я, – сообщал Михаил Александрович М.В. Алексееву, – буду ожидать Ваш ответ в Доме военного министра, и прошу Вас передать его по прямому проводу. Вместе с тем, прошу доложить Его императорскому величеству, что, по моему убеждению, приезд государя императора в Царское Село, может быть, желательно отложить на несколько дней». «Государь император, – отвечал начальник Штаба, – повелел мне от его имени благодарить Ваше императорское высочество и доложить Вам следующее. Первое. В виду чрезвычайных обстоятельств государь император не считает возможным отложить свой отъезд и выезжает завтра в два с половиною часа дня. Второе. Все мероприятия, касающиеся перемен в личном составе, его императорское величество отлагает до времени своего приезда в Царское Село. Третье. Завтра отправляется в Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандующего Петроградского округа, имея с собою надежный баталион. Четвертое. С завтрашнего числа с Северного и Западного фронтов начнут отправляться в Петроград, из наиболее надежных частей, четыре пехотных и четыре кавалерийских полка» (Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки верховного главнокомандующего и Штаба главнокомандующего армиями Северного фронта) // Красный архив. 1927. Т. 21. С. 11–12).
(обратно)953
Канцелярия Совета министров – созданное 23 апреля 1906 г. на основе Канцелярии Комитета министров учреждение, обеспечивавшее делопроизводство Совета министров. К 1917 г. состояло из девяти отделений, среди которых дела распределялись исходя из отраслевого принципа. В состав Канцелярии входили также Экспедиция (Инспекторская часть), Архив, Павильон министров при Государственной думе и Хозяйственный комитет. Переименована в Канцелярию Временного правительства 10 марта 1917 г.
(обратно)954
Главный штаб – подразделение Военного министерства, созданное 31 декабря 1865 г. при слиянии Инспекторского департамента с Главным управлением Генерального штаба того же министерства. Ведал вопросами управления вооруженными силами, делами по личному составу и комплектованию войск и военных учреждений, их устройством, деятельностью, размещением и хозяйством. Возглавлялся начальником, назначавшимся императором. Реорганизован 8 мая 1918 г. Во время Первой мировой войны Главный штаб был единственным столичным учреждением, соединенным со Ставкой верховного главнокомандующего прямым телеграфным проводом, ответвление от которого соединяло со Ставкой также и Дом военного министра.
(обратно)955
Здесь Н.Н. Покровский соединил содержание двух телеграмм. Первая телеграмма, адресованная лично царем князю Н.Д. Голицыну и переданная в 23 час. 25 мин. 27 февраля 1917 г., гласила: «О главном военном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего Штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск. Лично Вам предоставляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемен в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. Николай». Вторая телеграмма, адресованная Н.Д. Голицыну начальником Штаба верховного главнокомандующего генералом М.В. Алексеевым и переданная в 1 час. 19 мин. 28 февраля, сообщала: «По высочайшему повелению главнокомандующим Петроградского военного округа назначается генерал-адъютант Иванов с чрезвычайными полномочиями. Двадцать восьмого февраля вместе с генерал-адъютантом Ивановым в Петроград высылается из Ставки Георгиевский батальон. С Северного и Западного фронтов высылаются четыре полка конницы и четыре полка пехоты» (Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки верховного главнокомандующего и Штаба главнокомандующего армиями Северного фронта). С. 13, 16).
(обратно)956
Военный министр генерал М.А. Беляев сообщал дворцовому коменданту генералу В.Н. Воейкову в телеграмме, поданной из Петрограда 28 февраля 1917 г. в 1 час. 55 мин. и принятой в Могилеве в 1 час. 59 мин.: «Мятежники заняли Мариинский дворец. Благодаря случайно услышанному по телефону разговору, там теперь члены революционного правительства. Министры, кроме Покровского и Войновского-Кригера, заблаговременно ушли из дворца. Относительно этих двух сведений не имею» (Февральская революция 1917 г. (Документы Ставки верховного главнокомандующего и Штаба главнокомандующего армиями Северного фронта). С. 16).
(обратно)957
Соответственно: РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 38. Л. 9 – 15; Д. 39. Л. 1 – 24; Д. 38. Л. 1–8; Д. 40. Л. 1 – 29.
(обратно)958
Входившие в коллекцию рукописи обнаруживаются также в других фондах (например: Муратов Н.П. Прокурорские воспоминания. 1904–1905 гг. // РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 154; Путилов А.С. Воспоминания. Граф С.Ю. Витте // Там же. Д. 217; Арбузов А.Д. Из близкого прошлого: Воспоминания директора департамента // ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 54).
(обратно)959
Ошибка мемуариста, правильно: А.С. Изгоева.
(обратно)960
Клячко Л. М. Памятная записка о «Мемуарах» // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2. Опубликована: Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XIX вв. М., 1994. [Вып.] 5. С. 250.
(обратно)961
Сам Л.М. Клячко до 1917 г. специализировался на политической публицистике, интервьюировал многих государственных деятелей и был вхож в дома некоторых сановников как благодаря своим связям, так и вследствие необычайной журналистской настырности. Свои наблюдения он уже на склоне лет описал в ряде мемуарных сочинений. См.: За кулисами царского режима: (Воспоминания журналиста). Л., 1926. Т. 1; Звездная палата // Минувшие дни. 1928. № 3; Повести прошлого. Л., 1929.
(обратно)962
Воспоминания В.И. Ковалевского // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. Л., 1991. № 2. С. 28.
(обратно)963
См.: Воспоминания Н.А. Вельяминова об Императоре Александре III // Российский архив. М., 1994. [Вып.] 5. С. 249–313; Воспоминания Н.А. Вельяминова о Д.С. Сипягине // Там же. М., 1995. [Вып.] 6. С. 377–392; Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра (1909–1917). СПб., 1993; Он же. Воспоминания бывшего морского министра. Кронштадт; М., 2005 (более полное издание); Воспоминания В.И. Ковалевского // Русское прошлое. Л., 1991. № 2. С. 5 – 96; Муратов Н.П. Записки тамбовского губернатора. Тамбов, 2007; Министры внутренних дел последних десятилетий самодержавия: Из воспоминаний Н.П. Муратова // Исторический архив. 2010. № 5. С. 90 – 100; Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 г. – 13 марта 1916 г.) // Вопросы истории. 1994. № 2, 3, 5, 7 – 11; Тимашев С.И. Кабинет Столыпина: Из «Записок» министра торговли и промышленности // Русское прошлое. СПб., 1996. Кн. 6. С. 95 – 130; Автобиографические записки С.И. Тимашева (1903–1906 гг.) // С.И. Тимашев: жизнь и деятельность. Тюмень, 2006 (в издании опубликована и глава «Кабинет Столыпина»). Описание и публикацию фрагментов мемуаров Э.А. Эрштрема см.: Shilov D.N. Venäläistämispolitiikka 1900-luvun alun Suomessa: Senaattori E.A. Oerstroemin muistelmat [Русская политика в Финляндии в начале ХX века: По воспоминаниям сенатора Э.А. Эрштрема] // Historiallinen Aikakauskirja. Helsinki, 2005. № 3. S. 328–337).
(обратно)964
Воспоминания Н.Н. Покровского о Комитете министров в 90-е гг. XIX в. / Публ. М.А. Приходько // Исторический архив. 2002. № 2. С. 179–215.
(обратно)965
Покровский Н.Н. Имперская политика в Литве // Новое время. 1991. № 23. С. 40–42.
(обратно)966
Письмо Н.Н. Покровского С.Е. Крыжановскому от 6 сентября 1922 г. // Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture (далее – BAR). S.E. Kryzhanovskii papers. Box 3.
(обратно)967
Цит. по: Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны: Бумаги А.Н. Яхонтова (Записи заседаний и переписка). СПб., 1999. С. 441.
(обратно)968
Там же. С. 482.
(обратно)969
BAR. S.E. Kryzhanovskii papers. Box 3.
(обратно)970
См.: Ганелин Р.Ш. Материалы по истории Февральской революции в Бахметьевском архиве Колумбийского университета // Отечественная история. 1992. № 5. С. 156–160.
(обратно)971
Здесь и далее сведения почерпнуты из дел об утверждении родов Волковых, Покровских и Кушинниковых в дворянском достоинстве (РГИА. Ф. 1343 (Департамент герольдии Правительствующего сената). Оп. 18. Д. 3726; Оп. 27. Д. 4368. Д. 573; Оп. 36. Д. 19685; Оп. 23. Д. 11276), формулярных списков И.Г. Покровского (Там же. Ф. 1349 (Коллекция формулярных списков). Оп. 3. Д. 1747. Л. 18–25) и Н.Г. Покровского (Там же. Ф. 37 (Горный департамент). Оп. 74. Д. 1023), дел о службе отца Покровского, Н.Н. Покровского (старшего) (Там же. Ф. 37. Оп. 51. Д. 286; Ф. 573 (Департамент окладных сборов Министерства финансов). Оп. 23. Д. 558), дела о службе П.И. Волкова (Там же. Ф. 381 (Канцелярия Министерства земледелия). Оп. 9. Д. 4546), а также из печатных справочников: Общий морской список. Ч. 6. СПб., 1892. С. 556–557 (справка о И.Г. Волкове); Ч. 8. СПб., 1894. С. 159–160 (справка о И.В. Рыкове); Ч. 9. СПб., 1897. С. 493–494 (справка о П.И. Волкове); Ч. 11. СПб., 1900. С. 415–416 (справка о В.И. Рыкове); Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. Плавильщиков – Примо. С. 284–287, 289–290 (биографии Г.С., И.Г. и Н.Г. Покровских); Т. Романова – Рясовский. Пг., 1918. С. 680–681 (биографии И.В. и В.И. Рыковых); Петербургский некрополь. Т. 1. СПб., 1912. С. 475–476, 694; Т. 2. СПб., 1912. С. 580; Т. 3. СПб., 1912. С. 444–445, 642–643; Новодевичье кладбище. СПб., 2003. С. 360; Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. М., 2007. Т. 5. С. 25–26 (биография И.Г. Покровского). Кроме того, использованы Адрес-календарь Российской империи и адресная книга «Весь Петербург (Петроград)» за различные годы и воспоминания отца Н.Н. Покровского: Покровский Н.Н. Отжившие бюрократические порядки (К вопросу о реформе Правительствующего сената) // Русская старина. 1910. № 11. С. 349–364.
(обратно)972
Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. Плавильщиков – Примо. С. 285.
(обратно)973
Данные «Петербургского некрополя» (СПб., 1912. Т. 3. С. 445). По формулярному списку – 29-го (РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 19685. Л. 23).
(обратно)974
Время рождения определено по воспоминаниям ее сына, где сообщается, что Н.А. Покровская скончалась на 78-м году жизни (Покровский Н.Н. Отжившие бюрократические порядки. С. 351). Согласно «Петербургскому некрополю», она умерла на 73-м году, т. е. родилась около 1818 г. По-видимому, в последнем издании присутствует ошибка, допущенная при прочтении цифры на надгробном памятнике, так как представляется невероятным, чтобы мать мемуариста вышла замуж в столь юном возрасте: в тех же воспоминаниях отмечается, что брак был уже заключен, когда после Польской кампании «войска вернулись в свои квартиры» (Там же. С. 349).
(обратно)975
См.: Лопухин В.Б. Записки бывшего директора департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 48.
(обратно)976
Покровский Н.Н. Указ. соч. С. 349.
(обратно)977
Там же. С. 350.
(обратно)978
См.: Черепнин Н.П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. 1764–1914. Пг., 1915. Т. 3. С. 441.
(обратно)979
Черепнин Н.П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. 1764–1914. Пг., 1915. Т. 3. С. 145.
(обратно)980
Мейер П.П. Записки в связи с государственным переворотом 27 февраля – 3 марта 1917 г. // Вече: Независимый русский альманах. München, 1984. [Вып.] 14. С. 153.
(обратно)981
Лопухин В.Б. Указ. соч. С. 283.
(обратно)982
Pokrovskiĭ N. Finansų mokslo pagrindai 1925/26 mokslo metų paskaitų / Vertimas A. Rimkos redakcijoj [Основы финансовой науки]. Kaunas, 1926. За сообщение важных сведений о жизни Н.Н. Покровского в Литве благодарю Андреса Вальме (Нарва, Эстония).
(обратно)983
Например, в № 11 за 1926 г. и в № 3 за 1927 г. было опубликовано его исследование «Государственный порядок прямых налогов в Литве».
(обратно)984
См.: Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1961. T. 23. P. 200.
(обратно)985
Перечень некрологов см.: Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1999 / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 5. С. 533.
(обратно)


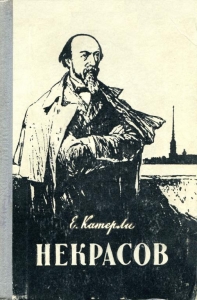
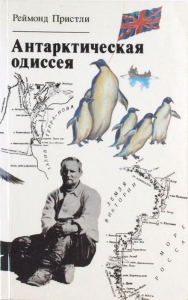





Комментарии к книге «Последний в Мариинском дворце. Воспоминания министра иностранных дел», Николай Николаевич Покровский
Всего 0 комментариев