* * *
Моему отцу
Когда все было молодо
Я помню вокзал. В те дни он назывался Николаевским. Помню холод и тьму, отца рядом со мной, он держит меня за руку. В другой руке у него маленький пакет, и он все повторяет, что это для меня, что я должна открыть его, когда поезд тронется. Мама, в котиковой шубке и шапочке на темных волосах, стоит передо мной. Рядом с ней молодой человек, Петя Емельянов, друг нашей семьи. Он учится в Санкт-Петербургской консерватории и сейчас возвращается домой, в Архангельск, на рождественские каникулы. Его попросили взять меня с собой и сдать на руки бабушке.
С мамой и младшим братом я гостила в Шотландии, у моих шотландских бабушки и дедушки, затем мы побывали в Гамбурге, где у отца были какие-то дела. Там, перед самым отъездом в Санкт-Петербург, я очень тяжело заболела плевритом. Родители, которым нужно было остаться в Санкт-Петербурге еще на время, решили, что чистый, животворный воздух севера для здоровья намного полезнее, чем туманы и сырость Санкт-Петербурга. Кроме того, меня нужно готовить к вступительному экзамену в архангельскую гимназию, где осенью должно начаться мое образование.
Проводить меня приехали какие-то люди, но их лица я давно забыла. От ветра качается вокзальный фонарь, бросая причудливые тени на нашу маленькую компанию. Стараясь подбодрить меня, родители разговаривают со мной и улыбаются, но получается наоборот — сами того не ведая, они передают мне свою грусть и волнение. Это было наше первое расставание. Первое из многих.
Поезд отправляется. Впереди путешествие длиной в двое суток.
За окнами вагона тянутся бесконечные леса и ровные заснеженные поля, изредка мелькают темные домишки, утонувшие в сугробах, и маленькие серые станции. Мне досталась верхняя полка, над Петей. Там, в уютном одиночестве, нетерпеливо разворачиваю пакет и с восторгом разглядываю подарок. Сластями меня обычно не баловали, а тут целая коробка шоколадных конфет, и все мне одной! Какой необычный подарок!
За день до отъезда мои родители, брат и я гуляли по Невскому проспекту. Было чудесное зимнее утро: солнце, мороз, сверкающий снег. Невский проспект, прекрасный в любое время, готовился к Рождеству и выглядел празднично. Блестевшие как бриллианты магазины выплескивали через край свои богатые и разнообразные товары, привлекавшие взоры прохожих. Мы медленно шли от витрины к витрине, пока не добрались до лавки кондитера, знаменитого своим шоколадом. В витрине, на черно-красном фоне, были выставлены коробки с конфетами. Все конфеты имели форму мышек — светло-серого цвета, в алых блестящих ошейничках, с красными бусинками глаз, а их серебряные хвостики двигались и дрожали. Здесь были мышки всех размеров. Слегка пугающие, но такие хорошенькие, они привлекали внимание покупателей. Я с трудом тогда оторвалась от витрины, мечтая хоть когда-нибудь иметь такую коробку, но на мои просьбы никто не обратил внимания. И вот теперь она у меня на коленях.
Осторожно открываю крышку. Внутри, в серебряной фольге, плотно уложены шоколадные мышки! Я решаю: никогда не съем ни одной, никогда не нарушу ровный круг этих крошечных существ, сидящих носик к хвостику в таком идеальном порядке. Я долго играю, укладывая и перекладывая конфеты, и наконец кладу коробку под подушку.
В нашем купе едут до Вологды два молодых купца. Вместе с Петей они болтают и смеются, словно были знакомы всю жизнь. Я сижу свесив ноги и прислушиваюсь к ровному гулу непонятного мне разговора. Один из молодых купцов особенно смешлив, кажется, у него неистощимый запас шуток и забавных наблюдений. Временами он поглядывает вверх на меня — то скажет что-нибудь, то подмигнет и улыбнется, как будто у нас с ним общий смешной секрет. «Не так ли, Женечка?» — спрашивает он меня. А я, чувствуя его доброту, с готовностью киваю головой и улыбаюсь, хотя совсем не понимаю, о чем идет речь.
Все так необычно, мне еще нет и семи, а я уже путешествую одна в обществе взрослых мужчин.
Зимний вечер подходит к концу. Сквозь темные заиндевелые окна с узором из белых папоротников, таинственных лесов и гор ничего не видно. Ритмично постукивают колеса, как будто рассказывают что-то печальное, одинокое.
Пришел проводник, балансируя подносом, уставленным стаканами с чаем. Я с интересом наблюдаю, как открываются корзинки с едой и появляется провизия, завернутая в полотняные салфетки. Эти небольшие корзинки, наполненные домашней снедью, играли раньше важную роль в долгих путешествиях. Тут были и разнообразные пирожки с начинкой из рубленого мяса, с грибами или яйцами, и маленькие плоские ватрушки со сладким творогом, и мягкие булочки, и ароматное печенье — все восхитительно вкусное и привычное сердцу и желудку русского человека.
Издалека и словно в тумане я вижу маленькую девочку на верхней полке. Она весело болтает ногами и с удовольствием принимает все, что молодые люди подают ей наверх. Память о том путешествии — как мозаичная игра-загадка, где не хватает многих частей…
Один из молодых людей берет балалайку, тихо пробегает по струнам и теплым мягким голосом поет старинную печальную песню. Затем вступает Петя. Я впервые слышала его пение. Сидя наверху в одиночестве и слушая, как их голоса то сливаются в глубокой печали, то вдруг наполняются удалым весельем, я чувствовала, будто сама Россия вливается в мою юную душу.
Ни я, ни другие пассажиры, столпившиеся у дверей нашего купе, не знали, что слушают уже знаменитый на Севере голос. «Северный соловей» — любовно называли его. Будучи другом нашей семьи, Петя потом часто бывал у нас в доме. Когда его просили спеть, он садился за рояль и, тронув клавиши, начинал… И я, чем бы ни занималась, все бросала и спешила к нему, чтобы только постоять рядом и послушать.
Не помню, как долго я внимала пению, разглядывая людей, собравшихся возле нашей двери. Я очень устала и, должно быть, незаметно уснула. Уснула одетой, но кто-то снял с меня обувь и укрыл одеялом.
Разбудила меня острая нужда. Было темно, лишь поблескивал маленький ночник. Мои попутчики крепко спали. В туалет нужно было срочно, а я не имела представления, где он. Никому в голову не пришло показать или объяснить мне его местонахождение. Будить Петю или кого-то из его приятелей было невозможно. С самого нежного возраста я была совершенно самостоятельна в интимных вопросах.
Я медленно слезла, осторожно нащупывая ногами край нижней полки, чтобы никого не разбудить, и уже добралась до двери, но Петя даже во сне, должно быть, помнил о своих обязанностях. «Ты куда?» — сев, спросил он раздраженно. И, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Подталкивая сзади, Петя направил меня в туалет в конце коридора. «Заходи», — сказал он, почесываясь и зевая. Его льняные волосы стояли дыбом, веки отяжелели от сна.
Я заторопилась, обрадовавшись, забыла поблагодарить Петю, и тут оказалась в ужасном положении. В те времена дети носили белый хлопчатобумажный лифчик, на пуговках сзади, и штанишки, пристегивавшиеся к нему. Утром мама помогла мне одеться и аккуратно застегнула все пуговицы. Сравнительно легко мне удалось отстегнуть лифчик сбоку, но о пуговице на спине я совершенно забыла. И теперь, сходя с ума от волнения, крутила и вертела заднюю пуговицу с нарастающим отчаянием. Оторвать ее не приходило мне в голову.
В конце концов я была вынуждена выйти и подавленно объяснить Пете свое затруднение. «Повернись», — скомандовал он и, когда я подчинилась, поднял подол, расстегнул злосчастную пуговицу и, игриво шлепнув по голой попке, втолкнул меня обратно в туалет. Невероятное облегчение почти равнялось оскорблению, и чувство жуткого унижения долго не проходило. Выйдя из туалета, я прошмыгнула мимо Пети, забралась на свою полку и легла, повернувшись лицом к стене.
Сквозь заиндевевшие окна просачивался бледный свет зимнего дня. Просыпались пассажиры. Проводник принес чай и калачи, круглые и блестящие, с дыркой посередине. Послышались разговоры, раздался смех. Начался новый день.
Неспешно встававшее солнце залило вагон теплым светом. Я стою, почти прижавшись лицом к окну, и смотрю в уголок рамы, где стекло не замерзло. Мелькают телеграфные столбы, проносится зимний лес, на мгновенье появляются и исчезают какие-то домишки. И снова только лес. Укрытые снегом ели крепко спят зимним сном, кудрявые березы серебрятся инеем. Высокие сугробы на фоне зеленого и черного слепят белизной. Природа замерла. Только птица, испугавшись проносящегося чудовища, иногда взлетит и тут же исчезнет где-то в лесу.
Подъезжаем к Вологде. Чувствую, что поезд замедляет ход. Пассажиры собирают вещи, снуют по проходу, заглядывая к соседям в купе, целуются и прощаются. Некоторые приехали, а другие, как мы, закончили лишь первую часть своего пути. У нас впереди еще одна ночь, и только завтра мы будем в Архангельске. А сейчас нам тоже нужно выйти, чтобы пересесть на другой поезд.
Наши попутчики покидают нас. Им еще предстоит длинная дорога на лошадях, а пока мы договорились вместе пообедать на вокзале. Петя помог мне надеть шубу и фетровые валенки, завязал шаль поверх меховой шапки.
Мы вышли на перрон. После жарко натопленного вагона мороз почти непереносим, но спешащая вокруг толпа, похоже, не замечает его. Вологда — крупный железнодорожный узел. Отсюда едут в Сибирь, Архангельск, Москву, Санкт-Петербург. Люди снуют, толкаются, их дыхание превращается в облачка пара. Все куда-то спешат.
По внешнему виду людей можно определить их принадлежность к определенному сословию. Вот сквозь толпу в неописуемо неуклюжей одежде пробирается крестьянин со своими узлами — сколько терпения на его обветренном лице! Видимо, он ехал в «жестком», самом дешевом вагоне. Вот богатый купец с молодой женой. На ней ладно сидящий жакет, цветастая шаль обрамляет круглое лицо. Вот гордая дама с детьми и гувернанткой направляется к вагону первого класса. Ее супруг, без сомнения, крупный помещик или важный чиновник, идет следом. Молодые, жизнерадостные офицеры, едущие по службе, стремительно спешат по перрону, не замечая бурлящей вокруг толпы.
Во всем этом неясная, непередаваемая словами, особая, все пронизывающая атмосфера. В великолепном прологе к «Руслану и Людмиле», этой волшебной сказке, Пушкин называет ее «русский дух». Слово это содержит в себе так много, означая одновременно и душу, и смысл, и запах, и самое дыхание России. Здесь его чувствуешь повсюду: в городах и деревнях, на реках и бескрайних полях.
В ресторане все так приветливо, запахи еды, свежих скатертей и горящих поленьев. У противоположной от входа стены — буфет, на нем ряды разноцветных бутылок. На прилавке, перед буфетом, разные закуски и кипящий самовар.
Мы садимся за столик у входа. Официант в белом переднике приносит поднос, уставленный закусками: соленая сельдь, икра, маринованные огурцы, грибы и, конечно, непременный графинчик водки. Затем последовали другие блюда. После заточения в маленьком купе я рада просто посидеть и поглядеть на происходящее. Мужчины разговаривают и смеются, не забывая при этом подкладывать еду на мою тарелку. Люди беспрестанно заходят и уходят. В открывающуюся дверь врывается поток морозного воздуха и чистый запах снега.
Вдруг раздается удар колокола. Громкий голос настойчиво повторяет: «Пассажиры на Архангельск!».
Петя встал. «Пора идти, Женя», — сказал он, взяв меня за руку. Мы вышли на мороз и идем вдоль поезда. И тут меня охватывает волнение и страх, что мы можем опоздать на поезд и никогда не увидим Архангельска. Я бы побежала, если бы не боязнь потеряться в толпе. Мы подошли к двери вагона, а Петя продолжает разговаривать с приятелями. Снова прозвучал колокол. Я помню, как меня подняли, крепко, по-русски, поцеловали в обе щеки и втолкнули в вагон.
— Прощайте!
— Приезжайте в Архангельск! — обычные слова прощания и приглашения в гости, искренне звучащие в этот момент, но, конечно, мы никогда больше не видали наших попутчиков.
В третий и последний раз предупреждающе звонит колокол. Колеса вновь запели монотонную песнь.
В нашем купе снова два молодых попутчика. Они играют в карты, много разговаривают и почти не обращают на меня внимания. Я опять у окна. Солнце из золотисто-желтого превращается в ярко-красное и исчезает за деревьями. Лес становится темным и суровым. Время от времени поезд останавливается на железнодорожных станциях: хлопают двери, слышатся громкие голоса. Одни пассажиры выходят, другие — появляются. Опускается ночь. Я вглядываюсь во тьму — как рано она наступила, — но ничего не вижу, кроме точек дальних огоньков.
Петя встретил друзей и берет меня к ним в купе. Они, в свою очередь, тоже приходят к нам и ведут, как обычно в дороге, бесконечные разговоры. Время тянется медленно. Я снова на верхней полке, играю шоколадными мышками. Они стали немного мягкими, начали терять форму. Я не помню, что в конце концов случилось с драгоценной коробкой. Должно быть, я забыла про нее и оставила в купе в минуты волнения, когда мы выходили из вагона в Архангельске.
На следующее утро меня разбудили голоса и звон стаканов. Оба наших соседа уже встали. Они подняли полку к стене и, сидя рядом с Петей, пьют чай.
— Ну вот, Женя, — обратился ко мне Петя, вручая блестящий калач, — скоро мы будем в Архангельске.
Мне интересно, как скоро? Снаружи еще темно, хотя уже утро. Ночью шел снег, и огромные снежинки, как пушистые мотыльки, налипли на оконные стекла.
Пассажиры готовятся к выходу, собирают вещи. Мы тоже складываем свой багаж. Я оделась и спустилась вниз, Петя поднял полку. Он дал мне полотенце и мыльницу и отправил в конец коридора. Помощи он не предлагал, так как знал, что она мне не нужна, у меня своя система. Когда я вернулась, он причесал меня, помог натянуть валенки — наилучшую защиту от мороза. Потом мы сели и стали ждать.
Как медленно тянется время, когда ты молод и полон нетерпения! Я надоедала Пете одним и тем же вопросом — скоро ли мы приедем? Как я, должно быть, раздражала этого юношу, но он терпел и заботился обо мне наилучшим образом, никогда не выпуская из вида.
Постепенно ровный перестук колес замедлился, нарушился и прекратился совсем. Мы в Архангельске!
Архангельск… Бесконечно дорогой, потерянный для меня навсегда город, исчезнувшие лица, умолкнувшие голоса! Как большинство старых людей, я могу забыть то, что случилось совсем недавно, но ясно помню людей и события, происходившие в мои молодые годы, когда впечатления так сильны. И вот сейчас я спешу рассказать вам об этом, ведь осталось, быть может, совсем немного…
Моя бабушка со стороны отца, Евгения Евгеньевна Попова, жена доктора Александра Егоровича Попова, моего приемного дедушки, ждала нашего приезда на станции Исакогорка. Я как сейчас вижу высокую полную даму в голубоватой шубе и в меховой круглой шапке такого же цвета, надетой поверх белой ажурной шали. У бабушки муфта, с руки свисает вторая шаль. Мне было всего пять лет, когда я в последний раз видела ее, но каким-то чутьем я поняла, что эта высокая красивая дама с вьющимися темными волосами, обрамляющими круглое лицо со смеющимися глазами, не может принадлежать никому, кроме меня. Это моя бабушка, моя бабулечка! Я бегу ей навстречу, спотыкаясь в неуклюжих валенках. И она тоже спешит ко мне, широко раскрыв руки… Муфта, шаль — все скомкано. Бабушка крепко обнимает меня и целует снова и снова.
Здесь же Петин отец, плотный пожилой человек. Они тоже обнимаются и целуются. Некоторое время все стоят и разговаривают о нашем путешествии, а я горю нетерпением. Бабушка все благодарит Петю за то, что доставил ее внучку в целости и сохранности. Она знает: дорога была нелегкой.
Наконец мы идем к саням. Рядом с лошадьми, притоптывая, стоит молодой светловолосый человек, одетый в тяжелый широкополый длинный тулуп, закрывающий валенки.
— Это Михайло, — говорит бабушка. — Ты его помнишь?
Михайло смеется.
— Откуда ей помнить? — в свою очередь спрашивает он, по-северному повышая тон в конце фразы. — Она была вот такая! — и показывает кнутом несколько футов от земли.
Две маленькие собачонки бросаются под ноги, приветствуя нас звонким лаем. Я помню их, а может, мне кажется, что помню. Родители много рассказывали мне о них — о Скотьке и Борзике.
Скотька, черный шотландский терьер, сначала был назван Скотти, а позже перекрещен в Скотьку, более удобную для русского языка кличку. Мой отец привез его из Шотландии на грузовом судне вместе с небольшим стадом черномордых овец. Скотьке было тогда несколько недель. После шести северных зим плотная меховая шуба Скотьки стала еще плотнее и длиннее, и он напоминал маленького злобного медведя. Но внешность обманчива. Под низко нависавшими бровями сверкала пара дружелюбных карих глаз. Он был умный, смелый пес и опытный крысолов. Ни одна крыса не устрашала этого истинного представителя своей маленькой родины.
Его постоянный компаньон Борзик был найден отцом в рождественское утро за воротами дома крошечным полузамерзшим щенком. Отец вернул его к жизни с помощью горячего молока и капли водки. Мне тогда было несколько недель. Мы росли вместе, и он терпеливо сносил все мои шалости. Постепенно Борзик превратился в маленькую шуструю дворнягу с красновато-коричневой шерстью и пышным хвостом, свернувшимся кольцом на спине. Что за острый ум скрывался в голове этого пса! Признавая лишь нескольких избранных, он смотрел на остальных представителей человеческого рода янтарными глазами, полными величественного презрения.
Мою голову укутали большой шерстяной шалью, которую захватила с собой бабушка, концы шали завязали на спине. Мы забрались в сани. Михайло укрыл наши колени медвежьей полостью и взобрался на свое место впереди. «Ну, пошел!» — крикнул он веселым звонким голосом — такой часто бывает у кучеров, дернул вожжи и взмахнул кнутом. Лошади тронулись. Грянули колокольчики. Собаки залаяли и помчались за нами.
Станция Исакогорка находится на левом берегу Северной Двины, а город — на правом. Сообщение между ними летом поддерживалось с помощью парома, зимой же, когда река замерзала, — прямо по толстому льду.
По пологому спуску мы съезжаем на реку. Перед нами простирается широкое, ослепительно белое пространство. Какое радостное, какое чистое утро! Кристальный воздух, запах свежего снега. Мы несемся по твердой речной глади. Вдали, в пастельных тонах, приближается старинный город Архангельск. Купола и кресты сверкают на фоне фарфоровой голубизны безоблачных небес. «Гей, гей, гей, родимые!» — покрикивает Михайло, и кони мчатся все быстрее, вздергивая головами. Развеваются гривы, звенят колокольчики. Собачонки тоже бегут изо всех сил, то нагоняя нас, то отставая. Я сижу, прижавшись к бабушке. Мне тепло и уютно. Я смеюсь, как может смеяться только счастливый ребенок.
При въезде в город мы останавливаемся: отстали собаки. Вот они подбегают, их дыхание превращается в маленькие облачка изморози. Бабушка хлопает рукой по медвежьей шкуре, и собаки радостно вскакивают в сани.
Едем по бойкой Торговой улице, по сторонам склады и лавки, крестьяне в тяжелых одеждах предлагают свои товары. На перекрестке сворачиваем направо, на Троицкий — широкую главную улицу, бегущую через весь Архангельск. Проезжаем мимо старинного собора с двумя большими цветными фресками на белой стене. Несмотря на холод, город оживлен. Закутанные в шали и меха пешеходы спешат по тропкам, проложенным за высокими сугробами. Временами виднеются только головы. Туда и сюда проносятся всевозможные сани.
На перекрестке с Олонецкой улицей сворачиваем в сторону реки. Вот и дом. Широкие ворота распахнуты; опершись на метлу, нас приветствует старый садовник Василий.
Лошади влетают во двор. Впереди — верхушки утонувшей в снегу темной изгороди, отделяющей двор от сада. В глубине сада, на маленьком холме, в окружении сосен и берез — белая беседка в виде замка. На ее башне лениво развевается флаг. Мы проезжаем мимо двух флигелей дворового фасада и подкатываем к парадному подъезду.
Сани останавливаются. Излучающая радость встречи бабушка помогает мне выйти и, взяв за руку, проводит сквозь двойные двери к лестнице, которая покрыта алым ковром. Сверху, из распахнутых дверей, на меня глядят два улыбающихся мальчика и девочка, а за ними, из прихожей, — еще много людей.
Мы поднимаемся. Я вхожу в дом. Он обнял меня и крепко держал в своих объятиях целых восемь лет, пока не настал день, когда мое детство кончилось.
Это был добротный старый особняк. Длинная одноэтажная часть его выходила множеством окон и балконом на простор широкой Двины. Особняк был деревянный, но ограждение балкона — из кованого железа. В светлые летние ночи члены семьи и друзья дома подолгу сидели на этом балконе, разговаривали и слушали голоса, доносящиеся с реки; наблюдали за солнцем, скользящим над темной тонкой линией противоположного берега.
Всю длину набережной части дома занимали три главные комнаты. Дверей между ними не было, вместо них имелись широкие арочные проемы, создававшие впечатление единого большого пространства. Этими помещениями пользовались редко, за исключением угловой комнаты с удобными креслами, обитыми зеленой тканью цвета резеды, и занавесями в тон им. Бабушка иногда принимала в ней своих гостей. Это была чисто женская комната. Особую прелесть ей придавали цветы, фотографии и безделушки, разложенные на маленьких столиках.
На другом конце этой вытянутой части дома располагался танцевальный зал. С потолка свисала бронзовая люстра с хрустальными подвесками, вдоль стен стояли изящные позолоченные стулья, в углу — большой рояль. Простенки между окнами и балконными дверями занимали высокие, до потолка, зеркала в позолоченных рамах. У основания зеркал имелись ажурные бронзовые корзины, полные растений и цветов, которые отражались в зеркалах.
Обилие растений на подоконниках было вообще характерно для всего дома. Моя бабушка, чьей страстью и самым любимым занятием были сад и цветы, выращивала экзотические растения, невиданные в наших краях. Олеандры и страстоцветы, нежно пахнущие лимонные деревца, фуксии и пеларгонии, редкие кактусы и орхидеи — все цвели в свой срок, даже в разгар суровой зимы, своими прекрасными бутонами являя контраст заснеженному пейзажу за окном.
Между угловой комнатой и танцевальным залом располагалась гостиная. Кресла и диван с обивкой из алого бархата, полированные столы красного дерева с семейными альбомами, бронзовые фигурные часы под стеклянным колпаком, фарфор и безделушки в угловых шкафчиках — все несло на себе печать викторианской эпохи. На стенах картины. На одной из них изображена королева Мария Стюарт, поднимающаяся по ступенькам к месту своей казни.
Во всем доме паркетные полы, но в этих трех комнатах они были исключительно хороши. Древесные породы множества оттенков образовывали необычайно красивый рисунок. Натирать паркет приходили два молодых человека в черных сатиновых косоворотках. Сняв обувь, они надевали на одну ногу толстый носок, а на другую — специальный короткий сапог со щеткой на подошве. Затем, заложив одну руку за спину, они скользили по полу, делая ногой, на которой закреплена щетка, широкие движения взад-вперед, подпрыгивая, разворачивались, подтягиваясь на другой ноге. Свободная рука у них при этом раскачивалась, как маятник, вверх-вниз. Мокрые от пота рубахи прилипали к спинам, но они продолжали скольжение по комнате, лишь изредка останавливаясь переодеть сапог на другую ногу или выпить стакан прохладного квасу. Это странное ритмичное подпрыгивание и развороты переходили из комнаты в комнату, пока все полы не начинали сиять золотом.
Дом был П-образный в плане. Дворовый фасад выходил окнами на восток. Между двумя его двухэтажными выступами имелся большой балкон. На первом этаже выступа, который ближе к парадному входу, имелась отдельная квартира из двух комнат и кухни, со своим входом. Несколько лет назад там жила старая нянюшка, вынянчившая в семье несколько поколений и бывшая очевидицей исторического события — отступления остатков некогда великой наполеоновской армии из-под Смоленска. Все в доме звали ее «няня Шаловчиха». Когда она умерла, квартира некоторое время пустовала, но к моему приезду в ней жил дядя Саня, младший брат отца. Ему в то время было чуть больше двадцати. Отдельный вход очень устраивал дядюшку с его холостяцкими привычками. Он вел веселую жизнь, часто устраивал вечеринки, на которые тенями проскальзывали ночные визитеры. Дрожки (наемные экипажи) бесшумно появлялись и, высадив таинственных пассажиров, так же тихо исчезали. Временами, когда пирушки достигали апогея, громкие взрывы смеха и звуки балалайки доносились наверх. Кто-нибудь, бывало, с пониманием улыбнется, но бабушкино лицо при этом всегда мрачнело.
Я не помню, чтобы балкон между флигелями как-нибудь использовали, кроме двух поводов. Когда летом бабушка вдруг решала поехать в город, она выходила на балкон и, перегнувшись через перила, приложив ладонь ко рту, звонким голосом кричала: «Михайло, пода-а-а-вай!». В ответ на ее зов на крыльце своей сторожки появлялся Михайло и, на ходу застегивая армяк, спешил к конюшне. И вскоре запряженный экипаж подкатывал к крыльцу.
А еще балкон использовался, когда бабушка кормила цыплят после завтрака. Это у нее было любимым занятием. Держа тарелку с остатками еды, она пригоршнями бросала корм через перила, подзывая цыплят особым, протяжным, ласковым голосом: «Цы-ы-ы-п, цы-ы-ы-п, миленькие…». На меня это всегда оказывало магическое действие — я захлебывалась от смеха, а потом, в унисон с бабушкой, тоже начинала звать цыплят. «Миленькие» неслись со всех сторон: распустив крылья, пронзительно кудахтая, летели цыплята и куры всех цветов и размеров. Откуда-то появлялись индейки и гуси. Утки, которые еще минуту назад спокойно ныряли в пруду за водорослями и рыбешкой, словно под воздействием тока также направлялись к берегу, затем — через ограду, спотыкаясь и падая, и, как всегда, появлялись у балкона слишком поздно.
Зимой, когда двери балкона наглухо закрывались, он становился недоступным. Снег лежал на нем пышным одеялом почти до самых перил, и лишь тонкие кружевные следы ворон и воробьев нарушали его гладкое белое совершенство.
Сердцем дома была столовая. Во всю длину ее тянулся обеденный стол. Каждый вечер в шесть часов за него усаживалось к обеду десять-двенадцать человек. В одном из углов столовой висела икона святого Николая в человеческий рост. Перед ней стоял маленький столик со старинной Библией. Перед иконой горел ряд маленьких свечей, освещавших лик святого. Эта икона, темная, с почти неразличимым изображением, находилась в семье больше двух веков. Моя прапрабабушка привезла ее из Калуги, где икону подобрали плывущей по реке — это было во времена преследования старообрядцев. По старому русскому обычаю, в нашем доме, прежде чем сесть за стол, все, крестясь, замирали перед иконой. И я, следуя примеру других, торопливо крестилась, боясь взглянуть в эти темные непостижимые глаза.
Наша древняя икона имела какую-то странную волшебную силу. Бабушка вспоминала, как ее брат Дмитрий, огромный мужчина, однажды позволил себе богохульство, сказав про икону, что этот кусок черного бесполезного дерева годится на растопку. Когда он вернулся к себе домой, то узнал, что его младенец-сын заболел дифтеритом. Дмитрий примчался назад и упал ниц перед иконой, раскаиваясь и моля святого Николая спасти его ребенка. И дитя действительно выздоровело. Дядя Митя был дикий, бесшабашный, не очень симпатичный человек, далеко не религиозного склада, но я так и вижу, как он во время визитов к нам стоит перед иконой, глядя на нее с почтительным вниманием, и размашисто крестится.
В другом углу столовой стоял круглый сервировочный стол. После обеда, когда посуда была убрана, его накрывали красной плюшевой скатертью, опускали ниже лампу, и на ее мягкий свет все домочадцы собирались вокруг стола. У бабушки была страсть грызть кедровые орешки, и делала она это с быстротой белки. Эта привычка считается простонародной, но ведь в бабушкиных жилах текла какая-то часть крестьянской крови. Она ставила большую миску с орешками на стол, и все собирались вокруг: щелкали мелкие коричневые орешки, разговаривали, вели бесконечные споры.
Самые приятные застольные минуты для меня бывали, когда Сережа, мой старший приемный дядя, гимназист, читал нам стихи. Сережа был одаренным чтецом, обладал мягким выразительным голосом. Русский язык, бесконечно богатый и гибкий, шел у него словно от сердца, передавая и печаль, и радость. Сережа держал внимание слушателей, пока не затихало последнее слово, после чего все еще некоторое время молчали. Бабушка сидела глубоко задумавшись, подперев рукой щеку и глядя в стол, а Марга, моя младшая тетя, — куда-то вдаль.
За этим столом мне довелось провести мои первые, самые памятные годы. Они прошли в окружении всего русского: обычаев, людей, говоривших по-особому, с непередаваемыми интонациями. Я впитывала это, как и многое другое, и хотя была наполовину шотландкой, начинала ощущать странную и ускользающую сущность, которую часто называют «русской душой». Она поселилась во мне навсегда, заслонив шотландскую часть моего «я».
К дому примыкал большой двор с несколькими надворными строениями. Возле садовой изгороди стояла сторожка. Узкий коридор делил ее на два отдельных жилища, каждое состояло из двух комнат. В одном жил Михайло с молодой женой Машей, в другом — садовник Василий и паренек по имени Яшка. В обязанности последнего входило бегать с поручениями, разносить записки и выполнять всякие другие задания.
Зимой кур переводили из их летнего обиталища на половину Василия, и он жил в своих двух комнатах с Яшкой и курами в полном согласии. Удовлетворенно квохча, куры копошились под ногами, склевывая невидимых букашек с деревянного пола.
В углу двора, примыкавшем к улице, изгибаясь полумесяцем, расположились конюшня, кучерская и старый коровник, где содержались шотландские черномордые овцы. Отец привез их из Шотландии. Его отговаривали от этой затеи, говорили, что овцы в Шотландии привыкли бродить по холмам, пощипывая сочную траву. Но отец был непреклонен, он был убежден, что овцы смогут прижиться у нас, и оказался прав. Овцы не только привыкли к новым условиям, но отрастили великолепную плотную шерсть и плодились. Сначала они робко щипали траву во дворе перед конюшней, а затем выбрались за ворота и спустились к реке, исследуя берега. Берег перед домом высокий и укреплен булыжником против ледоходов и весенних паводков. Вот тут и нашли овцы то, что больше всего могло напоминать им родные пастбища Шотландии.
Когда наступали длинные белые ночи северного лета (в Архангельске солнце в эту пору почти не заходит), овцы каким-то образом чувствовали наступление вечера и своевременно трусили в свой загон. В разгар зимы, когда солнце появляется лишь на миг, овец выпускали только в светлое время дня, и они также бродили по берегу.
Однажды Василий, сметавший снег с дорожки у ворот, услышал пронзительное истошное блеянье. Он перепугался, увидев, что овцы несутся с набережной мимо него в ворота и за ними гонится большая собака. Василий — из крестьян, он сразу сообразил, что собака эта — волк, которого голод выгнал из леса. Во дворе волк оказался как в ловушке: дорогу ему преградили Михайло и Василий. К ним присоединился Яшка с длинным колом. Молодые служанки выскочили из кухни, размахивая полотенцами. Все это сопровождалось истерическим лаем Скотьки и Борзика, носившихся на безопасном расстоянии позади наступающих. В каком-то диком порыве все наступали на волка, пытаясь загнать его в широко открытые двери дровяного сарая. Теперь уже волк был напуган не меньше овец, но, как всякое загнанное в угол существо, он внезапно ринулся на своих преследователей. Тут все подались назад, девушки испуганно завизжали, а собачонки, поджав хвост, рванули на кухню. В мгновенье ока волк пронесся мимо них в ворота, а там — в спасительный дальний лес.
Я отчетливо вижу наш дом во все времена года. Летом во второй половине дня передние комнаты залиты солнцем. Мне кажется, я слышу плеск воды, доносящийся с реки в открытые окна, чувствую волнующий запах лесной свежести от огромных плотов, медленно плывущих к лесопильным заводам. Голоса женщин, что полощут белье на краешке пристани, звонкий смех детей, купающихся или просто сидящих голышом на валунах, обсыхая на солнце, — все это эхом доносится до меня сегодня сквозь годы.
На зиму вставляли вторые рамы, преграждавшие доступ шуму и холоду, и тогда дом становился теплым и уютным. Комнаты наполнялись ароматом березовых и сосновых поленьев, горевших, потрескивая, в печах. Мягкие круги света на столах, мирное трепетанье лампад, освещавших лики святых на иконах, нежное пенье самовара создавали особую атмосферу, сближавшую обитателей дома еще теснее.
В 1903 году моему будущему отцу, Герману Александровичу Шольцу, исполнилось двадцать три года, и было решено отправить его за границу. Проучившись три года в Рижском университете, он считал, что готов занять место отца в семейном лесопильном деле, однако его опекун дядя Адольф и мать были другого мнения. Они считали, что сначала нужно приобрести некоторый опыт в деле за границей. Германа отправили в город Данди, в Шотландию, где он был принят на два года в фирму, занимавшуюся продажей льна. Данди выбрали потому, что многие тамошние фирмы покупали в Архангельске лен и лес, а еще потому, что там жила родня, которая, как воображала бабушка, могла бы присмотреть за ее иногда безалаберным сыном.
Свой первый день в Данди Герман провел у окна гостиничного номера. Позже он рассказывал, что чистые улицы, солидные каменные здания и аккуратные пешеходы произвели на него впечатление порядка и стабильности. Наслаждаясь теплым солнечным днем, гуляли люди, по брусчатой мостовой ехали конные экипажи. Поглощенный открывшимся перед глазами видом, Герман заметил на противоположной стороне улицы молодую даму в лиловом костюме и белой шляпке, украшенной цветами. Она шла, ведя на поводке фокстерьера. Собака остановилась около уличного фонаря. Герману захотелось, чтобы девушка взглянула на него. И она подняла взгляд. На мгновенье их глаза встретились. Но девушка тут же отвернулась и, нетерпеливо дернув поводок, ушла.
Герман нашел жилье в пригороде Данди, в рыбацкой деревушке Броути Ферри. Имея природные способности к языкам, он вскоре бегло говорил по-английски и даже усвоил некоторые местные выражения. Каждый день он отправлялся в Данди на поезде и вскоре был принят в свой круг компанией молодых людей, с которыми ездил в одном купе.
Однажды кузен Бертрам взял его с собой на благотворительный танцевальный вечер в Броути Ферри. В какой-то момент между танцами Бертрам заметил, что Герман пристально рассматривает кого-то в противоположном конце зала.
— Скажи, — спросил Герман, — кто эта девушка там, рядом с дамой в голубом?
— Это Нелли Камерон, местная красавица, — сказал Бертрам. — В голубом ее сестра Агнес, а те два молодых человека — их братья. Я знаком с их семьей. Родители очень строгие, а братья очень чувствительны к обидам. Подозреваю, тебе хочется познакомиться с Нелли. Если так, я могу представить тебя.
Они пересекли зал, и Герман был представлен молодым дамам, их старшему брату Стефену и Генри, который был близнецом Агнес.
Нелли оправдывала характеристику Бертрама. Среднего роста, стройная, с безупречным цветом лица и классическими чертами, голубоглазая, с темными волосами, уложенными в изящную высокую прическу, она, казалось, царила над окружающими. И когда раздались звуки венского вальса, Герман поклонился Нелли, приглашая на танец.
Много лет спустя, когда мама была уже в преклонных годах, заслышав мелодию старого вальса по радио, она говорила мне: «Никто не танцевал так, как твой отец. У него был свой стиль. Он делал длинные скользящие шаги и кружил, кружил… Казалось, ты плывешь, едва касаясь ногами пола».
Некоторое время они танцевали молча. Герман спросил:
— Мы не встречались с вами раньше?
Она засмеялась:
— Да. Вы тот человек, которого я видела в окне.
Оставшуюся часть вечера они танцевали вместе, не замечая людей, кружившихся рядом, и не подозревая о молчаливом недовольстве Стефена тем, что какой-то иностранец «монополизировал» его сестру.
За ужином они сидели рядом и успели о многом переговорить. Герман по-английски как смог рассказал о жизни в России, о доме, о матери. Он старался передать Нелли образ своей родины, ее просторов, лесов, великих рек, снежных и морозных зим, великолепие летних белых ночей, когда солнце скользит над горизонтом и на реке устраиваются веселые полуночные пикники. Нелли внимательно слушала его. В свою очередь она поведала Герману об очень простых вещах, о том, что никогда не покидала Шотландию. Он узнал, что Нелли — старшая из четырех сестер, что двое из ее пяти братьев живут в Кении и Новой Зеландии, а Генри собирается поехать в Индию. Ее жизнь — помощь матери по дому и поездки по субботам дневным поездом в город за покупками.
Когда закончился последний танец, Герман спросил Нелли, можно ли проводить ее домой. Она смутилась:
— Вам нужно спросить Стефена.
Стефен, меж тем, был холоден и неприступен.
— Только я провожаю свою сестру, — коротко отрезал он.
Возвращаясь домой, Герман вспомнил слова Нелли: «Я езжу по субботам в город дневным поездом». Тогда все просто, решил он, надо только узнать расписание поездов…
В субботу Герман ждал на платформе маленькой станции Уэст Ферри. Нелли должна была появиться со стороны дома. Прибыл поезд. Пассажиры устраивались в купе. Герман уже приготовился ждать следующего поезда, но тут увидел знакомую фигурку, спешившую по платформе. Девушка зашла в первый вагон. Он бросился туда и, найдя купе, открыл дверь и уселся, скользнув взглядом по лицам пассажиров, притворно удивился, что Нелли сидит напротив.
В Данди они были вместе, он терпеливо ждал ее у всех магазинов, и вместе они вернулись в Уэст Ферри.
Эта незатейливая и старая как мир игра длилась несколько недель. Каждый раз Герман менял сценарий, не очень изобретательно, но каждая встреча должна была казаться случайной. Отправляясь на предыдущем поезде, он обычно ждал где-нибудь неподалеку и встречал ее будто случайно, когда Нелли выходила с толпой пассажиров.
В одну из суббот Герман смело предложил Нелли пойти вместе в театр. Разрываясь между страхом и желанием, бедняжка Нелли робко согласилась. Она никогда и нигде не бывала ни с одним молодым человеком и волновалась и страшилась этого свидания все больше по мере того как оно приближалось. И в театр они проскользнули, когда занавес уже поднимался.
С этого дня «случайных» встреч больше не было. Они ходили на дневные спектакли. Сестра Агги, с которой Нелли была очень близка и делилась своими секретами, помогала ей как могла. Часто она отправлялась с ними в город, брала на себя все покупки, затем они встречались и вместе возвращались в Уэст Ферри. Но Нелли никогда не позволяла Герману провожать ее до дома, и они расставались на станции.
Они виделись каждую субботу, но было ясно, что рано или поздно кто-нибудь, даже просто невзначай, может сообщить о встречах ее родителям. Нелли старалась не думать об этом, живя драгоценными часами свиданий, которые проносились так быстро! И все-таки неизбежное случилось, но совсем не так, как она могла себе это представить.
Отец Нэлли — мой будущий дед, тоже ездил в Данди по делам каждую субботу, но обычно он отправлялся раньше дочери, а возвращался в 16.10. Будучи постоянным в своих привычках, он никогда не изменял своему расписанию. Нелли возвращалась на час позже него. Такое расписание подходило для ее посещений театра. Но в ту субботу, стоя на платформе и разговаривая с Германом в ожидании поезда, она с ужасом увидела, что к ним приближается отец. Он, вероятно, не заметил молодую пару, потому что встал неподалеку.
Огастесу Стефену Камерону в ту пору было немногим за пятьдесят. Он был плотного телосложения, с резкими чертами лица и глубоко посаженными голубыми глазами. Серебро его волос контрастировало с темным цветом лица. Красивый мужчина, всегда одетый в безукоризненный синий костюм, в неизменной серой шляпе-стетсон и с цветком в петлице, он был человеком властным, способным и на высокое благородство, и на низкую тиранию. А еще у него была привычка, иногда приводившая людей в замешательство: если кто-нибудь его раздражал или противоречил ему, он смотрел «сквозь» собеседника долгим тяжелым взглядом. Но сейчас он был спокоен и глядел прямо перед собой.
Нелли уже представила ужасные последствия этой встречи, ждущие ее дома: конец ее счастливым свиданиям. Но для Германа это был шанс, который он не хотел упустить. Он решительно подошел к отцу Нэлли и, приподняв шляпу, попросил разрешения представиться. Нелли была в нескольких шагах.
— Недавно на танцевальном вечере я познакомился с вашей дочерью, и с тех пор мы встречаемся. Надеюсь, мистер Камерон не сочтет меня слишком самонадеянным за желание познакомиться теперь с ее отцом.
Мой будущий дедушка холодно взглянул сначала на дочь, потом на стоящего перед ним молодого человека. Герман чувствовал, что его молча оценивают, и скромно ждал.
— Скажите, что происходит между вашей страной и Японией?
Если отец и растерялся от такого вопроса, то вида не показал. В ту пору внимание всего мира было приковано к войне между небольшим желтолицым народом и русским колоссом. Мой отец, как все русские, страстно любивший свою родину и следивший за событиями, выразил свою точку зрения. Подошел поезд, и после секундного замешательства все прошли в одно купе. Разговор продолжался до самого Уэст Ферри. Когда вышли со станции, Герман приподнял шляпу, собираясь проститься.
— Молодой человек, — вдруг сказал дед, — я получил удовольствие от нашего разговора, и мне хотелось бы услышать и узнать о вашей стране побольше.
Что-то теплое, как ускользающий солнечный луч, мелькнуло в его гордом взгляде.
— Может быть, вы соблаговолите прийти к нам завтра на ланч?
Нелли, сидевшая всю дорогу молча рядом с отцом, слушая их разговор, теперь испытывала слишком большое облегчение, чтобы вымолвить хоть слово.
Отец принял приглашение, поклонился, поблагодарил, снова приподнял шляпу и ушел.
В этот вечер он написал в Архангельск длинное письмо. Герман рассказал матери о Нелли, о том, как встретил ее и как его пригласили в дом познакомиться с родными, сообщил, что любит ее и хочет на ней жениться. В конце письма он выразил уверенность, что Нелли понравится матери, и просил благословить его брак.
На следующий день Герман пришел к Камеронам. Позвонил в дверь. Бей Хаус, что по-русски «Дом в бухте», — очень точное название дома Камеронов, потому что он стоит на берегу укромной бухты. Это типичный викторианский дом, построенный во времена, когда не жалели денег и материалов, чтобы создать атмосферу благополучия и элегантности. Молоденькая служанка открыла дверь и провела Германа в гостиную. Дед разговаривал там с каким-то молодым человеком. Позже Герман узнал, что это был Эндрю, старший брат Нелли, уже женатый человек, приезжавший по воскресеньям с женой и детьми.
Вошла хозяйка. Она поздоровалась и села. Хотя природа и не наградила ее особой красотой, но наделила прекрасным вкусом, и, несмотря на многочисленных детей, у бабушки была хорошая фигура и очень тонкая талия, что тогда было модно.
Появилась Нелли и, одарив Германа быстрой и робкой улыбкой, сказав несколько слов, исчезла. Вся семья только что вернулась из церкви, и девушки накрывали на стол. Так было заведено по субботам.
Дедушка предложил Герману пройти в оранжерею и взглянуть на то, что бабушка, снисходительно улыбнувшись, назвала его последней игрушкой. Любопытствуя, мой отец последовал за дедушкой в сад, а оттуда в оранжерею. Посредине помещения стояла на треноге мощная подзорная труба. Дедушка пригласил Германа взглянуть в нее на противоположный берег. Никогда раньше не имея дела с биноклями, мой отец был поражен, как приблизилась даль. Ему были видны малейшие детали, даже цветы на шляпке какой-то девушки, он видел ее улыбающееся лицо. Девушка разговаривала с мужчиной, прилегшим на берегу.
Забаву прервал удар гонга — сигнал к ланчу.
Все собрались в столовой. Хозяин дома занял свое место во главе стола, после чего все сели. Германа познакомили с двумя другими сестрами Нелли: Мэри, красивой круглолицей девушкой со сдержанными манерами, и Вики, самой младшей, веселой и общительной.
Горничная внесла дымящуюся супницу и поставила на стол. Мой дед, прикрыв лицо ладонями, как он делал это неизменно на протяжении всей своей жизни, вознес благодарственную молитву, и бабушка начала разливать суп. Все были немного напряжены, за исключением главы дома, но по мере того как продвигался обед и появлялись тарелки с воскресным мясным блюдом, компания понемногу оживилась.
Дедушка мог поддержать беседу на любую тему. Начитанный, с острым, пытливым умом, он обладал способностью глубоко проникать в смысл происходящего вокруг и во всем мире. Когда разговор снова зашел о русско-японской войне (в то время японский флот коварно атаковал Порт-Артур и русские терпели поражение), дед повернулся к Герману и сказал:
— Обязательно запомните мои слова, молодой человек: когда-нибудь — пусть не при моей жизни, скорее при вашей — Россия станет силой, с которой придется считаться всему миру. Да, — добавил он убежденно, — всем, включая и нас.
Эти удивительно пророческие слова, сказанные в момент величайшей мощи и процветания Великобритании, моя мама вспоминала не раз.
Рассказывая о себе, дед сообщил Герману, что он был младшим ребенком в большой семье, что вырастила его тетя, миссис Дик, которую все звали «бабуля Дик»; мать умерла при его рождении, и эта бездетная тетушка взяла ребенка к себе в Броути Ферри. Он рос, совершенно не имея связи со своими братьями и сестрами. Его тетя, будучи очень обеспеченной и не имея детей, всю свою любовь и преданность обратила на племянника и завещала ему свое состояние. Так что самостоятельную жизнь он начал богатым владельцем недвижимости.
Живя постоянно в Броути Ферри, мой дед стал свидетелем того, как быстро менялся мир. Учеником он еще ездил в открытом вагоне самого первого поезда в Данди в классическую школу, как тогда называли теперешнюю среднюю школу. В годы юности дед наблюдал за строительством знаменитого моста через реку Тэй и видел триумфальный проезд первого поезда по этому мосту, считавшемуся самым длинным в мире. А всего два года спустя он оказался свидетелем страшной катастрофы, хотя именно в тот момент и не подозревал об этом.
Было это так. Моя прабабушка, вдова по имени Хелен Хей, жившая в Льюхарс, в королевстве Файф, встречала Рождество у своей дочери и зятя. 28 декабря 1879 года она собралась уехать вечерним поездом домой в Льюхарс. В тот день погода резко ухудшилась. Волны реки Тэй свирепо бились о прибрежные камни. Дед с бабушкой забеспокоились, и прабабушка, очень решительная пожилая дама, не любившая менять своих решений, на сей раз согласилась остаться еще на ночь. Судьбой ей было уготовано никогда больше не ступать на Тэйский мост.
Вечером буря достигла наивысшей силы, и дед решил проведать, нет ли разрушений в саду. Он накинул дождевой плащ и с трудом добрался до нижней части склона в саду. Бешеный грохот волн и свист ветра, словно вой сходящей с ума души, сливались в ужасающий рев. В полной тьме он смог разглядеть лишь несколько огоньков на противоположном берегу да мигающий свет маяка. Дед непроизвольно взглянул на запад, где длинная цепочка огней тянулась через реку. Крохотный красный огонек удалялся в сторону невидимого моста, и вдруг у него на глазах огоньки исчезли. Все погрузилось во тьму. Дед вернулся в тепло дома. Женщины по-прежнему сидели у камина, где тлели угли, и пили чай. «На мосту погасли огни, — сообщил он. — Что-то мне это не нравится».
Через несколько часов пришло известие о крушении Тэйского моста. Поезд и всех пассажиров поглотили жуткие воды реки. В холодном сером свете утра дед вышел на берег. Шторм утих, но волны все еще хлестали о берег и выбрасывали разбитые остатки вагонов.
В Германе дедушка нашел прекрасного слушателя из тех, кто искренне интересуется предметом разговора. Шотландия еще была для моего отца почти незнакомой страной, а ему хотелось узнать ее, узнать традиции и обычаи, особенности здешнего образа жизни, понять ее, почувствовать. И тогда, думал он, его здесь примут.
После обеда все перешли в гостиную. Не желая злоупотреблять гостеприимством, Герман хотел откланяться, но его упросили остаться к чаю. Строгие правила пресвитерианской церкви не допускают по воскресеньям никакой музыки в доме, кроме псалмов и гимнов, поэтому семья была поражена, когда дед попросил Нелли сыграть что-нибудь шотландское. Она послушно села к роялю, чтобы аккомпанировать Мэри, у которой было приятное контральто. Все собрались вокруг. Герман, у которого был хороший голос и к этому времени неплохое знакомство с популярными шотландскими песнями, присоединился к пению. Затем Нелли сыграла несколько любимых пьес, которые знала на память. Герман был удивлен и восхищен, ведь в разговорах она ни разу не упомянула о своем умении играть на фортепиано.
Потом все вернулись в столовую на шотландский чай. Домашние булочки, сливочное печенье и пирожные, дружеская безмятежная атмосфера — Герман чувствовал себя так, словно давно знаком со всеми.
После чая девушки со Стефеном и Генри стали собираться на вечернюю службу в церковь, а Герман откланялся, поблагодарив хозяев за гостеприимство. Его пригласили приходить «как к себе домой».
— Приходите, — сказала бабушка, отбросив обычную сдержанность.
Герман и Нелли шли позади всех. У церковных ворот они попрощались, и отец отправился к себе.
Две недели спустя Герман явился к деду просить руки его дочери. Предложение было принято. По шотландскому обычаю он купил обручальное кольцо с бриллиантом. Нелли и Герман обручились.
Теперь предстояло решить некоторые аспекты русско-шотландского брака. Между главой русского консульства в Лондоне, британским послом в Санкт-Петербурге и адвокатом моего деда последовал обмен письмами. По брачным законам России моя мать должна была получить согласие своих родителей, прежде чем произойдет брачная церемония, так как, выйдя замуж за отца, она становилась русской подданной. Дети от брака станут русскими гражданами и будут крещены в церкви своего отца.
Нелли была пресвитерианкой, Герман — православный. Уважая законы своей церкви, Герман обратился к епископу, отцу Евгению Смирнову, служившему в русском посольстве в Лондоне. Отец Евгений любезно пояснил, что не возражает против пресвитерианской церемонии, но православная церковь не сочтет брак законным, пока церемония не будет повторена в русской церкви.
Если у деда с бабушкой и были какие-то опасения по поводу того, что их дочь будет подданной незнакомой им страны, то они старались их отбросить. Ведь в конце концов нескольких членов семьи уже раскидало по дальним уголкам Британской империи, и другим вскоре предстояло то же самое, так почему бы не Россия? Что касается Нелли, ее не волновали особенности и законы другой страны. Она с радостью последовала бы за Германом даже в дебри Китая, если надо. Живя затем в России, она оставалась пресвитерианкой, но посещала главные службы русской церкви. Ей очень нравилось пение хора и особенно великолепный ритуал пасхальной службы.
Тем временем из России потоком шли письма. Моя бабушка и опекун отца задавали много вопросов, и Герман решил съездить в Россию, чтобы на месте обсудить разные стороны своего будущего. Он вообще был бы рад сократить свое пребывание в Шотландии и не видел смысла в долгой помолвке. Герман жил предстоящей свадьбой, возможностью увезти невесту в Россию, начать новую жизнь, заняться своим делом. И Нелли была счастлива, как никогда. Она испытывала новое для нее чувство свободы, какого она не знала прежде. Это была ее весна. Жизнь только начиналась, и она казалась прекрасной.
Я часто слышала, как отец говорил, соглашаясь с мнением других иностранцев, что по воскресеньям в Шотландии очень скучно, некуда пойти, кроме церкви и визитов к друзьям и родным. Но теперь все для него изменилось: дни стали длиннее и яснее, ему нравилось гулять с мамой, открывая милые окрестности городка, еще не испорченные расползшимися теперь во все стороны дорогами и домами. Иногда они присоединялись к компании молодежи, гулявшей или слушавшей оркестр в парке.
В одно из воскресений в самом начале лета Нелли и Герман решили сделать небольшую вылазку на другой берег реки. Они добрались поездом до Данди и там пересекли реку на пароме с ласковым названием «Файфи». Далее можно было пешком пройти по берегу Файфа до маленькой деревеньки под названием Тайпорт, расположенной прямо напротив Броути Ферри, и из этой деревеньки вернуться в Броути Ферри на пароме «Дельфин», совершив, таким образом, полный круг.
День выдался теплый. Они беспечно брели по берегу, останавливаясь и любуясь опрятными садиками и деревьями в полном цвету, но когда наконец пришли на пристань, то с ужасом обнаружили, что «Дельфин» отошел и уже на середине реки. Ничего не оставалось, как ждать его возвращения, и они устроились на траве.
День клонился к вечеру. Вокруг царил покой. С противоположного берега реку пересекала маленькая лодка. Герман и Нелли беспечно наблюдали за ней. Гребец, казалось, спешил, а когда лодка приблизилась, они были поражены, узнав плотную фигуру моего деда. Молодые совсем забыли, что в такие ясные дни, когда ни туман, ни дождь не мешают обзору, дедушка любил развлечься «охотой», прильнув к окуляру своей подзорной трубы. Дедушка видел, как «Дельфин» отошел от берега, как появились мои родители, как они сели на траву и, кто знает, может быть, обменялись несколькими поцелуями. Этого было достаточно. Дед бросился к лодочному сараю, где у него стояли яхта и ялик, и, стащив ялик на воду, помчался через реку.
Родители поспешили к кромке воды, навстречу приближавшемуся ялику. Дед выпрыгнул и вытянул ялик на прибрежную гальку, его лицо полыхало от гнева и напряжения. Все попытки успокоить деда были пресечены. «В лодку», — коротко и властно приказал он, когда Нелли, впервые в жизни возмутившись, спросила, что такое, по его мнению, они совершили. Герману было приказано следовать за ней.
Потом, сообразив, что зашел слишком далеко, дедушка объяснил свои действия тем, что хотел доставить их прямо к дому, чтобы не идти пешком до Броути Ферри. Но если так, то почему такой гнев? Трудно было понять ход мыслей этого эксцентричного человека, гораздо проще принять его запоздалые объяснения, а на остальное не обращать внимания.
Вскоре мой отец уехал в Россию. Его сопровождал Стефен. Дедушка и бабушка предложили Герману его в попутчики потому, что Стефен никогда ранее не путешествовал. Конечно, за этим предложением скрывалось и желание увидеть все глазами члена семьи и, таким образом, составить свое мнение о новой родне их дочери. Отец понял это и с готовностью согласился.
Они отправились на грузовом судне и спустя шесть недель вернулись обратно. Дни, проведенные в России, произвели на Стефена неизгладимое впечатление. Ему понравились люди, поразило гостеприимство, с которым его везде встречали, бесконечные званые обеды, длившиеся до утра, полуночные пикники на речных островах. Особое впечатление осталось от поездки вверх по Двине на колесном пароходе. Подымая веером сверкающие брызги, шлепал он лопастями колес, выискивая дорогу среди спускавшихся навстречу плотов. Пароход медленно шел то на глубокой воде, то по мелководью, вдоль постоянно менявшихся берегов и песчаных кос, и плескавшиеся в воде ребятишки махали ему вслед.
У Архангельска, по мнению Стефена, есть свое особое очарование. Широкие улицы, выложенные брусчаткой, деревянные тротуары, много старинных каменных зданий и церквей, но большинство строений — деревянные. Дома состоятельных горожан основательные и красивые. В городе много зелени, вдоль набережной тянутся аллеи. Многоэтажных домов, которые обычно омрачают улицы, в Архангельске нет.
Но иногда Стефену казалось, что он попал в далекое прошлое. Трамвая нет, люди ходят пешком или ездят на лошадях. Даже в лучшие дома — хоть в них паркет, богатая обстановка и электричество — воду доставляют с реки. По утрам ему довелось наблюдать, как лошадь спускается к реке с пустой бочкой на тележке, а потом тянет тяжелый груз вверх по склону к кухонной двери. Здесь воду переливают в другую бочку, стоящую в коридоре рядом с кухней, и уже отсюда берут ее для кухонного котла и прочих надобностей. Кухонные отходы и мусор сбрасывают в помойные ямы во дворах. Туалетом в доме, где он останавливался, служат два маленьких смежных помещения. В первом — на столе с мраморной столешницей стоит кувшин для умывания, таз, имеется зеркало, мыло и прочие принадлежности. В другом помещении устроены два стульчака разных размеров с тяжелыми крышками. От них вниз, в вырытую яму, идут желоба длиной до двадцати футов. Ежегодно весной яму чистят и содержимое куда-то увозят.
Люди там дружелюбны и гостеприимны, поддерживают родственные отношения. Жизнь небольшого, но очень оживленного порта достаточно содержательна. В Архангельске есть клубы, устраиваются вечера, танцы, бывают театр и опера — все в свой сезон. Но самое главное, он понял, что новая родня готова принять Нелли в свой круг и сделает все, чтобы она была счастлива.
Я никогда не узнаю, какие разговоры велись между моим отцом, его матерью и опекуном. Много лет спустя мне намекнула о них одна из двоюродных сестер отца, теперь уже пожилая дама. «Я женюсь только на ней, и ни на ком другом!» — передала она слова отца, которыми он будто бы закончил долгие обсуждения. Может быть, они сомневались, стоит ли везти юную невесту из другой страны, ведь здесь у нее нет ни родственников, ни друзей, ей будет труден язык. Холодные зимы, обычаи и весь образ жизни русских северян совершенно отличаются от того, к чему она привыкла. Они, конечно, не знали мою мать: будучи шотландкой, она обладала врожденной способностью адаптироваться к любым условиям. Но, как бы там ни было, что бы ни думала и ни говорила та и другая семья, это уже не имело никакого значения. Свадьба была назначена на 18 января 1905 года.
С момента, когда дата определилась окончательно, дом Камеронов в Шотландии стал походить на улей. К праздничной атмосфере приближавшегося Рождества добавилось волнующее ожидание свадьбы, до которой оставалось всего три недели. Дед был намерен устроить ее так, чтобы она была достойна его имени, и предоставил бабушке полную свободу заказывать в приданое дочери все, что она посчитает необходимым. Выросшая в более чем скромном доме с матерью-вдовой, грэнни[1] была очень довольна этим и тут же окунулась с головой в вихрь покупок. Регулярно посещались магазины и портнихи. Свертки с одеялами, вышитыми простынями, бельем всевозможного назначения, от скатертей из дамаста до скромных кухонных полотенец, потекли в дом нескончаемым потоком. Наняли швею, чтобы она сшила особые квадратные наволочки, принятые в России. Нелли и ее сестры часами вышивали инициалы на каждом предмете. Несмотря на уверения отца, что в русских домах тепло и что они с Нелли не собираются в экспедицию к Северному полюсу, грэнни заказала двум пожилым дамам, державшим магазинчик по продаже шерсти, бесконечное количество толстых шерстяных чулок, шалей, шарфов и других предметов, в которых не было острой нужды. Был приглашен известный меховщик для изготовления шубки, меховой шапки и муфты — вот это было необходимо.
Из Архангельска пришла весть, что моя русская бабушка собирается приехать на свадьбу. «Буду счастлива, — писала она, — присутствовать на свадьбе сына. С нетерпением жду встречи со своей будущей невесткой и ее семьей, с Шотландией». Но через несколько дней пришло известие, что у бабушки Германа случился удар и, судя по всему, моя бабушка, так радостно готовившаяся к отъезду, не сможет приехать. Она не могла оставить свою мать и, в конечном итоге, так и не увидела Шотландию.
Герман был очень привязан к своей бабушке. Когда они встретились во время его летнего отпуска, у нее еще не было никаких признаков болезни. Бабушка расспрашивала его о невесте и благословила, когда он возвращался в Шотландию. Она умерла в начале января, и к этой потере добавилось горькое сожаление о том, что и его мать не сможет присутствовать на свадьбе.
Генри, собиравшийся поехать в Индию сразу после свадьбы, получил из Калькутты известие, что дата его выезда перенесена на более ранний срок, и был вынужден отправиться накануне. Генри был младшим и самым любимым братом мамы. Они встретились лишь через восемь лет.
С приближением дня свадьбы в Броути Ферри рос интерес к шотландско-русскому союзу. Особое внимание привлекал свадебный торт, выставленный в витрине кондитерской, которая славилась затейливостью и качеством продукции. Вместо привычных цветочных украшений на верхушке торта красовались два флажка с серебряной и золотой бахромой. На синей парче одного был вышит серебром двуглавый орел России, на алом фоне другого — поднявшийся на дыбы золотой лев.
Свадебная церемония проходила в церкви святого Стефена. Спокойная, собранная и прелестная Нелли была в платье с длинным шлейфом и под вуалью. Она шла по проходу в сопровождении трех сестер, легко опираясь на руку отца. За ней развевалась фата. В какой-то момент Нелли заметила, что отец чем-то взволнован, его рука явно дрожала, когда он передавал дочь жениху… Церковь была полна народу, в толпе была женщина, которая, по странной прихоти судьбы, стала потом моей свекровью.
Затем торжество продолжилось дома. Многочисленные гости заполнили комнаты первого этажа. Светлый солнечный день позволил сделать несколько свадебных фотографий на крыльце Бей Хауз. Но прием был недолгим, так как в тот же вечер молодожены, родственники и друзья отправились поездом в Лондон на повторную церковную церемонию в православном храме. Мои тетки и мама часто вспоминали потом это путешествие, по их словам, оно было очень веселым. Бертрам Люрс, шафер моего отца, захватил в дорогу ящик шампанского. Пока более солидные участники поездки отдыхали в своих купе, молодежь веселилась и шумела. В Ньюкасле компания устроилась на ночь в привокзальной гостинице, а утром следующего дня снова продолжила свое путешествие.
Уставшие и невыспавшиеся, все были рады, когда поезд наконец прибыл в Лондон, где компания остановилась в отеле Лэнгэм на Портленд Плейс. Здесь к ней присоединился еще один кузен, Адя Шольц, один из двух шаферов, которые должны были держать венцы над головами жениха и невесты. Адя был красивый жизнерадостный молодой человек. Он только что приехал из России и с явным удовольствием принял участие во всех последовавших событиях. В Лондоне были званые обеды, завтраки, посещение театров, магазинов и осмотр достопримечательностей, а в последний вечер — большой прием в румынском ресторане, где оркестр исполнял цыганские и русские песни.
23 января Нелли, уже пять дней как замужняя дама, снова облачилась в свадебное платье и фату и отправилась на свадебную церемонию в русский храм на Велбек Стрит. Свадебный обряд русского православия очень впечатляющ. Невеста и жених держат зажженные свечи, украшенные гирляндой флердоранжа[2]. После обмена кольцами молодые вслед за священником обходят аналой, за ними следуют шаферы, держа над молодыми венцы и ловко лавируя между шлейфом свадебного платья и фатой.
Пение невидимого хора, мерцание множества свечей и лики святых на иконах произвели на маму глубокое впечатление, и она словно впала в какое-то странное оцепенение. Внутреннее напряжение, непривычный запах курящегося ладана, и в какой-то момент, когда молодые медленно шли за священником, мама упала в обморок. Ее быстро внесли в ризницу. Отец Евгений послал к ней дьякона узнать, сможет ли «мисс Камерон» продолжить церемонию, но Нелли собралась с силами и вышла, чтобы завершить службу, которая по законам русской церкви давала ей право считаться замужней женщиной.
Днем, после слезного прощания с семьей, молодожены отправились поездом в Гулль, там они сели на пароход, пересекли Северное и Балтийское моря и прибыли в Финляндию.
В Гельсингфорсе молодых встретили сестра моего отца Ольга Александровна и ее муж Оскар Семенович Янушковский. Тетя Ольга обняла и расцеловала маму в обе щеки. Они сразу подружились. Моя мать сохранила на всю жизнь глубокую привязанность к своей доброй, немного эксцентричной золовке. Оскар поклонился и поцеловал мамину руку. Для Нелли это было совершенно новое впечатление.
Их ждали две санные упряжки. Оскар помог Нелли сесть и накинул ей на колени полость. Они ехали вдвоем. Языковой барьер преодолели благодаря знанию Оскаром нескольких слов по-английски и очаровательной манере произносить их. Оскар старался, чтобы Нелли чувствовала себя непринужденно. Он показывал ей достопримечательности, мимо которых они мчались по заснеженным улицам, ей же все было внове, чудесно и волнующе. Нелли навсегда запомнила ту первую поездку.
На другой упряжке сидели отец и его сестра. Увидевшись после долгой разлуки, они были счастливы и оживленно обменивались новостями. Будучи старше отца на три года, моя тетя взяла на себя роль его защитницы. Совсем маленькими они пережили трагическую потерю отца, и, возможно, поэтому у них развилась сильная взаимная привязанность, не ослабевавшая даже в разлуке.
В то время Финляндия входила в состав Российской империи. Дядя Оскар занимал важный пост государственного советника на русской гражданской службе в Гельсингфорсе (так называлась столица Финляндского княжества. — Прим. ред.). Его семья жила в прекрасном доме на одной из главных улиц города. Войдя в дом, Нелли была удивлена. Вдоль стен холла и парадных комнат стояли специальные витрины, на каждой полке — множество разнообразных предметов из тонкого старинного фарфора и других редкостей. «Сестра, — пояснил мой отец, — известная собирательница старинных вещей, особенно фарфора». Тетя Ольга была любящей матерью и одновременно беспечной хозяйкой. Никакого интереса к домашним делам она не проявляла, единственным ее занятием было протирать пыль с драгоценных безделушек, это не доверялось никому. О приготовлении пищи она не имела представления, и если кухарка по какой-то причине внезапно оставляла место в доме, семейству приходилось отправляться в ближайший ресторан.
Тете Ольге не было и тридцати, а она уже имела шестерых дочерей, и еще один ребенок должен был появиться через несколько месяцев. Она страстно мечтала о сыне и с непоколебимым оптимизмом беременела год за годом. Каждое дитя с беззаботностью кукушки передавалось кормилице, потом — няньке, затем — гувернантке. Несколько лет спустя она родила долгожданного сына, и за ним были еще две девочки. Обожаемый сын вырос и превратился в источник печали и волнений, в то время как дочери, энергичные и сообразительные, пробивали дорогу в жизни сами.
Нелли и Германа сразу повели в детскую познакомиться с детьми. Детская была большая, с множеством окон, светлая и теплая, но довольно аскетичная на вид. Вдоль стен стояли колыбели и кроватки. Маме показалось, что женщин в комнате столько же, сколько детей. Старая няня, которая когда-то была кормилицей тети Ольги, правила всем этим женским царством. Тетя Ольга была очень привязана к своей старой «мамке», которая, не желая расставаться с дитем, вынянченным ею, последовала за ней в Финляндию.
Как только шумная и веселая компания обнаружила, что за ними наблюдают, все затихли. Женщины встали и поклонились. Дети подбежали к матери, с любопытством поглядывая на незнакомых посетителей. Все дети были одеты одинаково красиво. Вежливо приседая, они по очереди знакомились с новой тетей. Старшая девочка, светловолосая восьмилетняя Милица, со временем превратилась в очень привлекательную молодую женщину, у которой было по меньшей мере трое мужей. Вторая дочь тети Ольги, Марина, девочка с огромными выразительными глазами, подошла к отцу и взяла его за руку. «Марина, — сказал Оскар, поднимая ее на руки, — совершенно глухая». Когда Марине было два года, она заболела скарлатиной, затем развилось осложнение, и после выздоровления обнаружилось, что ребенок потерял слух. Так Марина оказалась в мире безмолвия и жила в нем до конца своих дней.
Погостив немного в Финляндии, мои родители отправились в Петербург. Оскар с Ольгой вызвались сопровождать их. Оскар вырос в Петербурге, и там у него было много друзей и знакомых.
Санкт-Петербург… Только Великому Петру, чей гений и воображение равны были его положению, могла прийти в голову великая идея построить новую столицу в пятистах милях к западу от Москвы. С упорством, преодолевающим все препятствия, с несказанной жестокостью, на костях бесчисленных тысяч работников он основал на болоте один из красивейших городов мира.
В пору медового месяца моих родителей Санкт-Петербург переживал пик политических страстей. Всего две недели назад произошла трагедия известного «Кровавого воскресенья», когда свыше тысячи человек было убито и две тысячи человек ранено во время мирного шествия к Зимнему дворцу. На востоке русские несли ужасные потери в войне с японцами. Уже слышались раскаты приближавшейся бури, но на поверхностный взгляд казалось, что это никого особо не заботит и не пугает.
Нелли сразу влюбилась в Санкт-Петербург. Золотые купола соборов под зимним солнцем, дворцы, каналы и мосты, серебряная лента замерзшей Невы — все вместе создавало картину непередаваемой прелести.
Друзья Оскара с истинно русским добросердечием открывали гостям двери своих домов. Молодожены побывали на балете и в опере. Незадолго до отъезда из Санкт-Петербурга Янушковские заказали для них ложу на оперу Глинки «Жизнь за царя». Им хорошо была видна царская ложа, в которой сидел кто-то из великих князей со свитой. Все места в зрительном зале были заняты, театр сиял, полный света и блеска. Здесь были сливки петербургского общества. Серебро и золото военных мундиров, сверкающие драгоценности, обнаженные плечи дам, роскошные наряды и меха — все это представляло собой незабываемую картину. В креслах партера, занимая почти целый ряд, расположились военные — красавцы как на подбор, в черных с серебром мундирах — знаменитые «гусары смерти», их часто называли еще «черными гусарами». Почти все они были холостяки, всецело посвятившие себя царской службе.
Волнующим был момент, когда в оркестре зазвучали первые ноты национального гимна. Актеры на сцене и вся публика в зале встали и, повернувшись к царской ложе, поразительно слаженно пели: «Боже, царя храни!».
А на холодной улице кучера ждали своих хозяев и, пытаясь согреться, притопывали ногами и хлопали руками. Зеваки разглядывали богачей, рассаживавшихся в экипажи, чтобы ехать домой, в свои особняки, на веселые интимные вечеринки. Это было время, когда немногие избранные наслаждались всей роскошью жизни. Совсем скоро, через двенадцать лет, этот мир исчезнет.
Родители хотели посетить известные исторические места, но моя тетя, все уже видевшая, предпочла носиться по магазинам в поисках своих любимых редкостей. Счастливая Нелли, в новой шубке и меховой шапочке на красивых волосах, сопровождала свою золовку. Тетя Ольга была хорошо известна среди коллекционеров антиквариата, ее знали в знаменитых магазинах. Много лет спустя моя мама описывала один из них — фирменный магазин, где можно было купить уникальные предметы огромной художественной ценности и где ее золовка после долгих раздумий купила небольшое украшение.
На следующий день родители уезжали в Москву. Тетя Ольга и Оскар пришли проводить их. Обнимая маму в последнюю минуту перед отходом поезда, тетя Ольга вручила ей маленькую коробочку с украшением, приобретенным накануне. Оно было изысканно простым и представляло собой крошечную веточку вербы в стаканчике из горного хрусталя. Стаканчик казался до половины наполненным водой. Мама очень дорожила этим украшением и, куда бы ни ехала, всегда брала с собой. Тридцать лет спустя, когда я уезжала в Индию, она передала его мне, и с тех пор маленький стаканчик с веточкой вербы у меня. Уже после смерти мамы я узнала, что первоклассный магазин, который она описывала, принадлежал легендарному Карлу Фаберже.
Москва по отношению к Санкт-Петербургу — старшая сестра. Она проще в обращении и шире душой своего младшего утонченного братца. В Москве к моим родителям неиссякаемым потоком шли друзья и родственники, все хотели познакомиться с молодой «англичанкой». Уютное ворчание самовара прерывалось лишь пока накрывали на стол.
Несколько часов родители посвятили покупкам, были заказаны мебель, ковры и рояль. В качестве особого подарка молодой жене Герман приобрел обеденный сервиз для пасхального стола, выполненный в золотом и алом цвете, с инициалами моей мамы на каждом предмете. В тон ему были подобраны рюмки и бокалы. Кто знает, может быть, этот сервиз до сих пор украшает стол в чьем-нибудь доме?! Я не жалею, что маме не удалось его вывезти. В 20-е годы, когда в Архангельске был почти голод, он помог отцу выжить.
Пребывание моих родителей в Москве было недолгим. Звал далекий Север. Я иногда задаюсь вопросом, о чем думала молоденькая шотландка, увезенная так далеко от родных мест, доверчиво прильнувшая к плечу мужа, в поезде, который мчал ее на Север через заснеженный бескрайний лес с редкими деревушками.
Перед самым концом путешествия поезд сделал короткую остановку на маленькой станции. Здесь к моим родителям присоединилась молодая женщина Таня, двоюродная сестра отца. Ее муж работал на железной дороге. Таню послала моя бабушка, чтобы встретить и сопроводить молодых со станции домой. Таня обняла и расцеловала маму и своего брата. Веселая и очень располагающая к себе, она, вместе с тем, выглядела довольно странно, так как была полностью укрыта черной вуалью, прикрепленной к меховой шапочке и спадавшей складками до пят. Нелли была удивлена и даже напугана этим.
— Она монахиня?
— Нет, — ответил отец, — она в трауре по бабушке.
Нелли почувствовала себя неловко, но уже через минуту дружески общалась с Таней — с помощью отца, переводившего им, жестов и улыбок.
Поезд прибыл в Исакогорку. Это была конечная станция. До Архангельска оставалось рукой подать. Родителей ждали две санные упряжки. Таня занялась багажом, она четко командовала носильщиками, и скоро все короба были в санях. Родители направились к другим саням. Герман крепко обнял старого кучера и познакомил его со своей молодой женой. Старик взглянул на Нелли, широко разулыбался и сказал что-то, явно не понравившееся отцу. Поправляя вокруг них полость из медвежьей шкуры, кучер разговаривал с отцом, обращаясь к нему по имени и на «ты», и наконец взобрался на свое место, поднял кнут. Лошади тронули. За ними, сидя поверх багажа в своих санях, поехала Таня. Ее вуаль развевалась, как крылья гигантской птицы.
Лошади мчались быстро, и вот уже Олонецкая улица.
Первое, что бросилось в глаза Нелли, когда сани въехали в распахнутые ворота, была башенка летней беседки, возвышавшаяся над садом, и флаг на ней. «Смотри!» — воскликнула она, обращаясь к отцу и показывая вверх. Приветствуя шотландскую невесту, на башне развевался флаг с золотым львом на красном фоне, вставшим на дыбы. Мама не раз вспоминала при мне, что, увидев этот гордый символ Шотландии, пережила волнующие минуты.
Отец помог Нелли выйти из саней, и они поднялись по ступенькам покрытого красной дорожкой парадного крыльца. В прихожей стояла высокая женщина в черном, очень похожая на фотографию, полученную Нелли от свекрови. На мгновение Нелли подумала, что это и есть свекровь, но отец, представляя ее, сказал, что это его тетя Людмила, сестра матери.
— Поторопитесь, — сказала Людмила, — все ждут вас в танцевальном зале.
Когда молоденькая служанка торопливо помогала Нелли снять шапку и тяжелую шубу, гостья подумала, что надо бы привести себя в порядок, причесать волосы, но, кажется, нет времени. Герман взял Нелли за руку и повел в зал прямо так — с растрепавшимися волосами и в помявшемся в долгом путешествии платье.
Посреди комнаты стояла ее свекровь, высокая, статная, в платье из золотой парчи с длинным шлейфом. В руках она держала большую икону Богоматери с Младенцем. Рядом стоял ее муж, отчим моего отца. У него в руках был серебряный поднос с караваем ржаного хлеба и солонкой на нем — традиционный русский символ гостеприимства. Позади толпились друзья и члены семьи.
Герман, взяв Нелли за руку, подошел к матери и встал на колени. Изумленная Нелли растерялась, не зная, что делать.
— На колени, — прошептал Герман, сжав ее руку.
Бабушка шагнула вперед. Подняв икону, она медленно и благоговейно совершила крестное знамение над головами молодых и снова отступила назад. Затем отчим благословил их хлебом-солью. На этом краткая традиционная церемония закончилась.
Бабушка поставила икону и обняла Нелли, улыбаясь и целуя ее в обе щеки. На ломаном английском она сказала, что теперь у нее есть еще одна дочь.
Вокруг, поздравляя и целуя молодых, собрались родственники, все, кроме старой няни Шаловчихи, маленькой иссохшей старушки, которой шел сто пятый год. Она стояла в стороне и холодно разглядывала маму. Когда отец приезжал на короткие каникулы из Шотландии, она удивлялась, неужели он не мог найти невесту среди местных красавиц: «Пошто жениться на иноземке, и тем паче на англичанке?». Живя в стране, где правила другая «англичанка», Шаловчиха не любила царицу, считая ее виновницей Крымской войны и гибели единственного сына.
В гостиной молодых ожидали подарки. Маму поразила щедрость — там было множество вещей из чистого серебра. На отдельном столике разложены украшения, давно хранимые бабушкой для жены старшего сына. Но разглядывать и восхищаться подарками было некогда. Моя бабушка, которой не довелось побывать на свадьбе в Шотландии, решила устроить дома достойный свадебный прием в честь сына и невестки. Стол уже был накрыт, и гости с нетерпением ждали возможности начать пир.
Молодым пришлось поторопиться. Вспомнив золотое парчовое платье свекрови, Нелли быстро переоделась в подходящий случаю наряд, но когда вошла в столовую, к ужасу своему увидела, что бабушка в трауре. Парчу бабушка надела лишь на церемонию благословения. Взглянув вокруг, Нелли обнаружила также, что за немногим исключением в черном были все, даже у маленьких мальчиков на рукавах повязаны траурные ленты. На мгновение ею овладело странное, почти жуткое чувство. В то время к трауру относились очень серьезно. Внешне застолье совсем не походило на свадьбу, но, оказалось, траур ничуть не помешал гостям веселиться на празднике, третьем по счету для Нелли и Германа. Для них он оказался самым веселым.
За длинным столом, протянувшимся из столовой в зал, собралось почти восемьдесят человек. Бесконечная череда блюд, водка, шампанское, тосты, русские свадебные обычаи. Один из них показался Нелли особенно странным. Кто-нибудь из гостей, как бы ненароком, замечает другому, что вино горьковато на вкус. Сосед соглашается: «И правда, горько!». Это подхватывает следующий, и вот уже все скандируют хором: «Горько! Горько!». Единственный способ подсластить вино знает молодая пара, которая начинает целоваться под счет присутствующих: «Раз, два, три…». Так повторяется много раз. Каким бы странным все это ни казалось Нелли, она послушно подчинялась обычаю.
Вечер удался на славу. Хорошо выпив и закусив, пожелав счастья новобрачным, гости разошлись с чувством выполненного долга: каждый сделал все, чтобы невеста-чужестранка поняла, что она в своей семье, что принята в их круг.
Теперь пора поведать историю этой русской семьи, о том, что я узнала в самом восприимчивом к впечатлениям возрасте, когда зачарованно слушала рассказы о событиях давно минувших лет.
Когда царь Петр Великий, могучий и безжалостный реформатор, в 1693 году приехал в Архангельск, он заложил на острове Соломбала верфь. На помощь себе в этом деле он привез из Голландии инженеров, ремесленников, кораблестроителей. Среди них был человек по имени Рутгер ван Бринен. Несмотря на суровый климат и тяжелые условия жизни, ван Бринен прижился в Архангельске. Немногим более века спустя в роду появилась Маргарета Каролина, и в 1818 году в возрасте семнадцати лет она вышла замуж за купца Ивана Гернета. Это были мои прапрабабушка и прапрадедушка.
Маргарета ван Бринен была очень тщеславна, она гордилась старинной связью ее семейства с Петром Великим. Как в Санкт-Петербурге, так и в Архангельске Петр любил устраивать знаменитые «ассамблеи». Рассказывали, что однажды он пригласил жену ван Бринена танцевать, но она, будучи на сносях, вынуждена была отказаться от великой чести и просила извинить ее. Много прочитав о Петре и его манерах, я с трудом верю, что такой пустяк как беременность мог помешать Петру прогалопировать по залу с моей прапрабабкой, будь у него охота. Однако эта история передавалась из поколения в поколение.
У Ивана и Маргареты было несколько детей, но меня интересуют двое из них — Евгений и Амелия.
Как многие матери, Маргарета была очень честолюбива в отношении детей, особенно сына Евгения. Летом 1842 года Евгений был отправлен отцом по торговым делам в Калужскую губернию, за тысячу верст от дома. Там каждый год проходила знаменитая ярмарка, и купцы со всей России съезжались на нее, чтобы купить или продать все, чем богата их земля.
В Калуге Евгений остановился в доме местного помещика, делового партнера и друга семьи. Помещик был вдовцом. Его домашнее хозяйство вела экономка по имени Федосья, ей помогала дочь Анна. Евгений сразу приметил девушку. Он наблюдал, как она хлопочет по хозяйству, приносит кипящий самовар, накрывает на стол. Ему нравилось, как она разговаривает, смеется, напевает вполголоса, словно беззаботная пташка, но между ними не было никаких разговоров. Ее жизнь шла где-то на задворках, ведь она была служанка, а он — гость в доме.
В один теплый летний вечер Евгений вместе с молодыми членами семьи пошел на гулянье в деревню. Девушки в ситцевых платьях и ярких сарафанах гуляли по улице, взявшись за руки; парни в чистых вышитых рубахах, с гладко зачесанными волосами, важно, как петухи, вышагивали своими компаниями. Заиграла гармонь, кто-то ударил по струнам балалайки, начались песни и пляски, за ними — хоровод, большой круг, где все, взявшись за руки, с пением движутся быстрей и быстрей вокруг центральной фигуры.
Евгения и его друзей затащили в хоровод, в центре которого плясала Анна. В ее плавных движениях, жестах, наклоне головы была неизъяснимая природная грация, присущая крестьянским девушкам. В хороводе нужно исполнять пожелания поющих: «Поклонись всем нам, ай-люли, ай-люли. Поклонись всем нам, ай-люли, ай-люли». Анна низко кланялась, потом снова танцевала, пока хоровод не остановился и ей не спели: «Кого любишь — поцелуй, ай-люли, ай-люли!». Мгновение поколебавшись, она подплыла к Евгению, быстро поцеловала его и втолкнула в круг, а сама заняла его место и взяла за руки соседей. Хоровод и пенье начались снова, теперь вокруг Евгения. В этом вся суть танца, и так начался роман простой крестьянки и молодого человека из привилегированного сословия.
Анна была не только красива, но и умна. Она выросла в доме, где было много книг. Научившись у местного священника читать и писать, Анна жадно читала все, что попадало ей в руки. Кроме того, на нее оказала влияние глубоко религиозная мать с необычайно высокими нравственными правилами. Евгений был знаком со многими девушками, со многими флиртовал у себя в Архангельске, но сейчас переживал что-то совсем другое. Они полюбили друг друга, но оба понимали, что между ними пропасть, которую трудно преодолеть: Анна не просто крестьянка, она — крепостная. И она, и ее мать принадлежали помещику, а тот день, когда Александр II освободит крестьян от крепостной зависимости, был еще впереди.
Когда Евгению пришло время возвращаться в Архангельск, Анна прощалась с ним навсегда, но у молодого человека были другие планы. Он решил жениться на Анне. Зная, что единственный способ осуществить это — выкупить ее, он обратился к помещику. Поначалу тот был непреклонен, не желал продавать девушку, и даже испугался. Он предупредил Евгения о тех проблемах, которые неизбежно возникнут, если он согласится на его просьбу: будучи другом семьи, он попадет в неловкое положение, так как родители Евгения совершенно справедливо обвинят его в том, что он обманул их доверие. И все же, после длительных споров и обсуждений, может, под влиянием искры человеколюбия или благодаря некоторой романтичности своего характера либо выгодности предложения, он согласился продать Анну.
Но тут возникло еще одно серьезное препятствие, теперь уже со стороны Анны. Ее мать была вдовой, ни братьев, ни сестер у нее не было, чтобы занять место дочери. Анна и мать были очень привязаны друг к другу, и, как бы ни манило прекрасное будущее, Анна наотрез отказалась расстаться с матерью. Увещевания и торги начались снова. Наконец помещик, смирившись с неизбежным, продал обеих. За какую же цену? — иногда меня интригует этот вопрос. Предположения могут быть самыми интересными, но истинного ответа я никогда не узнаю.
Евгений и Анна обвенчались в маленькой деревенской церкви. Мать Анны Федосья благословила их, а поручителями были молодые сыновья помещика. Под обрядовое пение они вернулись в дом помещика, где хозяин накрыл небольшой стол.
На дворе ждала тройка. Толпа детишек и селян собралась попрощаться с молодыми и Федосьей. Ничего подобного этому роману в той деревне никогда не случалось. Анна была теперь не только свободна, но и замужем за барином и сама стала барыней, у которой будут собственный дом и слуги, экипажи и лошади! Об этом чуде будут долго говорить, рассказывать детям.
Они отправились, когда солнце начало клониться к закату, промчались по деревне и свернули на дорогу, ведущую на север.
Немало сочинено чувствительных песен и рассказано необыкновенных историй о тройках, ямщиках и странствиях по просторам матушки Руси, но как бы романтичны ни были подобные поездки, они лишены всяких удобств. Дорога была опасна, экипаж тесен, досаждала пыль, безжалостное солнце и проливные дожди, но наши путешественники были счастливы.
Тем не менее постепенно в глубине души у них росла тревога: как отнесутся родители Евгения к невестке-крестьянке, свалившейся как снег на голову? Обе глубоко верующие женщины искали утешения в молитве. «Господь не позволит, чтобы такая дальняя дорога была напрасной», — говорила Федосья, видя волнение дочери. У Евгения тоже были плохие предчувствия. Он боялся своей гордой матери и все надежды связывал с более терпимым отцом.
Однажды кухарка, возвратясь с рынка, принесла новость, что Евгения только что видели на окраине Архангельска и он может появиться в доме с минуты на минуту. Все вышли на крыльцо встречать любимого сына. Наконец тройка появилась в воротах и, въехав во двор, встала у крыльца. Путешественники вышли из кибитки. Анна с матерью остались возле лошадей, смущаясь и робея, не смея приблизиться, а Евгений взбежал по ступенькам навстречу родителям.
В первые мгновения счастливой встречи Маргарета, кажется, не заметила женщин, а может, не сочла нужным обратить на них внимание, лишь мельком спросила: что за крестьянки? Но момент, которого так страшился Евгений, наступил. «Матушка, — сказал он ласково, — это моя жена и ее мать. Благословите нас». Лицо Маргареты побагровело, потом вдруг побледнело. Она зашаталась и упала бы, если бы не Евгений и отец. Они подхватили ее и помогли дойти до спальни, где она рухнула на кровать.
Когда Маргарета пришла в себя, ее всегдашняя сдержанность исчезла, она не скрывала истеричной ярости.
— Я никогда не приму убогую крестьянку себе в невестки! — заявила Маргарета. — Ты предал не только нас с отцом, но и весь наш круг! Как я буду смотреть в лицо родственникам и друзьям?
Этот приговор — самое ужасное, что мог представить себе Евгений. Холодным и равнодушным голосом, который ранил сильнее, чем гнев, Маргарета велела ему забрать жену-крестьянку и ее мать и убираться прочь. Она отрекается от него.
Евгений выбежал из дома. Анна и Федосья стояли у кибитки. Отвергнутые и оскорбленные, они горько сожалели, что покинули родные места.
Тут на крыльцо вышел отец. Евгений не зря надеялся на него.
Иван нашел Анне и Евгению временное жилище и вскоре купил им дом в Маймаксе — в месте, где зарождалась лесопильная промышленность Архангельска. В этом доме Анна и Евгений прожили всю свою семейную жизнь, вырастили детей. Их младшая дочь родилась в 1857 году и оказалась самой талантливой из всех. Ее назвали Евгенией, в честь отца. Это была моя бабушка.
Неисповедимы пути Господни — как часто я слышала в России это выражение! Постепенно Маргарета сблизилась с Анной, она поняла, что в невестке больше достоинств, чем могло показаться на первый взгляд, а впоследствии между женщинами завязалась крепкая дружба.
Ни Маргарета, ни сам Евгений, ни кто-либо из семьи никогда не задумывались, что молодая крестьянка из Калуги принесла в семью свежую, здоровую кровь. Это было жизненно важно для здоровья будущих поколений в сообществе, чье иностранное происхождение обусловливало близкородственные браки, где предпочитали, подобно отпрыскам королевской крови, искать себе пару в своем довольно узком кругу. Брак Анны и Евгения словно распахнул окна навстречу потоку свежего воздуха, хлынувшего в помещение, слишком долго стоявшее взаперти.
Вскоре после того как молодые устроились в собственном доме, сестра Евгения Амелия-Луиза вышла замуж за молодого лесоторговца Франца Шольца. Фамилия, разумеется, немецкого происхождения. Его семья переселилась из Риги, портового города, имевшего давние связи с Архангельском в торговле лесом. Этот союз, видимо, был по душе великому матриарху Маргарете. Теперь она могла утешиться мыслью, что, потеряв сына, получила возмещение морального урона браком дочери. И хотя ни капли «голубой» крови не было в жилах ее зятя, у него было кое-что поважнее — деньги.
Семья Шольцев уже несколько поколений занималась торговлей лесом и основательно разбогатела. Шольцы принадлежали к категории людей, обладающих чертами, которые обеспечивают богатство. Они были умны, упрямы и трудолюбивы, а Архангельск и окружающие его просторы всегда были краем, сулившим большие возможности предприимчивым людям. В этом краю лесов, рек и болот не знали крепостного права, здесь не было «душ», как называли крепостных крестьян, которых можно продать, обменять или проиграть в карты. Здесь никогда не слышали страшных слов: «На конюшню!», когда помещик наказывал крестьянина поркой кнутом за существовавшие и несуществовавшие грехи. Богатый ли, бедный ли, северный крестьянин всегда был свободен. В этом отношении Русский Север был уникальным краем. В его лесах водилось много птицы и зверя, меха имели хороший сбыт. Крестьяне ловили рыбу в реках и Белом море и продавали улов на рынках.
Северян издавна называли поморами, а иногда, насмешливо, — «трескоедами». Да, здесь обожали треску, край славился своими знаменитыми рыбниками — пирогами с рыбной начинкой. В этой огромной провинции еще можно было встретить настоящих славян с их древними обрядами и особой манерой говорить. Здесь не было татаро-монгольского ига, которое, словно злое черное облако саранчи, накрыло святую Русь в 13 веке.
Амелия и Франц тоже поселились в Маймаксе, ближе к своей лесопилке. Амелия была высокая и хорошо сложенная женщина, как вся лучшая половина рода. Она всегда была привязана к брату, а теперь, когда их семьи жили рядом, связь между домами стала очень тесной. Их многочисленные дети росли бок о бок. У Евгения и Анны было четыре сына и три дочери. Амелия и Франц тоже были отмечены свыше детьми. Крестины, дни рождения, именины не только детей, но и родителей, бабушек, прабабушек, теток и дядей были поводом для вечеринок и сбора всей родни.
Семья Шольцев полностью приняла Анну. Особенно ее любили дети. Помню, как старенькая двоюродная тетя вспоминала времена, когда все они были детьми, как любили, когда тетя Аннушка, как называли ее, танцевала и пела им, играла с ними так, как когда-то сама ребенком играла в деревне. «Она всегда была веселая и молодая, — говорила старая тетушка, — как будто ровня нам, детям. Ей нравилось быть с нами.
Ее мать, бабушка Федосья, была талантливая сказочница. Мы собирались вокруг нее, и она заводила своим калужским говорком, воодушевленно и таинственно, сказку, как в некотором царстве, высоко на холме над быстрой рекой жил-был умный царь, у которого была красавица-дочь. Действо постепенно разворачивалось. Дети слушали затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово. А волшебный ковер-самолет уносил их все дальше и дальше над лесами и морями, в сказочную страну, где происходит и плохое, и хорошее, но все всегда кончается счастливо».
Годы мчались, дети превратились в юношей и девушек. «Старое старится, а молодое растет», — гласит русская пословица. Шумные утренники с переодеваниями уступили место маскарадам. Маленькие санки, на которых дети с хохотом и визгом катались с ледяных гор на заднем дворе, сменились санями в конной упряжке, которые в масленицу так упоительно быстро неслись по залитой лунным светом реке.
Евгении, или Ене, как звали ее в семье, исполнилось семнадцать лет. Она была высока и стройна. Непослушные завитки темных каштановых волос обрамляли круглое личико с высокими скулами, унаследованными от матери. От матери же у нее доброта и нежность в глазах, от которых окружающим становилось теплее и веселее.
Сын Амелии Александр подружился с Еней, он особо выделял ее меж друзей и двоюродных братьев и сестер, а на вечерах танцевал чаще всего именно с ней. На масленице они оказывались в одних санях. Александр постоянно появлялся в доме Ени и оставался до самого вечера.
В те времена ежегодно проводился благотворительный костюмированный бал, на нем появлялись в костюмах литературных персонажей. Очередной бал был объявлен пушкинским. Еня, у которой был тонкий художественный вкус и умелые руки, с большим искусством создала наряды для себя и сестры Людмилы. Та решила появиться в облике зловещей Пиковой дамы. С тех пор в семье ее так и прозвали — Пиковая дама, позже сократили до Пики, а когда она стала старше, то превратилась в тетю Пику. Ребенком я знала ее только под этим именем и была очень удивлена, когда однажды обнаружила, что тетя Пика на самом деле Людмила. Еня отправилась на бал в костюме пушкинской русалочки.
Я помню, как тетя Пика описывала тот бал. «Платье у меня было замечательное, и мне намекали, что я могу выиграть приз. Можешь себе представить мое разочарование, когда судьи назвали имя Ени! И правда, — продолжала она без всякого сожаления, — надо признаться, она выглядела прелестно. Платье у нее было совсем простое — зеленый и голубой шифон струился, как вода в реке, а длинные волосы были распущены и ничем не украшены. Наша мама рассердилась, когда узнала, что Еня собирается танцевать босиком, объясняя, что русалочки не носят обувь, ведь в те дни это было очень смело. Но когда Еня завершила танец, ее пронесли на высоко поднятых руках по всему залу», — взгрустнув, закончила Пика.
Вскоре после этого бала Еня и Александр обратились к родителям с просьбой разрешить им пожениться. Русская православная церковь не одобряет браков между двоюродными братьями и сестрами, но это препятствие как-то преодолели. Еня, восемнадцати лет, и Александр, бывший на несколько лет старше ее, поженились.
Первые два года супружеской жизни Еня и Александр жили с родителями, а после рождения дочери Ольги Александр купил дом на Олонецкой улице. Дом был большой, но вокруг царило запустение. И родня Александра считала, что Еня слишком молода и неопытна, чтобы справиться с этим, ведь требовались слишком многочисленные переделки. Но они ошиблись. У Ени было внутреннее чутье, воображение, которое позволяло ей точно представить результат своих начинаний. Одаренная художественным вкусом и неиссякаемой энергией, она обладала упорством в преодолении препятствий. Воспринимая их как перст судьбы, она относилась к ним с терпением, присущим ее родителям.
Однажды летом, когда обустройство дома и двора было закончено, она и Александр осматривали то, что было отделено от двора покосившимся деревянным забором и называлось садом. Здесь не было и намека на дорожки, на что-то, хотя бы отдаленно напоминающее сад. Несколько чахлых деревцов боролись за жизнь, домашняя живность из соседних дворов свободно бродила и мирно паслась на этой территории. Маленький пруд затянут зеленой ряской. Вдоль забора, отделявшего сад от улицы, тянулся ряд лип, прикрывавших дыры в заборе, через которые сюда и проникали бродячие животные и люди, использовавшие пруд, чтобы топить ненужных котят и для прочих столь же неприятных дел. Рядом с прудом высился холм из земли и булыжников. Что и говорить, вид унылый. Его оживляла лишь аллейка из тонких молодых березок, ведущая к бане, скрытой в зарослях крапивы и кустов бузины.
— Что будем делать с этим? — спросил Еню Александр, беспомощно глядя вокруг.
Она ответила не сразу. А потом с тихой решимостью сказала:
— Здесь будет сад, какого в Архангельске еще не было. Мы расширим пруд, поднимем этот холм и на вершине построим красивую беседку. А здесь, — продолжала она, — на этом пустыре, будут лужайки и цветочные клумбы, редкостные деревья и кусты. Я обещаю тебе, что у нас и наших детей будет необыкновенно красивый сад, который будет переходить от поколения к поколению.
Слово свое она сдержала. По крайней мере, частично, ведь не в ее власти было заглянуть в будущее. Постепенно, с помощью книг, специалистов и рабочих, из запустения родился единственный в своем роде сад в Архангельске — реальное воплощение ее мечты.
Заборы были перестроены, двор от сада отделяла цветущая живая изгородь. Пруд очистили, расширили, завели в нем карпов, которые успешно размножались. По краям лужаек купами росли ирисы, нарциссы, камыш. Два маленьких причала-плотика с перилами покоились на воде. Возле одного из них среди берез угнездилась беседка. Возвышаясь над садом, на вершине теперь уже настоящего холма стоял миниатюрный волшебный замок. Ступеньки среди цветущих кустов вели в комнату, где стояли стол и стулья. Ромбовидные цветные стекла в окнах готического стиля доставляли нам, детям, огромное удовольствие: мы смотрели сквозь них в сад, и он превращался в таинственное место, то сумрачное, то, наоборот, золотое и ясное. Из этой комнаты дверь вела на наружную лестницу, по которой можно было попасть на плоскую крышу, огражденную невысоким зубчатым парапетом. На одном углу крыши была башня, внутри которой ступени винтовой лестницы вели на крошечную площадку с флагштоком. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестности и реку, а если посмотреть вниз, увидишь лужайки, цветочные клумбы, экзотические деревья и кусты. Сирень всех оттенков росла в огромных количествах, хорошо выдерживая здешние морозы. Голубая ель и величественные темно-зеленые сосны также были уроженцами этих мест. Но многие растения были привезены из дальних мест: бальзамический тополь с красными душистыми сережками — из Сибири, некоторые растения и луковичные — из степей, много редких и красивых цветов — с берегов далекого озера Байкал.
Я помню, что к нам постоянно прибывали завернутые в мешковину растения. Из Шотландии были привезены розы. А однажды мы с волнением встречали яблоню. Может, теперь яблони и растут далеко на севере, но семьдесят лет назад эта яблонька была единственной в Архангельске, если не во всей губернии. В начале лета группки гимназистов часто приходили посмотреть, как цветет в нашем саду эта диковинка.
Сад был живым памятником великому трудовому подвигу, а создательницу его можно поставить в один ряд с выдающимися садоводами.
Александр всячески помогал жене и не жалел денег на воплощение ее замыслов. Их маленькая дочь Ольга, подрастая, бегала по усыпанным гравием дорожкам или играла в рощице, где отец соорудил для нее качели между деревьями. Нежная зелень молодой травы пробивалась на лужайках, ровные ряды ягодных кустов сулили богатый урожай в конце лета.
Евгения и Александр ждали второго ребенка. Оба хотели сына, ведь впереди было столько дел!
К сожалению, прекрасный английский сад, созданный Евгенией в Архангельске, в советское время пропал. Через много лет, когда от сада почти ничего уже не осталось, в комнатушку на Троицком, где жила теперь Евгения с мужем, пришли люди и просили восстановить сад, пообещав всяческую помощь. Бабушка была уже пожилой женщиной, ее жизнь клонилась к закату. Она отдала им несколько оставшихся от библиотеки дорогих ей книг и с горькой иронией сказала: «Кто разрушил, тот пусть и строит».
В конце июня 1880 года дедушка и бабушка были приглашены на крестины куда-то на северную окраину Архангельска. Отец новорожденного хотел, чтобы Александр стал крестным. Крестины обещали быть веселым праздником с обильным угощением и выпивкой.
Еня, проведя накануне беспокойную ночь и страдая от ранних симптомов беременности, решила остаться дома. Она боялась, что тряска в дороге и жара усугубят ее страдания. Александр, любивший править сам, когда выезжал один, запряг лошадь в рессорную двуколку и, пообещав вернуться пораньше, отправился на крестины.
После совершения обряда крещения гости сели за стол. Последовали обычные многократные тосты за здоровье нового гражданина, за счастливых родителей, всех бабушек и дедушек, крестных, священника, дьякона и других важных гостей. Когда настало время ехать домой, Александр был крепко навеселе.
Была ночь. Лошадь, довольная возвращением в родную конюшню, весело трусила вдоль спящих домов. Александр обычно ездил мимо военной казармы, сокращая путь к дому. Многие солдаты и офицеры знали его в лицо, но сегодня, свернув на знакомую дорогу, Александр с удивлением увидел, что путь ему преградил караульный. Александр подъехал ближе — этого солдата он прежде не видел. Ясно, что и солдат не знал Александра, и поэтому крикнул: «Нельзя!».
Если бы Александр был трезв, здравый смысл взял бы верх, а если бы Еня была рядом, она наверняка убедила бы его не ввязываться в спор и ехать другой дорогой. Но Ени с ним не было, и Александр был пьян. Негодование и гнев бушевали в нем, ему показалось оскорбительным поведение солдата. Бросив поводья, Александр спрыгнул с двуколки и шагнул к часовому…
Никто не знает деталей происшедшего. Достоверно известно лишь, что солдат поднял ружье и прицелился. Александр, потеряв рассудок и забыв осторожность, бросился на солдата… Недолгая борьба закончилась громким выстрелом, эхом отдавшимся от стен казармы. Солдат осел на землю.
Внезапное осознание содеянного так потрясло Александра, что он протрезвел. Он стоял, не в состоянии двинуться, не зная, жив ли солдат, лежащий у его ног. Лицо молодого парня смертельно побледнело. Маленькая красная лужица растекалась под ним.
От казармы бежали люди…
Наслаждаясь прохладой позднего июньского вечера, Еня вышла в сад. Солнце медленно скользило к закату. Мягкий, нежный свет его таинственным покровом окутывал сад. Не шелохнутся листья, уснули птицы. Еня бродила между сладко благоухающими клумбами, по серебряной березовой аллее, гуляла вокруг пруда. Наконец устала и, облокотись на белые перила маленькой пристани, загляделась в таинственную темную глубину. В ней росло чувство обиды. Александр обещал вернуться пораньше, но вот почти полночь, а его все нет. Она направилась к дому, и тут услышала скрип колес по гравию и голоса.
В центре двора стояла двуколка. Вокруг нее столпились люди в военной форме. Бабушка Шаловчиха, в ночном чепце и накинутой на плечи шали, разговаривала с ними. Александра не было видно. Ледяной страх сжал ее сердце. Напуганная Еня не сразу поняла, что произошло…
Благословенным облегчением стало известие, что солдат, с которым столкнулся Александр, не убит и рана его даже не опасна. Еня наивно полагала, что бояться нечего, ведь ее муж не хотел ранить караульного, а лишь пытался отвести ружье. Но затем пришло страшное осознание: казармы и солдаты — оплот государства. Молодой караульный был на службе, нападение на него — серьезное преступление.
Трагическая новость быстро распространилась. Всю ночь в дом приезжали родственники. Первыми появились родители Ени, Анна и Евгений, за ними Франц и Амелия. Весь следующий день шли братья, сестры и друзья. Как пичуги, застигнутые бурей, они жались друг к другу.
Сразу были задействованы все знакомства, чтобы найти лучшего адвоката. Начались переговоры с людьми, занимавшими важные посты, обращались к знакомым, имевшим влиятельных друзей, даже в дальних городах, с тем чтобы использовать их веское мнение в деле. Денег не жалели. Для защиты Александра был нанят самый знаменитый в Санкт-Петербурге адвокат.
То жаркое лето было полно волнений. Надежда сменялась днями отчаяния. Еня по-прежнему ездила на рынок, покупала ягоды, варила варенье, солила огурцы и капусту, сушила грибы и приправы, делала запасы на зиму, вела дом и хозяйство. Она старалась занять себя, но тревога не покидала ее. Лишь сон приносил забвение, но утро возвращало к мукам реальности.
Суд состоялся поздней осенью. Александра приговорили к ссылке в Сибирь.
Приговор поверг семью в отчаяние. Амелия плакала не переставая. Хотя условия содержания политических заключенных в Сибири были почти милосердными по сравнению с ужасом, наступившим сорок лет спустя, Амелия была уверена, что сын ее никогда не вернется. Еня ради еще не родившегося ребенка старалась сдерживать свое горе и оставаться спокойной.
Никто не ожидал, что приговор будет столь суров. Нужно помнить, что во времена правления Александра II постоянно зрели заговоры. Было столько попыток террористов убить царя-освободителя крестьян, что он постоянно задавался отчаянным вопросом: «За что меня так ненавидят?». Поэтому неудивительно, что законы были ужесточены, и тех, кто их нарушал, нещадно карали.
Тем не менее прилагались большие усилия, чтобы смягчить решение суда. Вновь «нажали на все рычаги» — чтобы организовать просьбу о помиловании. Из Санкт-Петербурга в Архангельск приехал адвокат. У него имелась еще одна маленькая зацепка, и чтобы пустить ее в ход, надо было повидать семью. В те дни не существовало железной дороги, соединяющей Архангельск с Санкт-Петербургом. Средством сообщения, как и во времена Петра Великого, служили конные упряжки. Но адвокат приехал, и его тепло приняли в доме Ени.
Темным ноябрьским вечером собрались все члены семьи. Пришли близкие. Маргарета, уже несколько лет вдовевшая, тоже была здесь. Федосья и бабушка Шаловчиха сидели рядом. Еня устроилась между родителями.
Человек, сделавший для Александра все возможное, коротко рассказал о деле, подробности которого все уже знали, и затем сообщил, что есть еще один шанс, которым можно воспользоваться.
— Есть особые дни, — объяснил он, — праздники Рождество и Крещение, когда царь дарует милость просящим, лично обратившимся к нему. Я навел справки и выяснил, что возможность обращения к царю вполне реальна, но просить за осужденного может только очень близкий человек.
Он повернулся к Ене.
— Я убежден, вы — единственный человек, кто мог бы вызвать у царя сострадание. Однако должен предупредить: путешествие очень опасно. Мороз, снежные бураны могут отрезать все пути к жилью, кроме того — волки. Поездка в самую зиму — не очень-то приятная перспектива для любого путешественника, а в вашем положении, боюсь, почти невыполнимая. Однако, — добавил он, — другого решения я не могу предложить.
— Я еду, — спокойно сказала Еня, — другого выхода нет.
— Да, она поедет, — отозвалась Анна, сжав руку дочери. — Мы поедем вместе.
Еня тогда была на восьмом месяце беременности.
И вот в начале декабря, когда на севере бледный дневной свет с трудом пробивает тьму, у парадного крыльца стояла тройка, запряженная в кибитку — крытую дорожную повозку на полозьях. Едва различимые тени сновали от дома к кибитке и обратно, нося саквояжи, подушки, свертки.
Приготовления к путешествию начались сразу после отъезда адвоката. Нашли лучшего кучера, знавшего дорогу в Санкт-Петербург, его звали Степаном. Сопровождать женщин попросили управляющего лесопилкой Павла Михайловича, глубоко порядочного человека. Всю провизию надо было брать с собой, поэтому кухарка несколько дней работала не покладая рук: зажаривала куропаток, пекла пирожки и печенье. В дальней зимней дороге нужно быть готовым ко всему.
Наконец сборы закончились. Родственники собрались в прихожей. Еня и ее мать вышли к ним одетые в тяжелые шубы, меховые шапки, укутанные в шали. Наступил момент прощания.
Старая Федосья подошла к дочери.
— Бог милостив, — сказала она, благословляя ее.
Евгений поцеловал и благословил жену и дочь, за ним — остальные.
— Теперь присядем, — сказал Евгений, и по старому русскому обычаю перед дорогой присели и помолчали.
Потом все встали и двинулись к дверям. Еня и мать устроились в кибитке. Их укутали шалями и медвежьими шкурами. Павел Михайлович и Степан сели впереди. Степан подобрал вожжи, цокнул, и лошади двинулись. Кибитка выехала за ворота и спустилась на реку.
Собравшаяся у ворот прислуга проводила отъезжавших взглядами. Разговоров было много: дескать, Бог высоко, царь далеко, но вот их барыня, такая молоденькая, да еще в тягости, отправилась на встречу с Его Величеством просить за мужа. Все молились и желали ей успеха. Было видно, как тройка, описав дугу, повернула налево и встала. И вдруг, словно почуяв зов дальней дороги, лошади картинно взмахнули гривами, взяли в галоп и понеслись.
Много лет спустя, осенним вечером 1920 года бабушка попросила меня переночевать в ее комнате. Я помню ту темную ночь. Ветер бился в окна, на реке штормило. Бабушка задернула шторы и, сев рядом со мной, расчесывала волосы и рассказывала. Я лежала, свернувшись клубком на краю большой кровати, и слушала. Настольная лампа освещала бабушкино лицо. Она очень состарилась за тот страшный год. Горе и тревога наложили свой отпечаток, но бабушка старалась уходить мыслями от полного несчастий настоящего и возвращаться в далекое, более счастливое прошлое: детство, юность, первое замужество и памятное путешествие в Санкт-Петербург.
— Завтра, — сказала она тогда, — я должна оставить вас всех и ехать к дедушке, ему я больше нужна. Странно, но почти ровно сорок лет назад твоего родного деда тоже забрали, и я в разгар зимы поехала в Санкт-Петербург умолять самого царя помиловать моего мужа и разрешить ему вернуться в семью. В ту пору это было трудное, даже страшное путешествие. Кроме того, я ждала ребенка, твоего отца.
Мы долго ехали по замерзшей реке. У нас был лучший извозчик на свете. Он никому не давал обогнать нас, а тем, кого мы догоняли, кричал: «Долой! Долой!». Люди смеялись и махали нам вслед. Степан был не просто лучший извозчик — он шутил, пел, и мамушка — она знала все песни — подпевала ему. Я не умею петь как она. Со мной, внутри меня, будто в своей колыбельке, ехал ребеночек, но хлопот мне не причинял, — она засмеялась своему сравнению. — Он с той поры стал очень терпеливым ребенком, — добавила она и замолчала.
— Представь, — продолжала бабушка, — какая красота была кругом. Заснеженные деревья казались сказочными, а заиндевевшие ветки берез в неярких солнечных лучах походили на кружева. Кругом тишина. Снег искрился на солнце и потихоньку становился розовым, когда день клонился к закату. В то время в наших краях не было грохочущих поездов, распугивающих диких зверей, и нам довелось видеть множество всякой живности: лис, норок; маленькие горностаи с черными хвостами постоянно перебегали нам дорогу. Когда появлялось солнце, из своих укрытий показывались голубовато-серые белки и резвились на укутанных снегом сосновых ветвях, взметая снежную пыль.
Эти прекрасные картины лесной жизни поддерживали нас в трудном путешествии через замерзшие болота, реки, леса и голые равнины. Оно утомило бы всякого, не говоря уж обо мне, беременной женщине. Только тот, кто когда-либо ездил на санях, представляет себе все неудобства подобных путешествий: замкнутое пространство кибитки, которое надо переносить часами, отсутствие элементарных удобств, убогость станций, а главное — стихию.
Мамушка, Анна Дмитриевна, видавшая последствия обморожений, постоянно оглядывала мое лицо, не появились ли белые пятна, и терла мне щеки. Еда в корзинах замерзла, и на перегонах мы вынимали взятых в дорогу жареных куропаток и держали их за пазухой, чтобы оттаяли. На станциях всегда были кипящий самовар, чай и хлеб. Но отдыхали мы недолго, пока меняли лошадей, и снова в путь. Время было дорого, терять его нельзя, ведь неизвестно, что ждало впереди.
Русский человек привычен к снегу и морозу, это часть его существования, особенно на севере. Но даже для северянина наступает иногда предел. Однажды тройка выехала в ясный морозный день. Начало сильно холодать, да так, что ворона, замерзнув на лету, камнем упала на дорогу. Такой мороз бывает нечасто. Все замерло. Две фигуры на облучке почти не двигались. Мы сидели в кибитке, прижавшись друг к другу, пытаясь сохранить тепло. Никто не произносил ни слова. Ноздри и веки слипались, даже дышать было трудно.
Тяжелая изморозь словно пеленой накрыла кибитку, в двух шагах ничего не было видно. Только внутреннее чутье Степана помогало нам не сбиться с пути. Лошади измучились, всхрапывая и вскидывая головами, они боролись за каждый вдох. Степану пришлось сойти и прочистить им ноздри ото льда. Жуткий холод туманил рассудок. Путники уже были близки к опасному моменту, когда человеком овладевает полное равнодушие ко всему, как вдруг в снежном тумане показался станционный дом.
Мы стащили с себя тяжелые шубы и валенки. Хозяйка вытащила из русской печи горшок гречневой каши и горячее молоко, поставила на стол кипящий самовар и подала свежий каравай черного хлеба.
В доме имелась горница для особых гостей, чисто и скромно обставленная, члены семьи ею почти не пользовались. В углу икона, перед нею лампада — крошечный неугасимый огонек, на крашеном полу домашние половики, и гордость хозяйки — кровать с высокими перинами и горой подушек. Обессиленные тяжким испытанием, мы с матерью рухнули в мягкое тепло и сладкое забытье. Павел Михайлович устроился на матрасе на полу, а Степану досталось самое теплое место — с хозяйскими ребятишками на печке.
На следующий день с утра разыгралась пурга. Ехать было нельзя. Три дня сидели как на привязи в этом доме, мучаясь тревогой. Лишь на четвертый день погода переменилась, и мы снова тронулись в путь.
Установились ясные морозные дни, холод был терпимый. В один из вечеров тройка свернула в деревню, находившуюся в стороне от почтовой станции, где условия ночевки, по словам проезжавших, были получше. Лошади весело бежали по залитой лунным светом дороге и вдруг, без всякой видимой причины, резко прибавили ходу.
— Волки! — крикнул Степан. — Держитесь!
Лошади раньше людей почуяли волков. Вглядевшись во тьму, я увидела зеленые точки, мелькавшие за деревьями и двигавшиеся в том же направлении, что и мы. Мама, испытывавшая перед волками суеверный страх, была твердо уверена, что ими владеет злой дух. «Господи, защити нас», — крестилась она, отгоняя всякую нечистую силу.
Ошалев от страха, лошади несли, не слушая вожжей. Кибитку бросало из стороны в сторону и било на замерзших колеях. Казалось, она вот-вот перевернется и выбросит нас, и тогда — верная смерть. И тут, к счастью, на склоне холма появились оранжевые огоньки деревенских изб. Жители уже услышали неистовый звон бубенцов. Громкий хор собак, заливавшихся лаем, разбудил тишину ночи. Тройка влетела в открытые ворота одного из дворов и встала, почуяв спасение, в кольце его изгороди. Лошади дрожали в облаке пара, пена падала с их морд.
На одиннадцатый день мы были в Санкт-Петербурге, до Рождества оставалось три дня. Мы медленно ехали по Невскому проспекту, наблюдая за кипением жизни вокруг. Ярко освещенные магазины, лотки с раскрашенными игрушками, сани и экипажи, проносившиеся мимо, множество людей с покупками — все говорило о том, что мы прибыли в разгар подготовки к Рождеству. Однако мы слишком устали, чтобы восхищаться красотой дворцов, прекрасных зданий и улиц, и вздохнули с облегчением, когда тройка остановилась у гостиницы, где для нас все было готово.
Мы устроились и стали ждать дня аудиенции. А Павел Михайлович тут же начал готовиться в обратный путь. Было совершенно необходимо возвращаться сразу же после приема у царя. Я хотела, чтобы ребенок родился в Архангельске, и отказывалась даже думать о каком-либо другом месте.
Прошла неделя. Наступил новый 1881-й год.
Несколько дней спустя я шла по огромной площади перед Зимним дворцом. Мама и Павел Михайлович провожали меня до охраняемого гвардейцами входа. Отсюда меня проводили во дворец и ввели в приемную. Здесь уже сидели люди. Все молчали, думая о своем. Когда называли их фамилии, по одному входили в смежную комнату. Я не видела, чтоб входившие возвращались.
Наконец услышала свою фамилию. В этот момент внутри меня вдруг возникло легкое трепетанье, будто пичуга запуталась крыльями в сетях. Я с трудом заставила себя сохранять спокойствие, пока меня вели к комнате, у которой стояла личная охрана царя в парадных мундирах.
Двери открылись и закрылись за мной. Я оказалась в кабинете царя.
Войдя в комнату, я увидела в дальнем конце двоих мужчин в форме, сидевших за большим письменным столом. Оба были красивы и похожи друг на друга. Конечно, я видела раньше портреты царя, но тут почему-то вдруг испугалась. Пока я стояла как вкопанная, раздумывая, который из них царь, один из них поднялся и направился ко мне. Я тотчас узнала в нем царя. Он был высок, величествен, но не это поразило меня. Никогда в жизни я не видела более добрых, более сочувственных глаз. Я забыла все инструкции и советы, что нужно делать, чего нельзя, опустилась на колени и расплакалась.
Бабушка помедлила мгновенье, потом продолжала:
— Царь поднял меня с колен. «Не надо, не надо, — сказал он. — Я знаю о вашем деле. Как я понял, вы из Архангельска?». И он начал расспрашивать меня о путешествии, об Архангельске, о моей семье. Царь говорил просто, по-доброму, и я поняла, что он такой же человек, как его подданные, у него те же радости, печали, колебания, что и у всех.
Сначала я отвечала коротко, но постепенно все более доверялась царю. Я почувствовала его искренний интерес к нашему городу, где когда-то его знаменитый предок Петр Великий спустил на воду первый морской корабль и вышел на нем в Белое море. Он упомянул наш старинный Соловецкий монастырь.
— Бывали ли вы там?
— О да, Ваше Величество, — отвечала я. — Мы ездим туда почти каждое лето. Он прекрасен. Вашему Величеству нужно обязательно его повидать.
Царь улыбнулся:
— Возможно, когда-нибудь я побываю в ваших местах.
На мгновенье он умолк. А затем, глядя на меня сверху вниз, положил руку мне на плечо и произнес слова, которые навсегда остались в моей памяти и сердце:
— Вашему мужу повезло, что у него такая жена. Возвращайтесь в Архангельск. Я даю вам слово, что у вашего ребенка будет отец. Можете сообщить его матери, что сын ее вернется к ней. Идите с Богом.
Больше он ничего не сказал. Аудиенция была закончена.
На следующее утро, отправив в Архангельск телеграмму с доброй вестью, мы сразу покинули Санкт-Петербург.
Судьба своенравна, но на этот раз она благоприятствовала нам: стояли ясные морозные дни, ни туманов, ни снежных бурь не было. Останавливались мы лишь по необходимости. На почтовых станциях, не теряя времени, меняли лошадей, перекусывали, выпивали горячего чая и трогались дальше. Огромный душевный подъем, чувство выполненного долга подгоняли нас.
Меня, страдавшую в тесноте кибитки на последних днях беременности, поддерживало обещание царя. «Царь обещал — он сдержит слово», — повторяла я про себя эту фразу, словно некое счастливое заклинание. Но вот мама, всегда спокойная и внушавшая всем уверенность, теперь волновалась и нервничала. Ее опытный глаз отметил, что положение ребенка изменилось и роды уже близко.
Степан же весело пел и мастерски правил тройкой, предвкушая хорошую награду за свой труд и скорое возвращение к молодой жене и детишкам. Он терпеливо сносил Аннины команды. «Быстрее, быстрее!» — торопила она. А когда Степан повиновался и кибитку начинало бросать в стороны и бить о заледеневшие сугробы, она же гневно кричала: «Ты что, убить хочешь мою дочь?». Ей невозможно было угодить. Она беспокоилась, когда в жарко натопленных горницах станций мое лицо краснело; она волновалась, когда я мерзла. Сама же я говорила матери раздраженно: «Ну что ты волнуешься, мамушка? Случись что, доедем до деревни и найдем там повитуху, а если уж совсем худо будет, ты знаешь что делать». Мама пугалась еще больше. Перед отъездом из Архангельска она выслушала указания, как поступать в случае внезапных родов. Тогда все казалось просто, но теперь уверенность исчезала, а мысль о том, что дочь рискует жизнью, приводила ее в ужас.
Через семь дней бешеной езды, утром 12 января, тройка добралась до последней перед Архангельском почтовой станции. Там нас встречала целая процессия из друзей и родни. Навстречу двигались сани, запряженные одной, двумя, тремя лошадьми. Слышались смех, песни, кто-то играл на гармошке. Когда сблизились, все сани съехали на обочину и остановились. Воздух огласили громкие крики приветствия. Седоки и извозчики бросали вверх шапки.
Такой вот кавалькадой, под звон бубенцов, музыку и песни, все прибыли на конечную станцию, где ждал великолепный прием в зале, снятом для этой цели Ениным свекром. В своей широкой манере он даже приказал привезти из Архангельска закуски и напитки, и стол получился богатым. Среди смеха и поздравлений Степана и Павла Михайловича по старинному обычаю несколько раз подбросили в воздух и на руках внесли в зал. Успех поездки отмечали празднично — ели, пили, плясали.
Наконец кибитка в сопровождении веселого эскорта отправилась в последний восьмиверстный перегон до Архангельска. Короткий день близился к концу, когда лошади выехали на реку. Зимнее солнце быстро исчезало за темной линией горизонта. В сгущавшихся сумерках усталые лошади и пассажиры заканчивали свое путешествие.
И вот кортеж въехал в ворота и остановился перед парадным крыльцом. Не ожидая помощи и невзирая на свое положение и боль в онемевших суставах, Еня выбралась из кибитки и кое-как поднялась по лестнице. Там уже ждали. В толпе встречающих стояла Амелия с маленькой внучкой. Еня взяла ребенка на руки и прижала к груди.
Дома путников ждала вторая встреча. Пришли все родственники и друзья. Народу набилось столько, что за столом не хватало места. Пришлось принести все стулья из других комнат. Степан и Павел Михайлович по праву возглавляли стол. Это был тоже счастливый, но более сдержанный в чувствах вечер. Проехавшие такую даль были обессилены. Они выглядели страшно изнуренными — запавшие глаза, бледные, похудевшие лица. Но цель, ради которой они мучились, была достигнута. Особенно досталось мужчинам: в дороге они спали урывками, зачастую прямо на облучке, в очередь правили лошадьми на жестоком морозе. Они сделали все возможное, но очень устали, и веселиться уже не было сил.
Понемногу дом опустел. Остались лишь те, кто приехал с ночевкой.
Утром были отданы распоряжения размести дорожку к дальнему углу сада. Баня была вытоплена, медные тазы начищены, небольшие деревянные шайки выскоблены добела. Березовые веники лежали наготове. Еня, мать и бабушка Федосья, в сопровождении молоденькой служанки, прошли через сад и вдоль аллейки заснеженных берез. Раздевшись в предбаннике, они вошли в парную, где их окутало тепло русской бани.
В России мытье без березового веника — не мытье. Вениками охаживают все тело, и кровь быстрее бежит по жилам. Потом обливаются холодной водой, снова хлещутся веником, пока не выйдет вся усталость, растираются мочалкой, обливаются и лежат в истоме на лавке. После бани кипящий самовар, чай с вареньем — полное блаженство. Жизнь кажется краше.
Целую неделю Еня и ее мать были лишены возможности выспаться в постели. Теперь в своей спальне, лежа на тонких простынях, Еня долго не могла уснуть, ей все чудилось монотонное бренчанье бубенцов и покачивание кибитки.
На следующее утро Еня проснулась от болезненного удара в спине.
— Мамушка, — тихо позвала она.
Анна мгновенно проснулась:
— Слава тебе, Господи, вернулись вовремя!
Весь дом пришел в движение. Зажглись лампы, послышались торопливые шаги. Кто-то выскочил во двор разбудить кучера. Сани уехали и вскоре вернулись с повитухой. Затем прибыл доктор.
Схватки длились весь день, и только поздно вечером 13 января родился мой отец. Это произошло раньше, чем ожидали. Ребенок был очень маленький, личико совсем крохотное. Приготовленная одежда оказалась ему слишком велика. Пришлось срочно шить новые крошечные вещички. Много лет спустя бабушка отдала их мне, и я наряжала в них куклу.
Мальчика назвали Германом в честь святого Германа — основателя Соловецкого монастыря. Все детство и много позже родственники и друзья уменьшительно звали моего отца Гермошей. Опрятная и здоровая женщина, которую прочили в кормилицы, в последний момент не приехала. Пришлось срочно искать другую, потому что Еня не могла сама выкармливать сына, хоть очень хотела этого.
Кормилицу звали Серафима. Я помню ее. Высокая, худая, с острыми чертами лица, совсем седая, она была очень привязана к моему отцу и не обращала внимания ни на маму, ни на нас, детей.
Тетя Пика однажды открыла маме, что Серафима попивает, но когда этот порок обнаружили, было уже поздно. Серафима прятала бутылку среди своих бесчисленных нижних юбок и частенько, кормя грудью Гермошу, прикладывалась.
Ее собственный ребенок остался в деревне. Поэтому она глубоко привязалась к своему новому питомцу, была неутомима в своей преданности ему и жутко ревновала ко всякому вмешательству. Несмотря на странности и громкий хриплый голос (колыбельная раздавалась по всему дому), она пришлась по сердцу Ене. Серафима любила Гермошу, и за это ей многое прощалось.
Младенец между тем процветал. Его крошечные тонкие ножки и ручки наливались. Он превращался в прелестного ребенка.
Однажды в конце февраля, когда в Архангельске уже чувствуется приближение весны, к дворовому крыльцу подъехали наемные сани. Из них вышел высокий худой человек, плохо одетый и бледный, и, заплатив извозчику, прошел в кухню. Это вернулся Александр.
На кухне все было по-старому: выскобленный сосновый пол, медные кастрюли, теплый запах хлеба. Бабушка Шаловчиха и молодая кухарка возились возле плиты. Вдруг Шаловчиха увидела Александра и, воздев руки, бросилась ему на шею.
— Наконец Господь услышал мои молитвы! — воскликнула она.
Молодая кухарка кинулась к двери, ведущей наверх, чтобы сообщить барыне радостную весть, но Александр остановил ее.
Он сам приоткрыл дверь детской. В залитой солнцем комнате Еня сидела с детьми и была поглощена вышиванием. В какой-то момент она подняла глаза… Они бросились навстречу друг другу. Ольга, узнав отца, радовалась и очень удивлялась. Добрый папа — это новые игрушки, сласти, веселье — однажды куда-то исчез, а теперь так же неожиданно появился, и восторгу не было конца. Александр подкидывал и без конца целовал ее, как прежде.
Младенец бодрствовал, мирно лежа в колыбели. Александр взял на руки и нежно прижал к груди крошечный сверток. В этот момент Еня будто услышала незабываемые слова: «Я даю слово, что у вашего ребенка будет отец».
Через несколько дней состоялось крещение ребенка, а буквально на следующий день пришла страшная весть об убийстве царя. Россия содрогнулась.
По воскресеньям царь имел обыкновение присутствовать на кавалерийском смотре у Михайловского замка. После этого он иногда навещал свою любимую кузину, Великую княгиню Екатерину. Убийцы неделями следили за передвижениями царя и устроили засаду на улице, по которой царь ездил со своим эскортом.
В тот день все было как обычно. Показался экипаж, его сопровождали казаки в красных черкесках, ехавшие на черных лошадях по обе стороны царской коляски. Следом в санном экипаже ехал главный полицмейстер, а также полицейский наряд в полной боевой готовности.
Первая бомба взорвалась под задней осью экипажа. Погибли два гвардейца, лошади и ни в чем не повинный мальчик-разносчик хлеба из пекарни. Сам же царь остался невредим. Не обращая внимания на совет скорее вернуться во дворец, он вышел из экипажа проверить, какую помощь оказывают пострадавшим, лежавшим на снегу. Увидев, что помощь уже не требуется, он направился к своему экипажу и сказал: «Господь снова спас меня». В этот момент второй убийца крикнул: «Ты ошибаешься, Александр!» — и бросил еще одну бомбу. Она упала у ног царя. Когда дым рассеялся, все увидели, что царь лежит — одна нога оторвана, тело страшно искалечено, но он жив. У царя хватило сил сказать: «Увезите меня домой», — и он потерял сознание.
Его привезли во дворец и внесли в кабинет. Княгиня Юрьевская, бывшая его любовница, а после смерти императрицы морганатическая жена, бросилась в отчаянии на окровавленное тело и звала его по имени, но царь уже ничего не слышал. Вскоре он скончался.
Такой была награда царю-освободителю, который старался делать людям добро, освободил крестьян, думал об их дальнейшей судьбе, отменил телесные наказания, учредил систему присяжных и объявил всеобщее равенство людей перед законом. В утро своей гибели он работал над программой, которая привела бы Россию к парламентскому правлению.
Из оплакивающих его подданных сильнее всех скорбела, может быть, моя бабушка. Всего несколько недель назад она видела его в добром здравии. Теперь же, стоя на коленях вместе с плачущими прихожанами в переполненном Троицком соборе, где шла панихида, она от всего сердца молилась о спасении души царя-мученика. И в последующие годы, в каждую годовщину смерти Александра Второго, Еня ставила свечу в его память.
За время правления Александра II на него неоднократно совершали покушения, и каждый раз он чудесно спасался, однако рок все же настиг его. Если бы убийцам удались предыдущие попытки, поездка моей бабушки в Санкт-Петербург никогда бы не состоялась. Александр III, в гневе после убийства отца, вряд ли счел бы возможной какую бы то ни было амнистию. Так что счастье сопутствовало Ене.
Александр III по характеру являлся полной противоположностью погибшему отцу. Он был известен внушительной комплекцией и большой физической силой: легко сгибал пальцами монету и разрывал пополам колоду карт. Наследник Александра II совершенно отказывался воспринимать что-либо угрожающее покою и безопасности государства. Одним из его первых декретов был декрет об отмене реформ, начатых отцом. Особенно пострадали университеты. Все, кто распространял революционные идеи, были тут же исключены или отправлены в Сибирь, те же, кто был замешан в террористических актах, — наказаны. Среди них был Александр Ульянов, брат Ленина.
У Ени и Александра родился еще один сын. Они назвали его Александром, но все звали его просто Саня. Голубоглазый, светловолосый, он оказался крепче своего старшего брата.
Вскоре после рождения Сани умерла Маргарета Каролина, гордый патриарх семейства. За ней ушла ее сверстница Федосья, прекрасная сказочница из Калуги, и только бабушка Шаловчиха, тоже их ровесница, была жива. Словно маленькое сухое деревце, она стойко переносила все жизненные невзгоды.
Однажды, когда Гермоше было пять лет, а Шаловчихе уже за восемьдесят, они отправились гулять в сад. Был прекрасный весенний день. Снега уже не было, но пруд еще сверкал тонким слоем льда, словно белое блюдце. Они медленно прогуливались по дорожкам, как вдруг неожиданно, как это бывает с детьми, Гермоша устремился вперед и выбежал на пруд. Раздался треск, и он исчез подо льдом. Старуха, не колеблясь, бросилась за ним. Круша лед, она схватила Гермошу и вытащила на берег. Прижимая к груди потерявшего сознание ребенка, она бросилась к дому, отказываясь от помощи, и успокоилась лишь тогда, когда ожившее дитя было в постели, тепле и безопасности. Только тогда спустилась в свою маленькую комнатку, а на следующее утро ни она, ни маленький Гермоша уже и не вспоминали о происшествии.
Зиму 1889-90 годов долго помнили из-за жестоких морозов. Холода стояли страшные. В ту зиму, в начале нового года, Гермоше шел девятый год. Прошедший год был для него волнующим и счастливым. Ранней весной Гермошу приняли в мужскую гимназию имени Михаила Ломоносова — великого северного гения. Гермоша полюбил гимназию. Ему нравился черный мундир с серебряными пуговицами, длинные брюки, крепкий кожаный ремень с серебряной пряжкой, на которой были выгравированы начальные буквы названия гимназии, но больше всего Гермоше нравились новые школьные друзья, их смех и шумное веселье.
В январе у Германа день рождения. Ему разрешили пригласить гостей. Придут несколько двоюродных братьев и сестер, школьные друзья. Мамушка испекла особый торт. Еще стоит новогодняя елка. Когда соберутся гости, на ней зажгут свечи, а на следующий день елку разберут.
За несколько дней до дня рождения сына Александр возвращался поздним вечером домой из Маймаксы. Был сильный мороз, тихо и безветрено, небосвод усеяли звезды. Вдруг за домами появилось и быстро увеличивалось алое зарево. Пожары нередки в деревянном городе, но очень часто пожарные приезжали слишком поздно, когда от дома оставалась лишь груда дымящихся головешек. Зная об этом, Александр свернул и, погоняя лошадь, вскоре оказался на месте происшествия. Горела церковь. Гигантские языки пламени лизали стены, угрожая поглотить их. Высоко на лестнице стоял человек и пытался сбить пламя. Мужчины и женщины выстроились в длинную цепь и передавали друг другу ведра с водой из речной проруби. На снегу лежали вынесенные из огня иконы.
Александр встал в цепь. Вода проливалась на снег и тут же превращалась в лед. Люди скользили, спотыкались, падали, но делали свое дело. Тем, кто стоял у горящих стен, доставалось больше. Их донимал страшный, едкий дым, он разъедал глаза и горло, и, что хуже всего, ледяная вода лилась им на головы и одежду. Несмотря на примитивный способ тушения пожара, огонь удалось остановить, и церковь была спасена.
Люди устали так, что не было сил радоваться, и тихо расходились. Александр легкомысленно отказался от сердечного приглашения поесть и сменить одежду и уселся в свои сани: «Уже поздно, а дорога дальняя». Лошадь тронулась. На морозе одежда Александра обледенела. Его бросало то в озноб, с которым он не мог справиться, то в странное беспамятство. Вожжи выпали из рук. Волоча их по снегу, лошадь сама инстинктивно дошла до дома.
Александра внесли, сняли замерзшую одежду. Все способы, известные в наших краях, были применены, чтобы привести его в чувство. Наконец он ожил. Его уложили в постель. Всю ночь Еня не отходила от мужа. Утром казалось, что Александр уже здоров. Пришел доктор и после тщательного осмотра подтвердил это.
Весь день Александр был весел. Сквозь замерзшие окна спальни светило солнце. Пришла Амелия и, видя, как он играет и шутит с детьми, успокоилась. Ночью Александр спал спокойно, лишь говорил во сне. Но утром Еня увидела, что лицо его пылает, а глаза потухли. Снова вызвали доктора. На этот раз он ничего не сказал, но наедине с Еней сообщил ей, что подозревает начало пневмонии.
Дом затих, даже дети разговаривали шепотом.
Рано утром 13 января Александр попросил Еню позвать священника. Глотая слезы, она распорядилась. Старый священник Успенской церкви, крестивший всех ее детей, тотчас пришел. Александр исповедался и причастился. Затем в комнату вошли дети и встали у постели умирающего отца. Александр уже не мог говорить, тяжело дышал и вскоре впал в забытье. В полдень, в день рождения сына, его не стало.
В танцевальном зале, где еще недавно шумело веселье, на месте рождественской елки стоял гроб. За маленьким столиком сидел пожилой человек в рясе и читал молитвы за упокой души усопшего. Его приглушенный голос, словно шорох сухих осенних листьев, два дня слышался в доме. Приходили и уходили какие-то люди. Ольга сидела у себя в комнате и никого не хотела видеть. Мальчики, с растерянностью на детских личиках, находились в детской с бабушкой Анной. Приехала бабушка со стороны отца с дочерью и сыном. Амелия, потерявшая за последние три года мужа, брата Евгения, сына и дочь в расцвете молодости, теперь, при виде мертвого сына, впала в отчаяние. Она целовала его, гладила волосы, называла самыми ласковыми словами, как звала в детстве, пока наконец бабушка Шаловчиха не оторвала ее и не увела в детскую.
Вечером состоялся первый траурный обряд, на котором присутствовали дети, родственники, друзья. Каждый держал в руках зажженную свечу. Торжественные интонации священника и плачущие звуки хора брали за душу. Взгляд Ени снова и снова возвращался к гробу, залитому светом свечей. Лицо усопшего казалось спокойным и молодым. Их совместная жизнь промелькнула птицей. Теперь одиночество и трепет перед неизбежностью смерти.
По законам православной церкви на третью ночь после смерти тело Александра перенесли в Успенскую церковь. Утром церковь заполнили родственники, друзья, знакомые и обычные в таких случаях любопытствующие. После отпевания родственники подходили ко гробу и целовали руку усопшего, в которую была вложена маленькая иконка. Затем гроб закрыли и вынесли на похоронные дроги.
На морозе у крыльца стоял катафалк с лошадьми в траурных попонах. Процессию возглавил старый священник. За ним, под развевающимися черными вуалями, шли юная Ольга, сжимая руку матери, и Амелия. Далее — все провожающие. Старые и больные ехали в санях.
Дорога до кладбища заняла около часа. Гроб с телом Александра осторожно опустили в место упокоения, рядом с могилой отца. Священник прочел короткую молитву и бросил в могилу горсть земли, за ним — остальные. Хор запел «Вечную память», его жалобные звуки плыли над укрытыми снегом могилами и замирали невдалеке.
За воротами кладбища ожидали санные упряжки. Предстоял еще один обряд. Поминки в России и в Шотландии, с их чашкой чая, похожи в главном. На них собираются друзья и родственники усопшего, иногда давно не видевшиеся. Люди, пережившие утрату, помогают друг другу на несколько часов забыть о завтрашних заботах, снять с души тяжесть горя и тревог. Они разговаривают о простых вещах, вспоминают прошлое, даже смеются.
К вечеру последние сани выскользнули за ворота, и дом опустел.
Долго тянулись тоскливые зимние месяцы. Еня старалась быть мужественной, терпеливо сносить выпавшее на ее долю испытание. Некоторое утешение она находила в том, что, по крайней мере, ей не придется испытать финансовые трудности и связанные с этим проблемы, которые ожидают более несчастливых женщин. Александр постарался обеспечить ее, чтоб она не знала нужды и могла вести дом так, как привыкла. В результате Еня оказалась довольно богатой, дети — обеспеченными. По завещанию отца и законам страны старший сын становился наследником дома и земли. Но все заботы и трудности, что прежде были на двоих, теперь целиком легли на ее плечи. И Еня со всей энергией принялась за предназначенные ей труды, ни на минуту не позволяя себе расслабиться и поплакать.
Прошло два года. Моя бабушка, привлекательная женщина с прекрасным характером, вышла замуж за известного в городе хирурга. Я помню его, своего приемного дедушку, Александра Егоровича Попова, необычайно высокого, широкоплечего человека с серьезным умным лицом. Его темные глаза то искрились весельем, то становились очень строгими. Я не помню, чтобы он когда-нибудь смеялся, хотя иногда его серьезную физиономию освещала широкая улыбка. Его порядочность и необыкновенная преданность работе внушали уважение всем, кто его знал.
Ребенком я часто весело распевала, поглощенная каким-либо занятием. Временами от полноты чувств я пела слишком громко, и тогда раздавался знакомый строгий голос: «Женька, прекрати орать!». Глупостей дедушка не терпел.
Александр Егорович имел собственные средства и, конечно же, предпочел бы начать семейную жизнь в собственном доме, но из-за всяческих сложностей, связанных с продажей дома, а главное, из-за сада, к которому Еня была так привязана, он переехал в дом своего предшественника.
Все дети были отправлены в пансионы: Гермоша, одиннадцати лет, и Саня, двумя годами младше, — в Ригу. Ольга, которой теперь было четырнадцать, — в Германию, а затем, для завершения образования, — во Францию. В результате они могли бывать дома лишь летом и на рождественских каникулах. Я не раз задавалась вопросом, зачем нужно было отрывать детей от дома. Ведь всего два года назад они потеряли отца, а теперь лишались и тепла родного очага, а самое главное — матери. Может быть, всезнающая тетя Пика была права, когда однажды сказала моей маме, что Еня не хотела взваливать детей на Александра Егоровича и поэтому отправила их на полный пансион.
Во втором браке у Ени родилась дочь Маргарита и два сына — Сережа и Юра. Между домом и деревней постоянно сновали молоденькие «мамки». Одна из них, Серафима, впоследствии регулярно навещала наш дом. Она устраивалась на кухне и терпеливо ждала, когда появится ребенок, которого она выкормила. Ее черные глаза глядели с вызовом на всякого, кто посмел бы усомниться в ее праве находиться у нас в доме.
Через четыре года, закончив образование за границей, вернулась Ольга. Ей было восемнадцать. Высокая, стройная, со смеющимися карими глазами, тонкими чертами лица и темными волосами, она расцвела и превратилась в прелестную юную женщину. Ольга полюбила приемного отца, но, в отличие от младших братьев, звавших его «папой», обращалась к нему всегда по имени и отчеству — для нее существовал лишь один отец, и никто не мог заменить его.
Как-то в доме подруги ей представили Оскара Семеновича Янушковского, молодого человека, служившего в гражданском департаменте. На следующий год они поженились и позже, когда Оскара перевели на более высокий пост в Финляндию, стали жить в Гельсингфорсе.
Закончив учебу, из Риги вернулся Саня. Он не стал вступать в семейное дело, а, поболтавшись немного, купил долю в сибирских золотых приисках и уехал. Позднее он продал свой пай и снова вернулся в Архангельск, но я не помню, чтобы он занимался каким-либо делом.
Для Германа Рижский университет был резким контрастом архангельской Ломоносовской гимназии. Как и другие студенты, жившие вне дома, он регулярно получал переводы, но при этом не испытывал надоедливой опеки родных. В Риге он был сам себе господин, шел куда хотел, жил весело и беззаботно. Он был умен, имел значительные способности к языкам, но усидчивостью не отличался.
Однажды Ольга навестила Германа без предупреждения и застала его в постели.
— Ты заболел? — забеспокоилась она.
— Да, — прошептал он.
Ольга прохладной рукой дотронулась до такого же прохладного лба.
— Скажи, — спросила она, присев к нему на край постели, — что случилось?
Оказалось, что один из лучших друзей Германа, Костя, попал в жуткое финансовое положение. Его кредиторы требовали денег и угрожали. В отчаянии он обратился к Герману, но Герман в тот момент сам был «на мели» и, казалось, ничем не мог помочь, но, подумав, предложил Косте свой студенческий мундир, чтобы тот отнес его в ломбард. «Конечно, — признался он Ольге, — не очень-то приятно остаться в одном белье, но ведь это всего на неделю! Придут деньги, и все нормализуется». Разумеется, его мундир выкупила Ольга.
Гермоша вернулся из Риги, ему казалось — навсегда. Но случилась известная поездка в Шотландию, и вот теперь у него шотландская жена.
Пока Герман искал подходящий дом, они жили у родных. Нелли за это время вошла в семью, близко познакомилась со всеми ее членами. Бабушка, куда бы ни шла, брала ее с собой. Меж ними возникла душевная привязанность. Родители Нелли, без сомнения, любившие своих детей, не были настолько склонны к внешним проявлениям чувств, поэтому теплота и открытое сердце бабушки удивили и обрадовали Нелли, и она отвечала бабушке тем же. Для друзей и родни Нелли стала «Неллинька», а те, кто не принадлежал к этому кругу, обращались к ней — Нелли Августовна.
Нелли полюбила двух маленьких мальчиков, которые ходили следом за своей красавицей-родственницей по всему дому. Юра, которому исполнилось пять лет, был живым и развитым ребенком. За рыжеватые волосы его прозвали «пыжик», что значит олененок. Сережа, его старший брат, был спокойным чувствительным мальчиком. Их десятилетняя сестра Марга училась в женской гимназии. Каждое утро она отправлялась туда в санях и возвращалась после обеда. Нелли нашла, что коричневое школьное платье очень идет Марге, румяной, с большими выразительными глазами и кудрявыми волосами, заплетенными в длинную до пояса косу. Порой нежная и добрая, временами задумчивая и молчаливая, она была загадкой для Нелли. Марга боялась темноты и не могла спать одна, отчего гувернантке фройляйн Валле приходилось спать с ней в одной комнате.
Фройляйн Валле, молодая немка, и Нелли тянулись друг к другу и подружились — возможно, потому, что обе были здесь чужестранками. Фройляйн Валле слыла заядлой курильщицей, а так как бабушка не одобряла, когда воспитательница курит в присутствии детей, ей постоянно приходилось искать укромное местечко, где ее не могли бы видеть. С приездом Нелли таких возможностей стало больше, и когда у Валле выпадала свободная минутка, она шла в комнату Нелли и там курила. Вскоре и Нелли привыкла к папиросам. Молодые женщины любили поболтать по-английски и по-немецки, покуривая папиросы с длинными картонными мундштуками.
Поначалу Нелли многое в доме удивляло, например, постоянный поток друзей, родственников, мамок, староверов и странников, иногда посещавших дом, приживалы, но особенно Сашенька. Сашенька была странным ребенком. Природа одарила ее тонким умом. Она выросла в приюте и, отвергнутая сверстниками, возбудила в дедушке жалость. Он устроил так, чтобы Сашеньку забрали из приюта и она получила высшее образование. Сашенька стала учительницей, а после — директрисой маленькой школы, которую содержали городские купцы. В этой новой, только что выстроенной школе имелся отдельный вход, где у Сашеньки была квартира, состоявшая из спальни, гостиной, кухни и обычных подсобных помещений. Соседки Сашеньки — две пожилые женщины, жившие каждая в своей квартире, убирали в школе и обслуживали Сашеньку. Такие условия устроили бы любого учителя, но только не Сашеньку. У нее были другие планы. Вместо этой жизни она решила «удочерить» нашу семью.
Каждый день по окончании уроков Сашенька шла к нам. Она брала на себя дела, которые считала своей и только своей прерогативой. Она никогда не садилась обедать с семьей, а, убрав со стола пустые тарелки и составив их на сервировочный стол, ела в скромном одиночестве. Вечером, когда семья собиралась у самовара, Сашенька разливала чай и передавала чашки, а поздно вечером уходила, но не к себе в школу, а под лестницу, ведущую на чердак. Здесь она спала на матрасике на старинном сундуке, укрываясь старым покрывалом, а рано утром поднималась и шла учить детей.
Сашенька была со странностями. Я так и вижу ее: короткие темные волосы, строго зачесанные назад, открывают простоватое лицо; на ней черный, почти мужского покроя пиджак, болтающееся пенсне, дурно сшитая юбка и ботинки на пуговицах. Дети дразнили ее, а подростки — изводили, но Сашеньке все было нипочем, лишь бы бабушка не прогнала ее от себя (а бабушка этого никогда бы и не сделала). И Сашенька продолжала бывать у нас.
С приездом молодой шотландки в душе Сашеньки словно что-то проросло. Ее захватило какое-то странное наваждение. Выражалось оно в раболепной преданности Нелли, которая демонстрировалась при любой возможности. Когда Нелли садилась за стол, Сашенька придвигала ей стул, если Нелли собиралась куда-то пойти — Сашенька уже с шубой, тут как тут, или, стоя на коленях, любовно надевала Нелли валенки. Сначала это забавляло, затем стало раздражать. Нелли не знала, что и делать.
И тут случилось одно происшествие. Однажды, возвратившись с бабушкой и маленькой Маргой из бани, Нелли расчесывала волосы и словно между прочим, а может быть, с легкой ностальгией, заметила, что городская баня — прекрасное заведение, но она все же скучает по удобной ванне в ее доме в Шотландии. Это не ускользнуло от Сашеньки, и через несколько дней с чердака стащили чудовищного вида оцинкованную ванну. Ее установили в комнате служанки, рядом с кухней.
Ванну создал, очевидно, обладатель оригинального ума. В полете фантазии он сконструировал ее необычных размеров и с уникальной способностью — качаться, вроде кресла-качалки. Сидя в ванне, купальщик мог наслаждаться почти морскими волнами, пенная вода то достигала шеи, то едва покрывала ноги. Удовольствие, получаемое от этого «изобретения», зависело от проворства и чувства равновесия купающегося в ванне, но некоторую проблему представляло вылезти из нее.
Нелли пришлось принять ванну. Семья проявила к этому самый живой интерес, но больше всех пылала энтузиазмом организатор мероприятия — Сашенька. Собралась толпа любопытных. И кухарка, и горничные — все были готовы помочь молодой барыне в необычайном процессе омовения. У дверей стояла Сашенька с махровой простыней, ее намерения были очевидны. Нелли, вовсе не жаждавшая такого участия, наконец появилась на кухне в халате. В дверях комнаты, где установили ванну, замка не было. Обнаружив это, Нелли послала за Германом и, когда он явился, велела ему стоять у двери.
— И самому не входить, — добавила она.
С этими словами Нелли скрылась за дверью.
Наступил великий момент. Еще немного, и «Афродита» поднимется из пены, а Сашенька поймает и завернет купальщицу в полотенце. Дверь распахнулась, Нелли с красным лицом и сердитыми глазами выбежала и, ничего не сказав, исчезла в своей спальне. Оказалось, что при попытке выбраться из ванны Нелли просто-напросто выпала из нее.
Больше поползновений искупаться в качающейся ванне на моей памяти не было.
На улице Садовой, что совсем рядом с родным домом, Герман снял одноэтажный дом из шести комнат. Комнаты были большие и светлые. Западная сторона дома выходила окнами в тенистый сад, принадлежащий Техническому училищу. Из комнаты, которая позже стала детской, можно было выйти прямо в маленький садик, где Нелли с энтузиазмом сажала цветы. Во дворе была конюшня и службы. Михайло, служивший в доме родителей «казачком», то есть мальчиком на побегушках, был произведен в кучеры. Его гордостью были две прекрасные лошади, которыми обзавелся Герман; Михайло с большим удовольствием ухаживал за ними. В прислуге дома были кухарка Аннушка, ее помощница Маня и горничная Ириша. В помощь им и Михайле был нанят еще один маленький казачок — Павел Тарасов.
Удивительно легко приспосабливаясь к обстоятельствам, Нелли с готовностью приняла новый образ жизни, такой непохожий на все, к чему она привыкла. Ее не смущали длинные темные ночи, морозы и пурга, рассказам о которых она раньше не поверила бы. В новом доме у Нелли не было возможности посидеть у камина с тлеющими углями, такового просто не было, но высокие русские печи обогревали помещения лучше, чем шотландские камины. Свободное время Нелли обычно проводила за вышиванием или чтением популярных в то время романов Мари Корелли, запрещавшихся родителями, которые считали их неподходящими для молодой леди.
Конечно, кое-чего недоставало, например, санитарных удобств, но в остальном все было прекрасно. Гордостью Нелли была эмалированная ванна, привезенная из-за границы. У нее не было ни кранов, ни сливной трубы, но это ничуть не смущало Нелли. Тем не менее она посчитала, что удобнее следовать местным обычаям, и регулярно ездила в городскую баню.
Дом постепенно обживался. Прибыли мебель, ковры, посуда и тонкое стекло, заказанные в Москве. Были распакованы ящики из Шотландии, и содержимое их расставлено так, как хотелось Нелли. Теперь она была хозяйкой в своем доме.
В первое десятилетие двадцатого века и вплоть до первой мировой войны жизнь в Архангельске была достаточно благополучной. Город был одним из самых космополитичных в России. Я помню мамин рассказ о ее первом званом вечере, когда мадам Суркова, жена богатого пивовара, праздновала именины. Приглашение было на чай на девять вечера. Как пояснил Герман, это предполагало явиться в вечернем платье. «Вечернее платье на чашку чая? Как странно», — подумала Нелли.
Когда мама и папа прибыли в дом Сурковых, хозяйка сидела в гостиной за серебряным самоваром. «Идите сюда, дорогая, — позвала она Нелли, — расскажите мне что-нибудь о сегодняшней Англии». К тому времени мама уже привыкла, что в России и Англию, и ее прекрасную родную Шотландию называют одним словом: «Англия». Молодые горничные с чашками и пирожными на подносах сновали среди гостей.
После чая самовар был убран, на столе появились закуски: икра трех цветов — серая, черная и ярко-оранжевая; маринованная сельдь, копченый лосось, паштеты, омары, сыры, а к ним — водка и ликер, который очень нравился дамам, — рябиновка на коньяке. Когда, казалось, все уже насытились и этот стол был убран, Нелли подумала, что вечер заканчивается, и дала знак Герману, разговаривавшему с группой мужчин, что пора собираться. Но он отрицательно качнул головой и продолжал беседу.
Ровно в полночь дворецкий объявил, что подан ужин. Хозяин дома сам подвел Нелли к столу и усадил рядом с собой. Это был уже самый настоящий лукуллов пир — консоме с грибными пирожками, осетр в вине, грудки куропаток в сметане, блинчики с икрой, мясное блюдо, затем кофе, мороженое разных сортов и фрукты. Лишь после этого дамы стали разъезжаться по домам, но их мужья остались еще и, собравшись в кабинете, играли в карты. В шесть утра подали завтрак, после чего последние из приглашенных «на чай» разъехались по домам, чтобы переодеться и отправиться в свои конторы.
Живя в России, моя мама регулярно переписывалась со своей семьей, и особенно с братом Генри, который жил в Индии. Большая часть их переписки велась на почтовых открытках с изображением города и сцен местной жизни. Нелли писала главным образом о домашних делах: покупке двух новых лошадей, катании на тройке, масленой неделе и блинах, раскрашивании яиц к пасхе, пасхальной службе в церкви, погоде, праздниках, комарах в саду. И вдруг одна очень важная новость: «Дорогой Генри, я получила радостную весть, что папа и мама приедут к нам ненадолго. Они отправляются из Лита на грузовом судне и на нем же вернутся. Папа внезапно решил посетить Россию, но, может, ты уже знаешь об этом? Как было бы чудесно увидеться со всеми, хоть на короткое время! Я была бы так рада. С любовью, Нелли».
Вскоре после того как открытка была послана в Индию, мои шотландские дедушка и бабушка приехали в Архангельск. Позже стало известно, как верный себе дед удивил семейство за ланчем, сообщив словно невзначай, что уже заказал два места на торговом судне, отправляющемся в Архангельск. Грэнни, никогда не покидавшая Британских островов и лелеявшая тайную мечту повидать мир, была вне себя от радости. Кроме того, для нее поездка влекла за собой богом ниспосланную возможность сделать массу особых покупок, так как всего несколько дней назад от Нелли пришло письмо, где сообщалось, что они с Германом ждут первенца в начале декабря.
В Архангельске деда и грэнни ждал великолепный прием. Им организовали путешествие по Северной Двине на колесном пароходе, длившееся несколько дней, после которого оба были полны впечатлений от речных пейзажей.
Приезд деда и грэнни совпал с приездом из Финляндии тети Ольги и Оскара. С ними приехали шестеро крошек-дочерей, а также гувернантка, няня, кормилица и старая Ольгина мамка. Чтобы отметить этот уникальный сбор родни, бабушка устроила праздничный обед с чаем в саду и пригласила на него родственников и друзей. Был приглашен фотограф. «Чтобы память об этом счастливом дне передать нашим детям», — заметила она. Для меня этот снимок — трепетная память о далеком летнем дне в начале июня: дети сидят на траве, позади старшие, а в центре две старые крестьянки — нянюшка моей тети Ольги и бабушка Шаловчиха — та, что была свидетельницей отступления армии Наполеона через Смоленск.
Деду и грэнни запомнилась поездка в Россию и добросердечность всех, с кем они познакомились. Им понравились дом и сад. Они отметили в Архангельске широкие улицы и зеленые парки, общую мирную атмосферу города, где жизнь все еще была близка к природе. Сильное впечатление на моего дедушку произвело пение рабочих, ремонтировавших пристань. Работа была тяжелая, без всяких приспособлений — они таскали огромные бревна. Их природное умение петь, помогавшее им в труде, удивило деда. Он дал им денег и жестом попросил спеть еще. И рабочие, чтобы доставить удовольствие хорошо одетому «английскому барину», пели и пели.
На память о визите гостям из Шотландии было преподнесено много подарков. Тут были и простая резьба по дереву, туески из бересты, изготовленные крестьянами, и прекрасный сервиз розового, как внутренность раковины, фарфора, вручную расписанный видами знаменитого Соловецкого монастыря. Много лет спустя я увидела этот сервиз в доме грэнни.
Немало подарков было и с шотландской стороны. Бабушке очень понравились тонкие одеяла из лучшей шотландской шерсти. Они заменили у нас обычные стеганые одеяла. Клетчатыми камероновскими пледами мы пользовались во время путешествий. Много подарков получила Нелли, но самым дорогим из них, извлеченным из трюма судна и вызвавшим восторженное удивление архангелогородцев, была детская коляска из Англии — редкая вещь в этих краях. Когда позже Нелли катила ее перед собой, прогуливаясь по тенистым аллеям Летнего сада, коляска неизменно привлекала к себе восхищенные и завистливые взгляды.
Наконец дед и грэнни двинулись в обратный путь. Когда пароход, увозивший ее родителей, скрылся за Соломбалой, Нелли пала духом. Не то чтобы она жаловалась — это было не в ее характере, но теперь она чаще прежнего говорила о доме в Шотландии, о своей семье, о родной деревне под названием Старое Броути, и Герман понял, что она скучает по дому.
По возвращении деда и грэнни в Шотландию жизнь снова пошла своим чередом. Грэнни была человеком привычек, занятия ее были расписаны на каждый день недели, на каждый месяц, с точностью до часа. Как раз наступил июль — месяц созревания фруктов, а значит, приготовления джемов. Кроме того, дома их ждала куча писем, на которые надо ответить. Грэнни была обязательным корреспондентом, благодаря ей все события и новости передавались членам семьи, проживавшим за границей. Из девяти ее детей лишь трое остались в Шотландии. Письма тогда были единственным видом связи, и дети, в свою очередь, вознаграждали грэнни литературными описаниями жизни и обычаев Индии, Новой Зеландии, Уганды и России, а позже — Австралии и Кении. Они были источником огромного удовольствия в ее довольно прозаическом существовании, и как только приходила почта, она уединялась наверху, в комнатке рядом со своей спальней, где никто ее не тревожил.
Эту длинную комнату называли «дедушкин будуар». Тяжелый бархатный занавес делил ее пополам. За занавесом скрывалась большая ванна, то ли из мрамора, то ли «под мрамор». Фоном ей служила стеклянная панель, на которой красовались возлежащие дамочки, чьи пышные формы были полуприкрыты алыми драпировками, обнажавшими поразительно пухлые груди и руки. У ног дамочек стояли сосуды с вином и вазы, полные фруктов. Тут и там летали белые голуби. Такие же экзотические сцены украшали и окна этой части комнаты.
В передней половине комнаты, отгороженной занавесом, стояли маленький столик и плетеное кресло. На столе неизменно красовались ваза с бананами и графинчик виски. У дедушки был обычай: по возвращении из конторы подняться в эту комнату и, сидя у стола, читать газету или, глядя в окно, потягивать виски и закусывать бананом. Под окном была клумба с розами, на нее дед выбрасывал банановую кожуру, и ни под каким видом никому не разрешалось убирать ее. Дедуля был убежден, что для роз нет ничего полезнее банановой кожуры, и, похоже, розы разделяли это убеждение, вознаграждая его необычайно крупными бутонами.
Самой интригующей деталью «дедушкиного будуара» были картины, висевшие по всей длине стены напротив высоких арочных окон. На них тоже были дамские фигуры разной степени раздетости (вероятно, это более волнующе, чем совсем обнаженное тело). В перегруженной этими образами галерее существовало одно исключение — большая фотография самого дедушки. Он был снят на бескрайней вересковой пустоши, и его пристальный гордый взгляд, казалось, говорил: «Я властелин всего, что вижу». Но ни у меня, ни у двоюродной сестры эта галерея иронии не вызывала, когда мы, набравшись смелости, проникали в заповедное убежище, пока нас никто не видел. Вообще же визиты туда не поощрялись. Грэнни предпочитала бывать здесь наедине со своими письмами, а дедушка — со своим виски и бананами.
В августе из России пришло письмо, написанное рукой Германа. Это было непривычно, так как обычно письма писала Нелли, а ее письмо пришло всего несколько дней назад. Торопливо поднявшись наверх и опустившись в кресло, грэнни начала читать. С облегчением выяснив, что ничего неприятного не случилось, она в то же время все больше волновалась, читая письмо. Зять снова приглашал ее посетить Россию. Герман объяснял: Нелли не подозревает о его письме, потому что он не хочет раньше времени обнадеживать жену, так как не знает, примет ли теща приглашение. Герман сообщал, что Нелли легко привыкает к русской жизни, и это радует его и всех родственников. Он не слышал от нее ни одной жалобы, но недавно заметил в ней некоторое уныние. Ничто так не обрадует Нелли, как присутствие родной матери в момент жизни, когда она ждет ребенка. Что до него, писал Герман, он никому другому не будет так рад и никто не будет более желанным гостем, чем его дорогая теща.
«Если вы соберетесь, я все устрою и с радостью оплачу расходы, — писал Герман. — В Гулле миссис Камерон сможет сравнительно просто сесть на пароход, который доставит вас в Финляндию. Там вас встретит моя мать, которая на праздники планирует побывать у Ольги в Гельсингфорсе. Побыв несколько дней в Финляндии, дамы поедут в Санкт-Петербург и Москву, где друзья матери покажут достопримечательности обеих столиц. А в Москве вы сядете на поезд, идущий на Север. Очень важно, чтобы вы попали в Архангельск до середины октября, так как позднее Двина начинает замерзать, и паром, перевозящий пассажиров со станции в город, прекращает свои рейсы. Желающие попасть в город в этот период вынуждены либо ждать, когда река окончательно замерзнет, либо рисковать жизнью, пробираясь меж льдин в обычной лодке…».
И еще одна просьба содержалась в письме Германа: ребенок ожидается в декабре, поэтому крестины будут в январе. Его мать согласилась быть крестной матерью ребенка, и он надеется, что теща согласится стать второй крестной.
Прочтя все это, грэнни некоторое время сидела, уставившись в окно. Река Тэй спешила к морю, и где-то там, среди холмов Файфа, притаилась крохотная деревушка Льюхарс, где она родилась и провела юность. Жизнь ее была проста и вращалась вокруг незамысловатых деревенских дел. Пожалуй, самым волнующим событием в ее жизни была ежегодная Ламасская ярмарка, проводившаяся в университетском городке Сент-Эндрюс. Вместе с братьями и сестрами она отправлялась туда рано утром, а вечером возвращалась, пройдя в общей сложности около двадцати миль. Именно там она встретила своего будущего мужа, и немного позже они обвенчались в старинной норманской церкви в Льюхарсе. Выйдя замуж, она переехала жить за реку. Как ограничен был мир ее юности!
А теперь в глубине души она испугалась даже мысли о возможности побывать в России снова, повидать незнакомые чужие города. И вместе с тем ей захотелось попутешествовать одной, свободной как птица, а не трястись, как всегда, за спиной своего повелителя. Но, разумеется, нельзя позволять воображению залетать так далеко. Жизнь в доме вращается вокруг деда, а он в своих привычках постоянен и не терпит никаких изменений даже на несколько дней, не говоря уж о месяцах. Грэнни думала о том, что сама виновата в появлении у дедушки диктаторских замашек. Она всегда свято верила, что главе дома должно подчиняться безоговорочно, и это свое убеждение она внушила не только детям, но и самому деду.
Однако не зря бабушка родилась в королевстве Файф. Говорят, тамошние люди наделены чуть большей хитростью, чем их собратья на этом берегу реки. Чтобы добиться желаемого, нужно отнестись к письму небрежно и создать впечатление, что для нее безразлично, ехать в Россию или нет. Просить, умолять — означает встретить прямой отказ, она знала это по опыту совместной жизни.
Было слышно, как внизу дочери накрывают на стол. Уже прошел полуденный поезд, скоро деловые люди потянутся домой на ланч.
Грэнни решила поделиться содержанием письма с дочерьми, но попросила их пока не говорить о нем. По ее лицу девочки поняли, что мама взволнована, и тоже заволновались.
— Знаешь, мама, — заявила Вики, раскладывая ножи и вилки, — если папа не разрешит тебе поехать, может, я отправлюсь вместо тебя?
— Ход ер вишт! (Молчи!) — моментально оборвала грэнни на языке своей деревни. Совершенно очевидно было, что она никого не хотела бы отправить в Россию вместо себя.
Заскрипел гравий на дорожке, это возвращался дед. «Вижу корабль!» — заорал попугай, приветствуя деда. Это он научил попугая многим морским выражениям. В глубине души деда жила тайная страсть к морю, и он любил представлять себя в роли бывалого капитана.
У дедушки была привычка после ланча не спеша выпить стакан холодного молока и почитать письма, пришедшие утром. В этот-то момент грэнни и передала ему письмо от Германа. Девочки убирали со стола и украдкой наблюдали за отцом. Грэнни молча изучала рисунок скатерти, и только беспокойные движения пальцев, подбиравших невидимые крошки, выдавали бурю внутри.
— Тебе не кажется, — вдруг сказала грэнни, надеясь продвинуть решение вопроса, — что со стороны Германа очень мило предложить оплатить все мои расходы?
Дедушка поднял глаза. Крещенским холодом повеяло от его взгляда.
— У тебя стыда нет, — заявил он со всем презрением, на какое был способен, — если ты думаешь, что я буду одолжаться у зятя, да еще иностранца!
Все лелеемые грэнни надежды, похоже, рухнули.
Дедушка поднялся и, отложив письмо, подошел к окну. Покачиваясь на каблуках и потягивая молоко, он, казалось, ушел в свои мысли. Девочки, смущенные молчанием матери, крутились возле нее, заканчивая убирать со стола.
Выпив молоко, дедушка повернулся и поставил стакан.
— Если ты собираешься в Россию, — объявил он вдруг, взглянув на подавленную жену, — тебе пора отправляться в город и купить теплые вещи. Они там пригодятся. И не бери всякий хлам, не позорь меня перед этими русскими. И еще, — добавил он, — когда будешь шататься по магазинам, закажи серебряную чашку для сосунка, да проследи, чтобы на ней выгравировали мое имя.
Я храню эту чашку — маленькую серебряную чашечку — как нежную память о дедушке, за строгостью которого скрывалось щедрое сердце.
Эффект, произведенный дедушкиным великодушием, не требует комментариев. Грэнни смогла вытерпеть лишь до отхода его поезда и тут же поспешила на станцию, чтобы успеть на следующий поезд.
Несколько недель грэнни носилась по магазинам и портнихам. Упор делался на элегантность. Она решила дебютировать в Финляндии в модном котиковом жакете поверх добротного шерстяного платья. Подходящая шляпка с лихо торчащим пером завершала ансамбль. Во время последней примерки она была так довольна собой в зеркале, что тут же сфотографировалась. Бедная грэнни! Уродливые накладные плечи и смешная шляпка не украсили ее.
Грэнни хлопотала до самого отъезда. А столько всего нужно было сделать по дому! Хватит ли джема, пикулей и консервированных фруктов на зиму?! Все ли инструкции дочерям продуманы, записаны и приколоты на стене в кухне?
Наконец было решено, что грэнни выезжает в начале октября и прибудет в Архангельск в конце месяца, когда на Двине установится зимнее движение. Этот план позволял побыть некоторое время в Финляндии и в обеих столицах.
По пути в Финляндию грэнни старалась получить удовольствие от каждой минуты своего путешествия. Она никогда еще не чувствовала себя такой свободной, весело болтала со всеми пассажирами. Скандинавский холодный буфет был превосходен, она имела прекрасный аппетит и, не мучаясь морской болезнью, не отказывалась ни от чего. К шнапсу и водке относилась так, словно привыкла к ним с рождения.
Когда пароход пришвартовался в Гельсингфорсе, бабушка и Ольга уже ждали ее. В свойственной бабушке широкой манере она крепко обняла и расцеловала грэнни. Оскар поклонился и поцеловал ей руку, и, хотя к таким вещам у себя в Шотландии она не привыкла, грэнни сохранила полное самообладание.
В экипаже две дамы оживленно разговаривали (с приездом Нелли бабушкино знание английского языка значительно расширилось). Маршируя, мимо прошло подразделение русских солдат.
— Ах, зольдати, — вздохнула бабушка. Она проводила их обеспокоенным взглядом. — В России сейчас много беспорядков — хотят революция, а финны, наверное, хотят убить нас, русских, и быть свободными. Но Бог милостив, спасет нас, — добавила она весело и перекрестилась. — А вот и дом.
Лошади приближались к высокому зданию.
Грэнни уже познакомилась с семейством Янушковских во время ее короткого визита в Архангельск. У моей тети была страсть давать детям необычные имена, последнюю свою дочь она назвала Златой. У ее четвертой девочки, Ариадны, был странный природный дар — необычная подвижность и пластичность мышц и суставов. Ей было всего шесть лет, а она с поразительной смелостью и изяществом выполняла самые сложные упражнения, как например, серию кувырков «колесом», ходила на руках, а танцевала и прыгала, как резиновый мячик, за что грэнни называла ее «акробат».
Все хозяйство с колыбелями и кроватками, нянями и кормилицами, крошечными экзотическими птичками, свободно вылетавшими из клетки, сам дом — настоящий музей изящного фарфора и предметов искусства — поразили воображение грэнни так же, как раньше поразили Нелли. Но главное, что заворожило и привлекало ее — это веселое беззаботное общество.
Разговор во время ланча, бойко переводимый бабушкой, вращался вокруг известий из Санкт-Петербурга о стачках и бунтах. Финны, уже давно находившиеся под властью России, воспользовались ситуацией для восстания. Уже было несколько выступлений. Оскара, естественно, все это очень беспокоило и занимало, сразу после ланча он поспешил на какой-то митинг.
Дамы перешли в гостиную. Грэнни устроилась у печки и достала вязанье. В темноте за окнами начал падать пушистый снег. Где-то вдалеке послышались воодушевленно поющие голоса. Звуки приближались, становились все громче. Дамы поспешили к окнам и долго стояли, молча наблюдая за демонстрантами, шедшими по улице с флагами.
Бабушка задернула шторы и вернулась на свое место.
— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала она грэнни. — Люди теперь устраивают много шествий, но полиция придет и остановит это безобразие. Вы приехали повидать дочь и посмотреть нашу Россию, и вы увидите их.
Но пока она так говорила, расписывая планы и пытаясь успокоить грэнни, в кухне разворачивалась драма. Вернувшаяся с покупками кухарка принесла слух о том, что финны собираются напасть на русских и метят двери их домов. Старая няня, услышав это, поспешила вниз к парадной двери и, конечно же, обнаружила белый крест, нарисованный мелом на двери. Тотчас подозрение пало на молодую девушку, единственную финку, служившую в доме. Начался ад кромешный. Разгневанные русские слуги окружили девушку, обвиняя ее в предательстве. Заслышав сердитые голоса, бабушка поспешила на кухню, за ней тетя Ольга. Грэнни тоже, волнуясь и любопытствуя, робко спустилась в холл. В этот момент дверь из кухни отворилась, жертва обвинения выскочила и, сбежав по лестнице, бросилась к выходу. Она распахнула наружную дверь и исчезла. Больше ее никто не видел.
Бабушка взяла грэнни за руку и повела к выходу.
— Вы видите крест, — сказала она, показывая на парадную дверь. — Финны теперь знают, что здесь живут русские. Сегодня ночью они, может, сделают революцию, придут и будут резать нам горло.
Грэнни растерялась и замерла, стоя на крыльце на пронизывающем холодном ветру. Потом раздраженно встрепенулась: «Я думаю, что если мы здесь постоим еще немного, то умрем от холода естественным образом, и финнам не придется нас резать». И она заторопилась наверх в свой теплый уголок к вязанью. Ей вспомнились слова дедушки, который сказал, когда они ехали в поезде в Гулль: «Дорогая, если в этой стране начнутся какие-нибудь беспорядки, ты должна прежде всего найти британского консула и сделать так, как он скажет». Тогда грэнни почти не обратила внимания на эти слова, но теперь, вспомнив их, испытала некоторое облегчение. Да, завтра она найдет британского консула и последует его совету.
Приняв решение, грэнни успокоилась и села за вязание, но ненадолго. Дверь отворилась, и появилась бабушка, одетая в дорожное пальто и шайку, за ней — плачущая тетя Ольга.
— Мадам Камерон, — обратилась бабушка к моей грэнни, — пожалуйста, пойти со мной. Вы и я не должны оставаться в доме и быть убиты, как мышь в мышеловке. Мы выйдем и умрем под небесами.
— Ничего подобного я не сделаю, — твердо ответила грэнни. — Никакого удовольствия в том, чтобы умирать под открытым небом на холоде, я не нахожу. Если уж умирать, так в комфорте.
— Мамушка, родная, пожалуйста, останемся, — слезно поддержала ее Ольга.
Бабушка была непреклонна.
— Не позволю финнам загнать меня в ловушку. Умру одна, так будет лучше.
Последовала сцена, про которую позже грэнни говорила, что ничего подобного никогда не видала. «Твоя бабушка, — вспоминала она, — благословила твою тетю и меня и осенила крестным знамением двери детской. Затем села, склонив голову в молчании, и я решила, что она передумала. Но нет, бабушка встала, сошла в холл и вышла за порог». Тетя Ольга и грэнни подбежали к окну и долго стояли, прижавшись лицом к стеклу, но ничего не было видно.
В доме наступило некоторое успокоение: из детской доносились голоса детей, грэнни вернулась к своему вязанью, в столовой позванивал фарфор — там накрывали на стол. Но вскоре дверь в гостиной снова отворилась. На пороге, вся в снегу, удрученная, стояла бабушка.
— Я вернулась, чтобы умереть с дочерью. Я глупая и слабая, простите меня, пожалуйста.
Тетя Ольга бросилась обнимать ее. В дверях показалась голова старой няни Марфуши.
— Чай готов! — объявила она, и лицо ее расплылось в счастливой улыбке.
Все, включая детей и гувернантку, собрались за столом. Самовар умиротворяюще напевал свою песенку. Тетя Ольга начала разливать чай, но тут раздался резкий звонок у входной двери, за ним — требовательный стук. Марфуша встала:
— Я открою. Я старая и уже довольно пожила.
И спокойно, с огромным достоинством она спустилась в холл и осторожно открыла задвижку на двери. На пороге стоял… дядя Оскар, а за ним — улыбающийся молодой офицер во главе небольшого отряда казаков. Смеясь и толкаясь, они тут же взбежали наверх.
— Вышел приказ, — объявил дядя Оскар, — что всех русских женщин и детей ради безопасности нужно отправить в форт Свеаборг, а эти парни, — он показал на казаков, — будут охранять и сопровождать вас. У вас на сборы лишь час, возьмите с собой только самое необходимое.
Началась кутерьма. Освободившись от страха, возбужденные нашествием мужчин, женщины засуетились, пересмеиваясь и перекидываясь с ними шутками. «Такого я никогда не видала, — вспоминала грэнни, — можно подумать, что они собирались на увеселительную прогулку за город». Дядя Оскар поторапливал всех и о чем-то спорил с тетей Ольгой, которая то появлялась в гостиной, то исчезала, укладывая в дорожную сумку непонятные предметы.
Наконец все собрались в переполненном холле и были готовы к отъезду. Моя кузина Женя, в ту пору ей было три года, отчетливо помнит, что была на руках у какого-то улыбавшегося казака.
— Пора уходить, — объявил Оскар, — но сначала присядем на дорогу.
Все собрались в гостиной. Кому хватило стульев, сели, остальные стояли группками. Солдаты сняли меховые шапки. На некоторое время все умолкли.
— Теперь пойдем, — сказал Оскар.
Все вышли на улицу. Капитан скомандовал, и процессия двинулась в путь: в середине женщины и дети, вокруг — казаки, охранявшие их. В доме осталась только Марфуша. Она отказалась уходить, заявив, что кто-то должен смотреть за всем добром, кормить птиц, которых любила моя тетя, к тому же она надеялась, что финны вряд ли тронут старуху.
Впереди шел молодой офицер, за ним — дядя Оскар и тетя Ольга. Она несла свою маленькую поклажу, не разрешая кому-либо даже дотрагиваться до нее. Далее семенили две кормилицы с младенцами на руках, няни, державшие за руки младших детей, и гувернантка со старшими. Позади всех, расправив плечи, твердым шагом шествовала грэнни, и перо вызывающе трепетало на шляпке. Рядом, покровительственно придерживая ее за локоть, шла бабушка.
Спустя двадцать минут семейство было на набережной. Офицеры и матросы помогали людям спускаться по шаткому трапу в трюм баржи, отправлявшейся в форт. Грэнни подняли и мягко опустили в глубину баржи. Молодой матрос что-то сказал ей и улыбнулся. Он указал туда, где из моря поднимался и серел на темном ночном горизонте суровый форт Свеаборг.
Когда баржа, буксируемая катером, потихоньку выходила из гавани, грэнни все казалось мрачным и жутковатым. Вокруг чужие воды, тяжелое небо, и сама она чужая среди людей, чей язык не понимала. Камин и покой были где-то в далеком прошлом, но об этом лучше не думать.
Переход до форта был коротким. Людям помогли выйти на берег и завели внутрь защищенного стенами пространства, потом проводили в просторный зал, где на полу были расстелены матрасы и уже сидели группками женщины и дети. Наша семья устроилась в углу, и няньки начали устраивать постели. Грэнни села на матрас, который достался ей на двоих с бабушкой, и огляделась. Ни тревоги, ни страха она ни у кого не заметила, скорее наоборот — люди демонстрировали какое-то философское спокойствие и терпеливую покорность. Эти черты характера, свойственные русскому народу, помогали ему в прошлом, как помогли и в последующие годы. Женщины с детьми укладывались спать, незнакомые люди переговаривались между собой. Некоторое время грэнни прислушивалась к их голосам, но сказывалась усталость — день был слишком долгим.
Хотя вокруг были чужие люди, спать в одежде грэнни все же не хотела. Сняв платье и надев халат, она сложила руки и прошептала молитву, после чего, успокоившись, свернулась клубочком, подоткнула покрывало со всех сторон и закрыла глаза. Бабушка тоже сняла блузку и натянула короткую белую кофту, затем опустилась на колени и стала молиться. Она долго шептала слова молитвы, не замечая окружающих, крестясь широким размашистым жестом и кланяясь до пола, затем, поцеловав золотой крестик и пожелав грэнни спокойной ночи, улеглась рядом с ней.
На следующее утро, после всяких слухов и домыслов, пришло известие, что в городе все нормализовалось и что детям и женщинам можно вернуться по домам.
По возвращении все были удивлены приездом моего отца. Серьезное положение в обеих столицах, беспорядки в стране тревожили Германа, и он решил поехать в Финляндию, чтобы самому сопроводить дам до Архангельска. Сев на первый же поезд, Герман через два дня был на пороге дома своей сестры.
В тот же день грэнни в сопровождении моего отца съездила к британскому консулу. Наверное, надо было бы расстаться со всеми планами и возвращаться в Шотландию, но у консула, оказалось, был более оптимистичный взгляд на происходящее. Он посоветовал грэнни не менять планов и ехать в Архангельск, где, по его мнению, ситуация была относительно спокойной. Он подчеркнул, что лучше не тратить времени на Санкт-Петербург и Москву и как можно скорее отправляться на Север.
На следующее утро бабушка, грэнни и Герман сели на утренний поезд и через восемь часов были в Санкт-Петербурге. С большим трудом, после обещания непомерной платы, им удалось нанять два экипажа. Маленькая компания отправилась на Николаевский вокзал. Невский проспект обезлюдел, магазины и рестораны закрыты. Мертвая тишина, как перед бурей, окутала город. Когда уже подъезжали к вокзалу, позади послышался стук копыт догонявших их лошадей. Извозчики прижались к тротуару, но всадники с суровыми лицами даже не взглянули в их сторону и промчались мимо.
После многих передряг путешественники прибыли в Архангельск, на пристань, откуда обычно перебираются через реку в город. Их встретила Таня. Она сообщила то, о чем они и сами догадывались: река уже наполовину замерзла. Теперь перед путешественниками стояла дилемма: или перебираться меж плывущих льдин и шуги, или принять Танино приглашение и переждать в ее маленьком доме, пока река встанет полностью. Но бабушкам и Герману хотелось как можно скорее попасть домой, и они решили оставить багаж у Тани, а самим попытать счастья переправиться в город.
Наняли две гребные лодки. Грэнни и бабушка сели в одну, Герман — в другую, и отчалили. Колючий ветер дул им в лицо. Грэнни никогда раньше не видела такого холода. Она уже давно убрала свою шляпку с задорным перышком и, как и бабушка, закуталась в теплую шерстяную шаль. Чтобы продвигаться вперед, гребцам приходилось ломать и раздвигать лед.
На другом берегу ждали Нелли, дедушка, дядя Саша и другие. Они с волнением наблюдали за медленным продвижением лодок. Вдоль берега проглядывала чистая вода, а дальше простиралась широкая полоса льда, преграждавшая путь лодкам. Путешественникам предстояло каким-то образом перебраться через это ледяное поле, и с этого берега к льдине тоже направилась лодка.
Все три лодки почти разом приткнулись к краям ледяного поля с противоположных сторон. Настал критический момент переправы. Теперь путешественникам нужно было выйти на лед. Женщины поднялись, ободряя друг друга, но тут моя бабушка струхнула. Вот ее собственные слова, когда много лет спустя она рассказывала мне об этом: «Понимаешь, Женя, ведь я не знала, насколько крепок лед, да и никто не мог знать это. Мысль, что я окажусь в месиве разбитого льда, испугала меня. И пока я так стояла, потеряв всякую способность двигаться, смотрю — грэнни выскочила из лодки и мчится по льду. До сих пор помню, как мелькают ее черные сапожки, как она падает в поджидавшую нас лодку и вот уже сидит и смеется! А я… меня тащили, ноги волочились по льду. Затем перебежал твой папа. После этого нас благополучно доставили на берег, и тут мы встретились, целовались и обнимали друг друга».
Все это было далеко от изящества балета и чудесных красот, которые были обещаны грэнни накануне путешествия, но именно эти приключения стали главными событиями в ее жизни, и она любила рассказывать о них внукам во всех подробностях.
Наконец грэнни была в доме дочери. Все получилось не так, как ожидалось, но она философски рассудила, что увидеть яркие огни Санкт-Петербурга и Москвы ей не суждено — судьба распорядилась быть ей здесь, рядом с дочерью.
Между двумя домами установились хорошие отношения. Будучи совершенно разными по натуре, мои бабушки подружились и пронесли свою дружбу сквозь годы. Русская бабушка была экстраверт. Она любила поделиться, открыто выразить свои мысли и чувства. Сдержанность в любой форме была чужда ей, как и большинству русских. Она откровенно рассуждала о денежных делах, от цен на продукты до стоимости нарядов, которые заказывала для крестин своей внучки. И так же искренне она восхищалась нарядами грэнни и по-детски непринужденно спрашивала, сколько они стоят. Грэнни пыталась обходить такие вопросы. Она тоже восхищалась бабушкиными мехами и драгоценностями, но не позволяла себе замечаний. А что касается вопросов, сколько бабушка заплатила за ту или иную покупку, — такие вещи просто не допускались шотландским воспитанием грэнни. Она оказалась благодарным слушателем, но сама секретами не делилась и почти ничего не рассказывала о себе и своей семье.
26 ноября по старому, Григорианскому календарю, который в начале века на тринадцать суток отставал от европейского, Нелли решила устроить вечер в ответ на гостеприимство бабушки, оказанное ее матери. Так как ребенка ждали через две недели, она посчитала, что удобнее устроить вечер раньше ожидавшегося события, чем после. Было приглашено около пятнадцати человек, обед, состоявший из шотландских и русских блюд, имел большой успех.
После застолья все перешли в гостиную. Среди гостей находился двоюродный брат отца Адя, который был свидетелем на свадьбе Германа и Нелли в Лондоне. Этот веселый, всеми любимый молодой человек считался одним из лучших танцоров в городе. В те дни был в моде танец «кекуок», и участники вечера, танцевавшие с безудержным весельем, попросили Адю показать этот танец. После недолгих уговоров он надел цилиндр и взял трость. За рояль села Нелли. Танец был исполнен изящно, легко и стильно. Адя восхитил гостей, заслужил овации и крики: «Повторить!». В этот неподходящий момент моя мама внезапно почувствовала предродовые схватки. Она ушла в свою спальню, и вечер тут же закончился, гости разошлись.
На следующий день, в воскресенье, 27 ноября по старому стилю, я пришла в этот мир, который по воле свыше был разорван в клочья войнами и революциями. Я была восьмой бабушкиной внучкой, но минутное разочарование от того, что родилась еще одна девочка, а не мальчик, быстро прошло.
Русские и шотландцы подвержены одному общему предрассудку. Они считают плохой приметой готовить слишком богатое приданое еще не родившемуся ребенку, чтобы не искушать судьбу. Коляска из Шотландии уже прибыла, но колыбельку, в которой когда-то лежал мой отец, принесли в дом только через день после моего рождения, а ванночку и другие предметы ухода еще предстояло купить.
На следующий день, несмотря на мороз, более сильный, чем обычно, обе бабушки отправились в санях покупать мне ванночку. Пока они выбирали ее и другие вещи, дом посетил священник, чтобы выполнить обычный в таких случаях обряд молитвенного благословения и окропления святой водой всех углов комнаты ребенка и матери.
Незадолго до моего рождения бабушка предложила сходить в одну из деревень за реку и подыскать здоровую кормилицу для ребенка. При этом она пыталась доказать все преимущества кормилицы, но мама отказывалась даже слушать такое предложение — чужая женщина не будет кормить ее дитя! Так я стала первым ребенком в семье, которого выкормила собственная мать. Позже бабушка с восхищением рассказывала своим подругам: «Неллинька была так хороша, когда кормила ребенка, как Мадонна с младенцем на картинах».
Когда мне исполнился месяц, родители завернули меня в многочисленные шали и перевезли в дом на Олонецкой улице. Встреча Рождества в бабушкином доме всегда проходила в канун этого праздника, потому что это был день бабушкиных именин. Теперь он стал днем и моих именин тоже. Двойное событие всегда собирало множество близких и родни, но в этот раз в нем впервые не участвовала бабушка Шаловчиха, потому что была уже очень слаба и не выходила из комнаты в цокольном этаже дома. Зная, как хочется ей повидать новорожденную, родители принесли меня к ней.
В начале лета, когда она узнала, что в семье должен появиться ребенок, ее отношение к моей матери переменилось с холодного безразличия на теплое дружелюбие. Шаловчиха связала крошечные носочки, дала маме сушеной малины, земляничных листьев и трав, уверяя, что они полезны беременным женщинам. Мама приняла носки, но все остальное спокойно выбросила.
По мере того как лето переходило в осень, старую нянюшку полностью захватила дума о приближающихся родах. «Я должна дожить и увидеть ребенка», — повторяла она отцу. Бабушка Шаловчиха приближалась к концу своей долгой жизни. Она пережила всех своих сверстников и многих из тех, кого нянчила, и хотя еще была в памяти, было видно, что силы оставляют ее. Бабушка Шаловчиха долгие часы проводила в кровати, в своей комнате с белыми стенами, иконой в углу, тихим светом лампады перед нею. Ее окружали простые памятные вещи из далекого прошлого.
Когда мои родители вошли в комнату бабушки Шаловчихи, она была полностью одета и сидела в своем кресле. Шаловчиха явно ждала их.
— Дайте мне ее, пожалуйста, — попросила она мать.
Мама повиновалась, и старуха, видевшая отступление остатков великой армии Наполеона по старой Смоленской дороге, пережившая потерю единственного сына в Крымской войне, застыла в созерцательном молчании, держа меня на руках. Нас разделяло более столетия.
— Возьмите, — сказала она наконец. — Я довольна. Видите, — добавила она, и гордая улыбка тронула ее губы, — теперь я нянчила уже четвертое поколение.
В начале весны бабушка Шаловчиха умерла и была похоронена рядом с подругой и сверстницей, моей прапрабабушкой Федосьей из Калуги.
Утром в день моего крещения из близлежащей церкви Успения привезли купель и установили в танцевальном зале бабушкиного дома. Поскольку я была первым ребенком старшего сына, бабушка решила обставить все как полагается и пригласила всех своих друзей и родственников. Чтобы разместить всех, столы расставили и в столовой, и в зале.
Были выбраны два крестных отца — дядя моего отца и его близкий друг. Крестными матерями стали мои бабушки. Православие не позволяет родителям присутствовать на обряде крещения, особенно это относится к матери. Поэтому, когда все гости собрались в танцевальном зале, папа тихонько спрятался среди присутствующих, но маме пришлось уйти в детскую.
Священник и дьякон заняли свои места возле купели. Крестные отцы стояли позади них, ожидая появления крестных матерей. Двери распахнулись, и вошла бабушка с младенцем на руках, одетая в зеленый бархат, длинный шлейф ее платья был отделан соболями. С ней вошла грэнни, одетая не менее элегантно. Ее ладную фигуру облегало прекрасно сшитое платье лилового шелка, отделанное кружевами. Обе дамы присоединились к крестным отцам, и обряд крещения начался.
Лежа на руках у бабушки на тонкой батистовой простынке поверх розового одеяльца, дитя мирно спало.
Никто не догадался рассказать грэнни детали православного крещения. У нее сложилось смутное представление, что, вероятно, ребенка осторожно окунут в купель и брызнут водой на головку, детке это, безусловно, должно понравиться. Бедная бабуля была совершенно не готова к последовавшим событиям.
Священник взял голенького ребенка и громко произнес торжественные слова: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа нарекаю тебя Евгенией». Положив руку на личико младенца, чтобы вода не попала внутрь, он полностью погрузил ребенка в купель. Подняв младенца, он убрал руку, и тут же раздался громкий негодующий вопль, но второе погружение прекратило его.
Этот ритуал повторяется трижды. Грэнни как громом поразило первое погружение и разгневало второе. Когда она увидела, что священник готов погрузить ее девочку третий раз, она, не в состоянии более сдерживаться, бросилась к нему и схватила за руку:
— Вы хотите утопить ребенка?!
Все застыли, пораженные, священник же ничего не понял. Его еще никто и никогда не прерывал в святых обязанностях. По комнате прокатился шепоток. В этот решающий момент бабушка выступила вперед и разрядила ситуацию.
— Мадам Камерон, — твердо сказала она, — это свято, хорошо и всего еще один раз. Пожалуйста, отойдите.
К грэнни вернулось обычное ее самообладание. До конца службы она стояла в каменном молчании.
Дитя передали на руки одному из крестных отцов для обряда помазания. Священник нарисовал крест на лбу, груди, крошечных ладошках и подошвах ног; на шею надели золотой крестик на цепочке. Наконец дитя перешло в руки грэнни.
Нелли тем временем, одна в детской, разрывалась между послушанием законам мужниной веры и тревогой за ребенка. Она никогда не слышала таких безумных воплей, никогда не испытывала такого страха и гнева. Беспомощно ломая руки, она порывалась бежать из детской, но в конце концов заставила себя терпеть пытку. И вот грэнни вбежала в комнату, прижимая дитя к груди.
— Держи ее, Нелли! — воскликнула она, подавая ребенка матери. — Никогда за всю свою жизнь я не видела подобного варварства. Знала бы я, что настанет день, когда мою внучку будут топить в этой фантастической купели, и не единожды, а трижды! Беспомощная крошка плакала до безумия. Обещаю тебе, моя девочка, что больше таких крестин в моей жизни не будет. Ни за что, даже если я проживу еще сто лет!
И она сдержала свое слово.
В феврале грэнни начала подумывать о возвращении в Шотландию. В письмах деда проскальзывали нетерпение и жалобы на отсутствие присмотра за дочерьми, недостаток порядка в доме, и грэнни овладевало странное беспокойство, охватывающее большинство шотландских хозяек с приближением солнечных дней и теплой погоды. Оно называется «весенняя уборка», когда с безграничной энергией и решимостью атакуется каждый уголок дома, каждый предмет мебели, каждый ковер и штора, чтобы очистить их от малейшего пятнышка.
В один прекрасный день мама вдруг объявила, что она со мной тоже поедет в Шотландию. Это ошеломило отца, но Нелли была полна спокойной решимости. Она хочет, чтобы отец, сестры и подруги увидели ее ребенка. С ее стороны на крестинах присутствовала только мать, поэтому будет справедливо, чтобы у родственников и подруг была счастливая возможность познакомиться с крошкой. Да и мама во время путешествия будет рядом и поможет в случае чего.
Против всех этих доводов у отца не нашлось возражений. Он вынужден был согласиться. И вот в разгар зимы моя мама, грэнни и я, десяти недель от роду, отправились в Шотландию.
Путешествие в Гулль прошло без приключений, и через пять дней мы достигли берегов Англии. Знакомая плотная фигура деда виднелась на причале. Дедушка не скрывал удовольствия видеть жену и дочь. Он тепло обнял их и нежно ущипнул пухлую щечку своей внучки.
— Она выглядит здоровой, — был его единственный комментарий.
В Гулле мы сели на поезд, идущий в Шотландию. Держа меня на руках, Нелли сидела в уголке, жадно рассматривая быстро меняющиеся окрестности: аккуратные коттеджи и дома в садах, зеленые поля и ягнят, пасущихся около своих маток. «Неужели это было лишь год назад? — спрашивала она себя. — Так много всего произошло за этот год». В России было все другое, нежели в Шотландии: обычаи, люди. Но она начинала понимать их и, похоже, полюбила. Ей все больше нравилась жизнь в России. Она осваивала трудный для нее язык, и ее понимали вполне хорошо.
Сидя лицом друг к другу, дедушка с бабушкой оживленно обменивались новостями. Грэнни спрашивала, как идут дела в доме:
— Как девчонки справляются с домашними делами?
— А, эти девчонки, — начал презрительно дедушка, — одни глупости в голове.
И, помолчав, продолжил, отворачиваясь к окну и всматриваясь вдаль:
— Боже мой… Что имеем — не храним, потерявши — плачем.
И грэнни почувствовала себя совершенно счастливой, потому что это был величайший комплимент, который она услышала от него за всю свою жизнь.
Нелли была счастлива, что снова оказалась дома. Как приятно вновь увидеть Шотландию, оказаться среди родных и друзей, словно никуда не уезжала. Хорошо гулять по ровным тротуарам Броути Ферри, катить перед собой детскую коляску — мимо старой церкви, где она венчалась, мимо магазинов, где ее все знали, встречать людей, которые останавливались, чтобы полюбоваться ее ребенком и сказать обычные комплименты.
Все было очень мило, но по мере того как весна вступала в свои права, у нее росло чувство, что чего-то не хватает. Она повидала всех, рассказала новости, сделала все что хотела, была довольна и рада, что побывала на родине. Но теперь начала скучать по своему дому, мужу, добрым и открытым друзьям, с которыми она подружилась в Архангельске.
В начале мая мать собрала меня, и мы отправились из порта Лит на торговом судне вдоль побережья Норвегии и Кольского полуострова, через Белое море в Архангельск. Здесь мы снова поселились в своем доме, и у родителей началась обычная семейная жизнь.
На следующую весну моя мама ждала второго ребенка, и по мере того как шло время, ею все больше овладевала мысль, что этот ребенок должен родиться в Шотландии и нигде больше. Отец никак не мог понять этого. «Ребенок, — пытался объяснять он ей, — будет русским подданным, получит русское образование, станет православным, одним словом — русским. Зачем тогда нужно, чтобы он родился вне России?». А какие доводы были у мамы? В принципе — никаких. Она довольна тем вниманием и заботой, которыми ее окружили во время первых родов, но на этот раз просто хочет, чтобы ребенок родился в Шотландии.
Спустя много лет мама говорила мне, что в ту весну будто какой-то внутренний голос подсказывал ей родить ребенка в Шотландии. Она не знала тогда, что, настаивая на этом, сделает для своего сына очень важную вещь. В голодные двадцатые годы, когда мы уже жили в Шотландии, над Великобританией нависла тень массовой безработицы, и гражданину другой страны было невозможно найти хоть какое-то место. Мой брат, приняв подданство страны, где родился, получил надежду.
Отец почувствовал, что вряд ли сможет переубедить Нелли, и вместо споров решил взять большой отпуск и, совместив некоторые свои дела с поездкой, вновь побывать в Шотландии. Мы собирались отправиться в начале июня и, как обычно, пароходом. Нас будут сопровождать моя няня и Саша, которые могут понадобиться маме на обратном пути.
Незадолго до отъезда к отцу обратился мальчик Павел Тарасов, служивший «казачком» в нашем доме. Он выполнял множество поручений: чистил конюшню, убирал сбрую, доставлял письма.
Павел был сирота, но на своем тернистом жизненном пути он каким-то образом выучился читать и писать. Каждую свободную минуту он читал все, что попадало ему в руки. Это заметил отец. Он разрешил Павлу пользоваться книгами из домашней библиотеки. Павлу открылся огромный, неведомый мир. Он прочел почти все книги в нашем доме: всю русскую классику и переводы зарубежных авторов, особенно английских. Англия как-то по-особому влекла его. В доме он слышал английскую речь и тщательно записывал русскими буквами те слова, которые мог уловить. Иногда он робко обращался к маме с просьбой объяснить ему значение некоторых слов. Однажды отец подарил ему русско-английский словарь с грамматикой и был поражен, увидев, с какой жадностью мальчик стал учить язык.
И вот теперь Павел просил отца взять его с собой в Шотландию:
— Я отработаю на пароходе свой проезд. И там, в Шотландии, буду работать в саду, в доме, чистить, убирать, делать все, что прикажут. Денег не надо, только немного еды да угол.
Отец не смог ему отказать.
Путешествие было веселым и беззаботным. Отрабатывать поездку Павлу не пришлось. Вместо этого он почти все время отдавал английскому языку и уже мог разговаривать, немного запинаясь, с членами команды. В отличие от него Саша не проявляла интереса к английскому, и когда к ней обращались на этом непонятном языке, лишь хихикала и стыдливо прикрывала лицо кончиком платка.
Через две недели мы прибыли в Броути Ферри. Дедушка и грэнни были счастливы. За последние два года их дом опустел. Стефен и Мэри уже имели свои семьи, Генри был в Индии, Агги вскоре должна была уехать в Австралию, и только Вики пока оставалась дома. С нашим приездом дом снова ожил. Саша поселилась со мной в спальне, окна которой выходили на реку. Павла устроили в «курительной». Дедушка, не выносивший табачного дыма, который, по его мнению, заражал атмосферу, построил эту комнату вне дома. В нее вел отдельный вход из сада, и когда сыновья дедушки, мой отец или кто-то из друзей хотели покурить, они шли туда и дымили сколько душе угодно.
С самого приезда верный своему слову Павел зарабатывал себе на хлеб. Каждое утро можно было видеть, как он метет двор, носит уголь, выносит золу. Дедушкина кухарка в нем души не чаяла. Павел чистил ей и каминные решетки, и картошку. Горничная Мэри была благодарна ему за то, что он освободил ее от неприятной работы — полировать медные и серебряные вещи. Павел часами работал в саду, спокойно и незаметно.
Дед и грэнни полюбили этого паренька, который всегда был рад выполнить любую просьбу и за несколько недель научился довольно бегло объясняться по-английски. Ему давали немного денег, и он, словно путешественник в поисках приключений, отправлялся исследовать город. Вместе с тем этот замечательный молодой человек не мог не вызывать сочувствие — вскоре ему предстояло вернуться к прежнему скучному существованию, привычному с рождения. Ведь он был всего-навсего, как выразился однажды Михайло, одним из тех, кто бродит в потемках безграмотности, деревенским мальчишкой, которому вряд ли светила надежда подняться в будущем выше кучера или рабочего на лесопилке. У него не было образования, кроме знаний, почерпнутых из книг.
Сочувствуя Павлу, мой отец обратился к своему другу, который торговал льном, и попросил его пристроить на два-три года к себе в контору парня с необычайными способностями. Через неделю купец пришел в гости, и его познакомили с Павлом. Состоялся разговор. Купец задал несколько вопросов и согласился взять Павла, чтобы обучить его делу в своей конторе. На следующий день отец будто ненароком спросил у ничего не подозревавшего Павла, не хотел бы он остаться в Шотландии и поступить учеником в фирму, торгующую льном, чтобы потом, по возвращении в Россию, найти себе место в какой-нибудь архангельской конторе.
Павел не вернулся в Россию, и даже путешествуя по делам фирмы по разным странам, ни разу не заглянул в город своего детства, в отличие от всех русских, которых всегда очень тянет в родные места. Через три года ученичества ему предложили выбор: остаться в фирме, вернуться в Россию или принять выгодное назначение в Лондон, предполагавшее широкие возможности. Павел выбрал третье.
Я смутно припоминаю этого умного светловолосого молодого человека, навестившего дедушку и грэнни во время одного из наших последних визитов в Шотландию, когда мне было около шести лет. Он зашел попрощаться перед отъездом в Англию. Павел привез мне куклу и свободно разговаривал с мамой и ее родителями за чаем. Он легко мог бы сойти за шотландца, если бы не его имя и не круглое лицо славянина.
Я не знаю, как в конечном итоге сложилась жизнь этого замечательного человека. Вмешались война и революция, за ними последовало демоническое царствование грузинского маньяка, когда даже простое письмо из-за границы могло навлечь на получателя в России большую беду. И мы, тоже занятые своими трагедиями и печалями, потеряли связь с Павлом, но, кто знает, может быть, его потомки и сегодня живут где-то в Британии.
Совсем другой была Саша. Прошли первые несколько недель восторженных восклицаний над невиданными прежде вещами: туалетом со смывом, горячей и холодной водой из кранов, ванной, которая сама по себе вызывала восторг, асфальтированными мостовыми, прелестными садиками, магазинами, предлагавшими такое богатое разнообразие товаров. И она заскучала.
Днем Саша была занята мной. Мы проводили много счастливых часов на залитых солнцем берегах Грасси Бич[3], собирая ракушки и цветные камешки и переворачивая водоросли в поисках крошечных, стремглав удиравших от нас крабов. Когда шел дождь, мы играли в нашей комнате. Из кусочков картона и спичечных коробков Саша делала домики, магазины и сама увлеченно играла вместе со мной, точно маленький ребенок. Она неустанно развлекала меня, но ночами, когда я была надежно укрыта и спала в своей кроватке, Саше становилось очень одиноко.
Иногда она сидела у окна, вышивая крестом или бесцельно глядя на реку, а иногда бродила за воротами дома или стояла, облокотясь на изгородь, глядя на экипажи и прохожих, которые, в свою очередь, с любопытством поглядывали на девушку с печальными глазами в необычном платье и платочке.
Саша подружилась с Мэри, молодой горничной, та познакомила ее со своими родителями. Много было жестов и улыбок, но языковой барьер мешал более тесному знакомству. Агги и Вики, которые любили купаться на пляже Грасси Бич, пригласили Сашу присоединиться к ним и предложили лишний купальный костюм. Саша любила плавать, но странный вид двух моих теток, выходящих из пляжной кабинки в синих панталонах и корсажах, отделанных тесьмой да еще с матросскими воротничками в придачу, в чепцах на голове, внушил ей благоговейный страх. Такое представление не для Саши, она не могла принять в нем участие, да и понять не могла, зачем люди раздеваются, чтобы тут же снова одеться и идти в воду, а потом, выйдя из воды, глупо выглядеть в мокрых, прилипающих к телу одеждах. Дома у Саши никто не носил купальных костюмов. О них даже не слыхали. Все купались в первозданном виде, как сотворил Господь, женщины в одном месте, мужчины в другом, и никаких проблем.
Маме очень хотелось помочь Саше. Она часто брала нас с собой в город походить по магазинам и покупала Саше картинки, ленты, яркие бусы. Обычно эти выходы заканчивались посещением кафе, знаменитого своими сливочными пирожными и булочками. Но самым счастливым для Саши стал день, когда мама подарила ей красивую шляпку, отделанную лентами и блестящими алыми вишенками. Невозможно передать, как Саша была рада. Она стояла перед зеркалом и улыбалась своему отражению: круглое милое личико со светлым нежным пушком и на голове шляпка, угнездившаяся на самой макушке. Саша смеялась, пожимала плечами, гримасничала, то гордо вскидывала голову, изображая надменную барышню, то вдруг весело улыбалась и подмигивала. В этом мире ее мечтаний было столько вариаций… Затем шляпка осторожно заворачивалась в папиросную бумагу и укладывалась в коробку. По-настоящему Саша так и не носила ее.
А еще Сашу развлекал попугай Джоки. Она любила сидеть рядом с его клеткой и разговаривать с ним. «Ой, какой ты болтун!» — говорила она, и Джоки, склонив головку и устремив на Сашу яркую бусинку глаза, внимательно прислушивался к незнакомой речи. Но скоро Джоки начал вести себя очень странно. Он бегал по жердочке и взволнованно кричал: «Вижу корабль! Вижу корабль!». А потом настойчиво: «Поцелуй меня, Мэри, быстро!». И все это сопровождалось звяканьем его жестяной мисочки. По непонятной причине у Джоки развился непомерный аппетит. Не успевала грэнни наполнить его мисочку, как уже слышалось, что Джоки звякает ею изо всех сил, требуя, чтобы ее снова наполнили. Джоки становился несносен, а грэнни не могла понять, в чем дело, пока однажды дедушка, вернувшийся из своей конторы, не спросил, видела ли она у ворот кучу шелухи от семечек. Все стало понятно. Саша брала семечки из клетки Джоки и, находя в этом утешение, щелкала их, стоя у ворот, как это часто делают в России. Джоки переживал трудные времена, пытаясь соревноваться с Сашей, чье мастерство и скорость, с которыми она разделывалась с семечками, сразили бы любого попугая.
Приближалось время отъезда отца. Однажды утром Саша с заплаканным лицом пришла к маме. «Барыня, — сказала она, — милая, добрая барыня, пожалуйста, разрешите мне вернуться с барином в Архангельск. Я не могу больше жить в этой стране. Бог свидетель, мне здесь плохо. Пожалуйста, милая барыня, отпустите меня домой!». Как маме было не согласиться?
Две недели спустя Саша уехала вместе с отцом. Мы видели, как весело взбегала она по трапу, в одной руке узелок, в другой — драгоценная шляпка в круглой коробке.
В тот день, когда родился брат, меня, громко протестующую, грэнни увела на пляж Грасси Бич. Я, конечно, этого не помню, однако в памяти жива яркая картинка, когда немного позже меня привели в спальню. Мама сидела в постели, откинувшись на высоко взбитые подушки, а рядом — старинная колыбель. В ней лежало крошечное краснолицее существо, завернутое в шаль. «Это твой маленький брат», — сказала мама.
В Архангельск была отправлена телеграмма с известием, что наконец в семье появился внук. Моего брата назвали в честь отца Германом. Когда брату было шесть недель от роду, его крестили в приходской церкви Святого Стефена, где венчались мои родители. Таким образом он избежал ритуала погружения в купель, но ему все равно предстояло пройти в России помазание.
Мы отплыли из Гулля в начале декабря. Так как Саши теперь не было, чтобы помогать маме в дороге, грэнни решила сопровождать нас до Финляндии, где нас должен был встретить отец. К Рождеству мы надеялись быть в Архангельске.
Весь переход море штормило. И я, и мама были плохими моряками и страшно мучились от постоянной качки. Внизу, под моей койкой, лежала мама, пытавшаяся кормить моего семинедельного брата, который тоже заболел и все время плакал. Лишь грэнни легко переносила качку. Я до сих пор словно наяву вижу маленькую плотную фигурку. Ее бросает на переборку, на мебель, но грэнни спешит к маме или ко мне, пеленает и успокаивает младенца, пытается развеселить свою кислую внучку и заботится обо всех нас. Только теперь, спустя много лет, я понимаю, каким самоотверженным было ее решение пуститься в это путешествие в самое худшее время года, чтобы помочь маме.
Наконец показался заснеженный финский берег. На пирсе нас ждал отец. Передохнув несколько дней у тети Ольги, мы продолжили наш путь в Архангельск, а грэнни на том же судне вернулась в Шотландию.
Когда мы наконец приехали в Архангельск, там стояли морозы. Бабушка, ожидавшая нас на станции Исакогорка, приехала в возке, похожем на ящик, поставленный на полозья и обитый толстым войлоком, с двумя наглухо закрывающимися окошечками. Мы влезли внутрь и завернулись в одеяла и шали.
Приехав домой, мама принесла малыша в бабушкину спальню и, развернув многочисленные шали, положила на кровать. Те, кто ожидал увидеть хорошенького крепкого младенца, были разочарованы. Мой братик был крошечный, болезненный, а путешествие совсем изнурило его. Бледный и грустный, он лежал и апатично глядел на любопытствующие лица, склонявшиеся к нему. Кто-то сзади поднял меня на руки и сказал бестактно: «Наша лучше!». Мама была глубоко задета. Прижав дитя к груди, она с горечью ответила: «Для меня он красавец» — и вышла из спальни.
Мы немного пожили у бабушки, а потом перебрались в свой дом. Через несколько недель братик расцвел, превратившись в прелестного голубоглазого ребенка с золотистыми волосиками. Но так уж повелось со дня нашего приезда, что меня стали называть «наша», а его — «ихний», и так осталось навсегда.
Следующие несколько лет мы много ездили в Шотландию вокруг побережья Норвегии или через Финляндию и Санкт-Петербург. Но когда мне исполнилось пять лет, наступил долгий перерыв, и мои воспоминания о Шотландии стали очень смутными. Запомнилось только самое хорошее: в Шотландии никогда не бывает дождя, там все время цветут розы, на деревьях висят яблоки и по лужайкам прыгают дрозды; трава на Грасси Бич густая и очень зеленая, вода, когда мы ходили купаться, — очень теплая.
Помню, как по воскресеньям к нам приезжали двоюродные сестры и братья со своими родителями: Берти и Мэй, дети моего дяди Эндрю, были немного старше, круглощекая дочка дяди Стефена, Хелен, была ближе мне по возрасту, и я очень любила с ней играть. Это были счастливые встречи, и сейчас, оглядываясь в прошлое, я склонна думать, что мои дедушка и бабушка были очень терпеливы в отношении всех своих внуков.
В жаркие дни чай накрывали в саду. К чаю подавали горячие домашние ячменные лепешки и сдобное печенье. Из кухни приносили клетку с Джоки, и он сидел рядом с нами. Джоки любил солнце и не стесняясь выражал это, растопыривая крылышки, танцуя на одной ноге и болтая громче обычного.
Ярче всего встает перед глазами сцена, когда я и мой братишка, еще в ночных рубашках, сидим майским утром на лужайке, а наша красавица-мама, вся в белом, собирает росу на маленькую губку и протирает ею наши лица. «От этого вы станете краше», — говорит она. А потом тут же, на лужайке, мы едим из маленьких чашек кашу со сливками.
Летом 1911 года мой отец поехал по делам в Германию. В Гамбурге мы снимали меблированный дом. Однажды родители повели нас в зоопарк. День был жаркий и душный. На обратном пути мы попали в сильную грозу и насквозь промокли. Я была в легком ситцевом платье и простудилась, за простудой последовал плеврит. В Россию послали телеграмму, в ней было всего два слова: «Женя гибнет». Много лет спустя бабушка дала мне прочесть эту телеграмму.
Женя, однако, не погибла, хотя наше пребывание в Гамбурге пришлось продлить. Когда я достаточно поправилась, чтобы можно было путешествовать, мы приехали в Санкт-Петербург. Мои родители должны были здесь задержаться на некоторое время, а меня отправили в Архангельск под опекой Пети Емельянова.
Перед бурей
В Архангельске меня ждали. Это были юные дяди в черных с высоким воротом мундирах Ломоносовской гимназии: Юра, с рыжеватыми волосами и зелеными глазами, и Сережа, его старший брат, застенчивый и чувствительный; Марга, круглолицая, с огромными глазами под высокими дугами бровей, которые придавали ее лицу слегка удивленное и несколько гордое выражение. Меня обняла тетя Пика, обдав при этом крепким запахом табака. Она давняя курильщица, папиросы и спички носит в маленькой вязаной сумочке на запястье. Здесь же был дядя Саня, брат моего отца, высокий и светловолосый. Он явился, чтобы приветствовать ребенка своего брата, и, наклонившись, расцеловал меня с теплой нежностью в обе щеки. И Сашенька… Хоть я и была мала, но почувствовала что-то странное в этой женщине, в ее причудливой одежде, и испытала облегчение, когда она меня не поцеловала, а лишь пожала руку.
— Мы с тобой, Женечка, — сказала она серьезно, глядя мне в глаза, — должны хорошо поработать.
Она имела в виду, конечно, мой вступительный экзамен в гимназию, к которому взялась меня подготовить.
Среди всех объятий и поцелуев я особенно помню дедушку, огромного человека, который пришел прямо из госпиталя. Он высоко подбросил меня и, поймав на лету, поцеловал. Помню прикосновение его холодной щеки и влажной бороды, свежий запах снега и мороза, которые он принес с собой.
Бабушка забрала меня к себе в спальню, где я спала двое суток, не раздеваясь, в матросском костюме. Мама строго наказала мне, чтобы я, как только приеду, надела платье, аккуратно уложенное сверху в чемодане. Умытая и переодетая, я вышла в нем из спальни. Платье подарила мне грэнни. Оно было в стиле «шотландской рыбачки» и особо рекомендовалось в то время для маленьких девочек. Широкая голубая саржевая юбка подобрана сбоку так, что было видно нижнюю юбку в белую и голубую полоску. К ней надевалась плотно облегающая шерстяная кофточка, и завершала наряд маленькая шаль с кистями, перекрещивающаяся на груди.
Все сели за стол. Был воскресный день, я помню это потому, что вся еда была приготовлена в русской печке, и еще — белый хлеб, который пекли только по воскресеньям.
Потом все перешли в танцевальный зал. Пока мы жили в Шотландии, мама научила меня нескольким модным песенкам, звучавшим в мюзик-холлах и в спектаклях пантомимы. В связи с этим папа был преисполнен отцовской гордости и в письмах бабушке хвастался моими способностями легко запоминать слова и мелодию.
Последовавшую затем сцену я вспоминаю теперь со стыдом, потому что не терплю, когда дети «работают на публику». Меня просили спеть, и хотя мамы, чтобы аккомпанировать мне, рядом не было, упрашивать не пришлось. С полным самообладанием и беззаботностью я встала посреди зала и исполнила все песни, какие знала: «Дейзи, Дейзи, дай ответ…», «Юп-ай Эдди, ай-эй, ай-эй…», «Жили-были две крошки…». Все это сопровождалось соответствующими жестами, притопами, размахиванием рук и разнообразной мимикой в зависимости от смысла слов и чувств. Мне тепло аплодировали. Репертуар мой был довольно ограничен, но, вдохновленная теплым приемом публики, я продолжала, уже импровизируя, придумывая слова, сообразив, что все равно их никто не поймет, пока бабушка не решила, что хорошего понемножку.
В первые дни меня страшно баловали, мои шалости все переносили с терпеливой любовью, но, к счастью, новизна моего появления скоро испарилась, и меня приняли как младшего члена большого клана: Юра мог меня дразнить, Сережа терпел, а Марга, в зависимости от настроения, то баловала, то гнала прочь.
Мы с Маргой спали в одной комнате. Наши кровати стояли одна напротив другой. Шторы на окнах никогда не задергивались, чтобы можно было видеть звезды, сверкавшие в небе. В дальнем углу висела икона Божией Матери. Перед ней день и ночь горел огонек лампады, навевая умиротворение.
Обычно на ночь бабушка расчесывала мне волосы. На ее туалетном столике стояла фотография, где между мной и братом сидит мама. Однажды я долго смотрела на эту фотографию и вдруг расплакалась. На следующий день фотография исчезла.
Обед всегда подавали в шесть часов, после чего бабушка обычно готовила меня ко сну. Я еще была мала, и мне не разрешалось сидеть с семьей за вечерним чаем. Порой я лежала без сна, слушая голоса из столовой и успокаивающие звуки трещотки ночного сторожа, нарушавшие морозную тишину ночи.
Ночных сторожей нанимали ходить по улицам. Нашу Олонецкую сторожил древний старик. Недалеко от нашего дома, на углу, была маленькая каменная будка, где он укрывался от непогоды. Старик никогда не дежурил один, его повсюду сопровождал наш Скотька. Каждый вечер, перед тем как отправиться в дозор, сторож заходил к нам в дом выпить стакан чая. Я так и вижу его за кухонным столом, в выношенной заплатанной одежде, толстых валенках и побитой молью шапке на седой голове. У его ног терпеливо ждал Скотька. Согревшись, старик медленно вставал.
— Ну вот, пойдем, Скотька.
Скотька шел следом. Всю ночь напролет в любую погоду, в мороз и снег, старый русский крестьянин и его шотландский дружок ходили по пустынной улице. Когда они подходили к дому, старик стучал трещоткой, и она словно говорила: все спокойно, все в порядке.
Рано утром они опять на кухне. Старик пил чай с черным хлебом, отдыхал недолго в теплой кухне и уходил домой, никто не знал куда. А Скотька, превратившийся в ком ледяных игл и звенящих сосулек, исчезал в темном, теплом зеве подпечья и, устроившись рядом с ухватами и кочергами, лежал там, пока снег и лед не образуют вокруг него лужицы. Позже, отдохнувший и голодный, он вылезал и после сытной кормежки снова был готов идти на улицу.
Хотя вначале у меня не было одногодков, с которыми я могла бы играть, я никогда не ощущала одиночества. В доме каждый день что-нибудь происходило. Кроме того, постоянно приходили друзья и родственники. Ворота, ведущие во двор с Олонецкой улицы, были неподалеку от кухонной двери. Звонка или молоточка на двери не было, поэтому гости шли прямо через кухню, вверх по лестнице, в заднюю прихожую. Парадным ходом пользовались только по особым случаям и незнакомые люди. Когда у парадного крыльца звенел колокольчик, горничная спешила открыть дверь, а нас всех одолевало любопытство, и даже бабушка выглядывала из столовой поинтересоваться, кто бы это мог быть.
От всей бабушкиной семьи теперь остались три брата и сестра. Тетю Пику я уже описала, она и бабушка были очень привязаны друг к другу. Их часто можно было видеть вместе за круглым столом в детской за долгими разговорами. Пока бабушка, окруженная коробочками, красками и кисточками, занималась своим любимым делом — изготовлением искусственных цветов, тетя Пика сидела без дела, покуривая одну за другой свои папироски.
Братья были совершенно разные и внешне, и характером. Их жизнь, особенно если сравнить ее с жизнью моих степенных друзей в Шотландии, можно назвать необычной. Младшего брата, Владимира, я всегда видела мирно сидящим на деревянной скамейке в задней прихожей, где висела наша уличная одежда. После прогулок я садилась рядом с ним, чтобы снять валенки. «Здравствуй, Женечка», — неизменно приветствовал он меня с нежной, но какой-то неуверенной улыбкой. «Здравствуй, дядя Володя», — отвечала я на его приветствие, но дальше наш разговор обычно не шел.
Дядя Володя был молчаливый и совершенно безобидный алкоголик, не склонный к разговорам. Проходившие мимо него через прихожую обычно игнорировали его. Он не двигался из своего угла, пока на столе не появлялся полуденный самовар. После этого бабушка брала его под свое крылышко: усаживала рядом и нежно похлопывала по плечу. Когда самовар уносили, вернувшийся в полутрезвое состояние дядя Володя шел в прихожую и медленно, сосредоточенно начинал собираться домой. Жена его давно умерла, детей не было. За ним приглядывал его старый слуга.
Любимцем бабушки был старший брат Иван, дядя Ваня, как его называли, — спокойный, непритязательный человек, которого любили все, кто его знал. Как и его брат Володя, он работал по гражданскому ведомству и, хотя уже много лет был на пенсии, все еще носил выцветшую зеленую шинель государственного служащего. Его длинные седые волосы, лохматая борода и тонко вылепленные черты лица напоминали облик святых, какими их изображали на старых иконах. Дядя Ваня, однако, был обычным смертным. Одно время он жил неподалеку в хорошем доме с женой и двумя маленькими дочерьми, но его счастливая семейная жизнь разбилась вдребезги, когда его жена умерла в родах третьим ребенком. Убитый потерей жены, перед перспективой растить одному троих маленьких детей, дядя Ваня совершенно растерялся.
Акушерка по имени Анна Осиповна пожила у него некоторое время, ухаживая за младенцем и девочками. Дядя Ваня решил, что в ней его спасение от всех проблем, и импульсивно женился на ней. К сожалению, брак их не сложился, и через три недели после того, что можно назвать «мимолетным знакомством», они расстались по взаимному согласию, без злобы и обидных слов. Анна Осиповна, после краткого знакомства с семейной жизнью, вернулась к прежнему занятию. Однако разрыв не мешал ей демонстрировать свои права. Желая остаться членом клана и называться бабушкиной невесткой, она регулярно появлялась в доме и принимала участие во всех семейных встречах, свадьбах, крестинах.
Много лет спустя, когда умерла моя любимая бабушка, Анна Осиповна настояла, чтобы право нести икону во главе процессии к кладбищу было предоставлено именно ей.
Это была маленькая женщина с необычайно острым носом и быстрыми, зоркими глазами. Мой отец довольно метко прозвал ее «Оса». Две первые буквы ее отчества совпадают с буквами прозвища, и можно подумать, что оно произведено от отчества, но действительная причина была в ее осином характере и жалящем языке. Сама Анна Осиповна не возражала, когда ее называли Осой, ей это даже нравилось.
Проблему дяди Ваниных детей совместно решили бабушка и тетя Пика. Дядя Ваня и его две дочери, Татьяна и Людмила, их чаще звали Таня и Людмилушка, стали жить с бабушкой, а тетя Пика и ее муж дядя Коля, не имевшие своих детей, удочерили крошку Лидию и воспитали ее как собственную дочь. Позднее все три девушки вышли замуж и жили своим домом. Дядя Ваня ушел жить к старшей дочери Тане, которая обосновалась около станции Исакогорка. Это та самая Таня, которая занималась багажом, когда мои родители приехали из Шотландии и мама впервые ступила на архангельскую землю.
Однажды, спустя три года после моего приезда в дом, Таня пришла к бабушке вся в слезах и меж рыданий сообщила, что ее папочка ушел из дома. В то утро у них остановились странники, и когда они уходили, дядя Ваня, собрав одежду в маленький узелок, сказал потрясенной дочери, что решил присоединиться к ним. «Они идут в Холмогорский монастырь, — объяснил он, — что в сорока верстах вверх по реке, а потом собираются дальше на юг, в знаменитую Киево-Печерскую лавру».
Ошеломленная бедная Таня просила, умоляла, даже бежала за ним по пыльной дороге, но все ее уговоры и слезы оказались напрасны. Дядя Ваня был глубоко верующим человеком. «Я всегда мечтал сделать это, — сказал он Тане, — ничто не может отвратить меня от святого дела». Таня беспомощно стояла на дороге, глядя, как ее старик отец уходит в толпе странников с узелком и палкой. Его седые волосы, торчавшие из-под остроконечного колпака, развевал ветер. И вот он уже скрылся из вида…
Сначала Таня надеялась, что, побывав в Холмогорах, отец вернется, что тяжелая дорога излечит его причуды. Но прошло три лета и три зимы — от дяди Вани не было ни слуху ни духу. Говорили, правда, всякие странники, что видели его во многих местах России: Киеве, Владимире, Москве и даже в Сибири. В нашей же семье, после первых волнений, все были твердо уверены, что дядя Ваня рано или поздно вернется в родной «загон».
Самым заметным и колоритным из трех братьев был дядя Дмитрий — человек огромных размеров, возвышавшийся над всей родней. Его широкие скулы и резкие черты лица обрамляла роскошная борода, отброшенные со лба назад вьющиеся волосы касались плеч. Он не признавал воротничков и галстуков, обычному гражданскому костюму предпочитал рубашки-косоворотки с вышитым воротом и заправленные в высокие сапоги брюки. Когда он бывал навеселе, то становился неуправляем и страшен, если вынашивал реальную или вымышленную обиду. Его жена, тетя Лиза, спокойная женщина с милым лицом — типичная северянка, светлокожая и голубоглазая. Она заплетала свои светлые волосы в толстую косу и укладывала ее на голове короной, что неизменно вызывало мое восхищение. Она была единственной дочерью зажиточного торговца зерном, который начал свое дело, как говорится, «с нуля». После его смерти делом управлял дядя Митя от имени жены.
Дядя Митя очень редко приводил в наш дом свою жену, и, хотя она была невесткой бабушки, та обращалась к ней по имени-отчеству. Елизавета Евгеньевна разговаривала тихим, мелодичным голосом, за чайным столом держала чашку, изящно отставив мизинец, и перед каждым глотком чая с хрустом откусывала кусочек сахара крепкими белыми зубами. Их семья жила в северной части города, в Кузнечихе. Район этот был не очень благополучным, некоторые места имели дурную репутацию, но дом дяди Мити стоял на хорошей тихой улочке, недалеко от реки. Два их сына, светловолосые и крепкие, учились в Ломоносовской гимназии. Они были дружелюбные ребята, но их редко приглашали в дом.
Дядю Митю все знали как великого обманщика. Однажды он услышал, что я хочу иметь сенбернара.
— Хочешь сенбернара, Женечка? — сказал он. — Будет тебе сенбернар.
На следующий день собака прибыла, но это был не сенбернар, она вообще не была похожа ни на какую породу. Мне не разрешили ее держать, но, страстно любя всех собак, я не могла с нею расстаться. Я прятала щенка в конюшне, укутав для тепла в бабушкин дорожный плащ. Я кормила его смесью, которую сама придумала: разбавленные водой густые сливки, купленные на карманные деньги, сахар и черный хлеб для сытности.
Щенок и безнадежно испорченный плащ были в конце концов обнаружены. Бабушка, конечно, не обрадовалась, увидев, какой непоправимый урон нанесен ее собственности. Скрываясь от ее гнева и заслуженной кары, я долго пряталась за диваном в гостиной. Но избежать хорошей головомойки не удалось. Я так и не узнала, что случилось потом с собакой.
Дядя Митя не всегда был добрый. Мама рассказывала, как ей пришлось столкнуться с его диким нравом. Это случилось в первое лето ее жизни в Архангельске. Она пришла к бабушке в гости и, когда поднималась по лестнице черного хода, вдруг увидела громадную фигуру дяди Мити, которая лавиной катилась на нее сверху. Он толкнул ее об стену, даже не заметив этого, и промчался дальше, как сумасшедший, через кухню и вон из дома.
В комнатах наверху были сплошные руины: разбитый фарфор и перевернутые стулья разбросаны по столовой, в танцевальном зале разбиты все до одного высокие зеркала. Дядя Митя в диком гневе хватал легкие позолоченные стулья и с огромной силой бросал оземь, разбивая вдребезги и стулья, и зеркала, и цветочные горшки под ними. Земля, цветы, осколки украшений и битое стекло устилали пол, кое-где впившись в паркет.
Бабушка молча, как-то машинально подбирала осколки. Марга, напуганная до смерти, истерически рыдала на руках у гувернантки. Оказалось, что кто-то — потом так и не выяснили кто — отпустил какое-то замечание, не понравившееся дяде Мите, и это породило бурю.
На следующее утро дядя Митя вернулся. На коленях он подполз к бабушке, целовал ей ноги и молил о прощении, клянясь Богом, что такое больше не повторится и что он все поправит. Бабушка простила его, такая уж она была. Но одного она не могла ни забыть, ни простить — его «подвиг» во время неудавшейся революции 1905 года.
Дядя Митя никогда не занимался революционной деятельностью, а тут совершенно импульсивно решил присоединиться к демонстрации, которая началась в Соломбале. Возвышаясь над толпой, он нес красный флаг и выкрикивал лозунги. Процессия была уже на мосту, когда на городском берегу появилась группа всадников и понеслась к мосту. Демонстранты немедленно рассеялись, кто-то побежал вперед, кто-то назад, надеясь до приближения всадников успеть спрятаться. Дядя Митя бросил флаг и прыгнул в воду. Держась за сваи моста, он переждал, пока стихнет грохот копыт над головой. Под мостом же он добрался до берега и затем — до изгороди бабушкиного сада.
Он спрятался в башне беседки и, оглядывая окрестности, провел там остаток дня, пока голод не заставил его появиться в доме. Бабушка, верная сторонница самодержавия, была в гневе, но голос крови оказался сильнее преданности царю. Она накормила брата и прятала несколько дней, пока не сочла безопасным его возвращение домой.
С этого времени дядю Митю за его спиной стали пренебрежительно звать «Митька шалый». Слово «шалый» я не встречала в словарях, оно просторечное и означает то же, что «шальной»: безрассудный, взбалмошный, сумасбродный, одним словом — хулиган. Назвать дядю Митю в глаза «Митька шалый» никто бы не осмелился, за этим последовала бы катастрофа. К сожалению, я этого не знала и считала, что это его обычное прозвище, какие были у всех членов семьи.
В начале декабря 1912 года, сразу после приезда, я праздновала свой седьмой день рождения. Из Санкт-Петербурга прибыла большая посылка. В ней была огромная кукла в голубом платье и соломенной шляпке. Однако меня больше обрадовали лыжи, которые подарил дедушка. На следующий же день я рискнула выйти на них во двор. Спотыкаясь и падая, я добралась до живой изгороди сада. Здесь, сначала робко, потом все более уверенно, я каталась взад-вперед, пока не устала и короткий зимний день не начал клониться к закату.
Кататься на ровном месте совсем просто, обнаружила я, и это побудило меня отправиться дальше. На следующий день я снова была на лыжах. Миновав ворота сада, почти утонувшие в снегу, я оказалась в зимней сказке. В саду царили тишина и покой. Деревья в глубоком зимнем сне, цветочные клумбы укрыты снегом, он лежит сверкающими кипами на склоненных ветвях зеленых и голубых елей, запорошил веточки серебристой березы. Ничто не шелохнется: ни прутик, ни ветка. Сад сиял в ослепительных лучах зимнего солнца, золотые зайчики плясали на лужайке и темных стволах черемух.
Впереди, как большое блюдце, лежал пруд. Я объехала вокруг него и двинулась к беседке. Ступеньки, ведущие к стеклянной двери под навесом, были очищены от снега. Сняв лыжи, я поднялась на крыльцо и заглянула сквозь стекло внутрь. Там хранились дедушкины ульи. Дедушка — опытный пасечник, пчеловодство было его главным увлечением. Я часто видела, как он склонялся над маленькой спиртовкой, готовя пчелам особый сироп, а потом надевал лыжи и шел к беседке, относил туда сироп. Дедушкины пчелы всегда благополучно переживали зиму, что было своего рода достижением. Других ульев в наших краях я никогда не видела.
Затем я направилась к холму, на вершине которого стояла другая беседка, царившая над садом. Это был таинственный «замок фей», разжигавший мое воображение и желание попасть внутрь. Но, приблизившись, я обнаружила, что ступеньки, ведущие на холм, полностью занесены снегом. Добраться до крыльца замка у меня не хватило силенок. Окружавшие замок деревья были похожи на строгих часовых. Может, они охраняют замок и возмущены появлением маленькой нарушительницы, а может, кто знает, внутри находится спящая принцесса, которая должна проснуться от первого поцелуя весны?
Когда я вернулась домой, у нас были гости, из Санкт-Петербурга приехала моя двоюродная сестра. Ее звали Марина, она была второй дочерью тети Ольги. Когда-то вследствие осложнения после болезни Марина лишилась слуха и провела семь лет в специальной школе-интернате в Санкт-Петербурге. До окончания ей оставалось еще два года. Но совсем недавно одна умная и предприимчивая дама открыла в Архангельске маленькую частную школу для глухих детей, и бабушка предложила тете, чтобы Марина приехала к нам и поступила в эту школу приходящей ученицей и таким образом обрела бы тепло и защиту семейного круга. И вот Марина приехала и, как и я, оказалась под бабушкиным крылышком.
Марина на семь лет старше меня, но, несмотря на разницу в возрасте и ее печальный недостаток, мы стали большими друзьями. От природы Марина была наделена очень острым умом и наблюдательностью. Она бегло писала и читала и поразительно понимала речь по губам. Благодаря ей я тоже научилась языку жестов, но Марина не позволяла пользоваться им в присутствии незнакомых или на улице, останавливая меня короткой фразой: «Руками не надо…».
Марине выделили отдельную комнату, и, получив прекрасное воспитание в Санкт-Петербурге, она содержала и ее, и себя в образцовом порядке, не позволяя слугам ни в чем помогать ей. В отличие от моей юной тетки Марги, которая проводила время заботясь о своих прекрасных руках, вышивая платочки и стирая пыль с многочисленных безделушек, Марина, как верный щенок, повсюду следовала за бабушкой, всегда готовая помочь, заштопать, сшить, а летом — поработать в саду. Видя ее, поглощенную каким-нибудь делом, бабушка часто восклицала: «Вот уж у Мариночки действительно золотые руки!».
С приближением Рождества в доме началось оживление. Каждый день бабушка отправлялась в город и возвращалась нагруженная свертками. К нам пришли полотеры, которые в своей непередаваемой манере прошлись по всем паркетным полам. Зеркала и мебель были протерты так, что сверкали. Опустили люстры и, почистив каждую сверкающую детальку, вернули в прежнее положение. На кухне тоже вовсю шла работа. На столе, в ожидании когда их ощиплют, горой лежали глухари, гуси и белые куропатки. Особое тесто, которое целый месяц напитывалось ароматами пряностей, уже было готово. Его раскатали, нарезали звездочками, полумесяцами и сердечками и пекли в духовке. Этим печеньем, конфетами и другими деликатесами наполняли корзинки в Финляндию. Подарки посылались как самой тете Ольге, так и каждой из ее многочисленных дочерей и всем членам семьи, включая нянек и мамушек.
Рождество, а также день Святой Евгении — бабушкины и мои именины — праздновались обычно в канун Рождества. Этот день приближался, и наверху происходили более интересные для меня, волнующие и таинственные приготовления.
Однажды вечером бабушка поставила на стол большой мешок орехов, появились блюдечко с подслащенным молоком, зажженные свечи, сургуч и зеленые шерстяные нитки. Каждому из нас дали по крошечной книжечке с золотыми страницами, скрепленными папиросной бумагой. Марга и мальчики уже знали, что надо делать. Марина, поняв, что от нее требуется, работала сноровистее всех. Я тоже старалась как могла. Отдельный листочек, прикрепленный к папиросной бумаге, надо положить на ладонь, затем окунуть орех в сладкое молоко и немедленно завернуть в золотую бумажку. Кончики нарезанных шерстинок приложить к плоскому местечку на орехе и прикрепить капелькой разогретого сургуча. Готовые орехи клали на поднос. Теперь их можно было повесить.
За ними шли яблоки особого сорта, выращенные специально для Рождества. Эти маленькие яблочки, алые и белые, формой почти как груши, часто описываются в волшебных сказках. Черенок у них длинный, и к нему легко привязать такие же зеленые петельки. Я не имела ни малейшего представления, зачем прикрепляются эти петельки, а спросить почему-то не пришло в голову.
Приближавшееся Рождество было первым, которое я запомнила. Правда, есть еще смутное воспоминание о Рождестве в Шотландии, когда утром я обнаружила чулок, наполненный маленькими подарками, но елок в годы моего младенчества в Шотландии не устраивали.
По утрам в дом приходили розовощекие крестьянки с корзинами и предлагали домашние козули, раскладывая их на белом полотне, — вкусные и ароматные пряники в форме человечков и северных животных; тут были ненцы, белые медведи, олени, все раскрашенные белым и розовым сахаром.
Двери, ведущие в танцевальный зал, почему-то закрыли на замок. Юра, Сережа и Марга бегали туда и обратно, но на мои вопросы отвечали как-то невнятно или вовсе игнорировали их. Это было очень странно.
Однажды утром под звон бубенцов в ворота влетела тройка и остановилась возле парадного. Мы подбежали к окнам и увидели, как из кибитки вылезли две полные дамы. Это были двоюродные сестры бабушки, которые жили где-то в глубинке, далеко от железной дороги. На протяжении многих лет они приезжали к нам на эти праздники. Обе были не замужем и очень походили друг на друга, затянутые в одинаковые черные блестящие платья, отделанные по вороту и манжетам кружевными оборками. На их приятных лицах была написана нескрываемая радость снова оказаться с нами.
Аделю и Верочку принимали с русским радушием, обнимали и целовали в обе щеки. Когда-то они и бабушкина семья в Маймаксе часто ездили друг к другу в гости. Но это было давно, когда они были еще молодыми, а теперь сестры вдвоем обитали в деревенской глуши и, как многие пожилые люди, жили прошлым. Они вручили подарки бабушке, которая тут же унесла их в танцевальный зал под замок, а потом три дамы устроились в тихом уголке, где можно посидеть и поговорить о былом.
Немного погодя из Вологды приехал представительный господин по имени Павел Петрович, холостяк, большой друг дедушки, тоже увлеченный пчеловодством. Как только он вошел, они с дедушкой отправились в кабинет поговорить о своем любимом занятии. Нужно добавить, что оба эти господина в свое время получили от правительства особое признание за изобретение способа, который помогает пчелам пережить суровую зиму.
Дом был уже полон, и все радовались встрече. В те дни люди еще ездили на дальние расстояния, наперекор морозам и метелям, чтобы встретиться на семейном торжестве, чтобы вместе насладиться теплом и радостью праздника. Уже буквально накануне Рождества прибыли тетя Пика с дядей Колей и Лидочка с мужем и маленькой дочкой Полей; из Соломбалы пришли Людмилушка, ее муж и сын Модест; из Исакогорки, на старой лошадке через реку, приехала третья сестра Таня, с тремя детьми и мужем. Таня была очень бедна, и эта ежегодная поездка в дом Поповых на рождественскую встречу была для ее детей большим праздником и источником великого волнения. Дядя Адольф, очень видный господин, крестный моего отца (он брат моего покойного родного деда), приехал со своей умницей-женой тетей Фанни. Прибыла и единственная родственница дедушки. Странно, но все звали ее по фамилии — «тетя Дудкина». Это была милая, застенчивая пожилая дама, которая привезла свое особо вкусное печенье. Еще приехала тетя Эмма, самая близкая подруга бабушки с детских лет. Она была одинока, ни одна встреча, ни один праздник у нас не проходили без нее. Когда бабушку окружало слишком много народа и она была занята, тетушка Эмма сидела где-нибудь в укромном уголке наедине с полным стаканчиком.
По обычаю бабушка и я принимали поздравления в день нашей Святой. Подарки, которые нам подносили, исчезали за дверями танцевального зала. В те времена дети не носились по дому, путаясь под ногами у взрослых, но по случаю Рождества нам делали послабление. Взрослые перешли в угловую гостиную, а дети под присмотром Марины и Юры были отправлены в детскую. Здесь мы играли и развлекались, но я, преисполненная любопытства, заглянула в столовую, где бабушка с сосредоточенным лицом перекладывала свешивавшиеся с высоких ваз гроздья винограда и в последний раз проверяла сервировку. Я увидела Иришу, молодую горничную, которая несла в столовую поднос с горячими пирожками к супу. Я сообщила это радостное известие детям, и мы толпой побежали в столовую занять свои места рядом со старшими.
Рождественский обед был похож на тот, что запомнился мне в Шотландии, только вместо жареной индейки здесь подавали гусей, фаршированных яблоками, и куропаток, приготовленных в сметане. На десерт, как знак особого внимания к своей полушотландской внучке, бабушка подала сливовый пудинг. В нем были спрятаны маленькие безделушки, удивляющие всех. Во время обеда гости провозглашали тосты за именинниц — бабушку и меня, что вызывало во мне удивительное чувство собственной значимости.
К концу обеда Юра и Сережа, извинившись, исчезли в танцевальном зале, после чего бабушка предложила выйти из-за стола, и мы двинулись к закрытым дверям. Перед дверями все остановились. Во всем было какое-то напряженное ожидание. Вдруг прозвенел колокольчик, и все погрузилось во тьму. Через секунду двери танцевальной комнаты распахнулись, и там…
В полумраке большого пространства, сияя множеством огней, стояла потрясающая красавица-елка, верхушка которой достигала потолка. Я никогда не видела рождественских елок. Внезапно возникшее поразительное зрелище ошеломило меня. Все сверкало и переливалось: прелестные феи, стоящие на цыпочках, снежная королева, едущая на санках в оленьей упряжке в свой ледяной замок, позади нее крошечный мальчик, Красная Шапочка с корзинкой отправилась навестить бабушку, крошечная Русалочка легко покачивается на кончике ветки, принцесса в роскошном платье и бриллиантовой короне, злая ведьма стоит рядом с избушкой, которая медленно поворачивается на курьих ножках, гномы и ангелы с крылышками, звенящие стеклянные сосульки и сверкающие хлопья снега. А поверх всего этого блеска — героев сказок, золотых орехов, яблок, конфет — сияли свечи. Каждый острый язычок пламени был окружен золотым ореолом. Цепь за цепью они обвивали елку, сливаясь в один сверкающий каскад потрясающего великолепия.
Помню, я подумала про себя: «Это, должно быть, рай, о котором рассказывала бабушка, — место, куда уходят иногда маленькие дети, где они всегда счастливы, их никто не бранит, где все кругом блестит и золотые яблоки висят на деревьях».
В своей жизни я много раз бывала счастлива, но ничто и никогда не смогло превзойти то единственное мгновение чистого восторга, когда я стояла, разглядывая это чудо — мою первую рождественскую елку.
Я могла бы стоять так вечно. Наконец я повернулась и пошла к своему месту. Для каждого члена семьи на отдельных столиках лежали подарки. На моем столике их было множество. Бабушка раздавала подарки гостям и слугам. Дети бегали вокруг, лакомясь мандаринами, снимая с елки орехи, яблоки и конфеты.
А потом на простыне, повешенной на стене прихожей, показывали картинки сквозь волшебный фонарь. Виды, сценки из сказок, иллюстрации к детским стихам-считалкам комментировал Сережа. И хотя в дальнейшем мы смотрели эти самые картинки из года в год, они всегда приводили нас в восторг.
Поздно вечером гости разъезжались по домам. Когда уехал последний гость, Юра и Сережа принесли в танцевальный зал высокую лестницу и стали гасить свечи. Огоньки один за другим исчезали, и елка постепенно погрузилась во тьму.
Утром все пошли в церковь на рождественскую службу. Наша Успенская церковь находилась недалеко от дома. Бабушка и ее сестры отправились на санях, а мы пошли пешком по набережной. Утро — ясное, какое-то серебряное, наполнено звоном колоколов всех церквей города, сливавшимся в радостном многоголосии. Снег приятно хрустит под валенками. Подходим к церкви. У входа рядком стоят нищие в лохмотьях и просят милостыню ради новорожденного Спасителя. Церковь полна народа, множество свечей, смешанный запах воска и ладана. Невидимый хор звучит слаженно и чисто.
Два дня спустя мы с бабушкой отправились в гости к моему крестному отцу, куда были приглашены на семейный праздник родственники покойного дедушки.
Взрослые собрались к обеду в столовой, а мы, дети, ели за большим круглым столом в детской, где молодая гувернантка следила, чтобы мы хорошо себя вели. Когда обед закончился, нам разрешили присоединиться к старшим в гостиной. Здесь все играли в подходящие к такому случаю игры. В углу столовой тоже стояла рождественская елка, но она ни в какое сравнение не шла с нашей. Елка была перегружена украшениями, тут явно не хватало художественного вкуса нашей бабушки. Вместо магического света свечей на ней были маленькие электрические лампочки, без сомнения, более безопасные, но не способные создать волшебства.
Вечером мы отправились обратно. Ночь была ясная и морозная. Наша чудная кобыла Смирнуха, названная так за мирный и послушный нрав, весело бежала мимо знакомых приметных мест. Когда мы подъехали к реке, она вдруг занервничала и пулей влетела в ворота. Михайло резко остановил ее у черного входа и, высадив нас, пошел к воротам. «Думаю, барыня, — сказал он, закрывая ворота, — волки рядом, и Смирнуха чует их».
Мы вошли через черный ход в прихожую и сняли тяжелые шубы. В столовой вокруг приветливо мурлыкающего самовара сидело веселое собрание. Бабушка пошла в зал, чтобы снять с елки несколько орехов и конфет. Свечи на елке не горели, и украшения тускло поблескивали в лунном свете, лившемся из окон. Бабушка позвала меня, и я подошла к ней. Бабушка стояла у окна.
— Посмотри, Женечка.
Глядя вниз, прямо под наши окна, выходящие на реку, я увидела трусящих цепочкой, как мне показалось, шесть или восемь собак.
— Что это за собаки? — спросила я.
— Это не собаки, — ответила бабушка, — это волки. Верно, чуют наших овец и лошадей.
Мы молча наблюдали, как волки двинулись к набережным воротам, которые, в отличие от уличных, всегда были закрыты. Вот они стоят, неуверенно глядя через кованые железные решетки, а потом, медленно повернувшись, исчезают за краем крутого берегового склона, чтобы появиться снова уже на залитой лунным светом реке. Все так же, цепочкой, они уходят дальше, к противоположному берегу.
Единственный раз я видела волков на воле. Но до сих пор помню странно зловещие, почти жуткие, крадущиеся силуэты и их молчаливую осаду наших ворот.
В первые дни 1913 года резко похолодало. Приближалось Крещение, и морозы в эту пору часто называют «крещенскими». В это время на всех реках России совершается освящение воды. Некоторые смельчаки окунаются в прорубь и даже остаются живыми после такого купания.
Всю неделю друзья наших мальчиков и подруги Марги приходили в дом заниматься традиционными гаданьями о будущем. Одно из них заключается в том, что в холодную воду льют растопленный воск и пытаются угадать, какие пророчества заключены в очертаниях образовавшихся фигур. А еще есть гадание с зеркалами. В дальней пустой комнате ставят на стол зеркало. По обе стороны от него зажигают свечи. Укрыв плечи белой накидкой и распустив волосы, девушка садится перед зеркалом. Точно позади нее на другом столе стоит второе зеркало. В комнате темно. Зеркала отражают лишь лицо и плечи сидящей. Свечи, многократно отраженные в зеркалах, образуют галерею огоньков, кажется, что она бесконечна. И вот так девушка сидит, не двигаясь, не поворачивая головы, пока постепенно в глубине зеркал не появляются смутные фигуры, принимая очертания каких-то лиц.
Я слышала, что этот эффект объясняют оптической иллюзией, влиянием живого воображения или формой самогипноза. Но я знаю, многие клялись, что видели не только предметы и лица, а даже целые сцены, разыгрывавшиеся перед глазами.
Одна из подружек Марги ушла в комнату Марины и сделала все как полагается. Через некоторое время она выскочила оттуда смертельно бледная, напуганная, отказываясь говорить о том, что ей привиделось.
Мне не разрешали участвовать в этих забавах, но мы с Мариной взяли два блюдца, покрыли их донышки пеплом и золой и на каждое поставили наполненный водой стакан. В стакан нужно было опустить обручальное кольцо. Бабушка, которая носила два обручальных кольца (покойного мужа и теперешнего), дала их нам. Нужно было пристально смотреть в центр кольца. Я долго пялилась в золотой кружок, но так ничего и не увидела.
Наша Марга почему-то была очень нервной и не могла спать одна в комнате. Временами, когда на нее находил страх, она будила меня: «Ты тут?» — или заискивающе: «Ты спишь, Женечка?». Это давало мне определенную власть над теткой, которая была старше меня на десять лет. Иногда, рассердившись, что меня будят, или просто из шалости, я притворялась спящей, потом, наконец сжалившись, выговаривала Марге, словно малому дитяти: «Конечно, я здесь — где я могу еще быть? Ты что, не знаешь, что святая Дева Мария бережет нас? Спи и не мешай мне». Бедная Марга, успокоенная звуком моего голоса, засыпала. Не знала я тогда, что настанет время, пока оно еще далеко, когда и я так же буду замирать от страха по ночам.
Однажды Сашенька объявила, что мне придется усердно работать, чтобы компенсировать то драгоценное время, что я упустила, бездельничая. Чтобы меня приняли в Мариинскую гимназию, нужно сдать экзамены по чтению, письму, арифметике, а также знать некоторые отрывки из Ветхого и Нового Завета. Получив задание вбить все это в мою легкомысленную голову, Сашенька не щадила меня. Каждый день в два часа, как только она приходила из школы, начиналось учение, продолжавшееся до шести часов, когда звали к обеду. Перерыва не было. Когда обед заканчивался, Сашенька объясняла, что я должна приготовить к следующему утру. И так каждый день, включая воскресенье!
Благословенный перерыв наступил лишь с приходом масленицы, всю эту великолепную праздничную неделю уроков не было. Масленица на Святой Руси — это блины, катание на лошадях, маскарады, вечеринки, ледяные горки.
Михайло сделал для меня маленькую горку, сбив лопатой кучу снега и полив ее водой. Она заледенела и стала гладкой как стекло. Целые часы я проводила на горке: залезала на нее по маленьким ступенькам и скатывалась вниз до самого конца ледяной дорожки. Жена Михайлы Маша, которая в то время болела, сидела у себя возле окна и наблюдала за мной.
На следующий день я заметила мальчика и девочку в сопровождении солдата, стоявших у наших ворот и смотревших на мое одинокое катание. Михайло махнул им рукой, подзывая ко мне. Володя, немного старше меня, и его старшая сестра Вера были детьми генерала Заборчикова и его жены Анастасии Ивановны. Они жили по соседству с нами, на верхнем этаже дома, выходившего фасадом на улицу. Прислугой в их доме были ординарцы, которые готовили, стирали, ухаживали за детьми, прислуживали за столом. В семье был еще совсем маленький ребенок Шурик, красивый младенец, очень похожий на свою прелестную мать. Генерал, с его выбритым черепом, гладким как бильярдный шар, был невзрачный, бледный человек, но его неулыбчивая физиономия и гордая поступь внушали страх не только детям и ординарцам, но и его супруге.
Мне очень понравились мои новые друзья. После некоторой застенчивости поначалу мы потом веселились вовсю, скатываясь с горки на санках или на спине, визжа и хохоча, барахтаясь в сугробах, пока не наступили сумерки и солдат не увел моих новых знакомых домой.
На следующий день они снова пришли на мою горку. Вскоре мы увидели, что мимо ворот идут к реке еще какие-то ребята. Мы побежали и присоединились к шумной веселой компании, катающейся на салазках с берега. Берег около нашего дома был довольно крутой, и с него можно было съехать не только до реки, но и далеко на ее ледяной простор.
Один румяный мальчик подошел ко мне и спросил, как меня зовут.
— Женя, — ответила я робко.
— А меня — Толя, Толя Мамонтов, — он представился совсем как взрослый. — Ты ездишь на салазках неправильно, — сказал он, — сидишь, как маленькая, ноги вытянула, так далеко не уедешь.
И он показал, что лучше всего ехать на санках лежа на животе и рулить одной ногой. Я последовала его совету, но на середине склона свернула в сторону и оказалась в сугробе. Все смеялись, но я не обиделась. Я была рада, что ко мне относились как к члену компании. Это было новое и приятное ощущение.
На этой неделе у нас во дворе появились ненцы с оленьими упряжками. Они привезли свои товары: шапки, пимы, тапочки — все из оленьих шкур. Ненцев сопровождало несколько белоснежных собак. Они мне очень понравились, но меня предупредили, чтоб я их не трогала, так как они не любят незнакомых. Этих собак используют для охраны огромных оленьих стад.
Веселые плоские лица ненцев лучились улыбками, их говор звучал так странно. Они пытались уговорить нас нанять их для поездки на нартах, хоть до дальних чумов. Бабушка не соглашалась:
— На реке очень холодно, — убеждала она. — Нарты совершенно открыты, можно обморозиться.
Наконец бабушка согласилась на компромисс, и нам разрешили прокатиться, но не дальше городской окраины.
Так как на нартах могут уместиться лишь один-два пассажира, были наняты двое нарт. Юра и я поедем на одних, Марина и Сережа — на других. Тепло одетые, теплые шали прикрывают лицо, сидя сразу за спиной погонщика (у него в руках длинный шест, с помощью которого он управляет оленями), мы выезжаем медленной процессией за ворота. Каждые нарты тянут четыре оленя, и как только мы оказались на реке, они мощно рванули вперед.
Описать восторг от поездки на оленях невозможно. Нарты так легки, что кажется, будто они летят, не касаясь снега. Пощелкивая языком, ненец подгоняет оленей, я сижу, прильнув к Юре, немного побаиваясь и волнуясь. Мы мчим вперед и вперед. Свистит ветер; дома, сады, купола церквей — все только мелькает. Вот и окраина города — скучная равнина, тут и там разбросаны редкие домики. Смеркается. Снег на реке и по берегам становится алым, потом превращается в темно-лиловый. Олени делают широкую дугу и поворачивают обратно к мерцающим огонькам города, в наш двор.
А в теплой кухне бабушка, повязав передник, с красным от жара плиты лицом, печет блины. На табуретке большой горшок теста, а в другой посудине, поменьше, — топленое масло. На плите длинный ряд маленьких тяжелых сковородок. Бабушка работает ловко, точно рассчитывая движения. Ее рука мелькает вдоль ряда сковородок туда-обратно. На каждую сковороду наливается масло, потом тесто, и к моменту, когда последняя сковородка наполнена, блин на первой уже пора переворачивать, и так до конца ряда. Потом по очереди снимать готовые блины на поднос. Эти операции повторялись своим чередом, пока не вырастала гора тонких блинчиков, не тяжелых и жирных, а легких и очень вкусных. Их тут же уносили к столу, чтобы сразу есть в несколько слоев. На столе сметана, икра, всевозможные другие закуски, а также разнообразное варенье из лесных ягод.
Старинный русский, всеми почитаемый обычай блюли всю неделю. Блины ели сотнями, и лишь чтобы они не надоедали, готовили еще какие-то другие блюда.
В последний день масленицы у бабушки появилось ностальгическое желание съездить в Маймаксу, туда, где она родилась и выросла, где прошли первые годы ее семейной жизни. Там у нее уже почти не осталось родственников и друзей, но бабушке хотелось снова повидать вдову Павла Михайловича, который сопровождал бабушку с матерью в Санкт-Петербург на историческое свидание с царем. Далекие воспоминания, да и празднование масленицы сыграли свою роль — бабушка велела Михайле запрячь тройку, а мы с Юрой должны были сопровождать ее.
Тройка была очень популярна в России. Она воспета в десятках русских стихотворений, песен и романсов. Специальная упряжь и особый бег трех лошадей, запряженных в ряд, уникальны. Только средняя, наиболее крепкая, коренная лошадь (коренник) бежит в оглоблях. Она управляется с помощью пары вожжей, высоко несет голову и глядит прямо вперед. Арка над ее головой, под названием «дуга», часто украшается серебром и маленькими колокольчиками. Боковые лошади называются пристяжными. Они управляются каждая своей вожжой, их головы повернуты в разные стороны. Коренная бежит рысью, пристяжные — галопом.
Плотно прижавшись друг к другу в широких, низких, обитых войлоком санях, укутанные полостью, мы отправляемся в путь утром. Морозно, сыплет легкий снежок, но праздник вывел людей на широкую улицу, и по ней во всех направлениях проносятся санные упряжки всевозможных видов. Навстречу нам летела лошадь, запряженная в маленькие элегантные санки. В них сидели молодой человек и хорошенькая девушка, закутанная в меха. Она смеялась и, поравнявшись с нами, махнула нам рукой. Впереди нас мчалась тройка, полная молодежи, распевавшей песни под гармошку. Нагнав ее, мы некоторое время неслись рядом, и колокольчики наших троек пели в унисон.
Мы подъехали к месту, где остров Соломбала делит реку на рукава. Снег прекратился, бескрайнее пространство реки простиралось перед нами. «Ну, ну!» — крикнул Михайло и поднял кнут. Лошади немедленно пошли в галоп и помчались вдоль острова. Справа светились оранжевые огоньки Соломбалы, а слева от нас потянулись скучные берега Маймаксы, где темнели громады лесопильных заводов. Тройка промчалась мимо заводских корпусов, поднялась на берег и подкатила к одноэтажному дому, скрытому за деревьями. Пока мы поднимались на крыльцо, нас приветствовал хор собак. Дверь открыла молодая служанка и провела нас в дом. Внутри царили тепло и свет. Дом был полон молодежи и детей.
Мария Егоровна, вдова Павла Михайловича, обняла бабушку. Теперь уже совсем старенькая, она жила со своим сыном и его семьей в том доме, где прошла ее собственная семейная жизнь. Три ее непоседливых внука (младший Саша — одноклассник Юры) позвали нас пойти с ними в сад.
За домом была построена деревянная горка. Крепкие ступени вели на верхнюю площадку. Обе стороны горки и длинный скат по направлению к дому были оформлены маленькими сосенками, украшенными цветными лампочками, которые были привязаны к выступавшим ветвям берез. Они освещали деревья и бросали разноцветные пятна на снег.
Мы прекрасно провели время, катаясь с горки на ковриках. Я скатилась с Юрой и Сашей, потеряла их, и одна, выписывая головокружительные пируэты, неслась до конца ледяной дорожки, где они нагнали меня, и мы свалились в кучу, визжа от восторга. Это продолжалось до тех пор, пока не прибежала девушка — сообщить, что барыня велит всем возвращаться в дом, ужин готов, самовар уже на столе и нас ждет гора блинов.
После ужина бабушка решила, что нам пора домой, впереди длинная дорога. Попрощавшись, мы сели в сани и выехали на реку. Снова пошел снег. Когда проехали Соломбалу, Михайло свернул к городу, чтобы пересечь реку по диагонали и подъехать прямо к нашей улице. Это был самый короткий путь. Погода заметно ухудшилась. Снег стал гуще, и видимость — плохой. Луна исчезла в белесой мгле, встречные сани и лошади казались бесформенными тенями, движущимися в снежной завесе. Наши сани мягко заносило из стороны в сторону. Приглушенное теньканье колокольчиков напоминало звуки колыбельной песни.
За масленицей начался великий пост. Глубоко верующие люди следовали всем его жестким предписаниям, но обычная семья, вроде нашей, выполняла лишь некоторые из них. В дни поста вместо масла и животного жира на кухне использовали растительное масло. Избегали яиц. Рыбные блюда, которые очень популярны в этом краю рыбаков, заменяют мясо и дичь. И чтобы не угнетала монотонность 49-дневной диеты, изредка разрешались послабления в виде оленьей лопатки или жареного глухаря в брусничном соусе.
Из Санкт-Петербурга приехала и сразу стала членом семьи новая экономка. Звали ее Капитолина Семеновна, но у нас ее называли Капочка. Одно время она воспитывалась вместе с сестрой в семье бабушки в Маймаксе. Когда девушки повзрослели, они отправились в Санкт-Петербург, где обе вышли замуж. Муж Капочки, однако, вскоре заболел и умер, и ей пришлось искать работу. Жизнь Капочки была яркой и богатой событиями. Некоторое время она обитала в мире сцены и, хоть занимала крошечные должности, знала многих знаменитостей, таких как великий Федор Шаляпин, балерина Анна Павлова. Еще Капочка служила в доме хорошо известной исполнительницы русских народных песен Плевицкой.
Капочка была какой-то особенной. Она помогала бабушке, выдавала на кухню необходимые продукты для приготовления обедов, чинила белье, перешивала одежду и выполняла множество незаметных дел, которые обеспечивают нормальную жизнь большого дома. Все, кто имел с ней дело, любили ее, потому что она обладала редким неуловимым свойством душевности, которое трудно описать. Куда бы она ни пошла, кого бы ни встретила — везде и для всех от нее исходило тепло и приязнь. Я так и вижу ее, как она стоит в старой детской, одетая в голубовато-серое свободное платье, подпоясанное шелковым шнуром. Я узнаю мягкую ткань ее платья, маленький кружевной воротничок, большие карманы — они, я знаю, полны всякой всячины: ключи, катушки, очки, наперсток и прочие мелочи. Золотистые с проседью волосы Капочки закручены в узел на макушке. Неизвестно, сколько ей лет, потому что Капочка была, как говорится, без возраста, кожа у нее безупречна, глаза словно коричневый бархат.
Однажды вечером, после обеда, когда я сидела с Сашенькой над книгами, в дом прибежал конюх Михайло, страшно расстроенный. Его Маша теперь уже серьезно болела, и после сильного приступа кашля у нее открылось кровотечение. Дедушка, а за ним и бабушка побежали в сторожку. Дедушка сделал все что мог и на этот раз спас Машу. Бабушка замыла кровь и принесла из дома чистые простыни.
Но Машино самочувствие ухудшалось. Дедушка открыл Михайле, что у Маши туберкулез. Маша была приговорена, потому что в те дни не знали лекарства от этого страшного заболевания, собиравшего жатву во всех слоях русского общества. Михайло с отчаянья запил. Бывали моменты, когда дедушка, вызванный вечером к пациенту, обнаруживал, что Михайло не в состоянии ни запрячь, ни править лошадью. Тогда Василий запрягал одноместные санки, и дедушка сам правил лошадью.
За несколько дней до пасхальной недели Маша умерла. Она скончалась рано утром, а вечером в сторожке прошло первое отпевание. Вокруг гроба, стоящего на столе, собралась вся семья. В мягком сиянии свечей молодое лицо Маши было спокойным, на лбу — белая лента, на которой золотыми буквами строка из Нового Завета; в сложенных руках — свеча, с которой Маша венчалась, еще украшенная сохранившимися цветами флердоранжа; на груди маленькая иконка. Две крестьянки, стоя на коленях, горько плакали и низко кланялись, касаясь лбом пола. В конце службы все подходили целовать иконку. Плачущий Михайло все гладил и целовал руки жены. Меня подтолкнули, чтобы я тоже поцеловала иконку. Я коснулась щекой холодной как лед руки Маши и инстинктивно отпрянула. Это была моя первая встреча со смертью.
На следующее утро я снова направилась в сторожку и, сняв лыжи, вошла в комнату, где стоял гроб. В углу за столом сидел старый монах и тихим голосом читал молитву по усопшей. Он даже не обернулся. Я постояла минуту, разглядывая Машу. Черты лица ее заострились, возле губ появилась синева. По всем стенам комнаты висели картинки, обличающие пьянство. Одна изображала голодных детей, сидящих вокруг пустого стола, и плачущую мать, обхватившую голову руками, на другой дети просят милостыню на улице, на следующей — пьяный лежит на снегу, а рядом с ним пустая водочная бутылка. Эти картинки повесила Маша в тщетной надежде пристыдить и излечить мужа.
За несколько дней до Вербного воскресенья Юра и Сережа отправились на лыжах за реку к зарослям ивы и вернулись нагруженные кипами пушистых веточек. Их разделили на букетики, перевязали лентами и украсили бабушкиными искусственными лилиями, выглядевшими как настоящие.
В воскресенье непрерывным потоком люди шли в церковь, неся ветки таких же серебристых верб. В России библейское Пальмовое воскресенье называют Вербным, потому что пальм у нас нет. После торжественной службы начинается пасхальная неделя, когда идут основательные приготовления к великому дню Воскресения.
У нас эти приготовления начались еще в начале лета, когда купили маленького поросеночка. Его поместили в конюшне и до поздней осени кормили специальной едой, пока не приехал некий немецкий господин на тележке, нагруженной страшноватыми на вид инструментами. Он приезжал каждый год, и мне казалось, что его толстая розовая физиономия и рыжие волосы напоминают его бедную жертву, которую они с Василием разделывали.
Во дворе, неподалеку от кухни, установили длинный сосновый стол, и Дуня, повариха, вместе с помощницей Грушей все время выносили ведра с кипящей водой. Немецкий специалист и Василий работали весь день, и под конец тележка была нагружена крупными частями туши. Спустя некоторое время тот же немец привез гирлянды вкусных копченых колбасок, бекон, окорока и другие разновидности свинины. Все это с удовольствием было съедено, за исключением двух окороков, которые подвесили в подвале рядом с нитками сушеных грибов и пучками трав.
И вот теперь окорока принесли. Чтобы приготовить к пасхальному столу, их запекают в русской печи в тесте из ржаной муки.
А еще делают сладкие пасхальные сыры, которые так и называются «пасха». В кухню приносят большой таз. В него сначала кладут творог, полностью отжатый от сыворотки и протертый через мелкое сито, затем добавляют растертое масло, взбитые сливки, сахар, ваниль, и начинается тяжелая работа — перемешивание массы. Для этого используется длинный шест с утолщением на конце. Вся семья по очереди участвует в перемешивании. Так продолжается до тех пор, пока масса не достигнет консистенции, которая устраивает бабушку. Тогда массу перекладывают в обложенные муслином пирамидальные формы и уносят в кладовую. Впоследствии я пробовала много творожных сыров и, располагая подобной формой, пыталась делать их сама, но они никогда не имели того непередаваемого вкуса, как те, что готовили в моем детстве.
Крашение яиц и приготовление нескольких куличей и ромовых баб откладывается на конец недели. Кулич — это высокий круглый пирог. Его готовят из муки, изюма, цукатов, большого количества яиц и ароматизируют ванилью и кардамоном. После выпечки кулич покрывают глазурью и украшают двумя начальными буквами слов «Христос воскрес». Ромовая баба — тоже пирог, но из дрожжевого теста. Ее выпекают в особой форме высотой до пяти вершков. Сверху ромовая баба полита глазурью и действительно имеет некоторое сходство с женщиной, одетой в широкий сарафан.
Тем временем один за другим следуют различные обряды. В течение недели все члены семьи и слуги бывают в церкви на исповеди. Они идут туда в разное время, но перед этим обходят всех домашних и просят простить им все прегрешения, которые они сотворили. Сама я, еще не достигшая мудрости десяти лет, не включалась в этот ритуал, но тоже милостиво-простила всех, кто передо мной провинился, особенно Сашеньку.
В четверг святой недели мы по обычаю всей семьей были в церкви на вечерней службе. Читались Страсти Господни по Евангелию, в двенадцати частях. Мы стояли, внимая словам, со свечами в руках. Между чтением каждой части свечи гасили. Затем начались молитвы, и томительно прекрасно пел хор. За исключением великолепной полуночной службы о Воскресении, именно эта служба всегда была моей любимой.
И все же, как ни любила я ее, но стоя в шубе и валенках, изнывая от тепла множества свечей, я испытывала острую боль в плечах, которая распространялась по всей спине и становилась нестерпимой. Поэтому, не дожидаясь конца службы, я пробиралась к выходу, искала скамью в каком-нибудь углу, предусмотренную специально для бабушек и дедушек, которые тоже не выдерживали всю службу на ногах, и, к стыду своему, сидела с ними.
На следующий день мы снова шли в церковь. Тело Христа было снято с креста, икона в человеческий рост лежала перед Святыми вратами, ведущими в святая святых, куда женщинам входить не разрешалось. Подходя к иконе, молящиеся клали перед ней цветы. Бабушка, выращивавшая гиацинты в горшках, делала из них букет и клала его в ногах Христа. Надо сказать, что живые цветы в то время были большой редкостью в наших краях.
В воскресенье утром я проснулась от необычного оживления в доме. Михайло и Яшка носили из подвала маленькие столики и ставили их в столовой вдоль стен, раздвигали главный стол. Ириша и Капочка, стоя у разных его концов, расстилали белоснежную скатерть из дамаста, узорной камчатной ткани. Все суетились, даже Марга, не склонная утруждать себя, носила на подносе тарелки и бокалы и расставляла их на сервировочном столе.
Внизу, на кухне, где требовался бабушкин опыт, украшали окорока, глазуровали телячьи ножки, заливали в желе маленьких осетров, выкладывали на блюда семгу и всячески украшали ее, раскладывали икру, маринованные грибы, соленую селедочку и прочие закуски. Бабушка с помощницами Дуней и Грушей работала споро, сосредоточенно. Ее умелые руки так и сновали над блюдами.
Так как пасхальные торжества длятся несколько дней, все нужно готовить в больших количествах и передавать Ирише, которая уносила блюда наверх, в буфетную — длинную узкую комнату, примыкавшую к столовой. В этой комнате был люк. Ступени вели в холодную кладовую, вдоль стен которой тянулись каменные полки. Туда ставили блюда, приготовленные впрок.
Поздно вечером подготовка к празднику достигла своего апогея — был накрыт стол. В центре его возвышалась пирамида крашеных яиц — красных, золотых, голубых, зеленых; она царила над столом. Вокруг пирамиды располагались всевозможные блюда: нежно-розовые окорока, сливочно-мягкая телятина, черная и красная икра, «пасхи», куличи, ромовые бабы. И наконец — пылающие цвета ликеров и различных сортов водки. Завершающий штрих в оформление праздника вносили вазочки с голубыми гиацинтами.
До сих пор запах гиацинтов неизменно вызывает у меня воспоминания о богатстве пасхального стола. Таких пасхальных пиров будет в нашей семье немного. С каждым годом они станут все скромнее и под конец исчезнут совсем.
Последние часы поста подходили к концу, и наша семья начинала готовиться к полуночной службе о Воскресении. Дома осталась только бабушка, которая должна была встретить всех после церкви. Я, страстно желая пойти в церковь вместе со всеми, выпросила обещание, что если пойду спать пораньше, то меня разбудят и возьмут с собой. Заручившись этим твердым обещанием, я отправилась в постель и тут же крепко заснула.
Мне снится, что по дому ходят какие-то посторонние люди. Голоса кажутся знакомыми, но я не узнаю их. И вдруг появляется мама и стоит в ногах моей кровати. Она в красном платье, украшенном бежевым кружевом, и держит пасхальное яичко. Мама такая красивая! Мне хочется, чтобы сон продолжался. «Я не хочу идти на службу», — говорю я. Мама смеется и склоняется надо мной. «Христос воскресе», — говорит она со своим милым акцентом. Я открываю глаза. Это правда: мама целует меня и подает мне пасхальное яичко. Позади мамы — отец.
— Христос воскресе, моя дорогая, — говорит он и берет меня на руки.
— Где Гермоша? — спрашиваю я.
— Он спит, — отвечает папа.
Оказывается, бабушка давно знала, что родители приедут к пасхе, но ей хотелось сделать мне сюрприз, чтобы это был пасхальный подарок. Они должны были приехать днем, но выехали из Санкт-Петербурга раньше и приехали, когда я спала. Я ничего не слышала, и пасхальная служба уже кончилась.
Отец понес меня в столовую. Здесь собрались за столом наши друзья и родные. Все целуют меня, говоря: «Христос воскресе, Женечка!» — и я отвечаю, как меня учили: «Воистину воскресе».
Потом меня укладывают спать. Утром, проснувшись, я вижу своего младшего брата, сидящего в ногах моей кровати. Мы оба смеемся.
В первый день пасхи Марина, Юра, Гермоша и я отправляемся в церковь звонить в колокола. В это время детям и вообще всем кто пожелает разрешается взбираться на колокольню и звонить. Я веду Гермошу по крутым ступенькам. Наверху другие дети уже дергают изо всех сил за веревки. Когда наступает наша очередь, Марина присоединяется к нам и уверяет, что слышит звон. Я тороплюсь принести домой эту счастливую весть, что Марина не совсем глухая, что она слышит некоторые звуки. Но дедушка объясняет, что Марина не слышит колоколов, а только чувствует их звуковые колебания.
В дом все идут и идут родственники и друзья. Все приносят пасхальные яйца, и гора их растет. Некоторые яйца шоколадные, другие покрыты сахарной глазурью, некоторые из дерева или тонкого фарфора, но в большинстве это обычные вареные яйца, раскрашенные многоцветными узорами.
Дядя Володя, может, чуть трезвее обычного, принес сестре простое яичко, полностью расписанное прелестными полевыми цветами. Крошечные цветы, точные в малейших деталях, исполнены тонкого мастерства. Бабушка растрогана. Дядя Володя угостился и, как обычно, тихо исчез, никем не замеченный.
Пришел дядя Митя.
— Христос воскресе, Женечка! — крикнул он мне и, высоко подняв, трижды поцеловал.
— Воистину воскресе, — робко ответила я, чувствуя себя так, будто меня обнимает огромный медведь, одетый в красную шелковую рубаху и бархатные штаны.
Все кормилицы, конечно же, тоже здесь, пришли из разных деревень, принесли маленькие подарки, каждая — своему питомцу. Серафима, выкормившая моего отца, подарила мне и Гермоше по деревянному пасхальному яичку, окрашенному в алый цвет. Когда его откроешь, в нем обнаружится другое, и так дальше — несколько яичек разного цвета, каждое меньше предыдущего. Последнее крошечное яичко было размером с земляной орех.
Вручив нам подарки, обменявшись пасхальным приветствием со всеми членами семьи, Серафима все свое внимание перенесла на отца. Оставшееся время она просидела рядом с ним, называя «сынком», задавая множество вопросов, вела долгий серьезный разговор, часто чокаясь с ним вишневой наливочкой. Казалось, что для нее больше никто не существовал.
Наступила весна. Река потеряла свою девственную белизну, снег на ней почернел. Посредине появилась темная ленточка чистой воды, которая все расширялась. Вдруг, словно охваченная диким гневом, река начала ломать свои оковы. Обломки льда, уносимые пенящейся водой, помчались к морю. Со все нарастающей скоростью, наползая друг на друга, поднимаясь почти вертикально и падая вниз, сталкиваясь и рассыпая дождем ледяные осколки, льдины неслись, увлекая за собой все, что было на пути, уничтожая любое препятствие. На поверхности некоторых льдин можно увидеть следы саней, мусор и воткнутые кружком елки, обозначавшие прорубь, где еще недавно женщины полоскали белье.
Постепенно скорость ледохода замедлялась. Сверкая на весеннем солнце, река теперь спокойно несла свои воды. Отдельные небольшие льдины, как лебеди, плыли вслед тем, что уже исчезли за Соломбалой.
Еще на прошлой неделе царили морозы и мела вьюга, а на этой — наступила весна. С крыш съезжают и падают на тротуары огромные глыбы снега. Сугробы съеживаются и исчезают. Слышно веселое журчание ручейков под деревянными мостовыми. Повсюду слякоть, к реке мчатся потоки талой воды. Улицы превращаются в болото, пока солнышко не высушит их.
В саду сквозь тающий снег пробивается трава. У ступенек беседки компания голубых сибирских анемонов кивает солнцу своими изящными головками. Нежная зелень оттеняет черные ветви берез. На черемухах набухают почки.
В доме выставляют внутренние рамы, и в окна врывается уличный шум. Глухое молчание зимы кончилось. Негромкое поскрипывание полозьев на снегу сменилось грохотом колес по мощеным улицам. В ушах звенит от пронзительного чириканья воробьев, вороньего грая и взволнованного лая собак, которые от радости упражняются просто так, без причины. Ранний крик петуха будит весь дом. Вместе с курами он переведен из темной зимней обители в более благоприятное жилище и свободно бродит по двору. Куры, как изысканные дамы, гуляют на цыпочках, ступают осторожно, высоко поднимая ноги над первой травой подсыхающей лужайки. Они моргают на солнышке своими янтарными глазами, издавая особые грудные звуки довольства жизнью.
Есть такая поговорка: «Пришла беда — отворяй ворота». Вскоре после приезда родителей я заметила, что между ними появился какой-то разлад. Стали частыми споры, перепалки, после которых мама горько плакала и глаза у нее припухали. Я не задавала вопросов. Трагическую правду их взаимоотношений я тогда не могла понять, и только спустя много лет она мне стала ясной.
Мой отец был благородным, слишком доверчивым человеком, и его мог растрогать любой, поведав историю своей судьбы-злодейки.
Чуть больше года назад отец познакомился с приятным господином по имени Ганнеман, приехавшим из Риги. Отец вообще любил новые знакомства, а тут человек из Риги, где Герман провел большую часть детства и юности. Отец пригласил его в дом и представил маме, но ей Ганнеман сразу не понравился.
В то время лесная промышленность процветала. Отец в партнерстве со своим дядей зарабатывал неплохо. Дядя был опытным дельцом, имел огромный опыт в торговле лесом. Поэтому отец, будучи молодым и не имея достаточных практических знаний, должен был считаться с его мнением.
Однажды вечером, сидя с отцом в клубе за рюмкой, Ганнеман как бы ненароком посоветовал отцу построить собственную лесопилку. Сначала отец пропустил это предложение мимо ушей. Но чем больше он слушал Ганнемана, тем больше ему нравилась идея стать хозяином собственного завода. Ганнеман казался знающим человеком, кроме того, имел знакомых, у которых за умеренную плату можно приобрести оборудование и которые помогли бы купить землю и построить здание лесопилки. В общем, единственное, что нужно было для осуществления проекта — это деньги.
Воодушевленный блестящими надеждами, отец пришел домой и поделился этой идеей с мамой, но она, имея здравый и ясный рассудок, твердо верила поговорке, что синица в руках лучше журавля в небе, и была вполне довольна тем, что имела. У родителей был неплохой доход, и большего желать не стоило. Зачем эти игры?
Разочарованный непониманием жены, отец пошел к матери. Бабушка в ужасе воздела руки. Через несколько лет, сказала она, дядя, вероятно, сам отойдет от дел, тогда отец станет во главе предприятия и будущее его обеспечено, так же, как и его сына. Кроме того, отцу будут принадлежать и этот дом, и земля, и все, что ему отписано по праву старшего сына.
Разочаровавшись в бабушке, отец поговорил еще с дядей, но мой двоюродный дядя и крестный отец даже не стал терять время на бессмысленные уговоры. Он просто предупредил отца, что если тот ввяжется в авантюру и возьмет свою долю из дела, то лишится права участвовать в деле, полученного им от отца, и пусть еще считает за счастье, если впоследствии займет самую низкую должность.
Давно известно: если человек решил поступить так, а не иначе, уговоры бесполезны. Он слышит лишь то, что хочет слышать, и отвергает все, что не соответствует его желаниям, все равно поступит по-своему. Детали последовавшей катастрофы скрыты в тумане времени. Я знаю только, что отец забрал свою часть наследства и потерял право на участие в деле, где его заменил Адя, сын дяди. Отцу оставили крошечную должность, лишавшую его какого бы то ни было права голоса в управлении делами. Собственный завод не получился, спасти удалось лишь малую часть состояния, а Ганнсман скрылся.
Влияние этой трагедии на уклад жизни нашей семьи было огромным. Моего отца сломили предательство человека, которому он доверял, сознание собственной глупости и в довершение всего — потеря прежнего положения и надежд на будущее сына. Отец совершенно переменился. Из добродушного, жизнелюбивого Гермоши он превратился в хмурую личность, не воспринимавшую шуток. Теперь он их слышал часто, и не только от моей мамы, но и от своей тоже.
Мы расстались с домом на Садовой. Всю нашу мебель и вещи перевезли в дом на Олонецкой улице. Отдельные вещи расставили по всему дому, а фарфор, серебро, безделушки упаковали в ящики и унесли в подвал. Никогда прежде я не видела, чтобы мама так горько плакала, как в тот день.
А потом мы с тоской смотрели, как уводят за ворота нашу кобылку Плутовку. Она была больше не нужна, и ее решили продать. Плутовка была маминой любимицей, и даже в глубокой старости мама вспоминала ее.
Моя мама была лишена амбиций, и в то же время она не выносила глупости. Мама никогда не стремилась иметь больше, чем имела, и большой дом, который однажды мог стать ее собственностью, не привлекал ее. Все было слишком большим: дом, участок, сад, постоянные гости и жизнь на широкую ногу, но мама не видела в этом своего места, тем более не мечтала управлять всем этим. Она предпочитала более замкнутый образ жизни.
Дом на Садовой улице был ее домом, а теперь это понятие утратило для нее смысл. В доме, где все шло заведенным бабушкой порядком, ей нечего было делать. Мама начала чаще выезжать, знакомиться с новыми людьми, принимать все приглашения. Мои родители все более отчуждались друг от друга.
В один из дней мы с Сашенькой отправились сдавать вступительные экзамены в Мариинскую гимназию. В зале, где собрались девочки моего возраста, каждую сопровождал кто-либо из взрослых. Царила атмосфера нервного ожидания. Появилась учительница и, выкликнув наши фамилии, повела нас в просторный класс. Там нас рассадили за отдельные парты, и экзамен начался. Сначала дали диктант. Своим ужасным почерком я старалась изо всех сил, как-то умудряясь поспевать за размеренной диктовкой. Листки собрали и положили перед нами другие. Наступил черед арифметики.
Некоторые примеры показались мне очень трудными, но с тайной помощью своих десяти пальцев я справилась с ними, и мы вернулись в зал, где нас немедленно обступили нетерпеливые сопровождающие. Сашенька забросала меня вопросами, и, кажется, мои ответы ее обрадовали.
После примерно двадцатиминутного перерыва нас повели наверх в большой зал для последнего экзамена по Священному писанию. На этот раз сопровождавшим нас взрослым разрешили присутствовать и сесть вместе со своими питомцами на стулья, стоящие вдоль стен. На другом конце зала, за длинным столом, сидела группа людей, среди них священник и директриса. На столе стояла коробочка с маленькими, свернутыми в трубочку листочками бумаги.
Фамилии девочек называли в алфавитном порядке. Чем больше я наблюдала, тем сильнее боялась. Наконец я услышала свою фамилию и подошла к столу. Нужно было вынуть из коробки один листочек и прочитать написанное вслух, громко и четко, чтобы все слышали. Я сделала, как велели. И все! Я не имела ни малейшего представления, о чем вопрос, поняла лишь, что он относится к Марии. Последовало гробовое молчание — все глаза смотрели на меня. Вдруг из глубины зала выступила черная фигура Сашеньки с властно поднятой рукой. Голосом, не допускавшим возражений, она заявила: «Этот вопрос не для семилетнего ребенка. Никто в ее возрасте не может понять смысл того, что стоит за вопросом».
Последовало короткое оцепенение и торопливая консультация, после которой Сашеньке объявили, что ее возражение принято и мне разрешается сделать еще одну попытку. Я вытащила еще один билет из коробочки и прочла вопрос. К огромному моему облегчению, я знала его и ответила правильно.
Экзамен кончился. Всю дорогу домой я танцевала и прыгала по деревянному тротуару. Уроков больше не будет! Сашеньки не будет! Не будет шлепков по рукам! Я свободно буду играть с братом в саду, бегать на речку, барахтаться в воде с приятелями и учиться плавать, ведь вода в реке и валуны, нагретые солнцем, уже теплые.
В июне в Архангельске нежные белые ночи, солнце почти не заходит. Люди гуляют по набережной и в парках, оркестры играют допоздна. Из-за Соломбалы снова появляются корабли, а рыболовецкие суда на всех парусах торопятся в море. На островах опять устраиваются полуночные пикники, и над рекой слышны голоса.
Мой дядя Саня принимал участие в этих полуночных вылазках, составлявших часть его веселого времяпрепровождения. Но теперь, когда наступили белые ночи, они добавили некую сумасшедшинку, как последний штрих, к его вечеринкам. Завернувшись в полотенца, его гости спускались к реке, барахтались и плавали, пока не трезвели, перед тем как разойтись по домам.
Однажды очень ранним утром меня разбудили возбужденные голоса во дворе. Я подбежала к окну. Рядом с воротами четверо мужчин держали за углы простыню, на которой лежало тело голого человека. Они подкидывали его вверх. Этим старинным русским способом они пытались оживить утопшего.
Появился полуодетый дедушка и приказал опустить тело на траву. Встав на колени, он начал делать ему искусственное дыхание. Дед долго работал изо всех сил, до полного изнеможения, пот струился у него по лицу, пока не прибыл другой доктор и не сменил его. Гости дяди Сани и он сам стояли вокруг, беспомощно наблюдая. На травянистом склоне, все еще завернутый в полотенце, обхватив голову руками, сидел, сотрясаясь всем телом от рыданий, Петя Емельянов. Это его отца пытались вернуть к жизни доктора.
Петин отец не был склонен к безудержному веселью. Он с сыном зашел к дяде Сане случайно и оказался вовлеченным в компанию. Когда ранним утром решили идти на реку, он пошел со всеми. В свое время отец Пети был прекрасным пловцом, и пока все плескались на мелководье, он заплыл на глубину. И тут внезапно у него начались судороги. Дядя Саня и его друзья, сразу протрезвев от испуга, вытащили отца Пети на берег, но было слишком поздно.
Прибыла полиция, затем они приезжали еще раз и задавали много вопросов. Вся семья была потрясена этой трагедией. Отец, который всегда был очень дружен с братом, принял сторону бабушки, обвинявшей Саню в безрассудном поведении.
Несколько недель спустя Саня съехал с квартиры и снял дом на соседней улице. Туда он привел молодую экономку, выполнявшую все его желания. Я сожалела, что Саня уехал от нас, хотя он регулярно приходил в дом. Через некоторое время неприязнь между ним, бабушкой и братом исчезла. Саня был добрый малый, на вид слегка рассеянный. Меня он всегда тепло приветствовал, когда я заходила к нему.
Обычно дядя Саня читал книгу или газету, растянувшись на большом, обитом вылинявшим ситцем старом диване. У него жил огромный, похожий на тигра кот, чьи янтарные глаза неотрывно следили за множеством белок, которых держал дядя Саня. Эти пушистые хвостатые зверьки носились по мебели, щелкали орешки, выставленные на столе, оживленно цокали и развлекались, бегая вверх-вниз по стенам, сдирая с них полоски обоев. А еще у него в большой клетке жили черноклювые, красногрудые снегири. Временами дверка их жилища оставлялась открытой, и птицы вылетали, чтобы искупаться в плоском блюде на столе. Радостно щебеча, они плескались, разбрызгивая вокруг воду.
Когда дядя Саня уехал, его белки, птицы и кот уехали с ним. В квартире стало пусто и тихо.
Лето 1913 года было необычайно жарким. Все окна были открыты, но занавески не шевелились, а на зеркальной поверхности реки — ни единой морщинки. Даже ночь не приносила прохлады. Слуги вынесли матрасы из дома и спали под навесом сеновала.
Я помню, как проснулась рано утром от слепящего солнца, лившегося в детскую (почему-то шторы в ней никогда не задергивали). С улицы доносился шум телег, спускавшихся к реке, а на стене детской появлялись, плыли и исчезали странные тени. Некоторое время я тихо наблюдала за ними, а потом решила разбудить брата, крепко спавшего в маленькой кроватке рядом со мной.
— Что за тени? — спросил он, уверенный, что я отвечу на любой вопрос.
— Это отражения маленьких человечков, возвращающихся в горы.
— В какие горы?
— В свои особые, — твердо сказала я и, прежде чем он задал следующий вопрос, предложила выйти в сад.
Мы оделись и на цыпочках пробрались через спящий дом.
Я отчетливо помню радость того раннего утра, приветственный хор птичьих голосов, сверкающую росу, покрывшую газон, алый ковер под старым бальзамическим тополем — это были опавшие тополиные сережки. Мы собирали душистые сережки, прижимали их к лицу, вдыхая аромат, а потом разбрасывали на траве и гонялись друг за другом, пока не устали.
Неподалеку виднелись обсаженные боярышником и дикими розами каменные ступени, которые вели в беседку. Наружная дверь распахнута. Внутри лишь дачная мебель: простой стол, несколько стульев, в стеклянной горке — чашки и блюдца, а сквозь цветные ромбовидные стекла готических окон радужными потоками струился свет.
— Смотри, Гермоша, — позвала я, разглядывая сад через красное стекло, — он весь в огне!
— Взгляни через это лиловое стекло! — кричит он в ответ. — Все темно, и баба Яга прячется в кустах.
Возбужденные, мы бегали от окна к окну, видя сад в различной расцветке: зловещей темно-зеленой, золотисто-желтой, когда деревья, цветы, бабочки и даже птицы превращаются в живое золото. Все было чудесно и таинственно.
Наружная лестница вела на площадку над комнатой. Здесь, на восточной стороне, вершины деревьев были вровень с низким парапетом-балюстрадой. Белые кисти рябин и душистые соцветия черемухи свешивались через ограждение на площадку.
Затем мы влезли на башню. Отсюда был виден ослепительный простор Двины, текущей на север, острова напротив сливались в сплошную береговую полосу. Внизу мы увидели бабушку, склонившуюся над цветочной клумбой, и поспешили к ней, вниз. Подошло время завтракать.
Мы направились домой и тут заметили старика, шедшего нам навстречу. Он был одет в выцветший мундир гражданского служащего, тощая борода торчала в разные стороны, а из-под фуражки на плечи падали белоснежные волосы.
Бабушка остановилась и вдруг побежала. «Ваня, Ванечка, — закричала ома, обнимая старика, и слезы текли по ее лицу. — Я всегда знала, что ты вернешься, всегда знала!».
Весть о возвращении дяди Вани быстро распространилась среди родни. К полудню его дочери, Лидочка и Людмилушка, их дети и тетя Пика разом приехали из Соломбалы. Таня была уже здесь. Пришли дядя Митя и дядя Володя. Но все немного удивились, когда появилась бывшая жена дяди Вани Оса. Довольно сухо пожав ему руку и выразив надежду, что ему не стало хуже от долгих странствий, она заняла свое обычное место за столом.
Дядя Ваня, и раньше не очень разговорчивый, сидел и робко улыбался. Все разговоры вела Таня. Оказалось, что вчера, когда она готовила обед, папочка вошел в дом и тихо уселся за стол. «Как будто никуда не уходил», — закончила она.
Занимательный переход дяди Вани через Сибирь принес ему прозвище «Сибиряк», и с этого дня его называли только так. Он был мягким и глубоко верующим человеком, любил животных, птиц, деревья и цветы. Я никогда не слышала, чтобы дядя Ваня рассказывал о своих странствиях. Только однажды он высказал свое мнение, что «великая матушка Волга», о которой поется так много песен, уступает по красоте нашей Двинушке-реке с ее кристально чистой водой. И еще рассказал о поразительно красивой весенней калмыцкой степи, когда огромное, неохватное взглядом пространство превращается в цветущий ковер. «Но, — добавил он печально, — это многоцветье длится недолго и вскоре выгорает под безжалостными лучами солнца, превращаясь в сухую шуршащую траву».
Он подарил бабушке семена и луковицы, которые собрал в Сибири. Она высадила их в саду, и они цвели потом из года в год. Всем остальным он раздал деревянные крестики, иконки и сувениры из разных монастырей.
В тот день, когда мы все собрались за круглым столом, отцу пришло письмо. Он нетерпеливо разорвал конверт и пробежал глазами листок. «Наша Женя, — объявил он, — выдержала экзамен и принята в Мариинскую гимназию». Все меня целовали, а Сашенька получила особую благодарность. Отмахнувшись от похвал, она заметила: «Неисповедимы пути Господни. Это чудо!».
Чудо или нет, но меня приняли. На следующей неделе пришла Настенька, наша портниха, чтобы снять с меня мерку для школьной формы.
Вслед за возвращением домой дяди Вани из Шотландии приехала грэнни, а из Индии — дядя Генри. Мама не видела брата восемь лет. Их сопровождал Павел Петрович, пчеловод, приехавший, чтобы присмотреть за пчелами, пока дедушка, Марга и Сережа отдыхали в Крыму. Грэнни, ставшая опытной путешественницей, приехала через Санкт-Петербург, где они встретились с дядей Генри. Он прибыл более сложным путем: морем во Владивосток, а затем через всю Россию по Транссибирской железной дороге.
Нелли была счастлива вновь увидеться с матерью и братом Генри. Разлука была довольно долгой, и она не могла наговориться с ними, в перерывах слушая новости из Шотландии. Что до дяди Генри, все наши друзья и родные сразу полюбили его. Он был молод, хорош собой, жизнерадостен, одевался в прекрасно сшитые тропические костюмы, но главное — он был великодушен и дружелюбен. Слуги соперничали за право почистить ему ботинки и принести горячую воду утром в ванную. Гермоша и я всюду ходили за ним следом, куда бы он ни шел. Как когда-то дядю Стефена, его тоже приглашали во все дома.
Путешествие вверх по реке на несколько дней было организовано на одном из самых роскошных пассажирских пароходов-колесников. Отправились все, включая бабушку. Погода была прохладной. Пароход следовал за мягкими изгибами берегов. На пристанях босоногие детишки окружали нас, предлагая корзинки с дикой земляникой. Вечером мы ели эти душистые ягоды со сливками.
Для нас, детей, путешествие было потрясающе интересным. Мы наблюдали за пенным шлейфом от колес, швартовкой судна к причалу и забавными сценками, которые происходили, когда пестрая толпа с узлами и корзинами поднималась по трапу на нижнюю палубу.
В Архангельск мы вернулись к празднику в Летнем саду, который проводился с какой-то благотворительной целью. Прежде чем отправиться на праздник, мы решили по настоянию бабушки сфотографироваться на память о приезде грэнни и дяди Генри в Архангельск. Фотографирование затянулось (Юра настаивал, чтобы в кадр попал его велосипед), и когда мы пришли в Летний сад, праздник почти закончился. Прилавки были пусты, за исключением одного, где стояла огромная кукла. Я таких раньше не видела и спросила папу, не сможет ли он купить ее мне. Тут вмешался дядя Генри и сказал, что эта кукла будет его подарком мне. К сожалению, кукла не продавалась, а разыгрывалась в лотерею. Разочарованный, он купил несколько оставшихся билетов, и мы пошли гулять по тенистым аллеям сада, направляясь к сцене, где играл оркестр. Мы нашли свободный столик, где и устроились, лакомясь вафельными трубочками со сливками и слушая музыку. Кто-то подошел к нашему столику и поздравил меня с выигрышем куклы.
— Ну, что я тебе говорил! — счастливо засмеялся дядя Генри.
С триумфом я несла куклу домой, а так как на ней были лишь башмачки и розовая сорочка, я завернула ее в шаль и уложила в колыбельку. Через несколько дней она таинственно исчезла. На мои вопросы я получала уклончивые ответы: вероятно, кукла пошла заказывать одежду…
Но я как-то быстро забыла о ней. Меня отвлекли другие события. Мы ездили в город покупать книги, школьный портфель, пенал, тетради и прочие вещи, очень важные для человека, начинающего свой первый школьный год.
В день отъезда грэнни и дяди Генри мы все поехали в экипаже в порт. Нам разрешили подняться на судно. В другое время мы, дети, носились бы по палубам, но сегодня в воздухе словно повисла какая-то печаль, которая передалась и нам. Когда мы попрощались и нужно было спуститься на берег, мама прильнула к грэнни и горько зарыдала. И грэнни тоже, потеряв обычное самообладание, заплакала. В глазах дяди Генри стояли слезы, когда он обнимал нас и жал руку отцу. Прошло семь лет, пока я снова увидела грэнни, а с дядей Генри мы никогда больше не встретились.
Дом опустел. Дедушка, Марга и Сережа все еще были в Ялте, Марина уехала в Финляндию навестить мать, тетю Ольгу, а Юра остался погостить у своих друзей, живущих выше по реке.
Когда мы вернулись домой, мама ушла в спальню и, бросившись на кровать, отвернулась к стене. На следующий день я заметила, что в ней произошла перемена. Мама стала какой-то отсутствующей. Когда мы с Гермошей играли в саду или ловили в пруду головастиков, она сидела и молча смотрела на нас. Мама часто ходила в город, иногда с нами, но чаще одна, в магазины или в гости к друзьям. Почти всегда она приносила небольшие свертки — коричневые ленты для моей формы, чулки, перчатки, носовые платки и разные маленькие подарки для меня.
Через три недели после отъезда грэнни мама пришла из города и подарила мне толстую плитку шоколада. Ясно помню имя изготовителя — Жорж Борман, написанное золотыми буквами на голубой обертке. Она подошла к шкафу и, вынув мою школьную форму, попросила меня примерить ее. Это была обычная для всех гимназий коричневая форма простого покроя: платье с приталенным лифом, воротничком-стойкой и юбкой в складку. Поверх платья надевали черный фартук из люстрина — может, немного мрачновато, но аккуратно и практично.
Мама застегнула платье на спине, заплела мои непослушные волосы в две косы, завязала банты и велела встать посреди комнаты. Ей хотелось посмотреть, как я выгляжу в новом наряде. Мне это очень понравилось, и я сделала перед ней несколько пируэтов. К своему удивлению, я вдруг увидела, что она рыдает, закрыв лицо руками.
— Почему ты плачешь, мама? — спросила я, чувствуя комок в горле.
— Ничего, — сказала она, отворачиваясь, — просто так.
Вошла Капочка. Она держала в руке небольшой сверток с воротничками из английских кружев, которые нужно было носить поверх стоячего воротничка моей формы.
— Елена Августовна, — обратилась она к маме, — Настенька только что принесла новые воротнички. Хотите, я пришью один прямо сейчас?
— Нет, Капочка, — ответила мама, — я сделаю это сама.
Капочка оставила сверток и вышла.
Я сняла платье и отдала маме. Она вдела нитку в иглу и, присев на край кровати, начала шить с глубокой сосредоточенностью.
Кончив дело, мама подала мне платье, чтобы я повесила его в шкаф. Видя, как я возилась с плечиками, она подошла помочь мне и вдруг обняла, крепко прижала к себе и поцеловала. «Ты будешь в нем очень красивая», — сказала мама, и я снова увидела, как слезы навернулись у нее на глаза. Но не успела я сказать что-либо, как она выбежала из комнаты. С этой минуты я не видела ее и моего младшего брата целых два года.
Мама уехала в Санкт-Петербург — город, который она очень любила. С ним у нее были связаны счастливые воспоминания. Она поселилась у Сабининых, давних друзей (глава семьи был уроженцем Архангельска). Сабинины подружились с моими родителями, когда те гостили в Санкт-Петербурге. У них же гостили грэнни и дядя Генри.
Я не знаю, когда мама решила уехать, но подозреваю, что после отъезда грэнни и дяди Генри. Разочарованная и обиженная на отца, который, не слушая советов, ринулся в авантюру, закончившуюся крушением всей их привычной жизни, она, вероятно, надеялась, что мать и брат помогут решить ее проблемы. Но когда поняла, что решения нет, она потеряла голову и решила уехать, может, думала, ненадолго.
Я не корю мать за то, что она так рассталась со мной. Долгое прощание очень болезненно. Она знала, что я остаюсь в надежных руках, и понимала, что планы в отношении моего образования менять нельзя. Кроме того, я думаю, мать понимала тогда, что я уже полностью вросла в эту семью, в этот образ жизни, привыкла к дому и не смогла бы жить в Санкт-Петербурге.
Отец решил вопрос о денежном содержании мамы, но поехал в Санкт-Петербург просить ее вернуться. Поездка была напрасной. Полгода спустя бабушка, не ссорившаяся с мамой, навестила ее по дороге к тете Ольге в Гельсингфорс. Перед отъездом она почти пообещала мне, что привезет маму и Гермошу. Я очень мечтала об этом, но они не появились.
Осень на Севере холодная и короткая. Бабье лето не посещает нас, чтобы порадовать перед приходом зимы. Ветер воет и бьется в окна, носится в облетевшем саду, сердито срывая последние листья, прильнувшие к ветвям. Плотно обложенные тучами небеса безжалостны: мелкий дождь непрестанно сыплется с небес, превращая дорожки сада в болото. Дни темные и унылые.
Но вскоре все меняется. Приходят холода, а за ними первый снег, укрывающий всю грязь и слякоть.
Зима еще не наступила, когда однажды Капочка разбудила меня раньше обычного. Начинались мои школьные дни. Капочка помогла мне одеться, заплела косы и завязала банты. В столовой на круглом столе весело напевал кипящий самовар. Юра в безукоризненном черном мундире, тщательно причесанный, уже сидел рядом с Мариной. Бабушка, еще в халате, занята приготовлением кофе на маленькой спиртовке. Дедушка по утрам всегда пьет кофе, и бабушка никому не позволяет готовить его.
Вошел полусонный Сережа. Последней, конечно, была Марга, теперь уже ученица последнего класса. Девушкам в гимназии позволяют высоко зачесывать волосы и носить серые платья. Маргочка очень тщеславна и постоянно любуется собой в зеркале, висящем напротив стола. У нее красивые руки, которые никогда не занимаются чем-то неприятным, ведь грязная работа вредна для таких нежных изящных ручек. Капочка в то памятное утро сидит у самовара, передавая нам чашки, но я, охваченная волнением, почти не могу ни пить, ни есть — даже белую булочку, которую очень люблю.
Перед самым выходом из дома бабушка подошла благословить меня. «Ты в начале дороги — да пребудет с тобой Господь», — сказала она.
Гимназия находилась в получасе ходьбы от нашего дома, но в то утро Капочка и я отправились туда в маленьком экипаже.
В школе меня отвели в мой класс. Капочка быстро поцеловала меня, незаметно перекрестила и ушла. У дверей класса стояла наша директриса Наталья Павловна. Девочки делали ей книксен, а она в ответ говорила несколько слов приветствия каждой из нас.
В классе Лидия Николаевна, наша классная дама, встречала прибывающих. Нас построили парами. Все чего-то ждали. Прозвенел звонок, пронзительный и громкий, как сигнал тревоги, и нас повели из класса по коридору и потом наверх по лестнице в зал. Другие классы тоже, один за другим, последовали за нами.
Наверху, в большом зале, узкая ковровая дорожка вела к алтарю, где стоял в ожидании начала службы священник. Классы встали по обе стороны дорожки, каждый на свое место, в строгом порядке. Вдали справа я успела заметить мою розовощекую высокую тетушку с аккуратно уложенными на макушке волосами. Она стояла среди старших девочек, одетых в серое. Позади наши учителя и классные дамы, все в синих форменных платьях.
В этот момент девочки, поющие в хоре, вышли из строя и заняли свои места на возвышении. Последовала краткая служба в сопровождении нежного пения хора, после которой, следуя короткой команде, все ученицы повернулась к учителям и сделали книксен. Затем, соблюдая строй, разошлись по классам. Эта официальная церемония повторялась каждое утро.
В классе нас рассадили по партам. Каждая парта, поделенная пополам посередине, предназначалась двум ученицам. Моя соседка Ванда Дербут — полька, рыжеволосая девочка с тонкими чертами и гордым выражением лица. Мы очень подружились. Она была дочерью высокопоставленного военного, который (странное совпадение!) раньше жил в доме, где я родилась. Так потекли мои школьные дни.
Хорошо помню, как Капочка легонько трогает меня за плечо и говорит: «Пора вставать, Женя». За морозными стеклами кромешная тьма. После торопливого завтрака начинаются сборы в короткое путешествие. На толстые чулки надеваются валенки, шаль обхватывает щеки и перекрещивается на груди, поверх нее меховая шапка, крепко завязанная на подбородке, варежки, прикрепленные к тесьме, продетой в рукава, и, наконец, тяжелая шуба. Бабушка всякий раз проверяет, чтобы шаль закрывала горло — самое уязвимое, по ее мнению, место.
На улице нас ждет Михайло. Его кобыла нетерпеливо помахивает гривой. Мы вчетвером забираемся в сани, из которых выпрыгиваем у дверей своих гимназий. Сняв теплые вещи и переодевшись в легкие туфли, я присоединяюсь к моим одноклассницам, и мы ждем звонка, собиравшего нас на утреннюю молитву.
Между уроками две перемены. В это время нам разрешают покупать калачи, выставленные в буфете. Возможности для игр нет: не позволяют погодные условия, и мы гуляем по залу или едим свои булочки, сидя за партами. Иногда, стоя у широких окон, мы играем «в камушки». На подоконник выбрасывается пять маленьких камушков; один подбрасывают, и пока он в воздухе, игрок должен схватить как можно больше камушков и успеть поймать летящий вниз.
В первый мой учебный год уроки заканчивались в половине второго, в субботу тоже занимались. Во время особенно суровых морозов, если температура опускалась до минус 22 градусов, занятия отменялись. Тогда на высоких зданиях государственных учреждений поднимали флаг — сигнал, что гимназии закрыты.
Часто, когда меня рано будили, прерывая сладкий сон, я с надеждой спрашивала, не подняли ли флаги, и чаще всего получала ответ: «Нет, Женечка, сегодня не так уж холодно».
Не то чтобы я не любила гимназию — напротив, я очень ее полюбила. Я была «стадным» существом, мне всегда нравилось быть в коллективе.
Что касается учителей, я, естественно, выделяла некоторых. Наша директриса Наталья Павловна была всеми уважаемой и приятной дамой. Маленькая, пухленькая, седые волосы заколоты высоко на голове, всегда в идеальном синем платье с аккуратным воротничком, она полностью посвятила себя нам, своим ученицам. Ее глаза, добрые и задумчивые, словно глядели тебе в душу, понимая твои печали и неудачи. В то же время она не терпела глупостей и ждала от нас определенного послушания.
После утренней молитвы она имела обыкновение стоять на лестничной площадке недалеко от зала. Слегка улыбаясь, она наблюдала процессию из трехсот девочек, проходящую мимо нее. Глаза Натальи Павловны замечали все: несвежий воротничок, неприбранные волосы, украшение — все, что оскорбляло взгляд. Девочке, нарушившей правила, делалось легкое внушение. Дисциплина была очень строгой, установленные правила невозможно нарушить. Нельзя было носить волосы распущенными по плечам, их заплетали в косы, которые, по желанию, можно укладывать на голове и скреплять вместе. Форма должна быть аккуратной и без единого пятнышка, не позволялось никаких украшений, за исключением часов.
Отношения между учителями и ученицами были формальными. Обращаясь к ученице, учитель называл ее по фамилии: Ванда Дербут была только Дербут, Евгения Шольц — только Шольц.
Физические наказания любого рода и в женской, и в мужской гимназиях были чем-то совершенно неслыханным. Обычным наказанием считалось оставить ученика в гимназии после уроков на какое-то время, в зависимости от проступка ученика и настроения учителя. Вероятно, поддерживать дисциплину помогали и родители, так как каждую неделю мы приносили домой дневник, который родители должны подписывать и который мы возвращали в понедельник. В нем записывались замечания и отметки, которые мы получали по разным предметам в течение недели. Туда же ставилась оценка за поведение. Самой высокой оценкой была пятерка. Пятерка с минусом по поведению становилась предметом обсуждения родителей, которые, в случае отсутствия письменного замечания, сами интересовались, что натворил их отпрыск.
Я боялась отца в единственный момент, когда приходилось подавать ему дневник. Увидев оценку ниже тройки, например, по арифметике (которая всегда была моим слабым местом), он не стеснялся в выражениях и холодно спрашивал меня, не хочу ли я уподобиться Настеньке, нашей портнихе, которая была неграмотна.
Оценки были очень важны. Отметки ниже тройки по одному или двум предметам позволяли оставить ученика на второй год, и слово «второгодница» — так называли девочку, оставленную повторять курс — было позорным. Мысль о том, что меня могут разлучить со своим классом, была невыносимой. Она подстегивала меня и помогала переходить из класса в класс благополучно до конца моих гимназических лет.
Учительница французского языка, мадемуазель Зайцева, одетая не в платье, как все остальные учителя, а в синий костюм и белоснежную блузку со складочками, была изящная дама, любившая едко острить на наш счет. Против острот взрослых девятилетний ребенок беспомощен. Поэтому класс не испытывал к ней любви. Она учила нас разным фразам по-французски, что само по себе было хорошо. Вскоре одну из них я выучила назубок, и она до сих пор в моей памяти. У меня появилась привычка в начале урока вставать и с должным уважением в голосе произносить: «Permettez-moi de quitter la classe», на что обычно я получала ответ: «Allez, allez», — сопровождаемый резким жестом руки мадемуазель Зайцевой в сторону двери.
Мне вовсе не нужно было выйти, но десятиминутное отсутствие позволяло укоротить урок и просто доставляло удовольствие. Мне нравилось гулять по коридорам, заглядывая сквозь стеклянные двери в другие классы.
Такие проделки, конечно, не могли продолжаться долго. Однажды, когда я встала, чтобы произнести свою фразу, мадемуазель Зайцева прервала меня: «Тебе не кажется, — произнесла она самым любезным тоном, с иронической усмешкой, — довольно странным совпадением, что твоя потребность выйти в туалет всегда появляется в начале моего урока?». Я не ответила. Она все же разрешила выйти из класса. Откуда ей было знать, серьезны ли причины.
Один раз я гуляла по коридору и остановилась перед подготовительным классом, разглядывая «малышей», как презрительно называли их мы, бывшие на целый класс старше. Дверь внезапно отворилась, и меня втащили внутрь. «Здравствуй и садись сюда, — сказала учительница, указав на свободное место за партой. — К нам пришла девочка, — продолжала она, обращаясь к хихикающим ученицам, — которая никак не может расстаться с нашим классом и хотела бы все начать сначала». Урок длился сорок пять минут, и все это время меня держали за партой и заставляли отвечать на вопросы, пока не прозвенел звонок.
Наши учительницы — дамы, о которых мы знали очень мало — не делали никаких попыток познакомиться с кем-либо из нас ближе. Они просто учили нас, расширяли наш кругозор и воспитывали в нас внутреннюю силу, которая позволила бы нам достойно встретиться с окружающим миром, и мы уважали их за это. Встретив любую из них в коридоре или классе, ученица должна была быстро сделать книксен, но, встречая Наталью Павловну, которая иногда останавливала нас, чтобы сказать несколько слов, мы низко склонялись в реверансе, когда правая нога уходит назад, а на левой медленно приседаешь.
Некоторые учителя вдохновляли нас на творчество, у других не хватало для этого воображения. Например, у нас была Мария Аркадьевна, учительница рукоделия. Почему в краю, где изготовляют чудесные вышивки и кружева, мы весь длинный учебный год трудились над парой грубых панталон для какой-то великанши, делая крошечные стежки, вышивали их елочкой и обметывали петли? Я бросила это занятие на середине и использовала панталоны для полировки медной чернильницы. К концу семестра у меня была самая блестящая чернильница и три с минусом по шитью. Мария Аркадьевна показала мои испачканные чернилами панталоны всему классу и печально сказала мне: «Шольц, из тебя никогда не получится портниха». Я должна сказать, что она тогда глубоко ошибалась.
Одна учительница была на голову выше других — это Мария Осиповна, учившая нас русской грамматике, литературе и истории. Простая, серьезная, с седеющими волосами, забранными в маленький узел, она была талантливым преподавателем. На ее уроках прилежно занимались все, даже самые пустые и ленивые. Мария Осиповна была бесконечно терпелива. Объясняя нам трудные правила русской грамматики, она никогда не употребляла лишних слов, так что все произносимое ею было совершенно понятно. Но на уроках русской литературы она превосходила даже себя. Мы слушали ее затаив дыхание. Мария Осиповна открывала нам мир книг, мир нашей классики, поэзию и прозу Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Она знакомила нас с переводами английских, американских, французских и немецких авторов. В русской культуре литература всегда занимала важное место, особенно в нашем провинциальном городе, где зимние дни пасмурны, а ночи так бесконечно длинны.
Марии Осиповны давно нет, как и других учителей, но если бы я могла с ней встретиться, я бы поблагодарила ее за все, чему она меня научила. Благодаря ей я не забыла русский язык, любимый и живой.
В гимназии в каждом классе была классная дама, так называли классную руководительницу. В большинстве своем эти женщины были заботливые и доброжелательные. Начиная с подготовительного класса они руководили жизнью своих учениц в течение всего школьного периода. Поэтому естественно, что классная дама, ведущая свое «стадо» из года в год, привязывалась к своим девочкам и была им ближе, чем любой другой учитель. В конце курса, без сомнения, они чувствовали пустоту и печаль, когда ученицы уходили из их жизни. Они начинали все сначала, если позволял возраст и другие обстоятельства.
Но наша классная дама, Лидия Николаевна, как оказалось, отличалась от других. Никогда, ни при каких обстоятельствах не показывала она искры интереса или привязанности к своему классу. Лидия Николаевна всего лишь исполняла свои обязанности. Делала она это исправно и старательно. Но и только. Даже наказывая ученицу, оставляя ее после уроков, она была спокойна и равнодушна, не гневалась, не огорчалась.
В последний месяц года морозы усилились и дни стали темнее. Еще в начале осени Михайло, Василий и Яшка спустили с чердака тяжелые рамы и установили их в оконные проемы. Между рамами постелили белую вату и посыпали ее солью, которая теперь сверкала под лучами зимнего солнца. В печах весело потрескивали горящие поленья, распространяя тепло и приятный смолистый запах.
На соседней улице появился маленький домик, куда по трубам была проведена вода. Теперь в щель у окна этого домика можно было опустить монетку, и девушка, сидевшая внутри, поворачивала кран и наполняла бочки, ведра и прочие емкости. Позднее и на нашей улице появилось это новшество, освободившее Михайлу от необходимости ходить на реку за водой из проруби. Это было огромное благо. Прежде водопровод имелся только в государственных учреждениях, гимназиях, больницах и общественных банях.
Я часто слышала, что северяне легко переносят тяготы быта. Это не совсем так. Как бы ни были они трудолюбивы, очень часто ноша оказывается невыносимой, особенно зимой.
Например, тяжкое испытание — стирка, которую проводили раз в две недели. В кухню вносили большой таз на ножках, так называемое «корыто», похожее на овальную ванну с невысокими бортами. Работу начинали как можно раньше, чтобы закончить, пока не угас день. Воду для стирки нагревали в котле, вделанном в плиту, и ведрами выливали в корыто. Женщина со стороны, нанимавшаяся стирать, намыливала белье и терла его, склонившись над корытом, пока не исчезала вся гора грязного белья. Иногда ей помогала наша Груша. Намыленное и простиранное белье укладывали в корзины и выносили к саням, и Михайло вез обеих женщин на реку к проруби, где предстояла самая тяжелая часть работы. Встав на колени и склонившись над бездонной темной глубиной, с краев которой часто приходилось скалывать намерзающий лед, они полоскали белье. Перчаток тогда не знали, защитить руки от страшного холода было нечем. Самой тяжелой работой считалось отжимание простыней, скатертей и полотенец. Однажды я видела, как Груша, стоя в теплой кухне, вся в слезах, пыталась оттереть руки, потерявшие от мороза всякую чувствительность. Замерзшее и твердое как жесть белье нужно было нести на чердак и развешивать. Сушка на чердаке занимала неделю. Потом белье гладили, зачастую весь день, и стопками раскладывали по ящикам шкафов и комодов.
В гости к бабушке зачастил новый член семьи. Дядя Саня и его молодая экономка Шура поженились. Свадьба была скромной. На ней присутствовала только наша семья, и то без меня. Я заболела ветрянкой и осталась дома в постели.
После свадьбы дядя Саня и его молодая жена зашли проведать меня. «Это твоя новая тетя», — сказал дядя Саня. Я подумала, что тетя, в белоснежном свадебном платье и фате с венком из флердоранжа, улыбавшаяся мне, хоть и очень красива, но с мамой все равно не сравнится.
Теперь, когда тетя Шура стала вместо экономки хозяйкой дома дяди Сани, первое, что она сделала, к великому его огорчению, это выгнала всех белок, сдиравших обои, и птичек, летавших по комнатам и пачкавших полы и мебель. Пригласили обойщика, который все заново покрасил и оклеил и вообще привел дом в порядок. От прежнего интерьера остался лишь кот Васька. Дядя Саня, обожавший кота, решительно отказался с ним расстаться.
В начале декабря мне пошел девятый год. Были подарки, а из Санкт-Петербурга пришел пакет, в котором были золотой медальончик и книга. На титульном листе книги по-английски было написано: «Ине, с любовью от мамы». Мама всегда меня так называла. Где-то около моего дня рождения внучка королевы Виктории вышла замуж за короля Испании. Ее часто называли принцесса Ина. Это имя нравилось маме, его было легче произносить, чем Женя. В результате в Шотландии меня всегда звали Ина или Юджиня, а в России я была Женей или Евгенией.
У нас снова Рождество — время встречаться за столом, золотить орехи, привязывать зеленые нитки к елочным украшениям и конфетам. Снова звон бубенцов, въезжающие во двор тройки привозят старых друзей. Запах пряностей, мандаринов и елки окутал дом. В этот год рождественская елка уже не была для меня секретом, я знала, что ее украшают за закрытыми дверями танцевального зала, куда мне по-прежнему запрещают входить. Опять какие-то тайные дела творятся в комнате мальчиков.
В канун Рождества приехало много гостей. Дядя Ваня, наш путешественник-«сибиряк», приехал с семьей. Дядя Саня привез жену Шуру. У тети Шуры был большой живот. Я размышляла, не прячется ли там ребеночек, потому что уже заметила, что за большим животом всегда следует появление младенца. Как он вылезает оттуда, а тем более как попадает туда — тайна откроется мне еще не скоро.
После рождественского обеда свет гаснет, и бабушка, по обычаю, звонит в хрустальный колокольчик. Двери в танцевальный зал открываются — и вот оно снова, это волшебное видение, созданное из горящих свечей, сверкающих украшений, колеблющихся гномов и фей.
Я вошла в комнату. На моем столе сидела кукла, которую выиграл в лотерею дядя Генри. Я уже почти забыла о ней. Но теперь она была не в розовой сорочке, а превратилась в Красную Шапочку, наряженную для посещения бабушки: пышная вышитая юбка поверх нижней — с оборочками, белая блузка, черный бархатный корсаж и алый плащ на плечах. В руках у нее маленькая корзинка, а там — крошечные булочки, бутылочка вина, апельсины, яблоки и салфетка. Кукла отдыхает на траве, а вокруг нее — луговые цветочки. Все задумано очень умно. Кукла знает, что где-то за еловыми ветвями прячется волк. Видна лишь его морда с горящими глазами. Это придумали и тайно смастерили Юра и Сережа, я узнала об этом позже. Помимо лесной сценки были и другие подарки, в том числе маленький комодик с медными ручками! В комодике было все необходимое для куклы: крошечные туфельки, ботиночки, платьица, пальтишки и шляпки.
Кто же все это сделал? Конечно бабушка! На протяжении месяцев, когда меня не было поблизости, она трудилась над шитьем всех этих нарядов, уделяя огромное внимание крохотным деталям. Цветы и травинки были идеальны, ведь к своей работе бабушка относилась очень строго. Позже, когда улеглись впечатления от подарков, мы, дети, снова смотрели картинки волшебного фонаря на стене. Мы видели их год назад, но это не уменьшило удовольствия.
Поздно вечером сани гостей разъехались, мальчики погасили свечи на елке и закрыли двери в зал. Так прошло Рождество 1913 года — последнее Рождество мирного времени. С каждым месяцем мира и покоя становилось все меньше, пока они не исчезли совсем. Навсегда.
Утром нового года меня разбудил Михайло, бросивший охапку дров у печи. «Ну и мороз принес нам новый год», — сказал он, укладывая поленья в печь. Действительно, мороз в то утро был страшный. Над рекой и пустыми улицами плотной ватой висела изморозь. Ничто не шелохнется. Днем мороз еще усилился. Никто не выходил из дома, и никто не приезжал к нам. Гости и бабушка проводили время за игрой в карты, вязаньем, за чаем, в воспоминаниях о прошлом. Мирное начало нового года.
В конце января от нас ушла Ириша, которая служила в семье с того времени, когда у нас появился мой братик. Она вышла замуж. Вместо нее в дом пришла молоденькая девушка Маруся. После короткой беседы бабушка внимательно осмотрела ее со всех сторон, особенно волосы. Бабушка очень боялась, что в дом ненароком попадут вши. Этот страх, иногда становившийся навязчивым, заставлял бабушку прибегать к крайним мерам. Я помню, как однажды наша родственница оставила у нас дочку Варю, а сама ушла за покупками. Бабушка сидела и наблюдала, как мы играем, и вдруг заметила многозначительные признаки на Вариной голове. Бабушка немедленно применила проверенное радикальное средство — помыла ей голову водкой.
По обычаю, соблюдавшемуся во всех домах, Маруся отдала бабушке свой паспорт. Без паспорта прислуга не могла получить новое место. Маруся была очень привлекательна. Ее круглое личико обрамляли темные вьющиеся волосы. Прекрасный цвет лица, огромные карие глаза полны той безмятежности, которую часто можно видеть во взгляде коров, пасущихся на лугу. Она была услужлива, выполняла все, что от нее требовалось, но ее движения были замедленны и недвусмысленны. Вспоминая все сейчас, задним числом, я понимаю, что ее поведение было сексуально многообещающим. Мальчики неизвестно почему окрестили ее Мариеттой. Вскоре после появления ее в нашем доме Юра, талантливый художник, решил писать портрет Мариетты, и она согласилась. Краски и холст у Юры были. Я не знаю, как выглядела бы картина, потому что она так и не была написана. Бабушка, обнаружив Мариетту в спальне, немедленно отправила ее на кухню, а Юре было приказано не заниматься глупостями.
Однако в те дни бабушке некогда было думать о Марусе. Марга заканчивала гимназию и собиралась осенью поступать в Санкт-Петербургский университет. В эту пору девушки из ее класса устраивали балы и вечеринки, на которых они впервые представлялись в свете. Недели не проходило без приглашения Марги на какой-нибудь праздник. Поэтому весь дом вращался вокруг нее. Марге требовалось несколько платьев. Настенька почти не покидала наш дом: кроила, шила, примеряла, подгоняла и переделывала. Капочка, имевшая опыт костюмерши в театральном мире, оказалась еще и прекрасным парикмахером. Она делала прически Марге, которой было очень трудно угодить. Часами Марга сидела перед зеркалом, а бабушка суетилась вокруг нее. И наконец наступил момент, когда Марга сама должна была давать бал. Приглашения ее друзьям во всем городе были вручены лично.
В день бала подготовка началась на рассвете. Цветы из оранжереи были красиво расставлены под каждым высоким зеркалом в танцевальном зале. Марга сама присматривала за тем, как накрывают на стол, раскладывала и снова перекладывала именные карточки перед каждым прибором. Это был ее бал, и семья, за исключением Юры и Сережи, должна была держаться в стороне. Юре были поручены обязанности церемониймейстера.
В начале вечера приехала пожилая дама, Клара Антоновна. Она всегда играла на рояле, когда мы устраивали вечера. По случаю бала ее сопровождали скрипач и виолончелист. Один за другим прибывали гости: одноклассницы Марги, юные и свежие в своих вечерних платьях, молодые люди из старшего класса гимназии и уже не гимназисты, несколько офицеров из местной воинской части, молодых и веселых, в красивых мундирах.
Когда начались танцы, я спряталась за портьерами двустворчатых дверей зала. Отсюда хорошо было видно танцующих. Они исполняли танец с пируэтами. Юра ясным и звучным голосом объявлял фигуры. Танцоры образовывали пары, скользя рука об руку по залу и дальше, через арку в столовую и угловую комнату, где поворачивали и возвращались в зал, чтобы образовать круг, и снова вальсировали парами, пока не смолкала музыка.
Я стояла, наблюдая за танцующими, мечтая быть взрослой, чтобы самой танцевать вместе с ними под завораживающую музыку. Вот они танцуют падеспань, модный и живой танец, которому нас учили в школе. В облаке белого шифона Марга проносится с офицером. Он держит ее руку и улыбается ей. Я никогда не видела нашу Маргу такой красавицей.
Капочка пересекла зал и направилась ко мне.
— Что ты здесь делаешь? — спросила она. — Пойдем.
Она увела меня в постель и подоткнула одеяло, однако сон долго не приходил ко мне. Я прислушивалась к звукам венского вальса, голосам и смеху в столовой и почему-то чувствовала странную печаль.
В начале марта мои подозрения насчет тети Шуры подтвердились — появился маленький мальчик Женя. Его тут же назвали Женчиком. Вскоре он превратился в прелестного светловолосого ребенка. Крестины Женчика прошли в апреле, на них присутствовала вся наша семья. Так как дом дяди Сани был в пятнадцати минутах ходьбы, все пошли туда пешком, за исключением бабушки, Капочки и меня. Мы отправились в санях.
Юре была оказана особая честь быть крестным отцом. Мы собрались вокруг купели, а тетя Шура, согласно обычаю, ушла в спальню. Во время погружения маленький Женчик громко протестовал, но все сочли это хорошим знаком — доказательством того, что у ребенка прекрасные легкие.
После службы все собрались в столовой за обильным столом с закусками и напитками. Посреди речей и тостов молодой крестный отец встал и, извинившись, вышел. Ему необходимо вернуться домой, объяснил он, к утру нужно написать важное сочинение. Вечер продолжался, но немного погодя бабушка вдруг объявила, что ей тоже нужно домой. Она уехала в санях в сопровождении Капочки. Когда Марга решила, что нам тоже пора, папа остался праздновать с друзьями дяди Сани.
Дома мы обнаружили, что бабушка у себя в спальне. По ее лицу текли слезы. У бабушкиных ног на коленях стоял Юра и умолял простить его. Капочка осторожно промакивала бабушкино лицо влажным полотенцем, дедушка считал капли валерьянки, пытаясь успокоить бабушкины нервы. Он был молчалив и серьезен. Сашенька, наоборот, бегала взад-вперед и бормотала: «Безобразие, безобразие…».
Оказалось, что бабушка, вернувшись домой, обнаружила Юру и Марусю в Юриной постели. Она немедленно сдернула с кровати Марусю, прогнала ее вниз с лестницы, а сама побежала к себе в спальню и расплакалась.
Я была удивлена. Конечно, нехорошо, что Маруся легла спать в чужой кровати, да еще к тому же днем. Бабушка имеет право сердиться, но почему такие страсти? Что еще она обнаружила? В голову приходила только одна разгадка случившегося.
— Бабушка, — гладила я ее мокрые от слез щеки, — если у Маруси оказались вши, нужно просто купить маленькую бутылочку водки, и все будет хорошо.
— Маленькую бутылочку водки, — медленно повторила бабушка озадаченно. — Ах ты, милое невинное дитя! — воскликнула она и снова заплакала.
В дверях робко появилась Маруся:
— Барыня, дайте, пожалуйста, мой паспорт, мне надо.
Один вид Маруси взбесил бабушку снова. Она бросилась к своему столу, вытащила из ящика паспорт и, схватив мокрое полотенце, рванулась к Марусе. Маруся выскочила на черный ход, оттуда — на кухню.
— Бесстыжая негодяйка, — кричала ей бабушка, бросив вслед паспорт и полотенце.
Это был конец нашей Маруси, по прозванию Мариетта. Собрав свои пожитки, она исчезла как снег по весне, и больше мы ее никогда не видели.
Марусю заменила молодая девушка по имени Глаша. Она была маленькая и быстрая, и все в ней было аккуратно и чисто: льняные волосы, заплетенные в косы, уложенные вокруг головы, оживленное лицо, улыбка наготове, стоит только обратиться к ней. Глаша сразу покорила всех. Она появилась в доме в разгар предпасхальных приготовлений, к которым тут же с энтузиазмом присоединилась, споро работая целыми днями.
В эту пасху я решила обязательно попасть на полуночную пасхальную службу и отказалась лечь спать. Незадолго до полуночи все семейство отправилось в Успенскую церковь. Ночь была не морозная, уже чувствовалось приближение весны.
Когда мы вошли в церковь, она была переполнена верующими, на столе расставлена в ожидании благословения пасхальная еда: тарелки с крашеными яйцами, белые пирамидки творожной «пасхи», куличи.
Из церкви вышла процессия, впереди которой шли священник и хор. В полночь, словно из дальней дали, донеслись звуки пения. Они росли, поднимались, ширились, и вот уже заполнили всю церковь, ликующе возглашая: «Христос воскресе из мертвых!». Свет зажженных свечей наполнил храм.
Я словно опять присутствую на этой службе: переполненная церковь, отсветы огня на лицах людей, в руках свечи, наш добрый священник в белых одеждах перед своей паствой повторяет взволнованным голосом: «Христос воскресе!». И каждый раз все собравшиеся, молодые и старые, отвечают вместе: «Воистину воскресе!». И так в эту самую минуту по всей России, по всей великой стране, в маленьких деревушках и больших городах, в скромных церквах и великолепных соборах люди произносят бессмертные слова, обнимают друг друга и поют.
Мы шли домой, неся зажженные свечи. Впереди и за нами двигались тысячи огоньков. Ко мне подошел какой-то мальчик:
— Девочка, можно мне огонька, — попросил он, — моя свечка погасла.
Я зажгла его свечу.
— Христос воскресе, — сказал он и робко поцеловал меня в обе щеки.
— Воистину воскресе, — ответила я, и мы продолжали путь.
На следующий день я с моими товарищами по играм Володей и Верой звонила в колокола.
И все же эта пасха была не такой, как в прошлом году. Я втайне надеялась, что проснувшись утром увижу братишку, сидящего в ногах на моей кровати. Но надеялась напрасно.
Беда в том, что я не могла писать маме по-английски, а мама, хоть и говорила по-русски довольно хорошо, не умела понять написанное. Временами отец писал маме маленькие письма по-английски, которые я тщательно переписывала, но это были папины слова, а не то, что я хотела бы написать сама. В результате, по мере того как шли дни и месяцы, между мной и мамой хоть и медленно, но расширялась пропасть.
В начале лета в доме заметили, что Михайло ухаживает за Глашей. Их видели гуляющими по набережной или в саду. Михайло теперь не пил, и вид у него стал совсем другим. Однажды он обратился к бабушке и сказал, что собирается жениться. Бабушка была довольна. Решили, что Глаша поселится в сторожке, а Михайло будет по-прежнему работать в доме.
Глаша и Михайло обвенчались в нашей церкви. Платье у Глаши было скромное, на голове фата и венок из белых цветов, сделанных бабушкой. Свадьбу праздновали в квартире, которую когда-то занимал дядя Саня. Свадебный стол, покрытый белой скатертью, был уставлен блюдами и бутылками. Все помогали устроить свадьбу как можно лучше, потому что Глаша и Михайло оба были сироты.
Перед тем как сесть за стол, молодые встали на колени перед бабушкой, и она, словно мать, благословила их иконой. Отец, который должен был встречать молодых хлебом-солью, выступил вперед, но когда он поднял каравай и солонку, рука его дрогнула, солонка упала и разбилась. Все вздрогнули — хуже приметы не бывает. Отец расстроился. Глаша закрыла лицо руками и заплакала.
Принесли другую солонку и повторили церемонию, на этот раз без неприятностей, но уже все было не так, пока кто-то не закричал традиционное на свадьбах: «Горько, горько!». Гости оживились, и пир пошел своим чередом. Все постарались забыть неприятный инцидент. Заиграла гармонь, кто-то затянул песню, которую все подхватили. Потом начались пляски. А когда гости разошлись, Глаша и Михайло отправились через двор к сторожке, где началась их семейная жизнь.
Тучи сгущаются
Жарким летом 1914 года дни летели очень быстро. Все время мы проводили у реки: купались, возились в воде, сидели на горячих валунах, обсыхая после купания, и снова прыгали в воду. Иногда играли в саду или удили рыбу в пруду. В нем водилось всего две породы рыб: довольно отвратительный на вид карп и какая-то маленькая безымянная рыбешка. Удочки мы делали сами из длинных прутьев. Карп ловился плохо, а вот мелочь жадно хватала извивающихся червячков. Рыбу есть было невозможно из-за противного вкуса, но возле нас обычно находились заинтересованные зрители — кошки. Они появлялись словно ниоткуда, подбирали выброшенную нами рыбу и исчезали.
В середине июля дедушка поехал в знаменитый Соловецкий монастырь. Он взял с собой Маргу и Сережу. Так как в это время монастырь посещает огромное количество паломников, бабушка решила, что лучше съездить в тихую деревушку на другом берегу реки, где жила Юрина кормилица. Юра, Марина и я должны были ехать с ней, в последнюю минуту к нам присоединился отец.
На пароме мы добрались до Бакарицы и затем до Исакогорки, где провели ночь у Тани. Она жила в просторном деревянном доме неподалеку от станции. Сзади к дому примыкал большой двухэтажный скотный двор, на первом этаже которого обитали лошадь и корова, а на втором располагался обширный сеновал. Перед домом был крошечный огород, где Таня выращивала овощи и цветы.
Таня радостно встретила наше нашествие. Она испекла традиционный рыбник, пирог с творогом и выставила блюдо морошки. Таня подала ее со сливками. Ягода внешне похожа на малину, но на этом сходство и кончается. Ни одна ягода не сравнится с ней по аромату и вкусу. Старший сын Тани собирал морошку специально к нашему приезду и обещал показать секретное место, где она растет.
Собирать ягоды и грибы я любила больше всего и с радостью согласилась пойти вместе с тамошними детьми на это таинственное место. Пройдя по линии железной дороги примерно версту, мы поднялись на высокую насыпь, где была небольшая поляна, на которой бугрились холмики и росли купами тонкие березки. Склоны этих горушек были сплошь покрыты оранжевыми ягодами. Мы принялись собирать их.
В одном из холмиков, усыпанном ягодами, оказалась какая-то щель, оттуда торчала доска. Любопытствуя, мы наклонились над ней и тут же вскочили. Доска была частью открытого гроба, а внутри виднелась черная разложившаяся масса. После этого жуткого зрелища нам расхотелось собирать ягоды, и мы вернулись домой. Оказалось, что холмики эти — могилы китайцев, которые работали год назад на строительстве железной дороги и заболели какой-то страшной болезнью, вероятно, холерой. Мысль, что эти вкусные ягоды выросли на телах мертвых китайцев, навсегда отбила у меня желание ходить на это страшное место.
Ночевали мы на сеновале. Таня постелила поверх сена простыню, бросила подушки. Мне нравилось вместе с родными спать на сене, вдыхать его запах и слушать, как внизу, в хлеву, тихо возятся животные.
На следующее утро наша маленькая компания отправилась в дальний путь, в деревню, находившуюся в семи верстах от станции Исакогорка. В безоблачном небе сияло солнце, день обещал быть прекрасным.
Оставив позади Танин дом, мы скоро подошли к торфяникам, уходящим далеко за горизонт. Кустики вереска и моховые кочки затрудняли движение. Юра и Марина, шагая широко и легко, оказались далеко впереди. Я, прыгая с кочки на кочку, с болтавшейся на запястье шляпой, торопилась за ними. Позади всех шли бабушка и отец.
Обернувшись, я увидела, что папа сидит на кочке, а рядом бабушка. Я поспешила к ним и услышала, как отец произнес: «Не могу идти дальше, ноги не держат». Его лицо, покрытое потом, было смертельно бледным. Я помню, что меня пронзил какой-то непонятный ужас, как если бы небеса вдруг померкли и исчезло сияющее утро. «Пожалуйста, идите без меня, — сказал отец, — я отдохну немного, а потом на пароме вернусь в город».
Мы оставили его сидеть и молча пошли дальше. Я долго оглядывалась и видела, как он машет мне шляпой, надетой на палку. Постепенно белое пятнышко стало крошечным, и вскоре я не могла больше ничего разглядеть.
Пройдя вересковую пустошь, мы пошли по лесной тропинке. В лесу — тень и прохлада, острые запахи земли, грибов, хвои. Солнечные лучи бросают золотые пятна на темные ветви сосен, белые стволы берез, дрожащие листья осин. Мы присели отдохнуть. Вокруг нас стоял зачарованный лес, слышалось нежное воркованье каких-то птах, тетеревиное бормотанье, мелкие лесные животные невидимками сновали среди шуршащих листьев. Кругом изобилие грибов. Русский человек не пройдет равнодушно мимо гриба, и бабушка, продолжая путь, завязала свой платок узлами и стала собирать грибы.
Но вот лес кончился, и мы вышли на простор. Перед нами раскинулись зеленые луга, где паслись коровы и лошади. Направо рядком стояли дома и маленькая деревянная церковь. Навстречу нам шла женщина в сарафане. Это была Юрина кормилица Ульяна. Завидев нас, она заспешила через луговину. Эта улыбчивая женщина обожала Юру. С того времени, когда Ульяна оставила его и вернулась к своему ребенку (Юре тогда было два года), она постоянно навещала его и всегда приносила свои особые пирожки, которые, она знала, он любил. Жила Ульяна неплохо, у них с мужем надел земли, несколько коров, крепкая изба.
У входа нас ждут трое детей, в том числе молочный брат Юры Ваня, теперь уже высокий стройный паренек. Он-то и оставался в деревне после рождения, пока его мать зарабатывала деньги, выкармливая чужого ребенка. В избе безупречная чистота: некрашеные полы выскоблены добела, стол накрыт вышитой скатертью, на нем уже поставлена посуда, лежат деревянные ложки.
Юра с ребятами устроились на сеновале, бабушка, Марина и я в горнице — лучшей комнате в доме. Стены увешаны фотографиями членов царской семьи, в углу икона, прикрытая сверху вышитым полотенцем. Как обычно в деревенском доме, на самом почетном месте огромная кровать с высоко взбитыми перинами и горой подушек.
Ульяна кормила нас простой и вкусной едой — простоквашей с толстым слоем сметаны сверху, гречневой кашей и пирогами. Особенно хороши были колобки из тонкой овсяной муки и масла, испеченные в русской печи. Вкусные и рассыпчатые, они буквально таяли во рту. В наших северных деревнях редко ели мясо, чаще — рыбу. Самым вкусным супом считалась уха.
В этой мирной деревушке мы провели счастливую неделю. Крестьяне убирали урожай. Юра, Ваня и Марина помогали им, работая все дни напролет под жарким солнцем, а меня приняли деревенские дети. Мы собирали ягоды и грибы, купались. Вьющаяся по уклону тропинка вела к песчаному берегу, где собиралась вся ребятня. Речка была узкая, мы могли переплывать ее и играть с детьми с другого берега.
Третьего августа в деревне появился незнакомец, который приколол на столб объявление: два дня назад Германия объявила России войну. Об этом уже давно ходили слухи, но теперь все подтвердилось. Бабушка решила немедленно вернуться в город, и, уложив свои вещи, утром следующего дня мы отправились.
На этот раз мы пошли дорогой, которая вела к железнодорожной насыпи, и затем до станции Исакогорка брели по путям. Я запомнила эти бесконечные шпалы. Приходилось делать огромные шаги, чтобы попадать на них, стоять на обочине, пока мимо проносился поезд, а потом снова тащиться по шпалам.
Только к вечеру мы дошли до станции. Там уже отправлялись на фронт войска. Переполненный состав был готов тронуться. Из вагонов выглядывали веселые лица, солдаты пели старые военные песни. На перроне волнующаяся толпа матерей, жен, детей, любимых, которые пришли проводить мужчин на далекую войну.
Раздался свисток. Огромные колеса начали свое вращение, постепенно увеличивая скорость. Женщины бежали по платформе, надеясь поймать последний взгляд, еще раз увидеть родное лицо. И даже когда дымок паровоза исчез вдалеке, они все стояли, вытирая слезы.
Огромное облегчение мы испытали, когда снова оказались в Танином доме. Я помню, как бабушка сказала Тане, что в тот день мы прошли семь верст.
На следующее утро мы проснулись поздно и после завтрака отправились на пароме в город. На пристани нас встречали отец и Михайло. Отец сиял, но все еще был бледен и тяжело опирался на палку.
— Британия, — сказал он, — на нашей стороне. Вчера она объявила войну Германии.
Так как моя мама была шотландкой, нас всех, естественно, очень интересовало, чью сторону примет Британия, и отцовская новость была большим облегчением.
Когда экипаж подкатил к дому, я выскочила из него и бросилась к черной лестнице, ведущей в прихожую. Первой, кого я встретила, была Сашенька.
— Сашенька, — закричала я победно, — Британия на нашей стороне!
— Никого нет на нашей стороне, каждый сам за себя, — ответила она с горечью.
В России поднялась волна горячего патриотизма. В те дни августа 1914 года царя любили больше, чем когда бы то ни было. Солдаты рвались воевать, а если нужно, и умереть за него и любимую Родину.
В тот же день мы с Капочкой пошли по магазинам покупать для солдат различные вещи. Я помню, как мы волновались, упаковывая носки, мыло и самое важное — маленькие пакетики махорки (дешевого табака), которую высоко ценили солдаты. В одну посылку я положила записку: «От гимназистки Жени. Возвращайтесь здоровым домой».
По всему городу женщины делали бинты и вязали носки. Марина, уже окончившая школу, полностью посвятила себя этой работе и уходила из дома рано. Марга, собиравшаяся поступать в университет Санкт-Петербурга, удивила всех, заявив, что она решила учиться на сестру милосердия в надежде, что потом ее пошлют на фронт. Бабушка работала в комитете, который собирал деньги, организуя распродажи картин художников, концерты, балы и другие благотворительные мероприятия.
Тем временем снова начались занятия в гимназии. К нашей утренней молитве добавился национальный гимн «Боже, царя храни!». На стенах появились большие портреты царя и царицы. Глаза царя смотрели сверху вниз милостиво, на устах легкая улыбка, лицо красавицы-царицы было отстраненно-отсутствующим.
Поздней осенью, когда уже появились красногрудые снегири, кормившиеся ягодами рябины, и в саду чувствовалась печаль увядания, наш Михайло получил повестку в армию, а Глаша, горюя о своем скоротечном счастье, вернулась в дом. В сторожке стал жить новый кучер Николай, высокий черноволосый человек с мрачным выражением лица.
Спустя несколько недель в доме появилась Ириша. Ее мужа тоже призвали в армию, а ей с маленьким ребенком велели освободить жилье. В отчаянии, не зная к кому обратиться, она пришла к бабушке, и бабушка взяла ее под свое крыло. Ириша с малышом теперь будут жить в сторожке, а Николай переселится на половину к Василию. Юный Яшка, служивший казачком на посылках, ушел искать лучшей доли.
Вскоре я побывала на концерте, организованном для сбора средств на военные нужды. Он проходил в Летнем театре. Все места были заняты, стояли даже в проходах. Концертных номеров было очень много и разнообразные: танцы, пение, декламация. Но самым памятным стал финал — живая картина, в которой пять девушек представляли пять стран-союзниц. Моя юная тетя Марга была Россией.
Когда поднялся занавес, в зрительном зале раздались аплодисменты. На фоне флагов на пьедестале стояла в старинном костюме русской княгини наша Марга — высокая, стройная, платье из золотой парчи усыпано драгоценными камнями, сверкающими всеми цветами радуги. С высокого кокошника, украшенного жемчугом и камнями и обрамлявшего самое русское личико, спадала мягкими складками до самого пола вуаль, тонкая как паутина. Рядом с Маргой стояли девочки, изображавшие Францию, Британию, Бельгию и Италию, в национальных костюмах этих стран. Они стояли неподвижно под разноцветными лучами прожекторов, а оркестр играл гимны этих стран. Зрители поднялись и запели с необычайным подъемом, и еще долго после того, как упал занавес и прекратил играть оркестр, продолжались овации. Никогда прежде я не была свидетелем такой экзальтации.
А вскоре, после катастрофы под Танненбергом, где сложили головы около четверти миллиона солдат, в Архангельск стали поступать раненые. Дедушка работал до ночи, оперируя и пытаясь спасти искалеченных солдат. Однажды Марга взяла меня в госпиталь, где в большой, залитой солнцем комнате стояло два ряда коек. Многие солдаты были в бинтах. На их лицах я заметила какую-то терпеливую покорность. Война оказалась не такой славной, какой представлялась раньше.
В тот год отец пригласил для меня учительницу музыки, пожилую даму, некую мадам Сусанову. Она провела молодость во Франции, где училась в консерватории. Отец попросил ее вести обучение на французском языке. С излишним оптимизмом он воображал, что таким образом улучшится мое знание французского.
Мадам Сусанова оказалась грозной дамой с отвратительной привычкой бить меня по пальцам карандашом всякий раз, когда я ударяла не по той клавише. Мне понравилось играть легкие маленькие пьески, но я терпеть не могла упражняться в гаммах. Мадам Сусанова приходила к нам три раза в неделю, и когда ее урок заканчивался, молоденькая учительница Нина Андреевна занималась со мной приготовлением домашнего задания. У отца, имевшего «пунктик» в отношении моего образования, были опасения (вовсе не беспочвенные), что, если за мной не приглядеть, я буду пренебрегать домашними заданиями. Их выполнение затягивалось до шести часов, и с семьей я общалась лишь за обеденным столом.
В зимние вечера после обеда каждый был чем-то занят: бабушка уезжала в свой комитет, Марга и дедушка уходили в госпиталь, так что я зачастую оставалась одна, да еще Капочка — мне для компании. Мы шли в детскую, она с бельем для штопки, я с книгой или шитьем. В комнате было темно, лишь на стол ложился мягкий круг света от лампы, да теплилась лампадка в углу перед иконой. На улице завывает пурга и в окна бьет ветер, крепчает мороз, так что на чердаке потрескивают стропила, а нам тепло и уютно.
Капочка — прекрасная рассказчица. Она вспоминала о детстве и временах, когда жила в Санкт-Петербурге. Иногда Капочка откладывала штопку и начинала петь. Пела она легко, как поют соловьи или дрозды ранней весной, — ни одной неверной нотки. Казалось, не было такой русской песни, которую бы она не знала. Ее низкий голос имел особенный, ласкающий слух тембр, который так часто встречается у русских.
Особое удовольствие в зимние вечера доставляли походы в баню. Мне нравилось наблюдать за приготовлениями. В корзину укладывали чистое, пахнущее свежестью белье, мыло, мочалки, щетки. В другую маленькую корзину кладут рассыпчатое печенье, бутылку морса — прохладительного напитка из клюквы. На дворе нас ждет возок — квадратный ящик на полозьях, появлявшийся словно из волшебной сказки. Впереди в тяжелом тулупе и лохматой медвежьей шапке сидит кучер, похожий на большого медведя.
Бани, куда мы ездили, назывались Успенскими. Это было кирпичное двухэтажное здание в нескольких кварталах от нас. Широкая каменная лестница вела на второй этаж, где по обе стороны длинного коридора шли пронумерованные двери. Нас провожали в номер и каждому вручали сухой веник из тонких березовых веток с листьями. В просторной раздевалке стояли стол, стулья и мягкий диван, набитый конским волосом. Все было покрыто чистыми простынями.
Раздевшись, мы входили в жарко натопленную моечную. На скамьях лежали тазы и небольшие деревянные шайки, в стене имелись краны с горячей и холодной водой. В парилке огромная печь в углу и возле нее несколько больших ступеней, ведущие на широкий полок. Чем выше поднимаешься, тем горячее воздух. Полок любят пожилые люди. Считается, что банный жар излечивает многие болезни — от ревматизма до пристрастия к алкоголю. На раскаленные камни в печи выплескивали несколько тазов воды, и все помещение наполнялось паром. Чтобы сухие веники стали мягкими и гибкими, их запаривали в горячей воде. Старшие хлестали ими друг друга, чтобы разогреть кровь и выгнать все хвори. Но никто и никогда не смог применить эту технологию на мне — любая попытка встречалась громкими протестами.
Любопытной деталью этих бань были маленькие, всего около пяти вершков, овальные отверстия в стенах между номерами, располагавшиеся над полом возле решеток, прикрывавших сливные канавки. Каменный пол был слегка наклонным, и вода стекала в канавку, проходившую через все номера. Эти отверстия имели для малышей какую-то особенную притягательность. Лежа на полу, можно было подглядывать в смежный номер и видеть голые ноги соседей. Так как в баню меня брали с юного возраста, я не стеснялась нагого тела, а в попытках определить по ногам, как выглядят их хозяева, было много удовольствия. Иногда и посетителям соседнего номера приходила та же идея, и на меня вдруг пристально глядела пара любопытных глаз.
Обычно меня мыли первой, тщательно и результативно. Когда испытание заканчивалось, мне давали таз с водой и разрешали делать что вздумается. С этого момента я наслаждалась возможностью брызгаться и обливать всех водой. Бабушка с холодной повязкой на лбу лежала на верхней полке. Капочка хлестала себя веником, пока не становилась красной как рак, листочки с веника прилипали к ее телу, и она бесконечно обливалась водой из таза, чтобы смыть их. Все потели, намыливались и терлись, окутанные туманной завесой пара и жара.
А как приятно было снова оказаться в раздевалке! Я до сих пор помню ее неожиданную прохладу и то блаженное состояние, когда сидишь, закутанная в душистое полотенце, пьешь клюквенный морс и жуешь печенье.
Дома все чисто и светло. Сашенька, сама себя назначившая домоправительницей, хлопочет, нарезая лимон прозрачными кружками, накладывая варенье в маленькие вазочки, приказывает Глаше нести самовар. Мы, переодевшись в белые ночные рубашки, с распущенными волосами, собираемся вокруг самовара.
Никаких приключений в бане не было, но однажды вечером там случилось странное происшествие, настолько необычное, что в местной газете ему посвятили целую колонку.
Незадолго до этого случая в наш город приехала на постоянное жительство итальянская семья. Трудно представить, почему итальянец из теплых краев подался в наш студеный город, но тем не менее он прижился и даже преуспел. Я смутно припоминаю, что он владел прибыльным рестораном.
Однажды вечером дедушку срочно вызвали в дом итальянца. Там его встретила толпа плачущих детей, расстроенная мать и взволнованный отец, который повел его в детскую, к маленькой колыбельке. Дедушка склонился над ней и осторожно приподнял одеяло, чтобы осмотреть пациента. В колыбельке, свернувшись клубком, лежала закутанная в шаль маленькая обезьянка! Дедушка, хоть и строг с виду, в душе был очень добрым человеком, имевшим чувство глубокого сострадания и мягкого юмора. Он не показал удивления и начал лечить обезьянку. Она выздоровела, и спустя некоторое время в знак уважения и благодарности итальянец прибыл к нам с визитом и принес с собой Фифи, обезьянку!
Обезьяна в нашем северном городе так же необычна, как, может, белый медведь в тропиках. В наших краях нет зоопарка, поэтому мы были чрезвычайно взволнованы, наблюдая за этим юным, почти человеческим существом.
Однажды морозным вечером, вскоре после Рождества, наш итальянский друг решил свозить супругу и детей в русскую баню. Он любил новшества и все, что может стать незабываемым приключением. И он не был разочарован. Семью проводили в номер. Никто не заметил, а может, не обратил внимания на маленький узелок, замотанный в шаль. Итальянцы разделись и, развернув свою обезьянку, отправились в моечное отделение. Там наш итальянец с супругой оказались в облаках пара. Намыливаясь и растираясь, он сопровождал мытье громким пением итальянских народных песен, а его детишки возились рядом, брызгались и веселились от всей души. Единственные двери банного помещения были закрыты, а о существовании маленького отверстия в соседнее отделение, предоставлявшего бесконечные возможности, итальянская чета понятия не имела.
В это время в соседнем номере мылась супружеская пара, приехавшая из деревни. Мужик растянулся на скамье, а на другой сидела его жена и мыла голову, поддерживая разговор ни о чем. С закрытыми глазами она шарила рукой в поисках мыла, как вдруг ее рука наткнулась на что-то живое, теплое, шершавое. Женщина открыла глаза и в ужасе онемела: что-то темное и непонятное прыгнуло вниз и пронеслось мимо нее к отверстию в стене у пола. Тут оно остановилось.
Удивленный наступившим молчанием, мужик взглянул на жену. Ее полные ужаса, вытаращенные глаза следили за длинным хвостом, свернувшимся на каменном полу. Мужик — простой крестьянин, живущий среди природы и животных, на своем веку наверняка повидал немало хвостов. Но такого, как у черта… Об этом он боялся даже подумать. Между тем, последний раз дернувшись, хвост исчез в дырке, а в соседнем номере тут же раздался грохот падающих тазов и дикие визги.
Страх заразителен. Охваченные ужасом, супруги выскочили в раздевалку, оттуда, торопливо набросив на себя простыни, бросились в коридор. Одновременно открылась дверь соседнего номера, и оттуда буквально вывалились три молодые женщины в полной истерике — совершенно голые, все в березовых листьях…
Еще в одном номере на скамье распростерся огромный человек с мокрым полотенцем на голове. Тут же стояла бутылка с питьем для утоления жажды. Мужчина мучился от самого страшного в своей жизни похмелья, и тысячи крошечных демонов забивали раскаленные гвозди ему в череп. Его крепкая женушка, привыкшая ко всему, спокойно занималась собственным омовением, молча демонстрируя свое презрение к супругу.
Изнемогая от жары, мужчина скользнул взглядом по окружающей обстановке: посмотрел на потолок, потом на печь, вниз по стенам, на собственные ноги. И о ужас! У него в ногах сидел… Он закрыл глаза. Неужто белая горячка?! Нет, только не это! Он снова взглянул на свои ступни. Хвостатый зверь выглядел настолько реально, что даже спокойно пил из его бутылки!
Тут внезапный вопль буквально потряс воздух — обезьяну увидела женщина. Напуганная криком до умопомрачения, Фифи понеслась вскачь по скамьям и бешено закружилась по полу, а женщина заметалась из стороны в сторону. И случилось неизбежное — она поскользнулась и шлепнулась на пол задом. Обезьяна исчезла.
Так это был не черт, не кошмар похмельного бреда… Ведь жена тоже видела его! Мужчина облегченно расхохотался.
А Фифи носилась из номера в номер со скоростью снежного кома, мчащегося с горы, увеличивая всеобщий ужас и панику. Смеясь, плача и крича, мужчины, женщины и дети разной степени одетости столпились в коридоре. Среди них был и наш итальянец с женой и детьми. Страстно жестикулируя, семейство пыталось на ломаном русском языке объяснить ситуацию управляющему баней, но безрезультатно. Окружившая их толпа тоже ничего не понимала, но согласно кивала.
В этот момент в конце коридора распахнулись еще одни двери, и оттуда выскочила молодая дама. В белых с рюшечками панталонах, отделанных красной лентой, в шубке, наброшенной на плечи, она представляла собой прелестное зрелище. За ней — офицер, растерянный, с красным от волнения лицом. Вместе с ними выскочила Фифи. У нее на голове была меховая шляпка с кружевной вуалью, которая развевалась, как свадебная фата.
Кто-то засмеялся. Смех так же заразителен, как и страх, и то, что несколько минут назад пугало и озадачивало, легко объяснилось. Дети хохотали, взрослые всячески проявляли дружелюбие к Фифи — агукали, сюсюкали, точно нянчили младенца. Фифи прильнула к хозяину, и ей было хорошо.
Постепенно все успокоились. Молодая дама получила обратно свою шляпку и исчезла вместе с компаньоном. Раздетые и полураздетые — все разошлись по номерам. Итальянцы и Фифи тоже вернулись в свой номер.
Наступил 1915 год. В первое военное Рождество опять была елка, привычный круг друзей и родных. Запомнился Женчик, мой маленький двоюродный братик, на руках у мамы. Ему было уже девять месяцев. В кибитке, запряженной одной лошадью, приезжали Аделя и Верочка. Реквизиция лошадей на войну положила конец знаменитым русским тройкам. Сестры растеряли былую живость и оплакивали гибель своего единственного племянника, молодого офицера, убитого в одном из первых боев. В этот раз все было не так, по сравнению с прошлым счастливым Рождеством.
Однажды в январе рано утром на кухне появился какой-то крестьянин и попросил разрешения повидать Германа. Этот человек был молочным братом моего отца. Он принес печальную весть, что Серафима, его мать, внезапно умерла. Отец немедленно приказал Николаю запрячь сани, и они отправились за реку. Отец провел ночь в доме, где жила Серафима с сыном и его семьей, и на следующий день после похорон вернулся.
Поездка за реку в мороз оказалась для него слишком тяжелым испытанием. Уставший и простуженный, он несколько дней провел в постели. Здоровье отца уже некоторое время заметно ухудшалось, ноги совсем перестали слушаться. Теперь он ходил медленно, с помощью двух палок. Много позже я узнала, что его болезнь называется рассеянный склероз — смертельное заболевание, от которого даже в наше время нет лекарств, но в ту пору я, естественно, ничего не знала об этом.
Когда приходит беда, взрослые плачут и молятся, а дети принимают неизбежное как данность. С того дня, когда мы шли через пустошь в Исакогорке и я увидела, как отец сидит на кочке и не может идти с нами, у меня появилось страшное предчувствие. Я поняла и постепенно свыклась с мыслью, что он не сможет ходить. В глубине души я знала, что больше не увижу знакомую фигуру отца, идущего по нашей улице или в летний день гуляющего в саду.
Как-то вечером в том же году все собрались за круглым столом в столовой. Каждый занимался своим любимым делом. Бабушка делала цветы, Марга вышивала носовой платочек, кто-то вязал, кто-то шил, а я грызла кедровые орешки, слушая, как Сережа читает одну из восхитительных повестей Пушкина.
Мне захотелось пить. Я прервала Сережу и попросила не читать, пока я схожу за водой. Выбежав из столовой, через прихожую я вошла в длинный темный коридор. В дальнем его конце было окно, а у стены — широкая лестница на чердак. Под лестницей стоял буфет, на котором рядком выстроились самовары и поднос со стаканами. В одном из самоваров всегда держали кипяченую воду для питья. Взяв стакан и отвернув кран, я совершенно ясно услышала, как сверху кто-то позвал меня по имени. Со стаканом в руке я сделала шаг назад и взглянула вверх, на лестницу. Там, наклонившись через перила, стояла женщина с простым и неприметным лицом. Голову и плечи ее покрывала шаль, какие обычно носят крестьянки. «Что вам надо, кто вы?» — спросила я. Она не ответила. Слегка встревоженная, я повторила вопрос. Она молча улыбнулась. Это была жуткая, ледянящая кровь улыбка.
От ужаса я выронила стакан. Звон разбитого стекла словно высвободил мой голос — я закричала так пронзительно, что услышал весь дом. По другой лестнице, снизу, взбежали слуги. «Женщина, женщина, — повторяла я сквозь рыдания, — она прячется на чердаке, найдите ее, поймайте!». Скрыться куда-то она не могла, мимо меня не проходила. Если бы и пробежала, то попала бы навстречу слугам или кому-нибудь из бежавших в коридор из прихожей.
Пока обыскивали чердак, бабушка увела меня к себе, дала валерьяновых капель и не уходила из спальни. Пришел отец и сел рядом. Бабушка и отец говорили между собой шепотом, но я разобрала, что бабушка спрашивала, хорошо ли обыскали чердак, а папа ответил, что это можно было и не делать, потому что попасть туда никто не мог — дверь была закрыта и ключ висел на своем месте. В ту ночь я спала в постели между дедушкой и бабушкой, на большой кровати, составленной из двух. Защищенная со всех сторон, я наконец уснула.
Ту женщину так и не нашли. Тайна ее появления осталась неразгаданной. Но из моей жизни она не исчезла и до сих пор преследует меня. Она приходит в разных обличьях, то молодая и красивая, то старая и непривлекательная, но всегда пугающая. Много лет спустя, когда я жила в Индии, мне приснилось, что я в родном доме склоняюсь над корзиной, где мы храним маскарадные костюмы. Незнакомая молодая женщина подходит ко мне, во сне я не нахожу это странным, но вдруг замечаю злобную улыбку и просыпаюсь вся в поту, и зову маму, всегда только маму.
Позже я вернулась в спальню к тете. Марга не могла спать одна. Я знала, что когда-то Маргу тоже напугали, но что случилось, я не знала. Когда-то я ругала свою тетку за ее страхи и тревоги, теперь она утешала меня. «Все хорошо, — успокаивала она меня, гладя по волосам, — бояться нечего, святая лампада горит. Постарайся думать о приятном, думай о рождественской елке».
С началом войны царь, помня позорное поражение в русско-японской войне 1905 года, делал все, чтобы подобная катастрофа не повторилась. Было издано много указов, и среди них один, запрещавший продажу алкоголя. Однако эта мера, в целом положительная, породила много проблем, так как покупка алкоголя разрешалась только по рецепту врача. Дедушку стали осаждать просьбами дать рецепт. Ненавидевший пьянство в любом виде, дедушка отвергал взятки, не поддавался на лесть и не боялся угроз.
Многие горожане, не в силах превозмочь «жажду», обратились к доступным заменителям алкоголя. Наш кучер Николай, обнаруживший опьяняющее действие денатурата, вскоре был окрещен «денатуркой» и ничуть не сердился на это. Близкий друг отца Павел Степанович получил прозвище «розочка» за пристрастие к духам «Белая роза», которые, по его уверениям, были не хуже любой водки. Он был просто в отчаянии, когда вследствие беспрецедентного спроса эти духи исчезли из продажи.
Отец и дядя Саня готовили особую смесь. Рецептура держалась в тайне от всех. Ингредиенты были помещены в большую жестяную банку и оставлены в тепле на кухне. Заинтригованные, все с нетерпением ждали обещанного первоклассного напитка. Однако вечером случилось то, чего следовало ожидать: на кухне раздался громкий взрыв. Все перепугались. Бросившись вниз, мы обнаружили обломки покореженной жести и жутко пахнущее содержимое банки на стенах и потолке. Просто чудо, что в кухне в тот момент никого не было. Не стоит и говорить, что на этом эксперименты закончились.
Глаше пришло письмо и маленький пакетик. В письме сообщалось, что Михайло погиб. До этого никому из нас и в голову не приходило, что Михайлу на войне могут убить. Мы были потрясены. От Михайлы не было писем со дня его отъезда. Глаша ждала и молилась, чтоб война скорее кончилась. Теперь надежды на будущее больше не было. Единственной памятью о муже был крест Святого Георгия, которым Михайлу наградили посмертно за героизм в бою, но крест для Глаши ничего не значил и не мог ее утешить.
В Успенской церкви отслужили панихиду по Михайле. Мы все пришли на нее, даже отец. Михайло был для нас своим человеком, он жил в доме с юных лет. Стоя с зажженной свечой в руках, я вспоминала прекрасное морозное утро, когда он и бабушка встречали меня из Санкт-Петербурга на станции, как мы ехали через серебряную реку, а за нами бежали две собачки, вспоминала день его свадьбы и разбившуюся солонку. Неудивительно, что Глаша тогда расплакалась — примета и вправду оказалась плохой.
Вскоре после пасхи в детскую, где я сидела погрузившись в книгу, пришел отец. «Женя, — сказал он, присаживаясь рядом, — сегодня я получил чудесное письмо от мамы. Скоро она и Гермоша вернутся к нам». Обрадованная, я выскочила сообщить об этом известии друзьям с улицы. У всех были брат или сестра, и только я была вроде бы одна, хотя они неоднократно слышали от меня рассказы о брате, который живет далеко. Он сильнее любого из них, быстрее всех бегает, плавает, лучше всех дерется. Теперь, услышав мою новость, ребята с любопытством ждали встречу с таким чудом.
И вот долгожданный день наступил. Был май. В сарафане, который для меня заказала бабушка, с венком на голове, я бежала от дома до угла улицы, чтобы первой увидеть экипаж.
Этот особый день совпал с пуском первого трамвая в нашем городе. Толпы людей на главной улице ожидали его появления. И вот украшенный лентами и цветами трамвай наконец появился. В трамвае ехали губернатор и другие важные персоны нашего города. Толпа радостно приветствовала их. Трамвай шел мимо нашего угла, и я, увлекшись этим зрелищем, пропустила экипаж, свернувший на нашу улицу, и увидела его лишь когда он уже въезжал в наши ворота. Я бросилась за ним и, прибежав к дому, вбежала по крытому красным ковром крыльцу в парадную прихожую.
Там в окружении всей семьи стояли мама и Гермоша. Потрясение от встречи после такой долгой разлуки оказалось слишком велико. Смущенная, чувствуя ком в груди, я не могла вымолвить ни слова. Мама обняла меня и поцеловала. Гермоша улыбался, а я так и стояла молча. «Покажи маме свои сокровища», — предложила бабушка, сняв тем самым мое напряжение. Мы пошли в детскую, где я выложила перед мамой книги, куклу, которую для меня выиграл дядя Генри, одетую Красной Шапочкой, и все подарки, присланные мне ею.
А на улице у ворот меня уже ждали мои приятели. Я повела к ним Гермошу и гордо представила. Они застыли в изумлении. Ожидая увидеть какого-то необычного чемпиона, героя, они увидели маленького робкого мальчика в матроске. Я словно прочла их мысли. «Он хоть и маленький, да удаленький», — вспомнила я русскую пословицу и, чтобы доказать справедливость моих слов, слегка подтолкнула своего младшего брата. Он упал, а потом, поднявшись, побежал с плачем к маме. «Вот так большой брат!» — заметил Толя Мамонтов.
Гермоша опозорил меня, и что еще хуже, когда я прибежала вслед за ним, меня отругали оба родителя. В слезах я выскочила из дома в сад и долго сидела под склоненными ветвями старой ели. «Почему все так вышло?» — думала я, вытирая слезы.
Но все проходит. На следующее утро я взяла Гермошу в сад. Было чудесное весеннее утро, деревья и лужайки залиты солнцем. Мы сходили на наши старые места игр, поднялись на башню «волшебного замка», на белые мосточки пруда, с которых мы следили за полетом стрекоз над водой и прыжками рыбешек. Сад был тот же, как будто Гермоша никуда не уезжал. В полном цвету стояла яблоня, вокруг ее ствола голубели сциллы. Бальзамический тополь опять ронял красные сережки.
Жизнь в доме, однако, так и не стала прежней. Мама очень изменилась. Исчез беспечный счастливый смех, который я слышала в раннем детстве, когда она с нами бегала по лужайке в Шотландии или плескалась с нами на Грасси Бич. Здоровье отца резко ухудшилось. Я по-прежнему липла к бабушке и Капочке и со своими проблемами бежала к ним, а не к маме. Но постепенно все как-то наладилось и приняло привычный порядок. Ведь в конце концов, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, «привычка свыше нам дана: замена счастию она».
В последующие годы мама редко вспоминала свое отсутствие, но я поняла, что она вела в Санкт-Петербурге деятельную жизнь, знакомилась с людьми, давала уроки разговорного английского языка. Когда началась война, мама вместе с другими дамами вступила в Общество помощи фронту. Вероятно, проблема образования моего брата, тоска по другому своему ребенку и вести о болезни мужа заставили ее вернуться. Она вернулась, и это было главное.
В июле мы получили письмо от семейства Сабининых, у которых мама жила в Санкт-Петербурге, переименованном теперь в Петроград. Они приглашали маму, Гермошу и меня приехать к ним на лето в деревню Доброе Село.
Мы поехали в Петроград и оттуда на другом поезде в маленький городок Любань. На станции нас ждал экипаж, запряженный пятнистой лошадкой. Мы добирались в нем, как мне показалось, довольно долго. Лошадка бежала не спеша, потряхивая гривой, помахивая хвостом, отгоняя мух. На ходу она успевала ухватить клок придорожной травы, так как поля подходили вплотную к пыльной и узкой дороге. Кучер, добродушный крестьянин, сидел вполоборота к нам, лениво шевелил вожжами и поддерживал нескончаемый дружеский разговор и с нами, и со своей лошадкой. Наконец мы подъехали к даче.
С застекленной веранды ступеньки вели в очаровательный, хоть и запущенный сад, разбегающиеся во все стороны тропинки были обсажены кустами сирени и жасмином. Семья ждала нас на ступеньках крыльца и приветствовала с обычным русским гостеприимством: на веранде был накрыт стол, девушка принесла самовар. Вся атмосфера дачи напоминала о давно ушедших днях, в ней было что-то от пьес Чехова.
В Добром Селе мы провели месяц. Любопытное название деревни уходит корнями во времена Петра Великого. Согласно существовавшему здесь преданию, проезжая по деревне, Петр остановился у скромной избы и попросил воды напиться. Хозяин, не узнав высокого незнакомца, пригласил его в дом, а потом и к столу — разделить трапезу. Петр принял приглашение, а когда уезжал, сказал: «Я буду называть эту деревню Доброе Село». Петр запомнит ее.
В августе, перед тем как уехать в Архангельск, мы вернулись в Петроград и два дня провели в доме Сабининых. Гуляя со мной по Невскому проспекту, мама показала мне роскошный дворец, где она с другими дамами на длинном столе в бальном зале сворачивала бинты и упаковывала посылки для солдат. Здесь часто отмечали, что мама странно напоминает императрицу Александру. Может быть, потому, что у обеих были одинаково тонкие черты лица.
Однажды, когда все женщины были заняты делом, вошла императрица в сопровождении двух дочерей. Девушки, одетые в одинаковые платья, застенчиво улыбаясь, шли за матерью. Сама же императрица, по словам мамы, улыбалась редко. Проходя вдоль стола, она иногда останавливалась, чтобы сказать несколько слов какой-либо даме, оставаясь при этом холодно-отстраненной, без тени улыбки на лице.
Наступила осень. Я вернулась в гимназию, теперь уже во второй класс, и моя жизнь в классе началась заново. Теперь мы были в другом помещении, появились новые предметы, новые учебники, новые тетради, ручки, карандаши, новое безупречное форменное платье.
Сережа поступил на медицинский факультет Петроградского университета. Мы скучали по нему. Тихий и чувствительный, в подчинении у своего яркого младшего брата, он всегда был где-то в тени, погруженный в свои книги и любимые занятия. Но когда он зимой приехал на рождественские каникулы, то выглядел более уверенным в себе, веселым и счастливым. Студенческая жизнь ему нравилась. Сережа полюбил Петроград и говорил главным образом о своих дальнейших планах остаться там по окончании университета.
В рождественские каникулы Юра, ставший страстным охотником, надел лыжи и отправился за реку в лес, откуда вернулся с глухарями и куропатками. Их пожарили на Рождество вместо привычных гусей и подали с гречневой кашей и клюквенным соусом. Были разные сласти, а еще мама приготовила особый сливовый пудинг по собственному рецепту. Как обычно, на маленьких столиках располагались подарки, и хотя на елке не было орехов в золотой бумаге и райских яблочек, свечи горели, как прежде.
К концу того года исчезли многие привычные вещи. Наш сапожник, который шил всей семье удобную обувь, не мог больше найти хорошую кожу и вынужден был отказаться от заказов. Мы еще были в относительно благополучном положении — в сравнении с многими другими. Папа, предвидя наступающие трудности и имея знакомство с капитанами и членами команды нескольких грузовых пароходов, ходивших в Шотландию, договорился, что обувь и одежду нам будут привозить оттуда. Грэнни поручили покупать все это в магазинах Данди. Нам приходили посылки с обувью, тканями для платьев и пальто, и по крайней мере на некоторое время мы были одеты и обуты. А еще был подарок лично от грэнни — два кожаных ранца, вязаные перчатки и, что больше всего порадовало Гермошу и меня, коробки с овсяным печеньем и леденцами из черной патоки. Отец, которому было очень трудно ходить, заказал коляску. Она прибыла с другими посылками и очень обрадовала отца. В коляске он мог передвигаться по дому и дорожкам сада.
Однажды по дороге из гимназии у меня разболелась голова и началась необъяснимая жажда. С водосточных труб свисали сосульки. Я отломила одну и, хотя подружки отговаривали меня, всю дорогу до дома сосала. К вечеру мне стало плохо, меня уложили в постель. Пришел дедушка, и я услышала, как он сказал маме: «Нет, Неллинька, это не инфлюэнца — это тиф».
Потом мне стало хуже, и я ничего не помню о своем критическом состоянии. Позднее мне рассказали, что я стала очень капризной и не хотела, чтобы рядом кто-либо находился, кроме Капочки. От мамы я требовала лимонное желе. Когда она самолично приготовила и принесла его, я, попробовав, заявила, что она дала мне не то, что я просила. Тогда мама съела ложечку желе и серьезно уверяла меня, что это самое настоящее вкусное лимонное желе.
Мама тоже заболела. Я не знаю, повлияло ли на это использование моей ложечки, но ей было гораздо хуже, чем мне. Послали за дедушкиным коллегой, доктором Гренковым, из госпиталя приехала молодая сиделка, но к тому времени я была уже вне опасности. Мою кровать вынесли в бабушкину спальню, чтобы маме было спокойнее. Бедный папа ездил из одной спальни в другую, с тревогой наблюдая за нами. Выздоравливая, я беспрестанно требовала еды и с интересом расспрашивала, что будет на завтрак, на обед.
Однажды утром я впервые встала после болезни и, слабая, едва держась на ногах, пошла проведать маму. Я едва узнала ее. Кожа у мамы была странного желтоватого оттенка, черты лица заострились, а глаза словно провалились в глубокие ямы. Мама была без сознания и не узнавала меня. В ужасе от мысли, что она может умереть, я непрестанно заходила к ней в спальню. К счастью, вскоре кризис миновал, и она тоже стала выздоравливать.
Судьба, как будто не удовлетворенная содеянным, ударила еще раз — теперь Гермоша заболел дифтерией. Мама, все еще тень самой себя, настояла, чтобы кровать Гермоши поставили рядом с ее кроватью. Видя, как он борется за каждый вдох, она не покидала его изголовья. Бабушка махала над ним наволочкой, чтобы создавать ток воздуха. Когда она уставала, ее сменяла Марина. Но спас Гермошу дедушка.
Все трое мы медленно возвращались к жизни. Так как волосы у меня и у мамы вылезали целыми прядями, дедушка посоветовал нам остричься наголо, предупредив, что если мы не сделаем этого, наши волосы никогда не станут прежними. Сначала мы обе категорически отказались, но потом согласились укоротить прическу до линии уха.
В назначенный день пришел парикмахер, обходительный молодой человек. Семья собралась вокруг наблюдать за происходящим. Мамины волосы подрезали так, как она хотела. Потом усадили меня, и я твердо попросила, чтобы волосы мне подрезали до мочки ушей и ни на йоту больше. Парикмахер двигался где-то сзади, и прежде чем я успела остановить его, он прошелся ножницами по моему затылку. Рассвирепев от его предательства, я бросилась к зеркалу. Конечно! По всей голове шла выстриженная полоса! Все это было, разумеется, заранее хитро спланировано, потому что из ниоткуда тут же возник маленький чепец, отделанный кружевами и лентами, и бабушка уверяла, что он мне будет очень к лицу. Вынужденная смириться с утратой, я носила эту ерундовину на своей макушке, лишенной всех локонов и гладкой как бильярдный шар.
Дедушка был прав. Мамины волосы никогда уже не стали прежними, зато я к концу лета стала счастливой обладательницей целой шапки кудрей. Когда я пошла в школу, то с удовольствием обнаружила, что многие девочки, тоже переболевшие тифом, должны были носить на голове чепчики или тюрбаны.
Как-то вернувшись из школы, я увидела, что бабушка очень расстроена, а с ней и все семейство встревожено. Оказалось, что утром дедушка потерял сознание и упал. Из больницы его принесли на руках. Долгое время он работал с огромным напряжением, сутками, почти без отдыха. Во время эпидемии тифа госпитали были переполнены, матрасы для больных приходилось расстилать прямо на полу. Зачастую дедушке приходилось вставать на колени, чтобы осмотреть больных, и в конечном итоге он тоже заразился тифом.
Дедушка был очень серьезно болен. В доме опять появилась сиделка, которая ухаживала за ним. Сама она спала в соседней комнате. Дважды в день бывал доктор Гренков. Мы все ходили на цыпочках. Бабушке это было страшным напоминанием о том, как она уже теряла мужа, моего дедушку. Бабушка словно заново переживала ту трагедию и не отходила от дедушкиного изголовья. Но его организм оказался крепким, и после нескольких недель борьбы с болезнью дедушка выздоровел. Когда он снова был на ногах, бабушка послала за священником отцом Александром, который пришел и отслужил благодарственный молебен, окропил все комнаты святой водой. Мы благодарили судьбу, ведь в нашей семье четверо были на краю могилы, но по милости божьей спаслись.
У всей этой истории, которую я сейчас рассказываю, было странное продолжение. Однажды, полвека спустя, в русской православной церкви в Эдинбурге ко мне подошла маленькая сухонькая женщина.
— Это правда, что вы из Архангельска? — спросила она.
— Да, — ответила я.
— Я тоже из Архангельска, работала сестрой милосердия в городской больнице, помогала доктору Александру Егоровичу Попову. Вы, вероятно, слышали о нем?
— Это мой дедушка, — ответила я.
— Тогда, должно быть, это у вас был прекрасный сад. Я помню, как жарким летом доктор велел мне и моей подруге, тоже сиделке, с которой мы тогда работали день и ночь, пойти к нему в дом, где его жена угостит нас чаем и отведет в сад, чтобы мы немного отдохнули. День был прекрасный. Я никогда не забуду этот мирный уголок, чудесные цветы. Мне хотелось остаться там навсегда. А когда доктор сам серьезно заболел, я жила у вас в доме и ухаживала за ним. Но помню, что немного раньше я ухаживала в вашем доме за английской дамой, которая тоже была очень больна. Никто не верил, что она выживет. Там были двое детей, тоже больные. Мне кажется, что эта дама была его невесткой…
— Да, — согласилась я. — Мальчик — это мой брат, девочка — я, а та дама — наша мать.
— Мир и впрямь тесен, и пути наши неисповедимы, — заключила она.
Лиза, так ее звали, умерла вскоре после нашей встречи. Пути, которыми вела ее судьба, были действительно странными. В 1918 году она бежала из России на ледоколе, переодевшись юношей. После множества приключений добралась до Норвегии, оттуда — в Шотландию, где осталась и вышла замуж.
В начале июня 1916 года наш город готовился к важному событию. Ждали прибытия лорда Китченера, который затем должен был проследовать в Петроград для встречи с царем. Никто не знал цели его приезда, но надеялись, что его визит ускорит окончание войны. Потеряв миллионы своих сыновей, Россия уже устала воевать и молилась о конце военных действий.
Китченера собирались встречать хлебом-солью, воздвигли даже триумфальную арку, но вмешалась безжалостная судьба. 5 июня корабль «Гемпшир», на котором он следовал в Архангельск, подорвался на мине у Оркнейских островов и затонул. Китченер оказался в числе погибших.
В то лето, насколько я помню, хотя многие и были обеспокоены неудачным ходом войны, никто не высказывал никаких страхов перед революцией. Все было вполне обычно, жизнь шла своим чередом. К нам постоянно наезжали и неделями жили гости. Моя двоюродная сестра Милица, старшая дочь тети Ольги, приезжала с мужем провести у нас часть своего медового месяца. Она вышла замуж за молодого офицера Володю Пастернака сразу по окончании школы. Милица была необыкновенной девушкой, ее очарование невозможно передать словами. Хотя все сестры были привлекательны, но только Милица обладала поистине гипнотическим обаянием, которым у нее было отмечено все: движения, улыбка, разговор и прелестная привычка поднимать брови и слегка щурить глаза, когда она кого-либо слушала.
Приезжала также тетя Ольга с двумя младшими дочерьми, Златой и Женей. Моя двоюродная сестра Злата, на несколько месяцев старше меня, была блондинкой с золотистыми волосами, с большими, как черные вишни глазами в темных пушистых ресницах и темными, тонко очерченными бровями, что считалось необычайно красивым. Она была единственной светловолосой дочкой у тети Ольги, и чтобы волосы дочери не темнели, тетя Ольга полоскала их настоем ромашки.
Больше мы не встречались с тетей Ольгой, но в 1949 году, после двух войн и революции, Злата, Женя и я встретились на вокзале Гар дю Нор в Париже. После второй мировой войны я связалась с моими кузинами в Финляндии и узнала, что Женя, теперь уже замужняя, живет в Париже, в большой семье русских эмигрантов, а Злата живет с ней.
Мой муж, два моих сына и я по дороге в Шотландию после отпуска, проведенного в Швейцарии, решили встретиться с кузинами в Париже. Договорились, что будем узнавать друг друга по одежде: наши сыновья наденут шотландские юбки, а у Златы и Жени будут белые бутоньерки. Однако мои двоюродные сестры забыли про бутоньерки, но я, мчавшаяся впереди сыновей и мужа, нисколько не сомневалась. Ведомая каким-то чутьем, я сразу узнала их среди множества людей. Мы счастливо провели нашу встречу и затем часто навещали друг друга, пока Злата не умерла в Финляндии, а Женя в Париже. Женя стала мне самой близкой подругой и последним связующим звеном с моим далеким прошлым.
В последнее перед революцией лето в Архангельске находилось несколько кораблей союзников. У себя в доме мы принимали многих офицеров, а для молодых моряков корабля «Шампань» наш дом стал вторым домом. У нас довольно свободно говорили по-французски, особенно отец, и это очень нравилось морякам, ведь они были так далеко от дома.
В ответ на наше гостеприимство маму и других членов нашей семьи однажды пригласили на борт корабля на званый обед. Меня, к моему огорчению, с собой не взяли, поэтому на следующее утро, слушая восторженные рассказы о том, как весело было на корабле, я сделала вид, что ничуть не завидую. Только Володя вернулся с корабля не в духе. Он был раздражен тем, что один из офицеров открыто флиртовал с Милицей в самой изящной французской манере. По возвращении домой последовала небольшая ссора, в ходе которой Милица заметила с присущим ей нежным очарованием, что она не виновата в том, что нравится другим мужчинам.
Их брак оказался коротким. После развода она вышла замуж за финского консула по фамилии Лаурисон. Некоторое время они жили в Германии, потом — в России, и Милица могла бывать в Архангельске, который к тому времени был закрыт для туристов. Таким образом она имела возможность передавать оставшимся членам семьи новости о родственниках, оказавшихся за рубежом.
Однажды за столом Сережа, только что приехавший на каникулы, вдруг объявил непререкаемым тоном, что он бросает университет и собирается идти в армию в надежде, что скоро попадет на фронт. Россия, сказал он, для него дороже, чем собственная карьера и даже жизнь. Будучи идеалистом, Сережа хотел пойти рядовым, чтобы делить с солдатами трудности войны. Когда он закончил свое заявление, все молчали. Никто не решился переубеждать его. И действительно, вскоре Сережа уехал на предварительную подготовку в мобилизационный центр.
В кухне произошли изменения. Дуня, много лет служившая у нас кухаркой, теперь часто болела и решила уехать в деревню. Ее сменила бойкая маленькая вдова по имени Еничка. Она была уже не первой молодости, имела взрослую дочь и внучку моего возраста по имени Лидка, которая, навещая бабушку, приходила наверх поиграть со мной. К сожалению, у нее была неприятная привычка красть мелкие вещички, которые ей нравились. Поэтому Еничке приходилось проверять внучкины карманы, прежде чем Лидка шла домой.
Для Гермоши тоже наступило утро, когда он отправился вместе с Юрой в Ломоносовскую гимназию — в черном мундире гимназиста, кожаный ремень с пряжкой, серая шинель и фуражка военного образца. В памяти сохранилась такая картина: маленький мальчик в тяжелом пальто гордо шагает, изо всех сил стараясь не отставать от высокого дяди.
Ранней зимой нас удивило появление у ворот незнакомого солдата. Оказалось, что это муж Ириши, демобилизованный из армии. Вахонин, так его звали, был ранен в руку и потерял два пальца. Ириша, которая все еще жила с маленьким сыном в сторожке, была вне себя от радости. У них снова началась семейная жизнь.
Как-то вечером Вахонин зашел к отцу, который хотел узнать из первых рук, что происходит на фронте. Бывший фронтовик с горечью говорил о взяточничестве и коррупции в армии, о нехватке провианта, а самое главное — бессмысленных человеческих жертвах. Среди солдат ходили слухи, что «немка» дурно влияет на царя через Распутина, страшного монаха. Ее они винили во всех неудачах и бедах. Слова лились с уст Вахонина злым потоком.
— Зачастую мы воюем голыми руками, — говорил он. — Счастье, если тебе достается ружье погибшего товарища.
И он рассказал, как его части было приказано наступать и занять какую-то позицию. После страшного боя они взяли ее, потеряв очень много солдат, и затем удерживали, ожидая помощи и боеприпасов, но ничего не дождались и были вынуждены отступить. Лишь горстка людей добралась до своих окопов.
— Я даже рад, что лишился пальцев. Я сыт по горло. Запах смерти, гниющие заживо тела, мухи, черви — ради чего все это? Все зазря, Герман Александрович, все зазря — Россия кончена.
Никто не сомневался в правдивости страстного рассказа Вахонина, слухи такого рода уже давно доходили до Архангельска. Но, несмотря на его едва зажившие раны, потерянные пальцы, опустошенное лицо, было в нем что-то такое, что настораживало нас. Открыто поговаривали, что он сам себя ранил.
Вахонин поселился в сторожке, в уютном домике с бесплатным отоплением и светом (бабушка, конечно, никогда не смогла бы выставить раненого солдата с женой и ребенком, когда им некуда идти). И все бы хорошо, если бы не Николай. Он уже некоторое время ухаживал за Глашей, надеялся жениться на ней и жить в сторожке, которая всегда предназначалась для кучера. Николаю не нравилось соседствовать с Василием, он его раздражал, а так как была зима, у Николая в комнате еще и куры эти бродили под ногами. Он нашел работу на лесопилке и ушел от нас.
Николая заменил молодой добродушный гигант по имени Арсений. В отличие от своего молчаливого предшественника Арсений всегда готов был посмеяться, ввернуть грубоватую шуточку, выполнить любую работу, не входящую в его обязанности: починить сани или приделать новое крепление на мои лыжи. У нас он был очень популярен, но особую привлекательность Арсений имел в глазах нашей кухарки Енички. Смысл этого явления был для меня пока еще тайной за семью печатями.
Еничка, которая годилась Арсению в матери, была охвачена последней в своей жизни страстью, расцветшей подобно подснежнику зимой. Для Арсения у нее всегда был припрятан кусочек чего-нибудь вкусного от собственного обеда или украденный из кладовой. Зачем отказываться от угощения, если это так радует Еничку? Не радовалась Арсению только Глаша. Ей приходилось делить комнату с Еничкой, и его вторжения ее возмущали.
И вот как-то раз, помогая Капочке сортировать белье перед стиркой и не подозревая о моем присутствии, Глаша дала волю своему негодованию:
— Капитолина Семеновна, стыдоба-то какая: намедни вижу, дверь в спальню закрыта, и она там говорит Арсению: ты как любишь, в чулках или без?
В этот момент Капочка ее перебила, резко мотнув головой в мою сторону. Когда Глаша вышла из комнаты, я, переполненная любопытством, спросила Капочку, что предлагала Еничка с надетыми чулками.
— А ты помалкивай, — сказала Капочка, — уши у тебя теперь такие длинные, что можно завязать под подбородком.
Я была огорчена и не могла понять, за что Капочка так обидела меня.
Вскоре после этого разговора Глаша ушла от нас, чтобы выйти замуж за Николая. Он теперь неплохо зарабатывал на лесопилке и купил небольшой домик недалеко от Маймаксы. Глашу заменила крестьянская девушка Катенька. Еничка и Арсений продолжали работать у нас, но их любовь, как мне кажется, умерла естественной смертью.
В ноябре Сереже дали короткий отпуск перед отправкой на фронт. К этому времени в нем произошла огромная перемена. Он выглядел так, словно перенес тяжелую болезнь — лицо побледнело и похудело, форменная одежда висела на нем. И все же Сережа был непоколебим. Он никогда не рассказывал о пережитых трудностях, разве что упомянул безобразный порядок — из одного котелка ели двое, а иногда и несколько солдат. Находя это возмутительным и нестерпимым, он иногда предпочитал обходиться вовсе без еды.
Его приехала повидать кормилица Вера, которая жила в Холмогорах. Она была очень привязана к Сереже. Я помню, как она сидела рядом с ним на краешке кровати. Сережа что-то объяснял ей, а она, нежно поглаживая его рукав, слушала, и слезы катились по ее лицу.
Долгое время от Сережи ничего не было, но в начале рокового 1917 года мы получили коротенькое послание, что он жив и ждет назначения на Силезский фронт.
Когда темный месяц декабрь уже подходил к Рождеству, до Архангельска докатилась поразительная весть — 16 декабря убит Григорий Распутин, сибирский крестьянин, имевший огромное влияние на императрицу.
Много писали и говорили об этом полуграмотном крестьянине. Некоторые считали его святым, другие полагали, что он во власти дьявола. Распутин был известен своим развратом и пьянством, но он обладал даром предвидения и излечения. Предвидение могло оказаться простым совпадением, но дар целительства невозможно отрицать или объяснить. Слава волшебного врачевателя распространялась и достигла Петербурга, где его представили императрице.
Юный цесаревич Алексей страдал гемофилией, болезнью, от которой не было лекарств, ни один врач не мог облегчить его страдания. В отчаянии императрица обратилась к Распутину, веря, что он спасет ее сына и будущее российского трона. Множество надежных свидетелей подтверждают, что неизвестная сила, которой владел Распутин, спасла царевича на пороге смерти, причем не однажды, а несколько раз.
Что это была за сила? Некоторые считали это особого рода гипнотизмом. Гипноз может облегчить страдания, но как с его помощью убрать кровоподтеки на лице, опухлость суставов, высокую температуру — симптомы приближающейся смерти? До сих пор никто не может дать убедительного ответа.
Говорят, что гемофилия стала одним из звеньев в цепи несчастий, которые привели к революции и изменили сущность нации. Какой-то ангел-хранитель, вероятно, берег трон Британии, потому что королева Виктория, носительница гена смертельной болезни, передала его только младшему сыну Леопольду. Будущий король Эдуард и его братья избежали его, но две дочери стали носительницами гена, и именно они распространили болезнь на королевские дома всей Европы.
Царевич был единственным сыном и наследником русского трона. Нельзя винить императрицу в том, что она обратилась к человеку, который, она надеялась, единственный мог спасти ее ребенка. Если бы только деятельность Распутина ограничивалась лечением ребенка! Но власть портит человека, и чудодей зарвался. Он начал вмешиваться в управление страной и в ведение войны. Честные способные люди смещались со своих постов, их заменяли людьми низкого пошиба, которым нельзя было доверять. Императрица, твердо уверовав, что сам Господь говорит устами «святого старца», следовала его советам, упрекая тех, кто относился к нему иначе, чем она. С решительностью, не терпящей других мнений, она требовала, чтобы царь следовал рекомендациям Распутина. Царь, слабый и неуверенный в себе человек, поддался своей невротичке-жене ради спасения ребенка.
Выход был только один — Распутина нужно убрать. Обманом приглашенный в дом князя Юсупова, женатого на царской племяннице, с помощью других заговорщиков, среди которых был двоюродный брат царя князь Дмитрий, Распутин был убит. Его тело, спущенное в прорубь, было найдено через два дня.
По стране словно пронесся вздох облегчения. И все же есть что-то зловещее в том, что в убийстве был замешан член царской семьи. Это как если бы в пчелином улье пчелу-матку ужалили ее сестры. Этот поступок, казалось, предвосхитил приближение еще большего несчастья.
Помню раннее мартовское утро. Я шла по слякотному тротуару в гимназию. Высокие потемневшие сугробы еще держались вдоль мостовых, но заметно съежились. Снег исчезал.
Когда я подходила к гимназии, меня обогнала процессия мужчин и женщин, двигавшаяся по проезжей части улицы с пением «Марсельезы». Над головами демонстрантов развевались флаги. Процессия прошла в сторону Соборной площади.
В верхнем зале гимназии состоялась обычная линейка и утренняя молитва. Все парами стояли лицом к алтарю, позади — учителя, собравшиеся вокруг директрисы Наталии Павловны. Хористы заняли свои места на возвышении. Священник ждал сигнала к началу службы. Все замерли, чувствуя, что происходит что-то необычное. Наталья Павловна обратилась к нам:
— Девочки, многие из вас, вероятно, слышали, что в нашей стране произошла революция. Мы больше не будем петь национальный гимн в конце службы. Вот и все, — закончила она, не в состоянии сказать что-нибудь еще.
На стенах, где вчера висели портреты царя и его семьи, теперь было пустое место. Началась новая эра.
В нашем доме известие о революции было встречено со смешанными чувствами: печали, неуверенности и смирения перед свершившимся. Но над всеми эмоциями преобладала страстная надежда, что демократическое правительство положит конец войне, прекратит эту страшную бойню.
В первые месяцы после революции в городе царило волнение и оптимизм. Проводились шествия, устраивались концерты, ставились пьесы, а в самом большом кинотеатре при переполненном зале шел фильм о Распутине, о его злом влиянии на императрицу.
В одном из концертов, организованном для сбора средств, принимали участие гимназисты и гимназистки. Одетые в национальные костюмы, мы стояли группками по всей сцене. Когда поднялся занавес, «старая матушка Русь» в обличье злой бабы Яги медленно провалилась под пол на сцене, а по мере того как она исчезала, через какое-то хитрое приспособление появлялась молодая красавица, одетая в красный сарафан. У молодой новой России, к сожалению, случились какие-то трудности при пролезании через люк с большим красным флагом. Но как только над сценой появилась ее хорошенькая головка, мы грянули «Марсельезу» на русском языке.
Потом последовали разные кнцертные номера. Я тоже участвовала в одном из них. Это был танец-шутка с пением. Девочки, взявшись за руки, стоят перед шеренгой мальчиков. Потом девочки наступают, поддразнивая мальчиков, затем отходят назад, а мальчики преследуют их. Энергичный и веселый танец в сопровождении оркестра балалаек, к сожалению, был слегка омрачен тем, что моя нижняя юбка расстегнулась и вылезла из-под сарафана. Это вызвало у зрителей непристойное веселье, а у мамы — беспомощное отчаяние. Ей пришлось наблюдать, как ее дочь носится туда-сюда по сцене в полном самозабвении, а юбка болтается у нее меж ног.
В конце спектакля все участники вышли на сцену под овацию присутствующих. Снова исполнили «Марсельезу» — с тем же воодушевлением три года назад пели национальный гимн «Боже, царя храни», а моя юная тетя Марга стояла, блистая, в национальном костюме Древней Руси, окруженная союзницами.
День за днем Россия, как корабль без руля, неслась к катастрофе. Ораторское искусство Керенского не могло вдохновить войска на продолжение войны. Солдаты расстреливали офицеров, дезертировали, грабили поместья и убивали владельцев. Эти ужасы пока не дошли до наших краев, и все наши мысли были заняты в основном насущными проблемами.
Отсутствие самых необходимых вещей стало необычайно острым. На рынке крестьяне еще продавали, хоть и дорого, молоко и масло, но не хватало муки, мяса, сахара, чая и даже мыла. Наша семья была удачливее других, потому что у нас были овцы, и проблемы с мясом не было. Мы даже могли помогать друзьям. Однако и нас ждал неприятный удар: умер наш баран. Привезти ему замену из Шотландии из-за войны было невозможно. Никто в семье, да и в округе, ничего не знал об овцеводстве, потому что здесь разводили только молочных животных. Пришел на помощь Митька Шалый: «Вам нужен баран? Будет!».
Баран действительно появился. Он был огромный, гладкошерстный, с необычной головой и длинными хлопающими ушами. Овечки от него в ужасе разбежались. Презираемый и отвергнутый, он тем не менее брел за ними следом на любимое местечко у реки. Однажды, сочтя притязания барана более чем утомительными, они попросту столкнули его за валуны в реку. Вот и весь сказ. Глупые овцы дорого заплатили за свою хитрость. Одну за другой их зарезали, и какое-то время баранина была у нас в избытке.
Летом между двумя революциями бабушка решила ненадолго съездить в Холмогоры, лежащие примерно в тридцати верстах вверх по реке. Холмогоры известны как молочный край нашего Севера благодаря знаменитой породе коров, впервые завезенных из Голландии Петром Великим. Бабушка считала, что свежее молоко и масло пойдут мне и Гермоше на пользу, и взяла нас с собой. В Холмогорах жила Сережина кормилица Вера. Было решено, что Гермоша и я сначала поживем у нее, а затем — у бабушки, которая устроится в монастырской гостинице.
Вера, в молодые свои годы потеряв ребенка, пошла кормилицей к Сереже. Они с мужем копили все, что зарабатывали. Они купили солидный двухэтажный дом и на первом этаже открыли трактир. Весь низ занимали огромная кухня и одна большая комната, где на буфетной стойке стояли всегда кипящий самовар и подносы с Вериными ватрушками, пирожками с грибами, рублеными яйцами и капустой, прикрытые чистым холстом. В начале войны Верин муж, умный малый, предвидя дефицит продуктов, купил много товару, особенно сахару, чая и муки. Так что у них можно было выпить стакан чая с маленькой толикой варенья, его Вера сама варила из диких ягод — роскошь, о которой в Архангельске почти забыли. Тут же стояли бочки с квасом. На столах всегда были тарелки с подсоленными черными сухариками. Верина дочка Шура готовила их ежедневно. Мне нравилось помогать ей нарезать хлеб на маленькие кубики, которые затем сушили в духовке и подсаливали. Похрустывая этими солеными кубиками, посетители быстро начинали испытывать жажду и выпивали квасу больше обычного, от чего, в свою очередь, росла выручка.
Несколько дней мы с бабушкой провели в гостинице при монастыре. Успенский монастырь был очень оживленным местом. Все работы: уход за скотом, труд на полях — выполняли монахини. Номера были безукоризненно чисты, их скребли и мыли каждый день. Мы устроились в просторной и удобной комнате.
На стол накрывали в трапезной, куда допускали только женщин и девочек. Мужчинам и мальчикам еду носили в гостиницу, где Гермоша обедал в мужской компании гостей.
В трапезной стояли длинные столы, вдоль них — скамейки. В центре трапезной, стоя за пюпитром, монахиня читала отрывки из Библии в течение всей трапезы. На первое подали, я помню, жирную уху. В ней плавали кусочки рыбы и картофеля. Я бы получала от еды большее удовольствие, если бы не пришлось есть втроем-вчетвером из одной миски. Я ничего не имела против своей ближайшей соседки, хорошенькой молодой монахини, но напротив меня сидела странница, которая пускала слюни и громко чавкала, вытаскивая из миски лучшие куски. На второе подали две миски: в одной — гречневая каша с небольшой ямкой в центре, где таяло масло, в другой — свежее жирное молоко. Опять пришлось есть из одной миски. Хоть я и любила гречневую кашу, но сейчас решила, что такое угощение не для меня, и быстро положила ложку. С того дня я ела с Гермошей и другими мальчиками. Бабушка, будучи глубоко религиозным человеком, преодолела отвращение и продолжала посещать трапезную. «Все мы божьи дети», — укоряла она меня, но это утверждение мне было так же трудно «проглотить», как кашу в трапезной.
Однажды нас пригласила к чаю добрая настоятельница. В залитой солнцем комнате стол был накрыт вышитой льняной скатертью и буквально ломился от всяких вкусных вещей, пирожков и вазочек с земляникой и сливками. Хозяйка деликатно, но настойчиво просила нас попробовать всего, пока мы не наелись до отвала.
Был праздник святого Успения. Придя на утреннюю службу, мы увидели, что из-за большого скопления народа в церкви не протолкнуться. К стене прислонилась маленькая высохшая старушка. На клобуке и черном одеянии ее, покрывавшем сухое тело, были вышиты черепа и скрещенные кости. Это была черная монахиня, одна их тех, кто полностью посвятили себя Богу. Жила она где-то в глубине монастыря, молилась день напролет, спала в гробу и питалась только хлебом и водой. Ее морщинистое, пергаментное лицо, полуприкрытое клобуком, уже было отмечено печатью смерти. Люди подходили к ней за благословением. Ее похожая на птичью лапку рука осеняла их крестом. Делала она это механически, не поднимая головы.
Вечером состоялся крестный ход молящихся с факелами. Во главе со священником, с ноющими монахинями процессия обошла вокруг монастыря. Белые ночи уже миновали. Масса огненных копий достигала небес; летящие дождем искры напоминали облака светлячков, озера света, отражавшиеся в гладких водах рва, освещали сгущавшуюся мглу.
Молодежь и дети бегали. Их тени танцевали на стенах. Они смеялись, перекликались друг с другом. Мы бегали вместе с ними.
По возвращении нас ждали безрадостные новости. Победа генерала Брусилова на австрийском фронте, принесшая некоторую надежду, перечеркнута поражением от свежих немецких резервов. Говорильня Керенского оказалась бесплодной. Он не смог вдохновить уставшие войска на продолжение войны. Более действенным оказался лозунг большевиков: «Мир — народам, земля — крестьянам, власть — Советам!». Солдаты бросали оружие и бежали с полей заклания, а тех, кто пытался их остановить, просто убивали. В офицеров стреляли по ногам, а потом приканчивали штыками.
В конце августа от нас уехала Капочка. В городе жил некий богатый делец Укропов, жена которого сбежала с любовником, бросив его с тремя маленькими детьми. Отец, растерянный и беспомощный, был в отчаянном положении. Грустные, ничего не понимающие дети нуждались в любви и заботе, чтобы заполнить пустыню, которая осталась после бегства бессердечной матери.
Обратились к Капочке, затем к бабушке. Капочке предложили жалованье гораздо выше, чем у нас, но главное — она будет управлять домом, прислугой — в общем, станет сама себе хозяйка. Кроме того, обеспечивалось ее будущее: когда придет пора удалиться от дел, у нее будет дом и приличная пенсия. Хорошо относясь к Капочке, бабушка посоветовала ей принять это предложение, и Капочка, будучи всего лишь женщиной, согласилась.
Сначала мне не верилось, что Капочка может уехать от нас навсегда. Как она оставит меня, спрашивала я себя в своем детском эгоизме, Капочка, которая заботилась обо мне, когда уехала мама, расчесывала и заплетала мне волосы, пришивала белые воротнички на школьное платье и готовила его к утру каждый вечер; Капочка, которая в зимние вечера сидела рядом, рассказывала чудесные сказки или тихо пела мне при свете лампадки? Это она научила меня всем нашим песням, и расстаться с ней было очень трудно.
Увы, планы Укропова и его обещания не сбылись. Его дело и дом были конфискованы. Капочка уехала в Петроград к своей сестре. Через двадцать лет сестры погибли в блокадном Ленинграде.
Вернувшись однажды из гимназии, я увидела, что мама очень расстроена и плачет. Утром из Шотландии пришла телеграмма. Дедушка сообщал, что бабушка серьезно больна, и просил маму приехать в Шотландию. После массы хлопот и попыток связаться с разными людьми пришла помощь от влиятельного лица. Нашлось место на одном из британских судов, готовящихся отплыть в Англию.
В начале октября, когда на реке уже появился первый лед, Гермоша, я, бабушка и Марина пошли провожать маму. День был серый, дул холодный ветер. Мы с Гермошей чувствовали жуткое одиночество. Судно уходило вечером. Мы попрощались и теперь стояли, глядя, как мама с залитым слезами лицом поднимается по трапу. Поднявшись, она повернулась и помахала нам рукой, потом скрылась внутри судна.
На обратном пути бабушка пыталась нас развеселить, говорила, что мама, наверное, вернется обратно на ледоколе как раз к Рождеству (но так не случилось). Вечер мы провели у окна и наконец были вознаграждены, заметив темную громаду судна, проплывавшего мимо нашего дома прежде чем скрыться за Соломбалой.
Теперь с нами не было ни мамы, ни Капочки, и папа пригласил Осу помогать бабушке присматривать за нами. Это необычайно польстило и вполне устроило ее, тем более что она могла продолжать свои занятия повитухи, жить в удобной комнате и иметь прибавку в доходах. Ее обязанности были несложными: смотреть, чтобы мы были опрятно одеты, штопать необходимые вещи, немного шить, например, пришивать белый воротничок на мое платье. Что, кстати, я уже делала сама.
Оса всем этим вообще не занималась. Она беспрестанно курила, приворовывая папиросы у отца. Что касается штопки чулок, которые теперь было очень трудно купить, она выбрасывала их в туалет, к великому удивлению мужиков, пришедших по весне чистить выгребную яму.
Тем временем после штормового перехода мама благополучно добралась до Шотландии. Грэнии уже выздоравливала после испанки. Все мамины расспросы о ледоколе были напрасны. Еще бессмысленней они стали после Рождества, потому что в России шла война, да и других препятствий было множество.
К концу октября Россия практически вышла из войны. Керенский бежал, оставив молодых кадетов и бравый женский батальон защищать Зимний дворец. Это была безнадежная попытка. Защитники были арестованы, власть перешла к правительству Ленина.
В ноябре с фронта вернулся Сережа. Для него война закончилась. Его подхватила волна солдат, бросившихся за землей, которую обещали. По пути они грабили имения и убивали владельцев. Он был свидетелем ужасающих сцен, и позже с несвойственным ему цинизмом говорил: «Никто не сравнится с нашим добрым мужиком, когда он пускается во все тяжкие».
До дома Сережа добирался много дней: пешком, на поездах, набитых завшивевшими солдатами. Тиф косил людей. На каждой станции умирающих и заболевших без церемоний выкидывали из вагонов. Наконец добравшись до Вологды, он обнаружил там тот же хаос. При посадке была настоящая драка, но он сумел забраться в поезд на Архангельск. Ему повезло. Многие так и остались на перроне. Другим пришлось ехать на крыше, откуда они, случалось, падали, замерзнув или потеряв осторожность. Совершенно вымотанный Сережа уснул прямо в углу тамбура и проспал всю дорогу до Исакогорки. Оттуда он шел пешком, перебрался через покрытую льдом реку и наконец вошел в ворота родного дома.
Сережа вернулся, но где тот мальчик с высокими идеалами и страстным патриотизмом? Вместо него пришел грязный и усталый человек в изношенном мундире. Его изможденное лицо, запавшие глаза были наглядным свидетельством страданий. С чердака спустили старую оцинкованную ванну. Женщин выгнали из кухни, Юра сам любовно и бережно отмывал брата. Сережа, не евший несколько дней, после обеда свалился и проспал почти сутки.
Приближалось Рождество. Хотя средств для встречи его было меньше, чем когда-либо, мы все еще могли предложить друзьям праздничный обед. Забили последнюю овечку — по крайней мере будет жареная баранина на столе.
Дни шли. Гермоша и я еще тешили себя надеждой, что мама вернется к Рождеству. Мы писали ей маленькие письма, однако я сомневалась, доходят ли они до нее. И все же много лет спустя, разбирая мамины вещи после ее смерти, я нашла одно из своих писем, которое пришло, когда она только приехала в Шотландию. Оно оказалось единственным. Хотя ей, наверное, трудно было разобрать мои каракули (она так и не освоила письменный русский язык), она все же хранила его все эти долгие десятилетия. На пожелтевших страницах неровным детским почерком с несколькими исправлениями и помарками выведены выцветшие строчки:
«Дорогая мама, я пишу тебе это письмо в детской. Гермоша, Толя Мамонтов и Володя играют в карты, они смеются и кричат, отчего у меня в ушах просто звенит. Мама, Оса плохо к нам относится. Большую банку варенья, которую ты оставила специально для нас, она прикончила сама. Оса дала нам несколько ложечек, а сама ела полные блюдца. А когда мы попросили еще, она обозвала нас обжорами. Это несправедливо! У нас почти не осталось чулок, она не чинит даже маленькие дырочки, а бросает чулки в туалет. Бабушка заметила это и очень рассердилась.
А в гимназии нам сказали, что нас будут учить английскому языку, в таком случае я буду получать только пятерки. Гермоша и я собираемся на Рождество дарить всем подарки, которые мы купим на сэкономленные деньги. Покупать почти нечего. В твоем ящике я нашла новую коробку с красивыми носовыми платками, это нас выручит. По два мы подарим Марге, Марине и тете Пике. Я надеюсь, грэнни уже лучше. Передай ей и дедушке привет. Мама, пожалуйста, приезжай скорее. Твоя любящая дочь Ина».
Никакой ледокол не привез маму к Рождеству, а через Финляндию она не могла приехать из-за беспорядков.
Известно, что дети легко свыкаются с обстоятельствами. Проглотив разочарование, мы нашли утешение в разработке тайного плана. В этот год впервые все, кто приедут к нам на Рождество, получат подарки от нас. Правда, магазины перестали работать, но пока еще был открыт один, где продавались канцелярские принадлежности и прочие мелочи.
За несколько недель до Рождества коротким зимним днем мы отправились в центр города с санками. Конечно, поехать на трамвае было бы проще, но нам показалось, что санки более соответствуют Рождеству. Мы провели долгие часы в магазине, тщательно прикидывая наши деньги к тем немногим бессмысленным товарам, которые были в продаже. Для бабушки была куплена затертая покупателями книга о цветах — она стоила дороже, чем мы рассчитывали, но ведь бабушка стоила того. Три эстампа мы схватили сразу, пока их не перекупил кто-нибудь. Два были совершенно одинаковые — на них был изображен мертвый японский солдат на поле боя, а третья изображала падение Порт-Артура. То, что картинки одинаковые, нас не смущало, ведь они будут висеть в разных комнатах. Они предназначались для дедушки, Сережи и Юры. Почему мы решили, что им понравится напоминание о страшной японской войне? Потом были куплены ручки, карандаш, маленькие цветные коробочки, записные книжки и, наконец, рулончик красной креповой бумаги, чтобы завернуть все подарки. Его мы купили на последние копейки.
Луна была уже высоко, когда мы направились домой, таща санки меж сверкающих сугробов. Все купленное вместе с санками мы спрятали под кроватью. На следующий день мы провели много волнующих часов, заворачивая подарки и укладывая их в санки, которые тоже украсили ватой и мишурой.
В канун Рождества состоялась ежегодная встреча. После обеда, когда все собрались в танцевальном зале, Гермоша и я вытащили санки прямо к елке. Кажется, всем понравились наши подарки, хотя изображение мертвого японца так и не появилось ни в одной из комнат. Это Рождество — одно из последних, когда бабушка принимала гостей со всем радушием и щедростью, какими она славилась, но оно было похоже на пламя, взвившееся ярким языком, прежде чем угаснуть.
“Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс”. Это начало великого романа Михаила Булгакова «Белая гвардия». Много рассказов, романов написано о гражданской войне, некоторые из них компетентно, другие с предубеждением и неточностями. Но даже если прочитать их все, обычный человек вряд ли поймет всю картину этой самой страшной из войн — гражданской.
Из всего, что я прочла и слышала, из моего собственного юношеского опыта, полученного более шестидесяти лет назад, я воспринимаю эту гражданскую войну как особый промысел самого сатаны. Люди одной культуры, говорящие на одном языке, исповедующие одну религию, впитанную в детстве, разрушали собственную страну. В каждом уголке этого огромного пространства шли бои, менялись границы, мчались лошади, люди шли в атаку, наступали и отступали, занимали и сдавали города и деревни; репрессии, пожары, дым, застилающий небеса. Беспомощные женщины и дети бродили на пепелищах деревень, умирали на пыльных дорогах под палящим солнцем или под снегами в мерзлых степях.
Все это позже. А сначала, после того как был взят Зимний дворец и пал Петроград, Ленин, решив захватить власть по всей России, разослал инструкции во все провинции. Их претворяла в жизнь армия комиссаров и агитаторов.
Переворот в Архангельске в декабре 1917 года можно считать бескровной передачей власти. К январю 1918 года большевики имели полный контроль над городом. После захвата города многие запасы, привезенные союзниками, были отправлены на юг, так что жизнь горожан стала гораздо сложнее. Атмосфера была тревожной, начались аресты. Ходили слухи, что все предприятия будут национализированы, а частная собственность — конфискована без возмещений. Люди заметно изменились — даже те, кто раньше были очень доброжелательны, теперь стали оскорбительно высокомерны.
Однажды Василий пришел и пожаловался, что Вахонин, все еще живший в сторожке, ворует у нас драгоценные дрова и продает их кому-то в соседнем дворе очень простым способом — выломав доску в сарае и проталкивая поленья через дыру. Возмущенная бабушка отправилась в сторожку расследовать это дело. Вахонин даже не пытался отрицать содеянное. «Вы, кровопийцы, буржуи, и так долго правили, — сказал он и, захлопнув перед бабушкой дверь, закончил поговоркой: — Будет и на нашей улице праздник». Что оставалось бабушке делать?
С этого дня Ириша перестала приходить стирать, а встретившись с кем-либо из нас лицом к лицу, сворачивала в сторону. Ирише, по всей видимости, было очень стыдно, и в то же время она боялась своего большевика-мужа. Были и другие подобные мелочи, но все это, как говорит русская пословица, — цветочки, ягодки были впереди.
Тем временем, серьезно опасаясь, что Россия выйдет из войны, что позволило бы Германии перебросить свои войска на Западный фронт, союзники поддерживали отношения с большевиками в надежде, что союз между ними для продолжения войны на Восточном фронте возможен. Союзники предложили военную помощь, но Ленин ее все-таки категорически отклонил. Козырной картой его был мир — мир во что бы то ни стало. Ленин не желал возобновлять вражду и тем самым подвергать опасности свое дело.
В то время, когда Россия и Германия вели переговоры о мире, корабли Королевского военного флота, до недавнего времени сопровождавшие грузы в Архангельск и Мурманск, остались в Мурманске. Благодаря теплому течению Гольфстрим этот порт, в отличие от Архангельска, не замерзает.
В феврале Германия, устав от медлительности России в подписании сепаратного договора, неожиданно атаковала, что заставило большевистских лидеров возобновить переговоры. Германия незамедлительно пошла на них, и в начале марта в Брест-Литовске был подписан мирный договор. Сказать, что этот мир был позорным — значило бы очень сдержанно оценить его. Территория России стала такой, какой была три века назад, и огромные плодородные земли были преподнесены немцам на блюдечке вместе с третью населения страны.
Союзникам эта катастрофа оставила только один выход, только одну надежду на продолжение войны русскими — они были вынуждены присоединиться к тем силам, что противостояли большевикам, чтобы покончить с последними. И возможности для этого у них были.
В тот богатый событиями год наша семейная жизнь текла почти как прежде. Однажды вечером, когда мы сидели, как обычно, за самоваром, Марга объявила, что уходит из госпиталя, чтобы принять должность классной руководительницы младших классов, предложенную ей в гимназии. Она с самого начала войны ухаживала за больными и ранеными и теперь заметно пала духом и устала. Два года назад Марга познакомилась с молодым человеком, офицером Виктором Телятиным. Они полюбили друг друга и хотели пожениться, но Виктора призвали на фронт, а во время первой революции пришло письмо, в котором сообщалось, что Виктор пропал без вести, скорее всего, он был убит.
Когда Марга стала работать в нашей гимназии, мы по утрам ходили туда вместе. Постепенно, может быть, потому, что теперь она находилась в окружении веселых молодых людей, она снова стала сама собой. Я была уже старше, и мы часто вместе осуществляли какие-нибудь задумки. Однажды, обе голодные, мы обыскали весь дом в поисках чего-нибудь съестного и нашли пшеницу. Решив устроить эксперимент, поджарили зерна и смололи их, добавили молока и выпили. Результат нас восхитил. Это было сытно и, как показалось, очень похоже на кофе. В те дни немного нужно было, чтобы порадоваться.
Мы много разговаривали о школьных делах. Для меня гимназия имела особую привлекательность, но дело было не столько в уроках, сколько в том, что мы готовили пьесу. На главные роли были выбраны я и Шура Рубцова. Я не могла думать ни о чем другом. Пьеса называлась «Волшебное зеркало» и была о принцессе, злой и жестокой, которая видит свое настоящее лицо в волшебном зеркале и понимает, кто она такая. Платья, нужные в пьесе, были задуманы как костюмы Древней Руси. Бабушка с присущей ей изобретательностью сделала мой сценический наряд из моего старого шелкового платья небесно-голубого цвета. Высокий кокошник был украшен имитацией жемчуга и драгоценных камней.
Шура была для меня особым другом. В ней было все, чего не хватало мне. С пятилетнего возраста ее учили музыке, и теперь, в свои 12 лет, она играла на пианино, балалайке и гитаре не хуже любого профессионала. Она была необычайно талантлива, танцевала, пела приятным контральто под собственный аккомпанемент. Уроки давались ей легко — она считалась самой умной ученицей в классе. Большие серые глаза, спокойное выражение лица привлекали к ней внимание, и тем больше, чем старше она становилась. Единственный ребенок у родителей, она лишилась отца, который был убит в начале войны. Ее мать, вдова, не склонившись перед судьбой, стала сдавать второй этаж своего дома, а сама с Шурой, старой няней и кухаркой переселилась на первый этаж. Квартиру наверху обычно снимали люди, имевшие отношение к театру, которые приезжали к нам из Москвы и Петрограда.
Мне нравилось бывать в этом доме, особенно в Шуриной комнате, где всегда было тепло и уютно: цветные ситцевые занавески на окнах, лоскутное покрывало на кровати, на стенах — литографии из русских волшебных сказок, книжные полки, на стуле рядом с маленьким рабочим столом сидит кошка… Иногда в гостиную спускались актеры. Они говорили о пьесах, ролях, которые исполняли. Я слышала названия «Чайка», «Дядя Ваня», «Трильби», и они переносили меня в зачарованный мир театра.
Однажды Шуру и меня пригласили сыграть двух детей в пьесе Ибсена «Кукольный дом». Хотя роль сводилась к тому, чтобы сидеть за столом и пить из пустых чашек, не произнося ни слова, мы были в восторге от мысли появиться на профессиональной сцене. Позже нам снова предложили роли детей — в пьесе «Колокола», но за несколько дней до премьеры Шура простудилась и не могла участвовать в спектакле. После долгих уговоров и подкупа Гермоша согласился заменить ее.
Мы должны были сыграть двух детей-призраков. Одетые в длинные белые балахоны (Гермоша, кроме того, в желтом парике), мы должны были выйти на сцену и медленно двигаться вперед, неся за ручки большую погребальную урну. К нам подходит мужчина и, потрясенный нашим появлением, дрожащим голосом спрашивает: «Кто вы?». «Мы твои дети», — должна ответить я. Повернувшись к брату, он спрашивает: «Что вы несете?», а брат должен сказать душераздирающе: «Слезы нашей матери». Эту маленькую сценку репетировали много раз. Слова мы запомнили назубок, только временами мой маленький брат приводил нас в замешательство тем, что вместо своего ответа говорил мой.
Все наше семейство пришло поддержать нас, даже дедушка. Наконец наступил момент, когда мы должны появиться на сцене.
«Кто вы?» — спросил нас высокий красивый мужчина. «Мы твои дети», — ответила я тем эмоциональным возвышенным тоном, который часто слышала со сцены. Тут же из-за моей спины эхом прозвучал громкий и напористый голос братца: «Мы твои дети». Последовала пауза. Наш предполагаемый отец улыбнулся. «Что вы несете?» — продолжил он. «Слезы нашей матери», — снова последовал уверенный ответ, не оставлявший сомнения в том, чьи мы дети и чьи слезы в урне. Это талантливое явление продолжалось несколько секунд. Вслед за этим из ложи, где сидела вся наша поддержка, раздались оглушительные аплодисменты, к удивлению всего остального зала. А за сценой шел жаркий спор — младший брат украл мою славу, а сам не смог выразить то чувство, что переполняло меня.
В конце апреля река, по которой еще недавно неслось множество крутящихся льдин, угрожавших всему, что попадалось на пути, снова стала собой — знакомой, любимой, плавно текущей меж берегов, без единой морщинки на «челе». Вновь возвели мост через Кузнечиху, началась работа на причалах. Маленькие суденышки сновали туда-сюда, женщины полоскали белье, мужчины собирались группками, что-то оживленно обсуждая, и снова над рекой разносился пароходный гул.
Нагретые солнцем валуны у кромки воды стали местом встреч ребят с нашей улицы. Вера и Володя приходили и приводили своего младшего братишку Шурика. Теперь за ними не присматривал солдат. Их отец-генерал исчез, никто не знал куда. В это лето к нам присоединились приехавшие с Украины дети семьи Пенто. Двое старших, Елена и Борис, были наши ровесники, а двое других, Зина и Гриша, намного младше. Все они говорили с сильным украинским акцентом, как и их родители, и тоже играли на балалайках и гитарах, у них были чудесные голоса. Они подошли к нам очень робко и на первых порах терпели наши насмешки над их странным выговором, но позже, когда мы приняли их в свою компанию, стали ее равноправными членами. Мы проводили долгие часы у реки, плескались в теплой воде, ненадолго вылезали, чтобы погреться на валунах, и снова лезли в воду.
Отца наше времяпрепровождение у реки всегда очень беспокоило, особенно когда мимо шли плоты и мальчики играли в опасную игру — ныряли в воду между бревнами, рискуя каждый миг оказаться в ловушке. Периодически на берег приходила молодая служанка Катенька и кричала нам с высокого берега: «Герман Александрович велит уйти с реки и играть в саду!». Конечно, сад был прекрасным местом для таких игр, как «казаки-разбойники», когда мы разбегались по всей территории, прятались в старой бане, беседках, за деревьями и кустами. Василий, который воображал, что сад — его владения, иногда гонял нас метлой, но это лишь добавляло удовольствия, и прерванная игра возобновлялась. Мы постоянно были голодны, но это нас ничуть не волновало. Дети живут в своем особом, ими созданном мире, и мы были, как мне кажется, совершенно счастливы.
Как-то в конце июня Петя Емельянов, наш друг-певец, пришел попрощаться. Он уезжал в Петроград, чтобы поступить в оперу. Из Петрограда шли тревожные вести об уличных беспорядках, об арестах невинных людей и даже казнях, но Петя был непоколебим. Для него это была первая ступенька к успеху, шанс, от которого он не мог отказаться.
К нам стал захаживать близкий друг Юры Дмитрий Данилов. Все знали, что Митя увлечен Маргой. Он приходил в дом по малейшему поводу, но Марга была к нему равнодушна. Когда ее поддразнивали, она пожимала плечами, говоря: «Он еще мальчик». Младше Марги всего на год-два, Митя был не мальчик, а красивый и взрослый светловолосый гигант невероятной силы. Помню, однажды мы благоговейно наблюдали шутливое соревнование в силе между Юрой и его друзьями. Митя, смеясь, наклонился и, взяв за ножку тяжелое кресло, одной рукой высоко поднял его над головой. Он был из богатой семьи, его родители — выходцы из крестьян. У них было несколько домов.
После чая мы собрались в танцевальном зале в последний раз послушать пение Пети. Двери, ведущие на балкон, были открыты, и когда замерла последняя нота, послышались громкие аплодисменты прохожих, остановившихся под окнами.
Мы все вышли на балкон и потом долго смотрели на алый диск солнца, скользившего за горизонт. Опять наступили белые ночи с их нежным меланхолическим покоем. Издалека доносились едва различимые звуки музыки: в Летнем саду играл оркестр.
Мы никогда больше не видели нашего «северного соловья». От его сестры мы узнали, что он благополучно добрался до Петрограда, но разразилась гражданская война, и мы оказались отрезанными от Петрограда. Через восемнадцать месяцев связь восстановилась, но Петя исчез.
Однажды утром за завтраком я предложила Гермоше пойти в сад и поискать грибы. В прошлом июле мы находили грибы после дождя около сказочной беседки. Этой ночью была сильная гроза, и мне казалось, что нам повезет, как в прошлый раз. Сладкий запах сирени встретил нас в саду. Куполоподобные кусты, охранявшие ворота, снова были покрыты темно-лиловыми гроздьями. После ливня утро было необычайно ясным. Каждый омытый дождем цветок раскрывал навстречу солнцу свои лепестки. Над лужайкой стелился легкий серебристый туман. Капли дождя, как крошечные бриллианты, сверкали в кружевных ветвях берез, а дальше, за прудом, склонились безвольно над водой пришибленные бурей ивы.
Грибов мы не нашли, но когда искали их под деревьями, услышали какое-то странное ворчание. Мы остановились и прислушались. Звуки исходили из кустов, росших возле беседки. Забыв о грибах, мы нырнули под ветви и, потрясенные, столкнулись нос к носу с розовым пятачком маленького поросенка, подозрительно выглядывавшего из-за густой листвы. Последовала бешеная борьба, сопровождаемая нашим и поросячьим визгом и отчаянными возгласами: «Лови, держи!» — «Дурак, ты упустил его!» — «Сама дура!» — «Держи за ноги!» — и наконец: «Поймал!».
Мы вылезли, все исцарапанные, в грязи и листьях. Поросенка затащили в беседку, дверь закрыли и начали обсуждать дальнейшие действия. Я была за то, чтобы оставить поросенка расти.
— Свинья может приносить две дюжины поросят каждый год, — врала я беззастенчиво.
— Для этого нужно две свиньи, — ответил мой уже просвещенный брат.
— Хорошо, — согласилась я, — но Юра и Митька Шалый смогут найти где-нибудь в деревне поросенка-мальчика.
— Откуда ты знаешь, кого мы поймали?
Я не знала, и на этом разговор закончился.
Свинью пришлось нести домой. Это была трудная задача. Хоть и небольшой, поросенок был тяжелый. Я напрягала все силы, чтобы удержать его в руках, а Гермоша поддерживал его жирный зад, который бил меня по боку. Всю эту эпическую битву сопровождал душераздирающий, агонизирующий визг поросенка. Наконец мы добрались до кухни, мимо потрясенных слуг, вверх по лестнице в детскую.
У отца сидел дядя Саня.
— Вы должны вернуть поросенка его владельцу, — потребовал отец, выслушав рассказ, — иначе вас обвинят в воровстве.
Я была в негодовании:
— Поросенок сам пришел, мы его не крали и не знаем, кому он принадлежит. Любой может сказать, что это их, если мы начнем спрашивать.
У меня было несколько прекрасных предложений:
— Свинью можно держать там, где жили овцы, мы можем ее вырастить и больше не будем голодать.
Тут вмешался дядя Саня:
— Поросята не падают с небес как манна. Он кому-то принадлежит. Вахонин первый донесет властям о находке. Все мы попадем в серьезную переделку.
Дядя Саня и отец уговаривали и успокаивали нас.
— Отдайте поросенка нам, и все будет хорошо, — сказали они и пообещали не отдавать поросенка.
Под конец, не очень-то им все же поверив, мы решили расстаться с поросенком.
Отец и дядя Саня сдержали слово. Через несколько дней поросенок вернулся в виде нежных котлет, сочных окорочков и прочих вкусных вещей. Василий, который прекрасно знал, откуда мог появиться поросенок, принял участие в самых ответственных операциях. У нас получился пир, какого давно уже не бывало. Дядя Саня с семьей тоже приняли в нем участие. Каждую косточку обглодали, и от поросеночка не осталось и следа.
На следующий день у черного входа появился молодой человек. Это был важный комиссар, вселившийся в дом, который располагался на соседнем участке. Поросенок принадлежал ему, и он рассчитывал съесть его позже. Комиссар не просто расстроился, когда узнал, что поросенок исчез, он пришел искать виновных. Все наши убеждали его, что ни в чем не виноваты.
Несколько дней спустя пришли двое милиционеров с серьезными лицами. Гермоша и я купались в реке и, к счастью, избежали допроса, ведь с испугу мы могли все выдать. Милиционеры осмотрели сад, но следов не нашли, так как прошел дождь, и вообще им неохота было лазить во все уголки сада. И все равно предупредили нас, что они еще вернутся. Если найдутся доказательства, что поросенка украли мы, последствия будут чрезвычайно серьезными.
Провидение иногда движется странными путями. Уже подходил к концу июль. Впереди нас ждали события огромной важности. Комиссар вдруг тихо исчез, а с ним прекратились и все допросы. Дело о поросенке было закрыто.
Первого августа я проснулась счастливая, как будто что-то хорошее ждало впереди. За день до этого появились слухи, что по Белому морю к Архангельску приближается флот союзников. Над городом повисло нетерпеливое ожидание. И хотя я тоже волновалась, мои мысли были совсем о другом. Они крутились вокруг бараньей ноги.
Прошлым вечером Саня, сидя со своими приятелями за стаканом-другим, познакомился с человеком, который был коком на одном из пароходов, плавающих по реке. Тот оказался доброй душой. Выслушав с сочувствием рассказ дяди Сани о трудных временах, он от чистого сердца предложил баранью ногу, и дядя с благодарностью ее принял. Договорились, что на следующее утро дядя Саня заедет за бараниной на судно. Так как у дяди Сани лошади теперь не было, он попросил у нас нашего старого коня, запряг его в рессорную двуколку и отправился в порт. В последнюю минуту он пригласил за компанию Гермошу, и тот, понятное дело, был счастлив.
Они прибыли на пристань и поднялись на пароход. Верный своему слову кок принес баранину и пригласил гостей в салон. Там, усевшись за столик, он и дядя Саня продолжили дружеский разговор. Появилась легкая закуска, бутылка водки. Они приятно проводили время, как вдруг вбежал кто-то из команды и страшно взволнованным голосом крикнул: «Пароход отходит, вам придется прыгать!». Дядя Саня схватил в одну руку баранину, в другую — Гермошу и бросился на палубу. Лопасти колес уже вращались, и пароход отходил от причала. Не колеблясь ни секунды, дядя Саня бросил Гермошу на пирс, вслед ему швырнул баранью ногу и сам прыгнул через расширявшуюся полосу воды.
Река представляла собой небывалое зрелище. Все колесные пароходы, все плавсредства, попавшие в руки большевиков, уходили вверх по реке, на юг. Большевики бежали. Дядя Саня и мой брат чудом не попали вместе с ними. Благодаря судьбу, они забрались в двуколку и отправились домой, но, выехав на главную улицу, обнаружили, что оказались между двумя огневыми позициями. Сзади красные все еще защищали южный конец улицы, а перед ними были атакующие белые. Тут дядя Саня выбрал единственно возможный выход. Отдав вожжи Гермоше и приказав держать их как можно крепче, он поднял кнут и ударил лошадь, которая рванула изо всех сил и галопом промчалась сквозь зону перестрелки. Она летела как ветер, пока не оказалась у родных ворот.
Выстрелы слышались весь день, но к вечеру город оказался в руках сильной подпольной группировки. Над городской Думой взвился прежний государственный флаг. Вечером мы праздновали победу, устроив пир, на котором за жареной бараниной следовала морошка.
На следующее утро по городу поползли разные слухи. Говорили, что флотилия союзников уже в дельте Двины. Весь день на набережной толпились люди, а к вечеру толпа была уже довольно большая: люди стояли на пристани, сидели на камнях у воды, на берегу и еще выше, на парапете набережной. С нашего балкона открывался прекрасный вид на реку, поэтому к нам пришло много друзей, вместе с нами они ждали появления первого корабля. Гермоша и я, желая быть вместе со всеми, сидели верхом на ограждении балкона. Юра и Марина были рядом. Напряжение росло с каждой минутой. Люди в толпе говорили, что большевики затопили судно, чтобы преградить проход, и потребуется не меньше недели убрать его. Но они ошиблись. Все заграждения уже были сняты, и довольно легко.
Я помню тот ясный, теплый вечер, слегка тронутый осенью. Маленький гимназист, забравшийся на телеграфный столб, крикнул вниз толпе, что видит мачту, движущуюся за Соломбалой. Все взгляды были прикованы к острову. И вот, словно выходя на сцену из-за театральных кулис, появился первый корабль флотилии, за ним — другие. Тут были все флаги: русские, английские, французские, американские. Они медленно и величаво шли друг за другом в четком строю на розовом фоне заходящего солнца. Затаив дыхание, толпа на мгновение замерла, а потом раздались приветственные возгласы, становившиеся все громче и громче с каждым появлявшимся кораблем. Наши голоса эхом отражались от воды и достигали слуха людей, стоявших на палубах. Они тоже кричали нам, махая головными уборами. Никогда еще берега нашей реки не видели столь величественной армады. Я не забуду ни этого волнующего зрелища, ни слов пожилой женщины рядом со мной. По ее лицу текли слезы, и она, крестясь, повторяла: «Слава тебе, Господи…»
Так началась союзническая интервенция.
Долго еще после того, как исчез из вида последний корабль, гости на балконе сидели и разговаривали. Иногда тишину вечера нарушал звук мотора, спешившего по каким-то срочным делам.
Наше внимание привлекли огни, двигавшиеся по дороге в нашу сторону. Это был автомобиль — необычайное явление в наших местах. С ним случилась, видимо, какая-то неполадка. Порычав и выпустив облачко дыма, автомобиль остановился под нашим балконом. Вышли два человека и взволнованно заговорили на английском языке, который чем-то неуловимо отличался от маминого. Услышав их, отец наклонился через перила и спросил, не может ли он чем-нибудь помочь.
— Как хорошо услышать вас, сэр, мы действительно попали в беду, — сказал один из них.
Оказалось, что это передовая группа полевой кухни для американской части, которая должна расположиться в Ольгинской гимназии. Вода в радиаторе грузовика выкипела, и хотя они были у реки, у них нечем было принести воду. Мы немедленно предложили им воду и пригласили в дом. Они с радостью приняли приглашение. Принесли самовар и все, что у нас было к чаю.
Так произошло наше знакомство с американцами. Память сохранила их имена: высокий и широкоплечий — сержант Боверли; тот, что меньше ростом, со смешливым выражением на круглом лице — сержант Грей. Оба они были из Детройта, и оба с этого вечера и на все время пребывания в Архангельске стали нашими друзьями и постоянно бывали в доме. Увидев скудность нашего застолья, сержант Грей тотчас спустился к грузовику и вернулся с банками печенья, джемом и сыром. Получилась прекрасная вечеринка, после которой наши гости ушли в сопровождении Юры, вызвавшегося показать дорогу.
На следующий день в ворота нашего дома въехал грузовик. Ребята привезли нам мешок муки, сахар, бекон, сало и масло. Мы были так благодарны, что не спрашивали, как им удалось раздобыть такое богатство.
В течение следующих двух месяцев высаживались войска. Пять тысяч американцев высадилось в сентябре — начале октября, а перед самым ледоставом прибыл генерал Эдмунд Айронсайд в сопровождении французских, английских и канадских войск. Генерал Айронсайд, внушительного вида человек, был назначен командующим войсками союзников. Он остановился в доме Дес-Фонтейнесов на Троицком проспекте. Дес-Фонтейнесы — богатые лесопромышленники, и мы были в дальнем родстве с ними — жены моего крестного и дяди моего отца были урожденные Дес-Фонтейнес.
Город был наводнен солдатами. Повсюду слышалась иностранная речь — англичан, французов, американцев и даже сербов.
В августе из Сибири просочились сведения о расстреле царской семьи садистами-убийцами из большевистской партии. Ужас и отвращение чувствовали все порядочные люди в городе. Казнили слабовольного царя и его жену-невротичку варварским способом — уже это жутко, но убить четырех девушек и беспомощного мальчика — это злодеяние. В церквах люди на коленях плакали, молясь за души убиенных царя и его семьи.
Недавно семья мучеников была причислена к лику святых. Прозвучала мысль, что люди будут молиться им — вместо того, чтобы отмаливать спасение их душ. А я не могу не думать, насколько было бы лучше, если бы они не приняли этого мученичества. После отречения царя от престола Великобритания предложила ему и его семье убежище, и царь с благодарностью согласился, но приглашение было отменено правительством Ллойда Джорджа, что было подтверждено Георгом Пятым. Франция тоже отказалась предоставить убежище царю. Французы легко забыли, что когда они просили о помощи, русский царь перебросил войска для спасения положения на Западном фронте, пожертвовав цветом русской нации, благополучием страны и своим.
В конце августа погода быстро ухудшалась. Дождь хлестал с обложенных тучами небес, дул холодный северо-восточный ветер. В верховьях Двины в лесах и деревнях шли бои в самых ужасных условиях, потому что поздней осенью все окрестности превращались в гиблую топь, и подвоз провианта делался почти невозможным. В это время года даже наши выносливые крестьяне стараются не ходить по мокрым болотам и предпочитают переждать, пока морозы не скуют землю. А бои все продолжались с переменным успехом, солдаты по колено в грязи сражались, воевали и умирали в чужой для них стране.
Когда позволяла погода, мы, дети, по-прежнему собирались у реки. Но теперь по Двине неслись белые барашки волн, вода была холодная, купаться невозможно. Мы собирали огромные охапки плавника и жгли костры, пекли картошку, вели бесконечные разговоры, споры, а иногда громко распевали хором, к удивлению прохожих на высоком берегу над нами.
Однажды, сидя на берегу, мы заметили большую баржу, плывшую по течению. Обычно на барже бывает команда из двух-трех человек, но эта переваливалась на волнах и казалась покинутой. Она исчезла за островом, и мы забыли о ней. Но на следующий день баржа показалась снова, на этот раз плывя вверх по реке с приливом. Так она и плавала вверх-вниз с приливами и отливами, то исчезая из вида, то появляясь снова. Ее относило к нашему берегу, и наше любопытство, соответственно, росло и не давало нам покоя. Было что-то от корабля-призрака в этой барже, нечто таинственное. Нам захотелось забраться на нее, обследовать, но она оставалась недосягаемой — нам не на чем было до нее добраться. Оставалось ждать, когда река покроется льдом и мы сможем подняться на баржу.
Однажды, взглянув в заиндевелое окно, я увидела вдалеке темнеющую баржу, вмерзшую в лед реки. Некоторое время пурга и сильный мороз не пускали нас к цели, но в одно ясное воскресное утро к нам пришел Толя Мамонтов, собрал нас в поход, и мы, надев лыжи, спустились на реку и направились к барже.
День был прекрасный — солнце, мороз. Река ослепительно бела. Волнуясь и смеясь, мы бежали на лыжах к темной массе баржи. Борта оказались очень высокими, забраться было нелегко. Мы срывались, падали в снег, но после множества попыток все же поднялись на борт И ухнули вниз, приземлившись на что-то мягкое.
Под снегом мы обнаружили большие тюки, покрытые дерюгой. Нетерпеливо разодрав дерюгу, мы были потрясены, обнаружив кипы драгоценных мехов: шкурки норок, соболей, горностаев. Баржа была полна таких тюков. Нам показалось, что мы нашли огромное сокровище, но когда мы стали открывать тюки и просматривать их содержимое, поняли, что здесь уже кто-то побывал. Лучшие шкурки исчезли, остались лишь те, что лежали с краю, сгнившие от влаги. Мы здорово опоздали.
Загадка баржи осталась неразгаданной. Откуда она взялась, кто были ее владельцы, что заставило их бросить драгоценный груз, возможно, за сотни верст отсюда? Много таинственного случалось в те бурные годы.
Кто же нас опередил, обнаружилось ранней весной. На нашей улице жили супруги Дулетовы. У них было шесть дочерей и три сына. В пасхальное воскресенье все девушки из этой семьи появились в церкви в боа, шапках и муфтах из норки и горностая, а их мать, мадам Дулетова, превзошла всех, явившись в красивом собольем жакете, шапке и муфте ему в тон.
В ноябре из Шотландии пришло долгожданное известие, что мама возвращается на ледоколе и надеется быть с нами на Рождество.
Уже несколько месяцев папа готовил для мамы особенный подарок, который, он знал, ей понравится. В тех немногих магазинах, что еще торговали, купить было нечего, но в нашем доме часто появлялись крестьяне, продававшие меха, предлагая шкурки лесных зверей. Отец решил заказать меховую накидку. Шкурки отбирались очень тщательно, из каждого свертка, принесенного крестьянами, выбирали лишь одну-две. Нужно было подобрать оттенки, что требовало опытного глаза. Занимаясь этим, отец часто обращался ко мне, что меня немного озадачивало, так как я, конечно же, не была таким экспертом, как он. Отец объяснил, что глаза временами подводят его. Наконец достаточное количество шкурок было собрано, местный скорняк изготовил прекрасную накидку, и ее с предосторожностями убрали до маминого приезда.
Ледокол, на котором должна была приехать мама, назывался «Канада». Он считался самым современным и мощным среди ледоколов этого типа. В день маминого приезда дядя Адя позвонил нам с лесопилки и сообщил, что «Канада» проходит сейчас мимо его лесозавода.
Днем обычный хмурый сумрак окутал город, но вечером на небе взошла луна, заливая реку своим сиянием. Гермоша и я, едва сдерживая волнение, смотрели в окна и наконец увидели темный силуэт ледокола, шедшего мимо нашего дома с мерцающими сигнальными огнями. Мы, в свою очередь, тоже ответили сигналом, включая и выключая свет в зале. Бабушка в сопровождении Сережи немедленно отправилась встречать маму. Этим вечером наша семья вновь собралась вместе, потом, как всегда, приехали гости. Сашенька разливала чай, здесь же Оса, все разом говорят, смеются, расспрашивают маму.
Рождество было счастливым, почти таким же, как давно ушедшие в прошлое рождественские праздники. Мама привезла для нас подарки. Сахару теперь было вдоволь, и бабушка приготовила домашние сласти. Она раздавала их в красивых маленьких коробочках, которые сама оформила цветным орнаментом. На столе была еда, на елке — свечи. Таким было последнее Рождество в нашем доме.
1919 год встречали с большим энтузиазмом. Большевики уходили. Говорили, что их конец — дело месяца или двух. Но те, кто воевал с ними, знали, что это упорный враг, у которого было преимущество: большевики родились в этих краях и прекрасно переносили северные зимы.
Война продолжалась. Порой морозы достигали сорока градусов. Кофе в кружках замерзал, веки слипались, а раненые, оставшиеся на поле боя, умирали почти сразу.
И все же в ту зиму жизнь была в общем сносной. У нас постоянно бывали британцы, американцы и французы. Они присылали ответные приглашения на приемы, вечера и другие события. Туда обычно ходили мама и Марга. На одном из таких вечеров Марга познакомилась с молодым американским офицером, который стал у нас частым гостем, очевидно, он увлекся Маргой. Фрэнк был свойским человеком, хорошо танцевал, в некоторой степени был щеголем, что нравилось Марге.
В центре города канадские солдаты построили ледяную горку. Ничего подобного до этого в наших краях не бывало. С ее верхушки саночник мчался вдоль всей улицы, потом вниз по берегу и останавливался уже где-то далеко на реке. На высокую площадку вели ступени. Сама гора и спуск с нее были огорожены елочками, воткнутыми в лед. Елочки были украшены разноцветными фонариками, и в ранних сумерках это было великолепное зрелище.
Сооружение было построено для взрослых, оно считалось очень опасным, и детям запрещалось подниматься наверх. Внизу у ступенек стоял солдат и следил за этим. Но нас тянуло на гору как магнитом, и частенько, когда удавалось отвлечь внимание охраны, мы проскальзывали на гору, а когда мчались вниз мимо часового, вслед нам неслись незнакомые слова — как потом оказалось, они означали, что нас родили вне брака.
Однажды мама вызвалась сопроводить нас и переговорить с часовым. Солдат, удивленный видом красивой дамы, говорившей любезным тоном на родном ему языке, разрешил нам подняться наверх. Мы медленно поднимались по ступенькам, волоча санки, а мама осталась разговаривать с солдатом. Пока мы, счастливые, катались с горки, мороз усилился, и мама, терпеливо нас ожидавшая, начала дрожать от холода. Дрожь эта не прекратилась и дома. На следующее утро мама слегла с жестокой простудой, которая развилась в двустороннее воспаление легких. И только постоянное внимание дедушки, которому помогал врач британского военно-морского флота, спасло ей жизнь.
Вскоре после этого потерялся Скотька. Раньше он тоже исчезал по своим любовным делам, и иногда, возвращаясь из гимназии, я встречала его на улице. Он останавливался поприветствовать меня и, дружески вильнув хвостом, тут же спешил дальше. Но на этот раз было по-другому.
Его старый друг, ночной сторож, скучая без верного Скотьки, тоже встревожился и искал его по дворам во время своих обходов.
Как-то днем, на уроке музыки, когда мадам Сусанова отбивала мне такт, стоя спиной к двери, я увидела, как дверь тихонько открывается и мой брат ползет под рояль. Он подвигает по полу клочок бумаги, на котором что-то написано. Когда он добрался до моих ног, я посмотрела вниз и прочитала краткое сообщение: «Скотька умер». К удивлению мадам Сусановой, не имевшей в тот день причин бить меня линейкой по пальцам, я громко разрыдалась и выбежала из комнаты.
Оказалось, что неделю назад Василий что-то делал в старой конюшне, которой теперь не пользовались по назначению, а хранили там садовые и прочие инструменты. Закончив работу, он вышел и запер за собой дверь. Вернувшись через неделю, он обнаружил мертвого Скотьку, лежавшего за дверью. Теперь уже не узнать, то ли Скотьку случайно закрыли, то ли, увидев раскрытую настежь дверь, как это часто бывает, он зашел туда, чтобы умереть. Больше всех тосковал сторож. «Скотька был моим другом, единственным другом», — плакал он.
Похоронить Скотьку в промерзшей земле было невозможно. Его положили в маленький ящик и оставили там, где нашли. Ранней весной Василий выкопал могилку рядом с беседкой и посадил на нее молодую березку
Весной умер и сторож. Пресекся древний обычай держать ночного сторожа, обходившего улицу глубокой ночью. Маленькую каменную будку убрали, осталось лишь место — как напоминание, что именно здесь спасались от непогоды старый русский крестьянин и его шотландский дружок.
Вскоре после прибытия союзнических войск начался оживленный торг между предприимчивыми военными и местным населением. Каждый солдат мог привезти домой неплохой сувенир из наших лесов, богатых пушным зверем. Так как контакты осуществлялись в частных домах, мой отец, бегло говоривший по-английски, часто выступал посредником.
Крестьяне, приезжая к нам в дом с драгоценными свертками, предпочитали обменивать их на редкостные теперь продукты: сахар, чай, муку и даже мыло, а не продавать за деньги. Наша старая детская, в прошлом видавшая много разных сцен, превратилась в торговую палатку, где отец сидел в кресле, окруженный кипами дорогих мехов. Наши американские друзья, сержанты Боверли и Грей, были основными поставщиками продуктов. Никто не спрашивал, где они их достают, мы слишком долго голодали. Мы знали только, что нет приятнее картины, чем грузовик, груженный мешками с мукой, сахаром, банками чая или кофе, въезжающий в наши ворота.
Пасха была такой же веселой, как и Рождество перед ней. Она тоже несла радостные надежды на будущее. Наши британские и американские друзья были приглашены на полуночную службу, а после нее к нам. Было решено, что мы все пойдем в Троицкий собор, чтобы наши друзья могли увидеть его великолепное внутреннее убранство, услышать проповедь самого архиепископа, чудное пение хора.
Собор, с его белоснежными стенами, усыпанными звездами куполами и оригинальными фресками, изображающими библейские сцены, был гордостью города. Спустя несколько лет его разрушили вандалы безбожного общества. В тот страшный день жители города молча и беспомощно смотрели на это. Раздался взрыв, потрясший землю, и древняя церковь, которую многие поколения считали сокровищем, превратилась в руины. Мужчины обнажили головы. Коленопреклоненная толпа рыдала.
А пока чудовищное преступление еще скрыто завесой времени. Внутри собора все сияло и было полно радости. Крестный ход, восторженная пасхальная проповедь, торжественные голоса хора — все это стоило видеть и слышать.
Мы возвращались домой с зажженными свечами сквозь море колеблющихся огоньков под звуки веселого колокольного перезвона, плывущего над городом. Все собрались за столом, хоть и не таким богатым, как в недавнем прошлом, но еще способным порадовать гостей. Протокол не соблюдали, сидели вперемешку американские сержанты, офицеры, королевская морская пехота, члены семьи. Этот памятный вечер продолжался далеко за полночь.
Иногда я думаю: где они теперь, эти парни, как перелетные птицы из дальних стран слетевшиеся к нам ненадолго и вскоре исчезнувшие навсегда из нашей жизни? Было одно исключение. Как-то в двадцатые годы сержант Боверли приехал в Архангельск и разыскал мою бабушку. Он состоял в комиссии, которая прибыла с разрешения большевистского правительства, чтобы увезти прах солдат, погибших во время союзнической интервенции. Зная о наших невзгодах, он появился с продуктами, совсем как в тот давний осенний вечер, когда мы впервые познакомились с ним и Греем.
Миновали первые весенние дни, и вот уже наступило лето. Солнце опять медленно вершит свой круговой путь в вышине, вставая почти сразу после заката.
В саду теплый запах молодой травы и острый свежий аромат черемухи. Старый тополь роняет алые сережки.
В парках оркестры играют до поздней ночи. Под густыми кронами деревьев гуляют парочки, держась за руки. Волшебная красота этих тихих, слегка печальных ночей зачаровывает. Зарождаются нежные чувства, играют свадьбы, возникают легкомысленные романы. Возможно, дети, зачатые в это лето, до сих пор еще живут в наших краях…
Расцветали и другие, менее романтичные чувства. На другом конце города был дом, известный под названием «дом с зеленой крышей». По какой-то таинственной для меня причине все солдаты вились вокруг него. Мужчины безошибочно находили этот дом — совсем как голуби, которые всегда находят дорогу домой. Иногда я видела молодых дам из этого таинственного дома. Их накрашенные щеки, подведенные глаза и слишком яркие наряды поражали меня.
В те дни пассажиры трамвая могли стоять рядом с вагоновожатым. Помню, однажды в жаркий день я стояла на передней площадке, облокотясь на перила и наслаждаясь ветерком. Рядом со мной была одна из этих поразительных дам, цвет ее платья прямо-таки резал глаза. Рядом с трамваем появился грузовик с американскими солдатами. Моя попутчица встрепенулась и, грубо оттолкнув меня, принялась подмигивать и делать зазывные жесты в сторону дома. Солдаты восторженно реагировали на нее. Я решила, что у нее дурные манеры, и, вернувшись домой, рассказала о ее поведении, но по какой-то причине все развеселились.
Хоть кое-что о жизни я уже знала, дом этот оставался для меня загадкой. Я воображала, что там было что-то вроде клуба, где, может быть, танцуют и как-то развлекаются. Какого рода были эти развлечения, я узнала гораздо позже.
В то лето случилось много событий, в том числе — большой парад. На Соборной площади были выстроены войска. Состоялся короткий молебен, а за ним — традиционная церемония поднесения хлеба-соли. Затем все виды войсковых соединений прошли маршем по главному проспекту.
Тут были все. И наши — белая русская гвардия с трехцветными кокардами на фуражках, и британские войска, в том числе полки Грин Говард, Королевский Шотландский и морская пехота в белых шлемах. Прошли французы, за ними американцы и их морская пехота, потом — загорелые сербы в серых мундирах и небольшая группа итальянцев в живописных шлемах, украшенных перьями. Оркестры играли бодрые марши, музыка затихала и снова приближалась по мере прохождения частей.
День был жаркий, душный, солнце палило нещадно. Солдаты маршировали по раскаленной булыжной мостовой между двумя стенками зрителей, толпившихся на тротуарах. Помню, как, пританцовывая на ходу, я спешила за толстым тамбурмажором в накинутой на мундир леопардовой шкуре. Не обращая внимания на изнуряющую жару, он стоически бил в барабан и, без сомнения, мечтал о той минуте, когда все это будет позади. По его лицу струился пот.
Британцы организовали в городе группы девочек-гайдов и мальчиков-скаутов. Это интересное новшество было встречено с энтузиазмом. Я и другие девочки сразу записались. Нас разделили на патрули. Из старших девочек выбрали руководителей. Каждый патруль имел название какого-нибудь дикого животного. Название и цветная петличка с изображением животного пришивались на погончики нашей формы. Наш патруль назывался «Бобр». Мы должны были носить гимнастерки цвета хаки и синие юбки. Форму нам кое-как удалось найти, но достать плоские береты оказалось трудно. Помогли канадцы, обеспечив нас своими шапками, которые мы носили, закрепляя кожаными ремешками под подбородком. Всем полагалось иметь небольшой знак с изображением русского трехцветного флага, который пришивали на груди. Знак делали из ленточек, но у меня на этот случай была брошь с русским флагом из цветной эмали на золоте, которую отец подарил маме после обручения.
Под предводительством английской леди в синей униформе британских скаутов мы прошли начальную подготовку — тренировались, делали добрые дела и так далее. Состоялся даже слет, который инспектировал сам генерал Айронсайд. Высокий, импозантный, немного высокомерный, он проследовал вдоль длинного строя девочек и мальчиков, стоящих по стойке смирно. Время от времени он останавливался и говорил кому-нибудь несколько слов на ломаном русском языке. Рядом с ним шел русский генерал Миллер, спокойный, полный достоинства человек, внешне проигрывавший рядом с высоким спутником.
Мы жгли костры, варили бобы с колбасой, пекли что-то вроде блинов, которые казались нам тем вкуснее, чем больше подгорали. Разбили палатки и установили большой экран, на котором показывали вестерн о краснокожих индейцах, преследующих почтовую карету и снимающих скальпы с несчастных пассажиров. Фильм, который все смотрели с большим интересом, на меня произвел неприятное впечатление. Я наивно думала, какие мы счастливые, что живем так далеко от этой Америки.
Слет продолжался далеко за полночь. Мама, Марга и Фрэнк, а с ними Юра и Марина приходили в начале вечера посмотреть на веселье. Наконец палатки были собраны, костры погашены. Уставшие скауты и гайды после счастливого дня разошлись по домам.
В тот год лето было необычайно жарким. Лист в саду не шелохнется, ветерок не потревожит застывшую гладь пруда, а сама Двина как лента вороненой стали, ни одной морщинки.
Мы, дети, проводили много времени у реки. Вода прохладная и ласковая, как шелк. Молодые матери приходят с младенцами. Малыши повизгивают от восторга, когда их осторожно опускают в воду. Купальщики чаще всего толпились напротив нашего дома, потому что в других местах купаться было неудобно из-за пристаней, причалов и движения судов.
На юге России, безусловно, существовали модные курорты, где люди носили купальные костюмы. А у нас о таких вещах и не слыхивали. Как и в деревнях, женщины приходили на свое привычное место, раздевались, входили не спеша в воду, немного плавали, выходили и обсыхали, болтая между собой, и, насплетничавшись вдоволь, уходили. Нечего и говорить, что мои бабушка и мама никогда не бывали здесь, хотя Марина иногда присоединялась к нам, а Марга любила приходить поутру, когда вокруг еще никого не было.
Этот обычай, старый как мир, как сам город, существовал, и никто не придавал ему особого значения. Гулявшие по бульвару местные мужчины никогда не глядели в сторону купающихся, чего не скажешь об иностранных солдатах. Они толкались, каждый старался пробраться поближе к перилам, чтобы лучше видеть, и не скрывали восторга при виде такого количества дам, купавшихся нагишом. Сначала женщины терпеливо сносили это вторжение в их мир, но солдат становилось все больше, и однажды купальщицы возмутились.
В один из жарких дней, когда я купалась вместе со всеми под взглядами многочисленных зрителей, чьи замечания в наш адрес легко можно себе представить, женщины пришли в ярость. Потрясая кулаками, они начали кричать на зрителей — все, кроме одной плотного сложения девицы, оказавшейся весьма снисходительной. «О чем вы? — сказала она. — Эти бедолаги так далеко от дома, от своих жен и невест. Да и что убудет, если вы доставите им удовольствие?». С этими словами она повернулась лицом к солдатам и широко раскинула руки: «Глядите, смотрите сколько влезет, если это в радость!». Одобрительные крики, громкий свист и аплодисменты еще больше разъярили женщин, и, столкнув нахалку в реку, они отправились к властям.
На следующий день на берегу появился караульный. Он получил приказ стоять здесь спиной к реке. Любому, кто пытался задержаться, он строго командовал проходить дальше.
Как-то вскоре после этого инцидента мама сидела на балконе со своей ближайшей подругой Лидочкой, дочерью дяди Вани. Они весело болтали о том о сем, как вдруг заметили двух верховых. Те оказались британскими офицерами. Щеголи спешились, привязали лошадей к фонарному столбу и двинулись к парапету набережной. «Посмотрим на купающихся русских красоток», — услышала мама слова одного из них. Она встала и громко крикнула по-английски: «Не заплывай далеко, Ина». Это произвело волшебный эффект: «Боже, Фредди, здесь англичанка». И они торопливо сели на лошадей и ускакали.
У союзнической интервенции была и другая сторона. Вскоре после высадки войск многие солдаты заболели испанкой. По какой-то странной причине она поражала больше всего американских солдат. Несмотря на жесткий приказ из Вашингтона использовать американские войска лишь для службы в гарнизонах, для охраны порта и складов и ни в коем случае не в боевых действиях, многие американские солдаты все же сражались и гибли. Но умерших от инфлюэнцы было гораздо больше, чем погибших в боях.
Все лето по Троицкому проспекту ежедневно тянулись к кладбищу похоронные процессии. Они сопровождались печальными звуками похоронного марша, торжественным барабанным боем. Заслышав приближение процессии, мы бросали игры и бежали на Троицкий, чтобы увидеть, как мимо проходит кортеж. С бессердечием детства мы всегда интересовались, каким флагом покрыт гроб, был ли это Юнион Джек — британский имперский флаг, французский ли трехцветный или звездно-полосатый. И чаще всего бывал этот последний. Мальчишки обычно следовали за кортежем с целью собрать пустые гильзы после прощального салюта.
Однажды зашел сержант Грей. Он был человек веселого нрава, всегда охотно смеялся и шутил (у меня осталось воспоминание, как он приносил все необходимые продукты для знаменитых американских пончиков и показывал нам лучший способ их приготовления). Но теперь он искренне горевал, потому что потерял лучшего друга, который заразился испанкой и умер спустя несколько дней.
Узнав об этом, бабушка поспешила в сад и принесла охапку цветов, из которых сделала красивый венок. С того дня к нам постоянно приходили солдаты с просьбой о цветах, и мы никому не отказывали. Каждый день бабушка приносила в столовую срезанные цветы и трудилась над созданием венков, крестов и гирлянд. Она отказывалась от платы за них и принимала лишь небольшие знаки признательности в виде банки консервированных фруктов, конфет, чая или кофе. Сад, обычно являвший собой буйство красок, остался совсем без цветов, зато сколько венков было сделано для солдатских гробов и могил…
Однажды Марга объявила, что Фрэнк и она решили обручиться. После завтрака Фрэнк пришел за Маргой, и они отправились в нашу церковь на церемонию обручения. Когда они вернулись, у них на пальцах, согласно обычаю, были надеты кольца для будущего венчания. Хотя в американских частях было несколько случаев разрешения на брак, Фрэнку не удалось стать одним из этих счастливцев. И тогда было решено, что как только Фрэнк вернется в Америку и уволится из армии, Марга приедет к нему. План включал и свадьбу в русской церкви, после чего Марга будет устраивать семейную жизнь в Америке. А пока небольшое семейное торжество состоялось в доме.
Реакция моих деда и бабушки на все эти планы была неоднозначной. Марга была счастлива, но Америка так далеко, времена тревожные, да и о жизни Фрэнка они ничего не знали.
К этому добавились волнения из-за тети Ольги и ее семьи в Финляндии. После революции дядя Оскар должен был явиться в Петроград с докладом правительству Керенского и получить распоряжения о дальнейшей деятельности. Он взял с собой двух дочерей, Ариадну и Злату. Пока они были в Петрограде, большевики захватили власть, Керенский бежал. Дядя Оскар и девочки оказались в затруднительном положении, без всякой опоры и помощи. Тетя Ольга, оставшаяся с младшими девочками и маленьким сыном Игорем, существовала на средства от продажи своей драгоценной антикварной коллекции. Имея только эти тревожные известия, полученные от тети почти год назад, и будучи не в состоянии связаться с Петроградом, мы не знали толком, что происходит с этой семьей.
В начале июля школьные власти решили провести недельную познавательную поездку по реке. Так и не удалось узнать, кому же пришла в голову мысль об этой экспедиции, запланированной с таким легкомыслием и небрежностью. Не стоит и говорить, что все гимназисты хотели попасть в эту поездку. Так как большую часть пароходов увели большевики, а оставшиеся колесники использовала армия, удалось достать лишь небольшой пароходик, бравший не более пятидесяти пассажиров. Из списка отобрали первые пятьдесят фамилий, и среди них оказались Вера, Елена, Володя, Борис, Гермоша и я.
Нашим родителям сообщили, что, хотя кают нет, нам выдадут матрацы. Ничего страшного, если мы проведем на палубе прекрасные белые ночи. Надо взять с собой полотенце, мыло, зубную щетку, кружку, миску, ложку, вилку и смену белья. Простую пищу, включая целебное молоко, прямо из-под коровы, будут поставлять деревни на пути. У деревенских жителей, как обнаружилось позднее, на этот счет были другие мысли.
В назначенный день мы собрались, каждый с маленьким узлом. Хотя любящие родители и не получили соответствующих инструкций, но приготовили в дорогу своим чадам пирожки, печенье, пирожные. В последний момент я взяла в сумку маленькую подушечку-думку, во всех моих поездках она всегда была со мной.
Сначала все шло гладко. Приятно плыть мимо извилистых, покрытых лесами берегов, деревенских изб и уютно приткнувшихся к ним церквей. Но по мере того, как тянулся день и безжалостные лучи солнца раскаляли забитую детьми палубу, у нас начались страдания. Огромная бочка с тепловатым квасом вскоре опустела, пирожки и пирожные были съедены. Нашей компании повезло больше, чем прочим. Мы нашли уголок, где удалось из полотенец устроить нечто вроде палатки, в ней была хоть какая-то тень. Здесь мы сидели и мечтали о радостной минуте, когда сойдем на берег в той гостеприимной деревне, где нам обещали простую пищу и целебное молоко. Куда там! Деревенские жители были ошеломлены нашим вторжением и совершенно не готовы кормить такое множество детей и их преподавателей. В конце концов нам дали что могли: кто-то ел вареную картошку, другим досталась гречневая каша, а вот молока на всех не хватило.
Потом мы бродили по деревне, болтали с деревенскими ребятами, пока наше путешествие не продолжилось. Обещанные матрацы так и не материализовались. Ночью с реки подул холодный ветер. Мы сняли наш тент и, закутавшись в полотенца, кое-как устроились на ночь на голой палубе. Я была благодарна своей «думке».
Ранним утром следующего дня мы прибыли в старый монастырь. Неожиданно оказалось, что монахи знали о нашем прибытии, и на маленькой пристани нас ждали несколько лошадей с телегами. Рассвет был прохладный и мирный. Телеги длинной вереницей ехали среди полей ржи, душистой зелени и сладко пахнущего красного клевера. Впереди кто-то запел хорошо знакомую песню, и все подхватили. Множество озер, высокие темные кедры, на их фоне белые стволы берез, полные достоинства гуси переходят дорогу — так, вероятно, жила Древняя Русь. На ночь нас устроили в просторных спальнях гостевого дома. Матрацы на полу были чистые и удобные, подушки и простыни — белоснежные.
На следующее утро планировалось отправиться дальше по реке к другому монастырю, но, проплыв несколько часов, мы сели на мель и, несмотря на все усилия команды, накрепко застряли под палящим солнцем. Казалось, прошло очень много времени. Беспокойство команды и наших учителей передалось и нам, но тут совершенно неожиданно пришла помощь, и спасли нас британские морские пехотинцы. С шедшей по реке канонерки увидели нашу беду. Спустив шлюпки, команда приняла нас на борт, и это оказалось самым волнующим приключением всей нашей экспедиции.
Моряки были очень рады нам и проявили исключительное гостеприимство. Нам устроили настоящее празднество, накормили, как нам показалось, самой чудесной едой на свете — колбасой с бобами, консервированными персиками и какао. Ночь мы провели в гамаках, устроенных для нас командой, что было еще одним новым впечатлением. На следующее утро мы с большой помпой прибыли в город.
Дома нас встретили известием, что противный Вахонин наконец убрался из сторожки. Терпели его проделки долго, но в конечном итоге предложили освободить помещение. Большевистской власти — его покровительницы, больше не было, поэтому, согласно поговорке, праздник пришел и на нашу улицу. Ириша жила в нашей семье много лет, это была славная женщина, мы все ее любили, но, поскольку она была женой Вахонина, ей, конечно, тоже пришлось уйти. Больше мы никогда их не видели.
Несколько дней спустя в сторожке поселилась другая семья. Это были беженцы с юга России. Отец семейства был управляющим в имении какой-то графини, которая после революции уехала во Францию. Имение было разграблено. Управляющий, поняв, что не только лишился работы, но и жизнь его под угрозой, решил уехать на север. Таких, как он, было много. Город был переполнен беженцами. Многие жили на чердаках или семьей занимали одну комнатенку, испытывая невероятные трудности.
Друг Юры Митя Данилов пришел к нам с визитом. Он отправлялся воевать против большевиков. Мундир британского офицера, какие выдавали добровольцам, хорошо сидел на его могучих плечах. Несколько дней спустя Юра тоже записался добровольцем и пришел домой в такой же форме, перепоясанный ремнем «Сэм Браун» с портупеей. Большинство юношей, закончивших учебу, вступали в белую армию. Они были молоды, полны надежд на будущее, многие планировали, как наш Юра, поступить в университет в Петрограде или Москве. Теперь эти планы отодвинулись ради общей цели — покончить с большевиками, угрожавшими захватить не только Россию, но и весь мир.
К концу лета поползли слухи, что наши союзники не совсем едины в своих намерениях. Происходили бунты, солдаты покидали позиции, убивали британских и русских офицеров. В местных казармах, после того как солдаты отказались подчиниться приказу об отправке на фронт, тринадцать зачинщиков беспорядков были арестованы. Генерал Айронсайд подписал им смертный приговор.
К этим тревожным слухам добавилась наша семейная беда. Я уже давно заметила, что мама (с превеликим трудом!) читает папе газеты, и решила, что она практикуется в русском языке, пока не увидела, что и Сережа, и другие делают то же самое. Я вспомнила, как папа просил меня подбирать оттенки меха для маминого палантина, что для такого специалиста как он, конечно же, очень странно. Папе явно необходимы были очки.
Однажды дедушка появился с господином, который, как я узнала позже, был глазным специалистом. Оба они и мама с бабушкой пошли в комнату папы, а я, волнуясь, слонялась по залу.
Когда вышла бабушка и, обняв меня, сказала, что папа теряет зрение, я не заплакала. Я просто не могла осознать всей глубины несчастья. Папа, уже лишенный возможности передвигаться, теперь приговорен лежать во тьме, никогда больше не увидит солнца, лица друзей, своих детей — это было выше моего разумения.
Осознание трагедии пришло позже. Боль пронзала меня всякий раз, когда я видела его глаза, голубые и совершенно ясные, но глядящие мимо меня, или когда его тонкая рука искала какую-нибудь вещицу на столике у кровати. Было лишь небольшое утешение — папа никогда не оставался один. Он всегда был окружен любящими и верными друзьями. Возможно, он сам давал людям какую-то внутреннюю силу, оставаясь веселым, всегда готовым пошутить, посмеяться, а иногда просто напевая свои любимые мелодии.
Отцу было 38, мне 13, когда он потерял зрение. С того времени у меня сформировалась своя философия. Не понимая, почему всемогущий и всех любящий Господь позволил такому случиться, я пришла к заключению, что Он может быть и таким, и другим. С тех пор у меня не было повода менять свою точку зрения.
К нам продолжали приходить в гости наши британские и американские друзья. Они часто собирались вокруг рояля, когда мама играла популярные военные песни. А иногда к нам присоединялись Фрэнк и Марга, тогда начинались танцы. Сад с беседками, тенистыми дорожками, романтическими уголками, запахом увядающих цветов тоже был притягательным местом. И над всем этим витало какое-то грустное предчувствие. Мы все знали, что когда-нибудь союзнические войска вернутся к себе на родину. Что будет тогда? Обсужать это избегали. Гражданская война шла второй год, а каких-то признаков поражения большевиков не было.
Лишь Марга была полна счастливого оптимизма. Она собирала вещи и упаковывала их в сундук, принесенный с чердака. Марга, точно белка, любила собирать разные мелочи, особенно вещи, имевшие отношение к нашим предкам. Она дружила с двумя пожилыми дамами, последними из ван Бриненов. После визитов к ним она никогда не приходила с пустыми руками: приносила то старый веер из слоновой кости, то миниатюру, табакерку или драгоценную вещицу из фарфора. Марга очень дорожила ими. Ее ценнейшим приобретением был поясной женский портрет, написанный голландским мастером в конце семнадцатого века. На портрете была изображена представительница наших предков — тонкое лицо, обрамленное темными локонами по моде того времени, обнаженные плечи выступают из кружев и алого бархата. Портрет висел в спальне, которую Марга делила со мной, а теперь он был тщательно упакован и готов отправиться в чудный Новый Свет — Америку.
Некоторые члены семьи были против этого, особенно Сережа, который говорил, что совсем неважно, кому будет принадлежать портрет, лишь бы он не покидал Архангельска. Марга, однако, имела на это свою точку зрения и не уставала повторять, что портрет принадлежит только ей. Планы у нее были четкие: когда она получит письмо от Фрэнка после его возвращения домой, она отправится в Британию, а оттуда пересечет океан. На словах все было просто, но представлялось не очень реальным.
То, о чем долго ходили слухи и чего так боялись, случилось. Наши союзники покидали нас. Один за другим друзья приходили прощаться. Моряки, словно счастливые школьники на каникулы, уходили первыми. Прошел почти год, как закончилась война с Германией. На Западе давно мир, а тут они должны сражаться на чужой земле, где кругом болота, страдать летом от жары и комаров, зимой — от жестоких морозов. Британия выполнила свой долг. Из трех основных союзников именно Британия имела на Севере самый большой контингент и несла самые большие потери.
Однажды ранним утром цепочка кораблей, полускрытых туманом, медленно прокралась мимо нашего дома и исчезла за Соломбалой, направляясь в море. Год назад эти корабли встречали с великой радостью, а теперь они уходили. Мы молча наблюдали за ними из окна гостиной. Сережа горько заметил: «Зачем они вообще приходили? Мы дорого заплатим за это».
Союзническая интервенция закончилась. Рухнули надежды на помощь и новые поставки. Решение об эвакуации всех британских, а за ними и других войск держалось в секрете, и уход необходимо было провести скрытно, не привлекая внимание белых.
Конечно, всем известна причина интервенции. Большевиков необходимо было разбить, чтобы Россия могла продолжить войну с Германией, тем самым спасти Западный фронт, находившийся под серьезной угрозой. Другая причина появления союзников на Русском Севере — предотвращение нападения Германии на Россию через территорию Финляндии и установления ею контроля над морем. Теперь, когда Германия побеждена, интервенцию оправдывали те люди, которые искренне верили, что союзники не захотят видеть коммунистический режим в России. В действительности союзникам не было дела, какое правительство придет к власти в России.
Казалось, никто не понимает, что Ленин и Троцкий — это не революционеры, жаждущие освободить Россию, а люди, желающие во что бы то ни стало провести в жизнь свою доктрину. Союзническую интервенцию всегда рассматривали как абсолютную катастрофу, оплаченную бессмысленными потерями солдат и жестокими репрессиями против тысяч белогвардейцев.
На гражданской войне люди одной нации сталкиваются в кровавом конфликте из-за враждующих идеологий, и если одну сторону поддерживает какая-либо страна, козырную карту получает противоположная сторона. К лозунгу Ленина о мире и земле добавился призыв: «Долой чужеземных захватчиков!».
После большевистской революции белая армия осталась верна союзникам и продолжала бороться с немцами до конца. А чтобы победить Германию, нужна была помощь в борьбе с большевистской угрозой, и когда такая помощь явилась в лице союзнической интервенции, белые были благодарны. Однако этой помощи недоставало должной дипломатической поддержки. Она должна бы иметь форму равноправного партнерства, а вместо этого русские оказались под контролем британцев на Севере, французов — в Сибири. Генерал Миллер, человек чести, любимец своих офицеров и солдат, оказался в подчинении у Айронсайда, адмирал Колчак, верховный главнокомандующий, — в подчинении французского генерала Жанена, который пальцем не шевельнул, чтобы спасти Колчака от рук большевиков.
Наверное, были и другие, более важные факторы провала, поэтому удивительно ли, что в рядах белой армии так часто случались восстания и на сторону большевиков переходили даже способные офицеры?
Однажды вечером заглянул дядя Адя. Он вел теперь все семейное дело, приносившее большое беспокойство. На заводе случился пожар, и драгоценная древесина, уже готовая к отправке на экспорт, сгорела. Подозревали в поджоге саботажников, но доказательств не было. Мы видели алое зарево, разлившееся по небу. Люди самоотверженно боролись с огнем, и наконец им удалось предотвратить страшную катастрофу, которая могла случиться, перекинься огонь на жилые дома.
Обеспокоенный ситуацией в городе, дядя Адя решил послать жену Наташу с маленьким сыном в Англию. Его сестра Фанни тоже уезжала с двумя своими близнецами. Другая сестра дяди, Маргуня, сопровождала своего мужа подполковника Дилакаторского в Мурманск, где он принял командование войсками, ведущими боевые действия в том районе.
Архангельск опустел. Множество наших друзей и родственников уезжали, ища спасения в Европе. Наша звеньевая в отряде девочек-гайдов — эта организация больше не существовала — тоже уезжала. Вся их семья, распродав вещи, эмигрировала в Америку.
Я пошла проводить ее. На причале было много народу. Мужчины, женщины и дети обменивались прощальными словами с пассажирами, облепившими ограждения на борту парохода. Но вот раздался оглушительный пароходный гудок, и судно начало медленно отходить от пирса. Расстояние все увеличивалось. Последние отчаянные попытки прикоснуться, сказать что-то, уже потерявшее смысл, и последние прости.
Я и представления не имела о решении родителей об отъезде мамы, Гермоши и меня в Шотландию. Когда мы с братишкой узнали эту новость, то страшно взволновались. Всем встречным, всем друзьям по играм мы гордо заявляли: «Знаешь, мы уезжаем в Шотландию!».
Однажды утром мама и я отправились заказывать билеты в пароходную контору. Там стояла огромная очередь, растянувшаяся на всю улицу. Когда наконец подошла наша очередь, молодой британский офицер, сидевший за столом, объявил маме, что каюты обоих классов на ближайший рейс полностью проданы. Однако услышав, что мама говорит по-английски, и узнав, что она, как и он, шотландка, попросил нас подождать, пока наведет справки. Офицер вернулся и, улыбаясь, сообщил нам, что нашлась одна свободная каюта в первом классе. Судно уходит 11 сентября.
На сборы оставалось меньше недели. Мама начала укладывать чемоданы. Она взяла с собой некоторые вещи, которые были особенно дороги ей: фарфор, несколько небольших серебряных вещиц, украшение, подаренное ей тетей Ольгой в Санкт-Петербурге.
По всему городу, прямо в домах отъезжавших, проходили распродажи вещей. Мы с бабушкой пошли на одну из них, где владелец продавал собрание ценных книг. Сережа, который теперь работал библиотекарем, сопровождал нас в надежде приобрести некоторые книги для городской библиотеки. В качестве прощального подарка бабушка купила мне подборку русских классиков, в том числе красивые, в красных переплетах сочинения Пушкина и Лермонтова. На титульном листе пушкинского тома она написала: «Моей любимой внучке Жене, уезжающей в Шотландию 11 сентября 1919 года. С огромной любовью от бабушки». За шестьдесят с лишним лет надпись выцвела, обложка износилась. Книга путешествовала со мной по континентам и тропическим морям, я никогда не расставалась с ней.
Брат тоже собирался взять с собой кое-что, оказавшееся крошечным карпом, которого он поймал в пруду прошлым летом и теперь наотрез отказывался оставить. Эта рыбка, которая бесцельно плавала по кругу в большой стеклянной банке и питалась хлебными крошками, теперь тоже отправлялась в Шотландию.
Среди волнений, сборов, беготни, визитов, а может, и из-за эгоизма легкомысленной юности как-то забылось, что отец остается без нас. Конечно, твердо верилось, что большевиков прогонят и расставание будет лишь временным. Но каково отцу остаться без нас, я поняла, когда в день отъезда все собрались в старой детской. По русскому обычаю молча присели перед отъездом. Я поднялась и встала на колени у постели отца. Он молча благословил меня маленькой иконкой Богородицы с младенцем. Я посмотрела в его лицо и увидела слезы невыразимого горя.
Пароход «Видек» был набит беженцами: кто-то ехал в Англию, кто-то во Францию, многие надеялись добраться до юга России, где белая армия имела некоторые успехи. Мы делили четырехместную каюту с привлекательной молодой женщиной Соней. У нее были большие выразительные карие глаза и целая шапка вьющихся волос. Соня обручена с красивым американским офицером по имени Джек. Они едут в Америку и планируют там пожениться.
Гермоша и я спали на верхних полках, Соня занимала место под моей. Нисколько не стесняясь, она обычно занималась утренним туалетом так открыто, что это поражало меня. Накинув очаровательный халатик, она отправлялась в туалет, а вернувшись, раздевалась до пояса и протирала тело губкой с одеколоном и розовой водой. Это занятие очень занимало моего брата. Свесившись через край полки, он следил за каждым ее движением, пока мама не приказывала ему повернуться лицом к стенке. Еще более волнующим был Сонин макияж и крошечная мушка, которую она пристраивала на щеке; мушка хранилась в такой же крохотной коробочке. Ее прелестные черные локоны требовали не так много забот. Она просто собирала их и закрепляла испанским гребнем.
Соня и Джек были страстно влюблены друг в друга и никем больше не интересовались. Мы видели ее лишь вечером, когда она возвращалась в каюту. Правда, однажды, когда я в одиночестве дремала на своей полке, пытаясь превозмочь морскую болезнь, которая, как неизбежное зло, овладела мной, Соня и Джек тихонько вошли в каюту и, думая, что я сплю, устроились на Сониной полке. И хотя мне ничего было не видно, зато слышно многое.
Как-то поздним вечером, когда я только что уснула, раздался жуткий грохот. Корабль содрогнулся. Наступила полная темнота. Раздались крики перепуганных женщин и детей. Из того, что произошло непосредственно у нас, память сохранила лишь отрывочные картины: мама спокойно ищет нашу одежду и помогает одеться; Гермоша, упавший со своей полки, плачет от страха; Соня в испуге бежит из каюты. Команда с зажженными факелами обходит каюты и велит пассажирам надеть спасательные жилеты.
Внезапно зажглось электричество, успокоив людей и предотвратив панику, по крайней мере в нашей части корабля. Мы поднялись по трапу на палубу, но тут нам было велено идти в салон и ждать дальнейших указаний. Через некоторое время объявили, что к нам на помощь идет судно Королевского флота и мы можем вернуться в свои каюты. Команде и пассажирам было трудно понимать друг друга, так как команда была английская, а пассажиры — русские, и мама очень помогла с переводом.
Сначала решили, что «Видек» наткнулся на плавучую мину, но позже выяснилось, что пароход сел на мель и получил две пробоины. Всем находившимся на борту мужчинам было приказано помогать откачивать воду из затопленного трюма. К счастью, судно удалось снять с мели, и на следующее утро при ярком солнечном свете в сопровождении военного корабля мы пришлепали в спасительную гавань Уик в Кейтнессе.
Не успели мы пристать, как появились два водолаза для осмотра днища. Позднее член экипажа сказал мне, что хотя там действительно оказалось две пробоины, большая из них была заблокирована обломком скалы, который уменьшил поступление воды в трюм. Утром в салоне отслужили благодарственный молебен, а потом объявили особую благодарность маме за ее помощь.
Мы первыми из пассажиров сошли на берег. И вот после восьмилетнего отсутствия Гермоша и я вновь ступили на землю Шотландии. Все вокруг залито солнцем: оживленная гавань, рыбачьи лодки, уходящие в море, белокрылые чайки с пронзительными криками пикируют над светлой водой.
Крошечная станция, где мы сели в поезд на Инвернесс, показалась мне необыкновенной — чистенькая, уютная, прелестные цветочные клумбы радуют глаз. Дорога в Инвернесс была замечательной. Пассажиры, ехавшие с нами в одном купе, развлекались, слушая нашу причудливую смесь русского и английского, когда мы в волнении указывали на разные достопримечательности. «Посмотри на этот «шиип». Олень на горе — он меньше нашего!». Все было необычно и прекрасно.
Поздно вечером инвернесский поезд прибыл в Данди. Вежливый таксист аккуратно разместил наш багаж. С благодарностями мы влезли в машину. Гермоша прижимал к себе банку с рыбкой, она как-то пережила трудные испытания на корабле.
Такси везло нас по ярко освещенным улицам, где на перекрестках стояли, беседуя, группки людей. Для нас многое было в новинку, поэтому — любопытно. Недолгая приятная поездка в мягких сумерках теплого осеннего вечера, и вот мы, голодные и усталые, у порога дедушкиного дома.
Дед и грэнни не ждали нас в этот вечер и уже отправились спать, когда мы свалились на них. Утром они прочли короткое сообщение в газете, что корабль с беженцами из России сел на мель, но они как-то не связали это с нами. Нас встретили тепло и взволнованно. Младшая тетушка Вики выбежала в халате из спальни, за ней появился заспанный шестилетний сын Чарльз. Муж тети был в оккупационной армии в Германии, и она жила у родителей.
Утром я вскочила с постели и поспешила к окну. Солнце уже встало. В саду пламенели цветущие розы и хризантемы, скворцы подчищали яблони. За серебряными величавыми водами реки Тэй я вновь видела зеленовато-коричневые холмы и берега Файфа. А в Архангельске, наверное, идет дождь и дует холодный ветер, темнеющая река готовится к последней схватке с безжалостным морозом — схватке, которую она неминуемо проиграет. Здесь же в последние сентябрьские дни солнце продолжало сиять, и клетка с Джоки вынесена в сад.
Для нас, приехавших из страны вынужденного сурового аскетизма, закрытых магазинов и бедно одетых людей, Шотландия предстала невероятно изобильной. Какое удовольствие, гуляя по ровным тротуарам Броути Ферри, зайти в кондитерский магазин! Глаза разбегаются от бриллиантового блеска круглых стеклянных банок с конфетами, плиток шоколада, выложенных соблазнительными пирамидами, разноцветных коробок, перевязанных шелковыми лентами. А дальше — знаменитая булочная с аппетитным запахом свежеиспеченного хлеба, булочками с кремом, печеньем и пирожными.
Нас очаровал маленький магазинчик под названием «Лютик», где продавали молочные продукты. Румяные девушки в безупречных фартуках формировали кружки масла на мраморном прилавке. И название, и большие емкости с маслом, молоком и сливками вызывали в воображении цветущие лютики на зеленых лугах, множество толстых послушных коров с добрыми глазами. Как волнующи были поездки в город на поезде или трамвае, когда мама и мы с Гермошей сопровождали грэнни в ее еженедельной поездке за покупками!
Больше всего я любила бывать в знаменитом модном магазине «Дрэффенз». Здесь предлагали особо изысканную одежду понимающим в ней толк покупателям. В хорошие времена мой отец заказывал одежду здесь. Затем ее посылали пароходом в Архангельск и доставляли в полной сохранности. И сейчас, когда мы поднимались по устланной роскошным ковром лестнице, переходили из отдела в отдел, где дамы, одетые в элегантную черную униформу, предлагали купить платье, пальто или шляпку по последней моде, я испытывала изумление сродни тому, какое пережила в давнюю пору в Санкт-Петербурге и которое было теперь лишь смутным воспоминанием.
Неуверенная в своем теперешнем положении, мама не могла позволить себе много приобретений, но все же она купила мне несколько платьев, туфли и чулки. Грэнни тоже добавила кое-что в мой гардероб, чему я была рада. Мама не смогла удержаться и купила себе большую живописную шляпу с перьями цапли. Печально, но эту самую шляпку мне суждено было потерять при обстоятельствах, которых мама в ту пору и представить не могла.
Обычно день покупок заканчивался посещением магазина Брауна, известного тем, что на верхнем этаже можно послушать маленький оркестр, поглощая знаменитые горячие сдобные булочки, сочащиеся маслом и джемом.
Видя все эти богатые магазины, жизнерадостных людей, их приятную, спокойную жизнь, можно было подумать, что война не коснулась Шотландии. Но приглядевшись, поймешь, что эта крошечная страна заплатила огромную цену. Здесь не было семьи, не потерявшей сына, мужа или брата.
Семейный горизонт омрачала еще одна туча — тревожные вести из Индии. В военные годы дядя Генри стал офицером вспомогательного полка, известного под названием Калькуттско-Шотландского. К концу войны он заболел опасной болезнью, часто встречающейся на знойных равнинах Индии, и был настолько болен, что его поместили в госпиталь в Калькутте. После длительного лечения он почти выздоровел и писал родителям, что решил воспользоваться полагавшимся ему отпуском раньше срока. Генри надеялся, что длительный отдых в Шотландии поставит его на ноги. Он уже заказал каюту на корабле, уходившем в начале ноября, и рассчитывал быть дома как раз к Рождеству. Полная надежд грэнни готовила ему лучшую комнату.
Немедленно после нашего приезда в дом прибыли родственники повидать нас. Семья Камеронов, несмотря на обычные разногласия, поддерживала свою целостность.
Мэри, младшая сестра мамы, каждую неделю навещала родителей со своим малышом сынишкой Фрезером. Приходили мои старшие двоюродные брат и сестра Берти и Мей. Мей было семнадцать, она была уже совсем взрослой леди. Стройная, чуть ниже среднего роста, с блестящими каштановыми волосами, она была жизнерадостна, весела, смешлива. Хоть ей не хватало росточка, она держалась уверенно и, когда хотела, могла быть очень настойчивой в своих притязаниях. С первого дня встречи нас влекло друг к другу, и в последующие годы мы стали близки, как родные сестры. Наши судьбы странно пересекались. Мы обе вышли замуж за молодых людей из Броути Ферри, обе уехали в Индию. Там наши дома смотрели друг на друга с противоположных берегов реки Хугли, так что мы могли ездить друг к другу и продолжать нашу дружбу.
Много лет спустя, когда мы постарели и ушли от дел, Мей, овдовев к тому времени, вышла однажды теплым летним вечером подрезать розы. На следующее утро юный разносчик молока обнаружил ее мертвой рядом с цветами, которые она так любила.
Для многих друзей грэнни брат и я представляли определенный интерес. Нас постоянно приглашали на чай приятные пожилые дамы, угощали нас вкуснейшими сэндвичами, ячменными лепешками и пирожными, но за это мы должны были сидеть тихо и вежливо отвечать на бесконечные вопросы. Лишь однажды, отведав щедрого угощения, мы тихонько ускользнули на пляж Грасси Бич к лодке кузена Берти, что не прошло для нас безнаказанным.
Временами, когда рядом никого не было, мы делились впечатлениями. «Ты заметила, — спросил однажды Гермоша, — что Джесси, прачка, носит шляпу?». В России прачки шляп не носили. В глазах брата Джесси в шляпе была воплощением демократии. И потом, это просто наваждение — разговоры о погоде. Почему они так много говорят о ней? В каждом магазине, куда мы заходили, нам сообщали, что сегодня солнечно, холодно или ветрено, а если идет дождь, то завтра, может, будет лучше. Капризная шотландская погода, конечно же, предоставляла множество вариаций на эту тему.
Но самым странным для нас было суеверие, что черные кошки приносят счастье. Почему никто не объяснит им, что черные кошки являются посланцами зла, друзьями колдуний и предвестниками несчастья, если они перейдут вам дорогу? Хуже всего получить от заблуждающихся на этот счет родственников рождественскую открытку или поздравление с днем рождения, где изображены зеленоглазые черные киски. Единственный способ борьбы с этой бедой — уничтожить карточку в огне и трижды сплюнуть через левое плечо, чтобы отвести сглаз.
Октябрь подходил к концу, когда Гермоша отметил свой двенадцатый день рождения. Утром дедушка позвал Гермошу к себе в спальню и торжественно вручил ему серебряные часы на цепочке. Днем приехали многочисленные родственники и, вручив подарки, собрались за столом. Все девочки были в вечерних платьях, мальчики — в килтах камероновского тартана. Был шумный веселый праздник с конфетами, бисквитами, именинным тортом и свечами.
А из России шли письма. После того, как последний солдат союзнических войск был эвакуирован, белая армия сплотилась и начала наступление. В Архангельске царил оптимистический настрой. Впереди маячила победа, а с ней — конец гражданской войне. По мнению отца, когда она закончится, не будет резонов оставаться в Шотландии. Он озабоченно указывал, что самым важным теперь является наше образование. И еще он упоминал ледокол «Канада», который уходил в Англию в начале ноября. Марга рассчитывала попасть на него, при условии, что письмо от Фрэнка придет к этому времени. Фрэнк уехал незадолго до нашего отъезда, и, вероятно, из-за почтовых сложностей долгожданного письма еще не было. С каждым днем бедная Марга все больше волновалась. Письмо так и не пришло.
Этот внушавший доверие молодой человек, обаятельный, со свободными раскованными манерами, воспользовался гостеприимством людей, искренне считавших, что он человек чести; обручившись с Маргой, очаровав ее так, что она готова была следовать за ним хоть на край света, применил простую уловку, когда отпала надобность в гостеприимстве. Уехал и не пытался связаться с Маргой. И хотя он оставил свой адрес, ответа на ее письма не было.
В день поминовения, 11 ноября, мы вышли на бледное зимнее солнце и, склонив головы, встали молча на ступеньках крыльца, поминая миллионы погибших солдат. Два дня спустя, перед ланчем, пришла телеграмма: дядя Генри скоропостижно скончался. Когда грэнни прочла сообщение, она, смертельно побледнев, сказала: «Оставьте меня». Грэнни поднялась к себе в спальню и заперлась.
Вскоре приехал из своей конторы дедушка и сел за стол. Ему подали телеграмму. Я отчетливо помню, как он закрыл лицо руками и сказал: «Он был младшим и самым лучшим». Потом он спросил: «Где мама?». Узнав, что она наверху, он поднялся к ней в спальню.
Позже выяснилось, что дядя Генри прибыл на борт судна за два дня до отплытия. Ему внезапно стало плохо. Его сняли с судна и увезли в госпиталь, где он умер на следующий день.
От отца пришло еще одно письмо. Ледокол «Канада», находящийся в Ньюкасле, уходит в Архангельск 2 декабря. Многие женщины с детьми возвращались домой, в том числе и жена дяди Ади Наташа с сыном. Отец настаивал, чтобы мама тоже приехала, так как большевики почти разбиты. Белое море замерзло. До лета вряд ли будет другой корабль, и мы потеряем целый учебный год. После больших раздумий и, вероятно, не желая быть обузой для родных, мама решила вернуться в Россию.
На борту «Канады» маму и меня провели в нашу двухместную каюту. Гермоша ехал в каюте мистера и миссис Браун и их маленького больного сына Вани. Мистер Браун был англичанин по происхождению, на что указывало его имя. Он возвращался, надеясь вновь начать свое дело. И он, и его жена были очень приятные люди, добрые к Гермоше, которому не очень-то нравилось ехать отдельно от нас в каюте на другом конце судна.
Рыбешка опять путешествовала с нами в своей стеклянной банке, которую пришлось привязать к ручке иллюминатора. Она чудом пережила шок от смены воды в Шотландии и, безжизненно поплавав на поверхности, пришла в себя. Теперь она носилась по банке веселей прежнего. Гермоша серьезно пообещал ей, что весной он выпустит ее на свободу в пруд.
В салоне мы встретили знакомых, в том числе Наташу, жену дяди Ади, и их маленького сына Шурика. Сестра дяди Ади Фанни, уехавшая осенью в Англию со своими близнецами и тоже раздумывавшая, не возвратиться ли домой, в конце концов передумала. Несколько десятилетий спустя я встретилась с тетей Фанни снова. Вспоминая прошлое, она рассказала мне, что, когда она чуть было не решилась последовать за своей невесткой, от мужа пришла телеграмма. Она была короткой: «Сиди и не двигайся с места». Тетя Фанни и не двинулась. Если бы Наташа поступила так же, ее жизнь могла бы сложиться совсем по-другому.
Нас представили старшему помощнику капитана Билли Джордану и его жене Мейзи. Он был родом из Латвии, она — из Йоркшира. Ей было двадцать два. Темные шелковистые волосы, белоснежный лоб, огромные выразительные глаза. Мейзи была какой-то особенной. Она умела танцевать, петь, была весела и мила со всеми пассажирами. Все полюбили Мейзи. Она и мама, будучи единственными британками на борту, потянулись друг к другу.
Почти неделю мы провели в доке: отплытие откладывалось. В это время на борту появился небольшой отряд русских офицеров и солдат. Все они участвовали в гражданской войне и были посланы в Англию учиться водить танки. Несколько машин уже было послано в Архангельск, другие находились в трюме ледокола. Офицеры поместились в каютах, а рядовые жили в помещениях членов экипажа, на нижней палубе.
В соседней каюте были два офицера — Владимир Александров и Кирилл Ермолов. Оба прошли через ужасы гражданской войны, особенно Кирилл. Он был из семьи крупного помещика. Однажды в их поместье появилась толпа пьяных дезертиров. Бандиты ворвались, когда семья сидела за обедом. Один из сыновей направился к ним навстречу. И тут раздался выстрел. Другой бандит схватил сестру, и когда мать попыталась защитить дочь от насилия, их обеих закололи штыками. Кириллу, отцу и младшему брату связали руки и повели в ближайший лесок. По счастливой случайности Кириллу удалось бежать, он спрятался в густом кустарнике. Кирилл лежал и слышал выстрелы, слышал шаги искавших его убийц. Прячась три дня, он передвигался лишь по ночам и наконец дошел до отряда белой армии. Отныне он посвятил жизнь мести за гибель семьи.
Другой из вновь прибывших пассажиров был англичанин, также участвовавший в боях гражданской войны. Очевидно, он был из богатой семьи, потому что купил собственный аэроплан и собирался продолжить борьбу с большевиками. Вторым пилотом у него был русский военный летчик, сорвиголова Костя. Шрамы на его лице свидетельствовали о многочисленных приключениях.
Северное море имеет плохую репутацию. В первую же ночь плавания погода резко ухудшилась. Вскоре мы попали в самый жуткий шторм. Временами казалось, что судно встает на дыбы, но, вздрогнув, оно падало вниз и переваливалось с борта на борт. К вою ветра добавились звуки бьющейся посуды. Багаж, оставленный за дверями кают, швыряло взад-вперед по коридору. С полки над умывальником свалились все вещи, в том числе флакон духов, разбившийся на множество осколков, наполнив каюту тошнотворным запахом фиалок. Мама, волнуясь за Гермошину рыбешку, пыталась добраться до банки, но каждый раз ее отшвыривало прочь. Тогда с трудом с койки слезла я и подобралась к полке. Банка была цела, но вода выплеснулась из нее — вместе с рыбкой. Найти ее я не смогла и с трудом забралась обратно на койку.
С рассветом шторм утих. Появился мой братик, бледный и больной, и поспешил к банке. Не найдя рыбки, он начал неистовые поиски среди раскиданных по полу вещей. Рыбку нашли под ковриком, ее осторожно вернули в банку, но чуда не произошло. Гермоша не хотел расставаться с банкой и позже крепко уснул прямо на полу каюты с банкой в руках.
Когда судно еще стояло в доке, многие пассажиры, включая и нас, ездили в торговые кварталы Ньюкасла. В это время я встретила свой четырнадцатый день рождения. Подарков не было, но мама дала мне денег, чтобы я потратила их по своему усмотрению. Я купила маленькие сувениры — нитку белых кораллов для Марины, шерсть для вязания бабушке. Для Марги нужно было найти что-нибудь необычное. Вспомнив, что она как-то говорила о желании попробовать экзотических фруктов, я купила связку бананов, такую большую, что едва доволокла до каюты и с трудом нашла ей место. К маминым предупреждениям, что бананы не доедут до Архангельска, я была глуха.
Во время краткой стоянки в Бергене некоторые пассажиры, в их числе мама, сошли на берег. Она и Мейзи вернулись с свежим хлебом, сыром и другими продуктами, так как кухня на «Канаде» оставляла желать лучшего. Осборн Гроув тоже ходил за покупками и подарил Гермоше, Ване и мне конфеты, орехи, игральные карты и красивый набор домино. Он был странный человек, этот Осборн Гроув. Он никогда не терял время на бессмысленную болтовню, но часами наблюдал за нашими играми, слушал наши разговоры, сам едва ли произнося хоть слово. Но мы чувствовали, что он благородный человек, всегда готовый помочь нуждавшимся в его помощи.
Мы продвигались к Архангельску, а к нам приближалось Рождество. Салон празднично украсили. Кок расстарался ради праздника и приготовил прекрасный ужин, включая английский сливовый пудинг и блинчики с кремом.
После обеда все собрались в салоне. Из своего кубрика пришли солдаты и тесно сели рядом, сначала немного смущаясь. Наташа, аккомпанируя себе, с большим чувством спела чудным контральто несколько известных цыганских романсов. Мейзи в сопровождении мамы исполнила модные в ту пору песенки. Ей сердечно аплодировали. Но лучше всех пели солдаты во главе со своим командиром. Они исполнили любимые народные песни, и все им подпевали. Этот вечер остался у меня в памяти навсегда.
Прошла неделя. На пароходе продолжались проводы старого года и встреча нового. Капитан устроил у себя в каюте вечер, куда пригласил комсостав и маму. Я была слишком юная, чтобы быть в числе гостей, но меня пригласил к себе в каюту совсем молоденький второй помощник капитана. Там я выпила стакан вина, а когда он предложил мне сигарету, бесстрашно взяла и курила, как мне казалось, довольно искушенно.
Я уже засыпала в своей каюте, когда к нам ввалились офицеры со стаканами в руках. Они пришли, по их словам, пожелать самой юной леди на корабле счастливого Нового года. Все были прилично навеселе. Каждый требовал, чтоб я пригубила из его стакана и, по старинному обычаю, разрешила себя поцеловать, после чего они весело убрались восвояси.
На второй день нового 1920 года корабль пришел в унылый порт Мурманск. Моя тетя Маргуня и ее муж, подполковник Дилакаторский, командующий Мурманским военным гарнизоном, пришли на судно. Счастливые, встречались вновь друзья и родственники. Веяло оптимизмом. Повсюду слышалось русское приветствие: «С Новым годом, с новым счастьем!». За Дилакаторскими на борт поднялась группа казаков. Один из них пошел вприсядку по палубе, выкидывая ноги и двигаясь по кругу под аккомпанемент дружных хлопков.
Все идет хорошо, уверяли нас. Белая армия подходит к крепости Кронштадт под Петроградом. Победа — вопрос нескольких дней. Через два дня мы подходили к месту назначения, пробиваясь сквозь льды замерзшего Белого моря. Все, кто путешествовал в те годы на ледоколе, вероятно, помнят, каким трудным, медленным было продвижение. Корабль упрямо идет вперед, взламывая лед, затем отходит назад для разгона и снова движется вперед. Огромная масса льда, поднимающаяся по обе стороны, угрожая поглотить корабль, опадает, покрывая палубу сверкающим дождем ледяных осколков. Шум стоит оглушительный. За нами длинной темной полосой тянется пробитый во льду узкий канал, исчезая вдали, там, где сливаются небо и Белое море и пропадает разделяющая их черта.
Вечером, когда я стояла на палубе, наблюдая за волшебным северным сиянием, кто-то из команды указал мне на белого медведя, бредущего среди льдов. Поглощенный своим делом, он не очень-то обращал внимание на наш корабль.
Наконец мы добрались до пригородов Архангельска и ошвартовались в маленьком порту Экономия, в двенадцати верстах от города. На пристани нас ждал дядя Саня, но, узнав, что до следующего утра на берег никого не отпустят, уехал, пообещав вернуться. Как только он уехал, пассажирам сообщили, что желающие могут покинуть корабль. Кто-то решил остаться на борту, а некоторые, среди них Брауны и мы, решили сойти на берег.
С Экономии в город тянулась железнодорожная линия. С помощью членов команды мы вместе с Браунами погрузили багаж на поезд и устроились в вагоне. Оказалось, что нет машиниста, к тому же стоял жуткий холод. В неотапливаемом вагоне иней покрывал окна, как толстый слой бархата. Несмотря на настойчивые обращения мистера Брауна, машиниста не было. Мы сидели, может, час, а может, два, прижавшись друг к другу, пытаясь сохранить тепло, и уже собирались вернуться на корабль, когда машинист появился, потягиваясь и зевая, и запустил двигатель. Через несколько минут поезд остановился у запасного пути. По неизвестной нам причине паровоз не мог везти нас дальше. Ничего не оставалось, как идти пешком несколько верст. В сарае у железнодорожной ветки нам удалось найти сани, и мы погрузили на них свои сундуки.
Посадив Ваню поверх багажа, мистер Браун сам впрягся в сани, а миссис Браун стала толкать их сзади. Так они и двинулись по заснеженной дороге домой. Мама тоже обернула веревку на талии и тянула санки, а я и Гермоша подталкивали тяжелый груз. Наша упряжка потянулась следом за первой.
Я помню необычайно яркую луну, высокие сугробы, пустые улицы, тишину. В ней была разлита какая-то печаль. Никто не попался нам навстречу, в темных окнах домов никаких признаков жизни.
Возле Олонецкой улицы мы расстались с Браунами. Они пошли дальше, а мы повернули к родным старым воротам. В доме было совершенно темно. Сначала никто не ответил на наш стук. Наконец заспанная Катенька открыла дверь и бросилась наверх будить бабушку. Отец был безмерно счастлив, бабушка обнимала нас и велела нести самовар в детскую. И хотя она радовалась, я заметила в ней какое-то беспокойство, которое она пыталась скрыть за разговорами: пока мы добирались до Архангельска, сюда дошли слухи о поражении белых в Сибири.
Никто не ожидал, что мы приедем посреди ночи. Катенька торопливо готовила постели для мамы и Гермоши в детской, рядом с отцом. Бабушка забрала меня в комнату. Прижавшись к теплому бабушкиному боку, я старалась согреться. В соседней кровати тихонько похрапывал дедушка, не подозревавший о нашем приезде.
Я проснулась поздно. Сквозь заиндевелые окна светило солнце. В спальне никого не было. В столовой бабушка и мама, Марга и Марина разговаривали у шумящего самовара. Казалось, наше возвращение никого не удивляет. Жизнь в доме текла в привычном русле, словно мы никуда не уезжали.
Я сразу же раздала свои подарки. Марина обрадовалась коралловым бусам, бабушка — шерсти. Нечего и говорить, большая связка бананов до Марги не доехала. Чтобы компенсировать потерю подарка, я выманила у мамы баночку крема для лица из ее драгоценных запасов. Марга была страшно благодарна, потому что теперь все эти мелочи для сохранения красоты были недоступны.
Спустя несколько дней Мейзи Джордан, заскучав от жизни на борту без пассажиров, приехала навестить нас. Ее визит совпал с неожиданным приездом на побывку с фронта Юры и Мити Данилова. Юру повысили в чине до капитана за отчаянный поступок, когда он, пренебрегая опасностью, бросился по набережной к мосту и обезвредил готовую взорваться мину как раз в тот момент, когда по мосту шел поезд с войсками.
Молодые люди изменились. Это были уже не те зеленые юнцы, которые еще недавно отправились воевать с большевиками.
Стояли крещенские морозы. Как и все, мы в эту пору гадали различными способами, пытаясь заглянуть в будущее. Катенька, Марина и я выбежали в залитый лунным светом двор, где каждая, сняв туфлю, бросила ее через плечо в сугроб. Считается, что носок башмака должен показать направление, откуда придет будущий супруг. Моя туфля указала на север. Мне это показалось странным, но Катенька уверяла, что моим суженым может оказаться самоед, он приедет на нартах в оленьей упряжке.
Мейзи, увлекшись этими древними поверьями, решила попробовать таинственное гаданье с зеркалами. Мы повели ее в комнату Марины и усадили между двух зеркал: одно — спереди, другое — сзади. По бокам от Мейзи зажгли свечи, распустили ей волосы и укрыли плечи простыней. В таком виде мы оставили ее и стали ждать. Спустя некоторое время она, смертельно бледная, выбежала из комнаты.
Кончился долгий разговор у самовара. Мы собрались в зале и танцевали под завораживающую мелодию вальса «Осенний сон», который играла мама. Митя подошел к Марге, и она, забыв о своих печалях, весело танцевала с ним всю ночь. Сережа восторженно вальсировал с Мейзи, а меня закружил Юра. Мне нравилось танцевать с моим молодым дядей, нравилось видеть свое отражение каждый раз, когда мы проплывали мимо зеркал. Все страхи и волнения были на время забыты.
Короткая передышка кончилась. Ранним утром молодые люди уехали на фронт.
Нас приехал повидать дядя Ваня. Хоть он и прошел пешком всю Россию, но за границей никогда не бывал. Дядя Ваня подробно расспрашивал нас, очень интересовался нашими впечатлениями о Шотландии. Домой он ушел пораньше, чтобы, как обычно, доехать до конечной остановки трамвая, а потом пешком перебраться через реку.
Пошел снег, он становился все гуще. Началась метель. Все заволновались за дядю Ваню, надеялись, что он вернется, чтобы переночевать у нас, как это уже не раз бывало, когда портилась погода. Но дядя Ваня не вернулся. С Таней связаться было невозможно, у нее не было телефона. Бабушка пыталась убедить себя, что брат успел перейти реку прежде, чем разыгралась вьюга.
Рано утром Таня позвонила со станции, чтобы узнать, не у нас ли отец. Бабушка в отчаянии приказала запрячь сани и отправилась с Сережей за реку. С другой стороны друзья семьи под предводительством Таниного мужа тоже начали поиски, однако далеко идти не пришлось. Тело дяди Вани было найдено под снегом почти у берега. Казалось, судьба посмеялась над ним, прошедшим Россию вдоль и поперек — через знойные степи, через Сибирь, в страшные зимние морозы; а конец он нашел, погибнув рядом с родным домом.
Отец пригласил учителя подтянуть нас в учебе, так как мы с Гермошей пропустили почти полугодие. Когда зашла речь об оплате, молодой учитель не взял деньги, а попросил заплатить за труды солью. Мы успешно сдали экзамены за два фунта соли! Такое было время.
Перемены и разруха
В феврале на Северном фронте белая армия отступала. Ощущение неминуемой гибели, как черное облако, нависло над городом. У одних каждая победа большевиков вызывала нескрываемую радость, другим несла горе. Несмотря на отчаянную борьбу за каждую деревню, каждый город, красные наступали, одерживали победы одну за другой.
Старинное, с богатой историей село Холмогоры, лежащее в сорока верстах от Архангельска вверх по реке, уже оказалось в руках красных. Через несколько дней были заняты деревни вблизи нашего города.
Ситуация быстро менялась, обрастала слухами. Были люди, которые говорили, что победившие большевики долго не продержатся, что, как в прошлый раз, придет помощь. Некоторые всерьез верили, будто ребятишки видели Богоматерь, явившуюся в небесах с распростертыми руками, благословлявшую город. Но более реальными и страшными были рассказы о том, как казнили невинных людей и всех офицеров, захваченных в плен. У нас дома очень волновались за Юру и Митю. Никто не знал, где они.
Перед сдачей города к нам явилась депутация местной Думы. Они умоляли дедушку помочь им справиться с неразберихой, творившейся в Думе после бегства нескольких ее членов. Дедушка согласился. За это впоследствии он дорого заплатил.
Наступили холода. Небо потемнело, студеный ветер приносил снежные заряды. Трамваи перестали ходить, опустели школы.
Кирилл Ермолов появился неожиданно с друзьями-офицерами. Танки, на которые так надеялись, оказались бесполезными. Те, кто их послал, совершенно не учли, что вода и топливо замерзают при низких температурах. Не подумали и о том, что между деревнями у нас дремучие леса. Бросив танки, экипажи продолжали воевать, но немногим удалось вырваться из окружения численно превосходившего противника. Им удалось добраться до северной окраины города. Мы накормили их — тем что было, и повели в детскую, к отцу, которому хотелось услышать рассказ из первых уст.
Их было шестеро. Они были хорошо вооружены: револьверы, винтовки, гранаты. Все это, к нашему ужасу, они спокойно положили прямо на стол. Эти люди хотели добраться до Мурманска, лучше бы поездом, если не удастся — пешком, и продолжать там военные действия. Борьба была безнадежна, и они это понимали. Бравадой прикрывали они свое отчаяние, написанное на изможденных лицах. Мы видели в окно, как маленькая группка исчезала вдали, пока не скрылась из виду. Но далеко они не ушли. Их схватили, увезли в Петроград и там казнили.
Однажды утром бабушка и Арсений отправились в санях на рынок. Положение с продуктами стало критическим. Кроме гречки, овса и картошки в доме ничего не было: ни мяса, ни масла, ни молока.
Город казался покинутым жителями. Рынок опустел. Прошли те времена, когда прилавки ломились от разной снеди, когда крестьяне наперебой старались привлечь внимание бабушки, взывая к ней: «Барыня, барыня, купите свежие яйца, попробуйте мой творог, сметану, масло! У меня лучшие коровы в деревне!». Закрыты ставни магазинов, где продавали деликатесы: копченую семгу, икру, соленую сельдь; где приказчик, отрезав розовый ломтик семги, на кончике ножа подавал его бабушке и мне тоже, если я увязывалась с ней в предвкушении угощения.
Бабушка печально бродила меж пустых прилавков, пока случайно не встретила кого-то из бывших приказчиков. Он пригласил ее в свою запертую лавку и вытащил приличный кусок соленой рыбы из единственной бочки. Половину счастливой покупки мы съели в тот же день, другую половину оставили на завтра.
Поздно вечером мимо наших окон промелькнули бегущие фигуры. Всю ночь с южной части города доносилась стрельба. На следующее утро никто, кроме дедушки, из дома не выходил. Он же, верный своему долгу, отправился в больницу, а потом зашел в городскую управу. Увидев там незнакомые лица, он решил вернуться домой.
Мы тем временем, спрятавшись за подоконниками, наблюдали за развитием любопытных событий на реке. Группы гражданских, солдат и офицеров, все с оружием, спешили на север. Верховые казаки, низко пригнувшись в седлах, диким галопом пронеслись в том же направлении и исчезли из виду. За ними появилась погоня большевиков: солдаты, рабочие, крестьяне. Некоторые в лохмотьях, ноги обмотаны тряпьем, а кое-кто босиком или без шапок. Не замечая снега и мороза, они с криками бежали, точно их гнал внутренний огонь.
И тут развернулась драма. Из города вниз по реке шли ледокол и за ним два судна, набитые беженцами. В это же время несколько человек прямо под нашими окнами торопливо устанавливали на берегу пушки. Перепуганные, мы продолжали наблюдать за всем этим. Когда корабли оказались напротив нашей Олонецкой улицы, пушки открыли по ним огонь, но снаряды недолетом рвались на льду, не причиняя кораблям никакого вреда. Пока отчаявшиеся, вероятно, совсем неопытные стрелки кричали друг на друга, ледокол и суда проскользнули мимо и исчезли за Соломбалой.
А вскоре мы с удивлением увидели, как вслед ушедшим судам полным ходом движется наш старый знакомый ледокол «Канада». Почему он преследовал несчастных беженцев? Но затем, удивив нас еще больше, «Канада» вернулась в город. Что было причиной возвращения? Ответы на эти вопросы мы узнали через несколько дней от Мейзи Джордан, которая в тот момент была на борту «Канады».
Капитану приказали, вопреки его желанию, преследовать и атаковать суда. На палубе установили пушки, привезли снаряды, на борт прибыли большевики. Мейзи на своем высокопарном русском языке пыталась выразить негодование. За эту наглость ее закрыли в каюте, а когда она попыталась выйти, охранник прикладом винтовки втолкнул ее обратно. Весь остаток операции Мейзи вынуждена была провести в каюте под охраной часового.
Когда «Канада» приблизилась к уходящим судам, солдаты приготовились стрелять. И тут они со злостью обнаружили, что снаряды не те, которые нужны для их пушки, и «Канаде» пришлось вернуться.
Мейзи к этому времени была сыта коммунизмом и намеревалась выбраться из несчастной страны и вернуться к себе в Йоркшир.
В тот же день бабушка приготовила треску по своему рецепту. Не евшие с утра, мы ждали с нетерпением это блюдо — треску, запеченную в духовке с картошкой и луком. И когда Катенька внесла его и мы собирались сесть за стол, на лестнице черного хода загрохотали тяжелые шаги. Шестеро или семеро мужчин ворвались в столовую. Грязные, некоторые в черных кожанках и морских фуражках, они все были вооружены.
— Вижу, — сказал один с усмешкой, — мы как раз вовремя.
Дальше все было, как в жутком сне: эти мужики поедали наш обед из последних продуктов, а мы, голодные, молча стояли и беспомощно смотрели на них.
Марга тем временем выскользнула в свою спальню, достала из ящика стола драгоценные для нее колечки и другие вещицы и спрятала под подушку.
После того, как эти презиравшие нас существа очистили стол, они пошли по дому, осматривая комнаты, ощупывая занавески, разглядывая каждое украшение, иногда пряча что-нибудь в карман. Это были не те люди, что позднее пришли с обыском в дом, а просто банда хулиганов, одна из многих, что, пользуясь ситуацией, бродила по городу, врывалась в дома, грабя и терроризируя горожан.
Когда они наконец ушли, Марга побежала к себе в спальню и вернулась рыдая. Ее драгоценности исчезли. Мы не знали, как утешить ее. Если бы она оставила их в ящике стола и закрыла на ключ, они остались бы при ней. Почему-то эти люди не взломали ни одного замка, не открыли ни одного ящика.
До сих пор, когда я вижу блюдо из трески или сама готовлю его, невольно вспоминаю тот день, когда в нашем городе установилась диктатура пролетариата.
В последующие дни в городе восстановилось подобие порядка. Возобновилось трамвайное движение, дети вернулись в школы, появились продуктовые карточки. В разных местах города открылись кооперативы, и горожане часами стояли в очередях, чтобы получить свою пайку хлеба, крупы и немного подсолнечного масла. Теперь наше существование зависело от натурального обмена с крестьянами из окрестных деревень.
Помню, меня как-то послали за молоком в Кегостров, где жила крестьянка, доставлявшая раньше в наш дом молочные продукты. Я надела лыжи и, взяв палагушку (деревянное ведерко с плотной крышкой, в котором на Севере держали молоко) и серебряную ложечку в качестве платы за него, отправилась в путь. Я неслась на лыжах во весь дух и скоро была на середине реки, где, запыхавшись, решила отдохнуть. Бескрайняя речная даль сверкала вокруг меня белым серебром. Я легла на снег и рассматривала огромное величественное небо. Розоватые пушистые облака, словно стайка лебедей, плыли друг за другом по бирюзовому озеру. Поднявшись, я снова поспешила к противоположному берегу.
Женщина с равнодушным лицом открыла дверь избы. Когда я объяснила ей, что мне надо, и показала серебряную ложечку, она впустила меня и, наливая молоко в палагушку, сказала усмехнувшись:
— Помню, как я работала на вашей лесопилке и бегала в короткие перерывы кормить грудного ребенка, а он, бедняжка, нескольких дней от роду, закатывался от голода. Тяжелое было для нас времечко, а теперь вот ты, барышня, просишь у меня молока.
При этих словах она взглянула на меня с неуловимо мстительной улыбкой.
— Немного серебришка не помешает, — продолжила она, смягчившись. — Если надо будет еще молока, приходи, я посмотрю, что можно сделать. А пока возьми это.
И она подала мне кусок масла — неожиданная щедрость!
В тот вечер на ужин у нас была гречневая каша с маслом и молоком. Уставшая в своем лыжном походе, я рано легла и тут же крепко уснула.
Наутро я узнала жуткую новость, повергнувшую всех нас в отчаянье: в полночь у нас был обыск. Явились четверо вооруженных людей. Они вывернули все ящики, шкафы, чемоданы, просмотрели все бумаги в дедушкином столе, вытряхнули содержимое всех сундуков и корзин на чердаке.
Описывая мучительные сцены, мама рассказала, как, войдя в комнату Марги, где я спала, и перевернув ее постель, они пообещали ей, что ничего плохого ее дочери не сделают. Меня подняли и, удостоверившись, что в постели ничего нет, снова осторожно положили. Гермоша тоже ничего не слышал. Когда уже светало, всем велели собраться в столовой. Старший из четверых сел за стол и, что-то нацарапав на бумаге, сказал дедушке: «Одевайтесь, пойдете с нами». Мама вспоминала потом, что лицо дедушки при этом сначала страшно побледнело, а потом запылало.
В первое мгновение жуткие слова словно парализовали всех. Никто не произнес ни слова, и только когда дедушка стал надевать пальто, бабушка, Марга и Марина в отчаяньи зарыдали. Чувство собственного достоинства есть у большинства людей, но наш дедушка умел владеть собой как никто. «Держись, Еня, — мягко обратился он к бабушке, — ты же знаешь, я ничего плохого не сделал, все будет хорошо». Затем, повернувшись к равнодушно-холодному старшему, он с тем же достоинством сказал: «Я готов. Пойдемте».
Говорят, в подобных случаях люди предпочитают держаться подальше от жертвы из страха самим пострадать. Но не в нашей семье. Немногие из оставшихся друзей и родственников тут же собрались, чтобы поддержать, помочь обрести хоть какую-то надежду. Пришли тетя Пика и три ее дочери. Даже дядя Митька Шалый явился и предложил выяснить, в какую тюрьму увели дедушку. Он был уверен, что долго держать дедушку не станут, ведь в городе не хватает врачей, а большевикам они тоже понадобятся.
Несмотря на эти обнадеживающие слова, в доме поселилась тоскливая пустота. От Юры все еще не было вестей, а тут и дедушку, опору семьи, вырвали из нее. Он содержался в мрачном здании тюрьмы на улице Финляндской.
Как только выяснилось, где находится дедушка, бабушка, Марга и другие члены семьи постоянно ходили к воротам тюрьмы. Как и другие женщины, чьи родные были арестованы, мы собрали что могли из продуктов и передали охраннику с суровым лицом. Обычно он принимал передачи, но если возвращал их, коротко сообщая, что арестованного здесь нет, это означало: расстрелян. Наши передачи он принимал.
Маленькая надежда по поводу Юры появилась, когда один ученик сообщил Сашеньке, что его отец, служивший с Юрой в одном полку, дал знать, что он жив. А вскоре Марга увидела группу бледных узников, шедших под охраной куда-то на работы. Среди них она узнала брата и бросилась к нему. Ее, конечно, остановили, но Юра успел крикнуть: «Ради Бога, принеси еды!». Выяснилось, что он находится в одной тюрьме с дедушкой.
По городу ходили страшные слухи, что всех арестованных офицеров расстреливают. Узнав, в ведении какого комиссара находится судьба заключенных, Марга пошла к нему. Она умоляла сохранить жизнь младшему брату. Позже она рассказывала: «Я в ногах валялась у этого комиссара». Может, Марге удалось вызвать в нем сочувствие. Ей сказали, что если она принесет письмо, подписанное не менее чем двадцатью солдатами, о том, что Юра относился к ним хорошо, его дело, возможно, пересмотрят. Через знакомого Саше солдата Марга разыскивала свидетелей, бегала по городу и деревням, разговаривала с людьми и добыла нужную справку. Надежда немного окрепла.
Заботы о пропитании полностью легли на маму. Как-то утром они с мадам Заборчиковой, чей муж-генерал был расстрелян одним из первых, решили пойти через реку в ту самую деревню, где я недавно побывала. Добравшись до середины реки, они увидели, что ледокол разбил лед, возвращаясь с моря. Идти дальше было нельзя. Им пришлось пройти вдоль пробитого канала до того места, где ледокол остановился, и обойти его. Заплатив, как обычно, за молоко серебром, они с тяжелыми палагушками отправились обратно в город.
Когда, измученные длинной дорогой по заснеженной реке, они наконец выбрались на берег и уже шли к трамваю, их остановила группа солдат. «Опять буржуйские штучки!» — крикнул старший. Бесцеремонно отобрав палагушки, солдаты вылили содержимое на землю. Мама и мадам Заборчикова оказались не одиноки. Еще несколько женщин, несших молоко детям, подверглись такому же издевательству. Женщины негодовали, протестовали в самых гневных выражениях. Никакого эффекта. Наказание было уроком тем, кто без ведома большевиков пытался достать провизию у крестьян путем прямого обмена.
Большая лужа молока и разбитые яйца замерзли на ледяной земле. Тут же, откуда ни возьмись, появились собаки, обрадованные неожиданным изобилием.
Мама стояла, сжимая в руках пустую палагушку, и один из солдат заметил с холодной наглостью: «Уж лучше собакам, чем вам!». Мама вернулась домой на последней стадии изнеможения. Она, всегда такая решительная и мужественная, была совершенно сломлена.
Беда была в том, что как только город захватили большевики, все запасы продовольствия, попавшие к ним, были немедленно отправлены на юг. К тому же с юга в Архангельск хлынули толпы людей, полагавших, что у нас, на Севере, текут молочные реки в кисельных берегах. Город был переполнен. Какая-то семья с детьми заняла квартиру, где раньше жил дядя Саня. Потом появилась довольно нахальная актриса с сыном. Ее муж Райский предъявил какой-то клочок бумаги и потребовал жилье. Пришлось переезжать. Марина заняла мое место в комнате Марги. Мама и я превратили дедушкин кабинет в спальню и отдали семейству Райских назло самую маленькую комнату Марины. Так мы сохранили дедушкин большой стол, шкаф и всякие его мелочи до того дня, когда он вернется.
В гимназиях на смену старым порядкам пришли новые. Молитвы в зале и классах были отменены, исчезли священники в своих черных одеждах — наставники молодежи в религии.
Здание нашей Мариинской гимназии было отдано под какое-то учреждение, а нас перевели в мужскую гимназию по соседству. Мы, девочки, начинали занятия в восемь утра, и после маленькой перемены, когда нам выдавали булочку, продолжали заниматься до часу дня. Через пятнадцать минут приходили мальчики и занимались до шести часов вечера. Мы уже повзрослели, и такой распорядок стал источником интригующих разговоров, особенно о мальчиках из старших классов. Мы узнавали имена всех, кто казался более интересным.
Мое внимание привлек красивый, довольно утонченный старшеклассник, которого звали Алексей Анисьев. Он же не подозревал ни о моем существовании, ни о существовании других девочек нашего класса. А я в то время привлекала взоры его одноклассника, похожего на медведя, по имени Санька Чекаевский. Санька вызывал только антипатию. Глупые стишки и записки, которые он оставлял в моей парте, я находила отвратительными. Едва познакомившись, он под любым предлогом тащился следом за мной, совсем как большой сенбернар с печальными глазами, только не такой симпатичный.
Прежде в марте обычно устраивали литературные вечера. Наша классная, невзирая на трудности бытия, решила восстановить эту традицию. Девочки и мальчики собрались вместе в зале, разделенные широким центральным проходом. Вечер начал мальчик, читавший «Бородино» Лермонтова. Читал он великолепно, с эмоциональными интонациями. Аудитория, знавшая стихи наизусть, принимала очень тепло. Потом на сцену поднялась старшеклассница и спела трогательный романс о любви и белой акации, затем мальчики показали короткую пьеску.
Когда концерт закончился и стулья были убраны, мальчики и девочки, взявшись за руки, образовали хоровод. Поющий круг двигался вокруг человека в центре. Через некоторое время меня выбрал какой-то мальчик, и я вошла в круг. Танцуя в центре, я заметила Алексея Анисьева в хороводе. Это был шанс, упустить который было никак нельзя. Когда пенье прекратилось, я бросилась к своему чудо-избраннику и поцеловала в щеку. Он засмеялся и занял мое место в кругу. Хоровод закружился вновь, и кого же он выбрал? — мою лучшую подругу Шуру!
Я потеряла к хороводу всякий интерес и принялась слоняться у длинного стола с угощением. Когда-то на вечерах нам предлагали горячий шоколад со взбитыми сливками, разные бутерброды, печенье с изюмом и пряностями — теперь можно было выпить водянистого какао и купить каждому одну булочку, но мы, молодые и вечно голодные, были рады и этому.
Луна стояла высоко, когда мы возвращались домой. Свежевыпавший снег прикрыл грязные сугробы, пушистым покрывалом лежал на тротуарах, приятно похрустывал под ногами. В нашей компании были моя верная подруга Валя, Нина Дулетова и ее отец, директор мужской гимназии, жившие по соседству. Вскоре нас догнал запыхавшийся Санька, который жил на соседней улице. Я решила не замечать его и продолжала разговор с Валей, но, к несчастью, она вскоре покинула нас, свернув на свою улицу. Когда мы подошли к месту, где Санька должен был направиться к своему дому, он вместо этого пошел дальше с нами по Олонецкой улице. Я насторожилась. У своих ворот Дулетовы попрощались и исчезли, оставив меня с Санькой.
Между воротами Дулетовых и нашим домом был длинный забор. Некоторое время мы шли молча. И тут, решив, что у меня лишь один выход, я бросилась бегом. Я почти домчалась до своих ворот, когда он поймал меня. Последовала схватка, мы упали в сугроб. Возня не прекращалась, потому что Санька хотел поцеловать меня, а я сопротивлялась, царапаясь как дикая кошка, плевалась и колотила его. Вдруг раздался громкий сердитый голос: «Какого черта вы тут возитесь?». Я вскочила, благодарная своему избавителю. Над нами стоял, сжав ружье, солдат.
— Я ее домой провожаю, — начал Санька.
— Здорово провожаешь, — прервал его мужик. — Вставай, — добавил он, нацеливая ружье.
Только я и видела своего храброго кавалера, удиравшего по улице, как ошпаренный кот.
— Где ты живешь? — повернулся ко мне солдат и, получив ответ, добавил, указав на ворота: — Они тебя пропустят.
Я взглянула на дом. Во всех окнах горел свет. Там шел обыск.
Солдаты, охранявшие и парадный, и черный ход, разрешили пройти. Наверху, в прихожей, стояли другие люди, охранявшие дверь в детскую. Мне приказали войти туда. Там находилась вся наша семья, Катенька и Сашенька, не было только мамы. Как оказалось, она ходила по дому с солдатами, открывая шкафы, комоды, и в этот момент они были на чердаке.
Никто не знал, что искали эти люди, но подозревали, что ищут оружие. Юрино охотничье ружье было где-то спрятано, и только он знал где.
Через несколько минут послышались шаги спускавшихся с чердака людей. Нас повели в столовую. Солдаты принесли большую плетеную корзину, в которой лежали свернутые флаги. Это были большие знамена, которые иногда вывешивались за воротами в дни царских именин. Тут же были и флаги наших союзников, вывешивавшиеся по особым случаям во время войны.
Корзину перевернули, полотнища расстелили на столе. Командир в тулупе уселся за стол и, тщательно осмотрев все флаги, начал что-то писать. Мы стояли вокруг, недоумевая, зачем нужна эта конфискация. Тут были старый имперский русский флаг, французский, бельгийский, итальянский и, наконец, еще один, с выцветшим львом, вставшим на дыбы. Человек с любопытством разглядывал его. Именно этот флаг пятнадцать лет назад ясным зимним днем приветствовал счастливую шотландскую невесту, въезжавшую в ворота дома, где началась ее новая жизнь в незнакомой стране. Это был королевский флаг Шотландии — ее Шотландии.
Мама подошла к столу и положила руку на флаг.
— Это флаг Шотландии, моей страны. Вы не можете взять его.
В ответ молчание. Командир поднял взгляд. В глазах, прямо и спокойно смотревших ему в лицо, не было страха. Все замерли, даже солдаты, пристально наблюдавшие за этой сценой.
Начальник отвел взгляд, затем расхохотался и повернулся к солдатам:
— Вот это девка, ребята! — И, резко сдвинув полотнище к маме, грозно, но с уважением добавил: — Можешь взять свой флаг.
И мама взяла. Много лет спустя я нашла его среди вещей, которыми мама особенно дорожила.
Корзину унесли вниз. Я побежала к окну и смотрела, как в лунном свете солдаты тащат ее по снегу.
Позже, когда мы собрались у самовара, я услышала, как бабушка сказала: «Нелли, ты вела себя глупо». И я, всегда державшая русскую сторону в семье, на этот раз была на маминой стороне. Может быть, и глупо, но как великолепно!
Первые признаки весны. Снег скатывается с крыш, падают и разбиваются о тротуары хрупкие как стекло сосульки, сморщиваются сугробы, под ногами сыро. Солнце сияет дольше. В саду сквозь снежное покрывало купы голубых анемонов тянут к солнцу свои изящные головки. Теплый ветер танцует среди деревьев. Ели стряхивают наледь со своих ветвей, разбрасывая далеко вокруг. В такой вот день вернулся Юра.
После окончательного поражения, когда многие офицеры попали в плен и были казнены на месте, Юра с горсткой таких же, как он, вместо расстрела был увезен куда-то. В ожидании той же участи они находились в тюрьме. Юра редко рассказывал о своих переживаниях там, но однажды заметил, что самым страшным делом, которым заставили заниматься его и других пленных, было вскрытие на окраине города могил с останками казненных интервентами и белогвардейцами большевиков для перезахоронения в крошечном сквере у реки, где потом поставили памятник жертвам интервенции.
Как мы ни радовались чудесному освобождению Юры, вид его внушал сильное беспокойство. Больной, небритый, с запавшими глазами, кожа да кости, он был тенью прежнего Юры. Его когда-то роскошный английский мундир, превратившийся в лохмотья, хранил жуткий запах тюремных стен. С чердака снова спустили ванну в комнату Катеньки, Юра и Сережа заперлись в ней. И когда Юра появился — выбритый, с коротко подстриженными волосами, он стал походить на себя прежнего.
Однако счастье от того, что Юра с нами, омрачалось постоянным беспокойством о судьбе дедушки. Шли дни, а от него не было никаких вестей.
В вербное воскресенье вся семья, с украшенными веточками в руках, отправилась в церковь. Храм был переполнен, люди стояли внутри и на паперти.
В понедельник бабушка начала готовиться к Пасхе, располагая лишь тем немногим, что с трудом удалось приберечь для святого дня.
Рано утром в пятницу, когда Катенька только внесла самовар и мы собрались к своему спартанскому завтраку, дедушка тихо вошел в столовую. Он рассказал, что его держали в камере, битком набитой такими же, как он, гражданскими людьми. Там были владельцы лесопилок и лавок, священники, члены местной управы. По ночам дедушку допрашивали о его деятельности в городской Думе до переворота. Дедушка всегда был за правду. Он никогда не занимался политикой, а когда его попросили помочь навести порядок, предпринимать какие-либо шаги было уже поздно.
Других тоже допрашивали. Те, кого вызывали ранним утром, часто не возвращались. Потом доходили слухи о их казни. Постепенно количество арестованных в камере сократилось. В одно утро дошла очередь до дедушки. Он простился со всеми, и те, кто оставались, в свою очередь крестили его вслед. Такой уж появился там обычай. Ожидая конца, дедушка пошел в сопровождении охраны, но когда его привели в комнату для допросов, то сообщили, что он может идти домой при условии, что не выедет из города. Потрясенный таким внезапным поворотом событий, дедушка шел домой, и слезы текли по его лицу.
Но время идет своим чередом. Опять наступила весна. Яркое солнце растопило снег и согрело землю, слышится журчание ручьев под деревянными тротуарами. Люди снова любуются волнующим зрелищем ледохода, устремленного к морю.
В нашем дворе три оставшиеся курицы, ревностно охраняемые Василием, гуляют на свободе после своего зимнего заточения. Они неуверенно ступают по лужайке среди острых стрелок изумрудной травы и мигают от слепящих лучей солнца. Грустная нотка слышится в их обычно довольном кудахтанье. Конечно, они скучают без нежных ласк своего златогрудого защитника, чей звонкий привет встающему солнцу больше не слышен — его принесли в жертву пасхальному столу.
В мае, когда бабушка, Юра и Марга высаживали рассаду, зашел Митя Данилов. Он воевал где-то в верховьях Двины, и мы гадали, жив ли он. Митя потерял родителей в раннем детстве и жил с теткой, обожавшей его. Бабушка бывала у нее, но тетка, похоже, ничего не знала о племяннике. Выяснилось, что Митя вырвался из окружения и счастливо добрался до уединенного жилья своего деда — крепкого крестьянина-старовера. Его земля и дом, окруженные дремучим лесом, болотами, озерами, были крошечным оазисом, где старик жил один, держал пару лошадей, коров, кур — в общем, вел натуральное хозяйство. Он не любил город и редко бывал там. Его единственная дочь, Митина тетка, помогала ему в делах: собирала ренту с различной собственности, ему принадлежавшей, и присматривала за осиротевшим мальчиком.
Митя жил у деда, пока не решил, что можно вернуться без опаски. Везение сопутствовало Мите. Никто его не обыскивал, никто ничего не спрашивал.
С этого дня Митя стал постоянно бывать в нашем доме. Влекла его сюда, разумеется, Марга.
Марга старалась стереть из своей памяти роман с американским женихом. Сундуки были распакованы, портрет нашей прародительницы бабушки ван Бринен снова висел на стене в спальне Марги. Марга бродила по дому, распевая задушевные народные песни, и это могло значить только одно — надвигается новый роман.
В июне Митя и Марга обручились. Этот месяц вообще был богат событиями. Появилась Мейзи Джордан и сообщила, что после многих обращений в Москву она наконец получила разрешение покинуть Россию. Мейзи планировала ехать вместе с одной молодой парой. Девичья фамилия новобрачной — Мария Анкирова. Это имя позже сыграло огромную роль в нашей жизни.
Мария заключила гражданский брак с молодым датчанином. Такой брак признавался большевистским правительством, но не царским, когда считалось, что брак может быть законным только после венчания в церкви. Выйдя замуж за датчанина, Мария автоматически стала датской подданной и в качестве таковой получила разрешение покинуть Россию. Этот странный союз был всего лишь фиктивным браком, который предложил дружески расположенный к ней датчанин, чтобы Анкирова могла попасть во Францию, где ее встретит настоящий жених, и они обвенчаются в русской православной церкви.
Мейзи зашла к нам еще раз, попрощаться. На следующий день она уезжала со своими попутчиками в Мурманск, где им нужно было сесть на судно, идущее в Норвегию. Там три компаньона должны были расстаться и ехать каждый своей дорогой. У Мейзи и Билли существовало тайное соглашение: Билли планировал побег и собирался встретиться с Мейзи в Британии.
Перед отъездом Мейзи навещала людей и предлагала взять их письма. Ее предложение встречалось с восторгом, так как письма из Британии не доходили. Секрета из своего отношения к большевикам она тоже не делала и намеревалась рассказать обо всем, что знала, в Британии. Мама, к счастью, не стала отправлять с Мейзи письма родителям и предупреждала, что ее поведение опасно. Мамино предупреждение Мейзи пропустила мимо ушей.
А мы тем временем боролись со своими бедами, которые наваливались каждый день. Главная проблема была — добывание продуктов в любом виде. Каждый день с раннего утра мы сменяли друг друга в длинных очередях, чтобы получить крошечные пайки. Странно, что в огромном крае, еще недавно богатом молочными продуктами, теперь их нельзя было достать, что кругом реки и море, полные всякой рыбы, но они ничего не давали людям. Однажды прошел слух, что в одном из кооперативов дают рыбу. Меня послали за ней, и через несколько часов я вернулась с куском рыбы, плохо просоленной и «благоухающей» на всю округу. Тем не менее мы ее съели и как-то не умерли.
Продолжались репрессии, знакомые люди исчезали один за другим. Жители окраин могли видеть, как в утренние часы людей вели на Мхи, и затем оттуда слышались ружейные залпы.
В нашем доме обыски повторялись регулярно, мы к ним даже привыкли. Был случай, когда солдаты явились по доносу, что мы прячем много серебра. Весь дом был перевернут, подушки и перины разодраны. Ничего не найдя, они перенесли свои поиски на оконные рамы и в оранжерею, где бабушка выращивала цветы. Вырвали рассаду огурцов, почву разбросали по полу. Обозлившись от неудачи, они перевернули цветочные горшки, растоптали их тяжелыми сапогами, уничтожив редчайшие, невосполнимые растения. После этого в душе у бабушки что-то сломалось, и она больше никогда не пыталась выращивать цветы.
Очень трудно переносить откровенную наглость тех, кто занимался грабежом среди бела дня. Однажды появились какие-то люди и предъявили бумажку, позволявшую им, как они вежливо объяснили, конфисковать наш рояль. Это были представители рабочих, организовавших клуб, где обязательно надо было иметь пианино. В последний раз мы видели наш старый рояль, свидетель стольких счастливых минут, когда его увозили из ворот в опасно тряской телеге.
Мадам Райская с семьей решили выехать из нашего дома в более просторное жилище. Перед отъездом она заявила, что для нее, актрисы, трехстворчатое мамино зеркало и туалетный столик были бы идеальны, и что она давно мечтает о подобной чудной мебели. И мама вынуждена была молча стоять и смотреть, как выносят ее мебель. Как ни преступны были эти действия, не оставалось другого выхода, кроме как смириться. Место рояля занял дедушкин письменный стол, мамин трельяж заменил крохотный столик с зеркалом.
В тот год июнь был необычайно теплым. Река звенела от голосов купающейся детворы и взрослых, собиравшихся на пристани. Я любила купаться по вечерам, когда река пустела, а вода, нагретая солнцем за день, становилась теплой и мягкой, как шелк. В такой вот вечер, вернувшись с купанья, я застала всю семью на балконе. Мы наблюдали, как алый диск солнца скользит за горизонт. Дедушка выглядел усталым. После возвращения из тюрьмы он много работал в больнице, задерживаясь допоздна. Этот вечер тоже не был исключением. И сейчас, наслаждаясь покоем окружающего мира, он тихо разговаривал с бабушкой. Марга что-то увлеченно вышивала. Я подошла к Сереже и Марине, облокотившимся на перила, и мы вместе следили, как через реку плывет маленькая лодка.
Покой резко нарушил гулкий звонок у входа. Марга, бросив вышивание, пошла через танцевальный зал в прихожую и открыла дверь. На крыльце стояли двое в штатском, но с оружием. Они вошли в зал и потребовали дедушку. Когда дедушка вышел, ему вежливым тоном объявили, что им приказано отвести его в тюрьму, откуда он будет отправлен в ссылку.
— Соберите нужные вещи, — сказали они, — да побыстрее, у нас нет времени.
Ошеломленные, не в состоянии собраться с мыслями, все забегали в поисках дедушкиных вещей. Среди общего потрясения и отчаяния только дедушка сохранял спокойствие. Он помогал бабушке, которая не могла сдержать слез, упаковывать старый чемодан с одеждой. Дедушка взял с собой маленькую Библию и некоторые медицинские инструменты, которые могли пригодиться.
В прихожей, где его ждали, он благословил и поцеловал бабушку, потом всех нас и даже немного шутил. Потом пошел в детскую обнять отца и, наконец, повернувшись к охране, сказал:
— Я готов, друзья, пойдемте…
Гермоша и я бросились к окну детской. Три фигуры уходили по дороге. Дедушка нес чемодан. Твердо шагая, он возвышался над теми, кто шел по обе стороны его. Я видела своего дедушку в последний раз. Больше мы никогда не встретились.
С каждым уходящим днем распадалась наша привычная жизнь. Порядок, установившийся за много лет, нарушился. Хотя самовар появлялся каждый вечер и кто-то собирался вокруг него, к обеду и завтраку стол уже не накрывали. Семья разделилась, каждый ел когда и что придется. Основной едой стали картошка и капуста, иногда появлялись молоко и мука. Наша пернатая тройка, несмотря на собственные проблемы, продолжала нести яйца, пусть не много, но как их ждали!
Кто-то вспомнил, что в пруду водятся карпы. Нашли большую сеть. Сережа и Юра, по пояс в воде, протащили ее поперек пруда и выволокли на сушу огромное количество рыбы. Наблюдавшие за этой путиной зрители радовались, получив долю улова. Мы сварили традиционную уху с луком и картофелем, но как ни голодны были, есть не смогли: слишком уж сильно было отвращение от вкуса затхлой воды и от мысли, что сосед топил в пруду лишних котят.
Мама познакомилась с женщиной, которая хотела научиться разговорному английскому языку. Ее муж работал в таможне, и она каким-то образом доставала продукты — мама никогда не интересовалась откуда, — чтоб платить за уроки натурой. Мыло нельзя было достать ни за какие деньги. Несколько кусочков, что мама привезла из Шотландии, берегли и пользовались ими в исключительных случаях. Мать семейства, поселившегося в квартире, где когда-то жил дядя Саня, обычно приходила стирать к нам на кухню. «Ох, мыльца бы!» — восклицала она, натирая детскую одежонку золой из печки. В каком-то сарае мы нашли кучу веревок и, распустив их на пряди, сплели веревочные сандалии. Они оказались подходящими для лета и сохраняли обувь, когда их надевали поверх туфель и ботинок зимой.
И все же в этом мире хаоса, голода и растущего страха были не только слезы и печали. Возвращаясь в памяти к тому далекому голодному лету, я вспоминаю яркие мгновения дружбы ребят с нашей улицы.
Мы встречались на валунах, омываемых речной водой. Там, на берегу, мы проводили долгие счастливые часы, ныряя в воду, вылезая снова на берег, загорая и планируя какие-нибудь приключения. Мы называли себя «олонецкая компания», по названию нашей улицы, и не принимали в свой круг посторонних. Нас было, кажется, девять. Вожаком стал Толя Мамонтов, сын столяра. Сильный, умный, большой выдумщик, с врожденной командирской жилкой, он, как никто другой, был на своем месте. Через много лет он стал важным комиссаром, что совсем не удивительно.
В компании были трое детей расстрелянного генерала Заборчикова — Володя, Вера и маленький шестилетний Шурик. Самым уважаемым был светловолосый Петя Скрозников, сын сторожа технического училища, находившегося недалеко от нашего дома. Его добродушие и умение рассказывать веселые забавные истории нравилось всем. Еще была Нина Дулетова, серьезная девочка, младшая дочь директора мужской гимназии. И наконец, Петя Карельский, сын истопника технического училища. Обычно его звали Петька, чтобы не путать с другим Петей.
Пользуясь большей свободой, чем это было бы при нормальных обстоятельствах, мы не путались под ногами взрослых и иногда добывали себе еду самостоятельно. На густо поросших зеленью берегах, где когда-то бродили наши черномордые овцы, мы находили множество съедобных растений: дикую петрушку, сочные стебли дягиля, крошечные стручки дикого горошка. В июле мы совершали походы на Мхи, где опять поспела морошка и под березами появлялись грибы. Все это мы собирали ведрами и корзинами и приносили обрадованным родителям. Поджаренные с картошкой и луком, грибы восхитительно вкусны и сытны!
Как-то бродя на мхах, мы с изумлением увидели пасущуюся корову. Для нас в то время это было редким явлением. Мы решили, что ее привели из какой-нибудь деревни для какого-то комиссара или другого важного лица. Когда мы подошли к корове, она не пыталась убежать, а спокойно рассматривала нас огромными умными глазами. Золотистая шерсть, белая грудь — она была красавица, но самым завораживающим зрелищем было ее огромное вымя, готовое лопнуть от распиравшего его молока, словно умолявшее подоить.
Никто из нас доить коров не умел, но, как-то быстро сообразив, я не долго думая наклонилась и подставила ведерко в нужном месте. Немного смущенная близким соседством большой округлости и четырех сосков, я начала дергать, сжимать и тащить их во все стороны. Ничего не получалось. После нескольких моих неудачных попыток и явных признаков неудовольствия в коровьем поведении меня сменила Вера. Ее маленькие руки добились успеха. Звук молока, льющегося в ведро, вопли восторга и одобрения: «Так, так, Вера, ты здорово тянешь, там еще не все». Но когда Вера вошла в ритм и ведро стало наполняться, корова, устав от нашей шалости, внезапно махнула хвостом и бросилась галопом на другой край поля. Чашек или кружек у нас не было, поэтому мы передавали друг другу ведро, отпивая глоток и внимательно следя, чтобы кто-нибудь не глотнул больше других.
Несколько дней спустя на берегу реки мы обнаружили козу. Мы не знали, откуда она взялась, но, как и корову, ее явно пора было подоить. На этот раз операция оказалась потруднее. Коза сопротивлялась и громко протестовала. Пришлось завести ее в нашу конюшню, где я уселась на нее верхом, меня со всех сторон крепко держали остальные, а Вера, теперь уже признанный специалист, выдоила ее досуха. Когда мы наконец распахнули дверь конюшни, коза, жалобно блея, бросилась обратно к реке. Теплое, сильно пахнувшее молоко, поделенное поровну в чашки, всем понравилось, но так как козу мы больше не видали, бесплатное молоко на этом и кончилось.
Летом 1920 года в городе открылись столовые. Предъявив свои продуктовые карточки, мы могли получить обед из двух блюд. Наша компания с мисками и ложками мчалась по горячим деревянным мостовым к столовой и, получив свои порции, спешила обратно на реку, где мы их съедали. Жалкий обед обычно состоял из водянистой похлебки и каши.
Однажды нам пришло в голову устроить пикник на острове Мосеев. Этот островок, прилегающий к Соломбале, вскоре после посещения Архангельска Петром Первым был засажен березами и служил местом отдыха горожан. Там можно было посидеть в тенечке и полюбоваться рекой. Теперь же, спустя два века, весенние половодья превратили его в пустынную песчаную отмель.
День обещал быть жарким и душным, на сверкающей глади реки не было ни единой морщинки. Мы нашли лодку с веслами и, взяв с собой столовский обед и корзину ягод, всемером отправились на остров. Толя умело греб, и вскоре мы уже вытягивали лодку на песчаный берег. Здесь мы досыта наигрались, жгли костер из выброшенных на берег обломков деревьев и плавали в уютной бухточке, окруженной чахлыми ивами.
Не помню, кто первым заметил на горизонте черную тучу. Она быстро надвигалась. Вспышка молнии разорвала небо, раздались раскаты грома. Большие капли дождя заплясали на речной глади. Мы помчались к лодке и отчалили к дому. С небес на нас обрушился мощный поток воды. Молнии и гром неистовствовали.
Словно в наказанье нам, к страшной грозе добавился ужас — лодка дала течь. В отчаяньи мы, кто банками, кто мисками, а кто и просто ладонями, пытались вычерпать воду. Напрасно! Течь усиливалась, затопляя лодку. Сидя по пояс в воде, перед лицом почти неминуемой смерти, мы обратились к единственной надежде — горячей молитве к доброму Богу, чтобы он спас своих малых детей от смерти в водной пучине. Лишь Толя не терял присутствия духа. Гребя из последних сил, он успокаивал нас, убеждал не сдаваться и черпать воду. «Мы почти у цели», — уверенно говорил он. Сквозь плотную завесу ливня уже просматривались знакомые валуны.
Они были совсем близко, когда лодки под нами не стало. Мы оказались в воде среди весел, досок и корзин. К счастью, так или иначе все умели плавать. И хоть было еще глубоко, мы находились вблизи берега и друг за другом выбрались на камни, затем молча сидели, потрясенные и в то же время счастливые, что спаслись.
Небеса прояснились. Солнечные лучи пробили туман. И мы, как веселые ласточки, поправляющие перышки после шторма, скоро пришли в себя.
Когда Гермоша и я вернулись домой, родители о чем-то серьезно разговаривали. Выражение их лиц было самое сосредоточенное. Я решила, что, явившись мокрыми и перепачканными, мы получим выволочку, но нас ожидала удивительная новость. Мама сказала, что после долгих обсуждений с папой они решили, что она вместе со мной и Гермошей должна попытаться вернуться в Шотландию.
— А папа? — спросила я.
— Со мной все будет в порядке, — весело уверял он. — А уж если случится самое худшее и дом конфискуют, как уже не раз об этом заявляли, я буду жить с дядей Саней. Сейчас жизнь трудная, но когда все придет в норму, вы, конечно, вернетесь. Все будет хорошо.
Почему-то я знала, что он говорит неправду и сам знает это, но мне так хотелось верить ему. В то же время мне хотелось уехать в Шотландию, подальше от всех этих обысков, страха, голодного существования.
У отца был старинный друг, которого мы знали как Александра Александровича. Это был образованный человек, знавший несколько языков, в том числе английский. Именно он писал все папины письма, когда тот диктовал по-английски. Александр Александрович написал прошение к властям в Петроград о получении выездной визы. Однако это прошение нужно было передать в отдел внешних сношений в Архангельске. Мне было дано задание дежурить у этого отдела, где комната ожидания была переполнена людьми, как и я, ждавшими разрешения на свидание с властями. После многочисленных визитов и долгих часов ожидания комиссар, вежливый молодой человек, пригласил меня в свой кабинет и сообщил, что наше прошение передано дальше для окончательного решения.
Приближался день Маргиной свадьбы, назначенный на июль. Бабушка, со времени ареста дедушки потерявшая всякий интерес к домашним делам и саду, снова взяла себя в руки. Несмотря ни на что, у Марги должен быть праздник. Все белье, фарфор и вещи, предназначенные когда-то к поездке в Америку, снесли теперь вниз, и Арсений аккуратно погрузил их на телегу. Портрет ван Бринен снова сняли со стены. Все это перевезли к Мите, в будущий дом Марги. Митя жил со своей теткой в симпатичном двухэтажном доме на Троицком проспекте. Тетка решила, что она будет жить на первом этаже, а второй отдаст молодой паре. Они надеялись, что в этом случае к ним никого не подселят.
Суета и беготня между домами нарастала. Бабушку волновало, чтобы Марга получила свою долю столового серебра, спрятанного от большевиков Юриной мамкой у себя в деревне. Бабушка, слышавшая о событиях по всей России, позаботилась уберечь имущество от конфискации и заранее договорилась о его хранении с преданным человеком. Благодаря этому серебру бабушка смогла продержаться, обменивая его на продукты.
В солнечный день свадьбы Марга отправилась в церковь в паре с бабушкой, остальные члены семьи следовали чуть сзади. На невесте белое шифоновое платье, переделанное нашей портнихой Настенькой. Марга надевала его на свой первый бал, за которым я когда-то наблюдала, спрятавшись за дверью зала. Бабушка своими волшебными руками сделала венок из белых цветов и прикрепила его на голове Марги поверх похожей на паутинку вуали. Ее когда-то надевала сама бабушка на свадьбу с моим дедом. Марга, высокая, стройная, излучавшая счастье, казалась красавицей.
Митя ждал в церкви. Вместе они подошли к розовому шелковому коврику перед алтарем. По поверью, тот, кто первым ступит на этот коврик, будет главой в семье. Но в нужный момент я забыла посмотреть им под ноги, заглядевшись на эту высокую, необычайно красивую пару, завороженная величием и святостью события.
Юра и один из друзей Мити были дружками и держали над головами брачующихся венцы, когда священник, положив ладонь на соединенные руки молодых, трижды обводил их вокруг аналоя.
Вечером Митя и Марга покинули наш дом, где состоялось небольшое торжество. Рука об руку они пешком отправились по набережной начинать свою семейную жизнь.
Когда Марга уехала из дома, бабушка обратилась к властям за разрешением поехать вслед за дедушкой в глубь края, где, как грибы, росли лагеря. Во время правления Ленина, как ни безжалостен он был, женам в некоторых случаях разрешали следовать за мужьями. Возможно, Ленин помнил, как он сам получил разрешение жить с женой в Сибири, где вместе со своими соратниками они планировали положить конец царской власти, давшей им такое послабление.
Наконец бабушкина петиция прошла через бесконечные инстанции, и бабушка получила разрешение. С этого времени она начала искать способ и средства для своего путешествия.
Ранним утром в конце июля, когда все еще спали, Гермоша и я тайком вышли из дома и присоединились к приятелям, поджидавшим за воротами. Было решено отправиться на Мхи, и дальше чем обычно. Там, по слухам, было много ягод. За день до этого прошли дожди — значит, ягоды должны быть. Собирать их лучше пораньше, пока не явились другие ягодники.
Вскоре мы уже шли за окраиной города по грязной дороге. С одной ее стороны был пустырь, с другой — за колючей проволокой молоденький лесок из осинок, елей и тонких березок. У изгороди были ворота, на которых большими красными буквами надпись: «Вход запрещен».
Приблизившись к воротам, мы услышали позади шаги. Шла небольшая группа арестованных и охрана. Когда они догнали нас, мы сошли с дороги и пропустили их. Арестанты в штатской одежде, со смертельно бледными осунувшимися лицами, небритые, несли лопаты. Среди них выделялся парнишка с длинными, почти до плеч светлыми волосами. На нем был серый гимназический мундир. Он, вероятно, был старшеклассником. Они прошли мимо, не взглянув в нашу сторону, и исчезли за поворотом.
Мы продолжали наш путь к темному лесочку и разбрелись по нему, перекликаясь друг с другом. Невысокие кустики были сплошь покрыты ягодами. Неподалеку от меня Вера, что-то напевая, на коленках собирала ягоды в корзину. Нас окутывал сладкий запах ягод, влажной земли, травы и хвои.
Вдруг тишину нарушили далекие звуки выстрелов. Стайка испуганных птиц пролетела над головами и исчезла из вида. Удивленные, мы с Верой оглядывались по сторонам, прислушиваясь, но ничего больше не услышав, продолжили собирать ягоды.
Спустя некоторое время с полными корзинами мы шли обратно — опять мимо грубой изгороди, мимо странных ворот. Нас догнали те же солдаты, быстро шедшие строем. Арестованных с ними не было. Через плечо у каждого была перекинута свернутая в узел одежда, в том числе серый школьный мундир.
Мы больше никогда не ходили по той дороге мимо тех ворот с угрожающей надписью, никогда больше не бывали в этом страшном месте.
Когда мы по своей Олонецкой улице подходили к дому, впереди нас медленно шла наша мама. Гермоша и я поспешили к ней, и когда она повернулась к нам, мы увидели, что она расстроена и только что плакала. Утром она встретила одного офицера с ледокола «Канада», который сказал ей, что Мейзи Джордан погибла. Она умерла, объяснил он, от тифа в Петрограде. Он также сообщил, что Билли Джордан бежал и теперь, наверное, в Англии.
Мы не могли понять этой жуткой истории. Мейзи, такая молодая, ей всего двадцать три, красивая, полная жизни, — и мертва? Офицер не знал никаких подробностей. Неделю-две спустя к нам зашла пожилая дама и представилась как Александра Андреевна Анкирова. Мадам Анкирова была матерью той девушки, что вышла замуж за любезного датчанина. Все у них вышло по намеченному плану. Прибыв в Норвегию, они расстались. Мария поехала во Францию, где ее встретил жених. Они обвенчались по русскому православному обряду и теперь благополучно устраивали свою семейную жизнь.
Мадам Анкирова, желавшая выехать к дочери, как и мы, ждала разрешения покинуть Россию. Она пришла к нам с предложением ехать вместе, чтобы в случае необходимости помочь друг другу. Мама, конечно, с готовностью согласилась.
Александра Андреевна принадлежала к семье, когда-то владевшей рыболовными судами, занимавшейся рыболовецким промыслом. Ее брат, уже не являясь владельцем, тем не менее работал по найму у нового правительства. От него мадам Анкирова получила из Мурманска письмо, в котором он описывал, что произошло, когда трое путешественников сели на корабль, идущий в Норвегию.
В день отхода судна их сначала повели в таможню, охраняемую солдатами, где их тщательно обыскали, багаж вынули из чемоданов и каждый предмет проверили. Когда наступила очередь Мейзи и открыли ее чемоданы, нашли письма, которые она везла в Англию. Ее арестовали и увели на допрос. Все ее объяснения, апелляция датчанина ни к чему не привели. По какой-то причине ее увезли в Петроград.
Молодая пара в последний раз видела Мейзи, когда ее уводили, горько плачущую, взывающую к ним: «Я знаю, что больше не увижу Йоркшир».
Мейзи была молода, вероятно, легкомысленна, но шпионкой она никогда не была. Что-то в рассказе о ее гибели не очень понятно. Конечно, по всей России, разодранной войной, бродили всякие болезни, особенно тиф. Мейзи, конечно, могла подхватить инфекцию, но что скрывалось за ее перевозкой в Петроград? Не странно ли, что, прибыв туда, она заболела и умерла?
Лишь те, кто знал и в тот период эту молоденькую женщину, мог бы ответить на подобные вопросы.
Наконец пришло письмо из Финляндии. От тети Ольги потрясающие новости. Дядя Оскар простудился в Петрограде и умер. Две младшие дочери, которых он брал в поездку, остались одни на произвол судьбы. Злата, которой было четырнадцать лет, пыталась перейти границу и вернуться в Финляндию, но ее схватили и бросили в тюрьму. Ариадна нашла работу сиделки в санитарном поезде и дважды едва избежала смерти, когда поезд на станциях захватывали то большевики, то белогвардейцы, и каждый раз ее обвиняли в шпионаже в пользу другой стороны. Но в конце концов ей удалось вернуться под защиту своего дома в Финляндии.
Оставшись вдовой, тетя Ольга тут же вышла замуж за генерала Хьялмара Валинквиста, который служил в полиции при царском режиме, но, будучи финном, сохранил свой пост и при новом правительстве. Генерал был старым другом ее семьи. Через должное время тетя Ольга родила девятую дочь, которую окрестила Ниной. В это же богатое событиями время моя прелестная кузина Милица, старшая дочь тети Ольги, развелась с Володей Пастернаком и тоже вступила во второй брак.
Прочтя письмо и обсудив все обстоятельства, наша семья пришла к выводу, что тетя Ольга неплохо устроила свою жизнь.
Теперь трудно представить себе, как быстро тогда все менялось к худшему, как некомпетентны были те, кто управлял всем. Люди жили на грани голода, страдая от цинги и дистрофии. Рубль непрерывно падал в цене, на него уже ничего нельзя было купить. Сбережения, вклады, страховки пропали, и тот, кто всю жизнь работал и копил деньги, остался нищим. Билеты в кино, на трамвай, куда угодно сочли ненужной тратой бумаги, и они канули в прошлое. Марки на письма стали не нужны. Люди просто опускали письмо в почтовый ящик, надеясь, что оно когда-нибудь дойдет до адресата.
Приближалась осень, а с ней подступал страх перед зимой с ее морозами и трудностями. В лесном краю, величайшем во всей России, где без дерева немыслима жизнь, по какой-то причине запретили продавать древесину. Но, как и в прежние лета, по реке мимо нашего дома медленно проплывали плоты, направляясь к лесопилкам. За ними шлейфом тянулись отдельные бревна, «отбившиеся» от плотов. Часть из них выбрасывало на берег, и люди подбирали их.
В это трудное, но прибыльное дело наша олонецкая компания включилась со всем пылом. Сначала мы собирали всякую мелкую щепу, но потом, вылавливая в воде ускользавшие бревна, мы поняли, что нужны веревки. Неподалеку, в саду давно покинутого дома, стоял майский шест с веревками. Мальчики в отсутствие сторожа отправились в сад, взобрались на шест и сняли веревки. Мы вытаскивали бревна из воды, поднимали их на каменистый берег. Потом волокли по мостовой во двор, где пилили и делили между собой. Но вода становилась все холоднее, а наша работа — невозможной. В яхт-клубе, рядом, в сарае лежали весельные лодки. Мы «одолжили» одну из них, и теперь нам удавалось самим подгонять бревна к берегу.
Самой тяжелой работой оставалось перетаскивание бревен во двор и распиловка. Руки покрывались волдырями, болели ноги. Возвращаясь памятью в прошлое, я иногда спрашиваю себя: откуда брались силы на эту работу? Мы были юны, худы, плохо питались, без протеинов и витаминов, о которых так много теперь слышим. Но с огромным энтузиазмом мы изо дня в день ходили к темнеющей холодной реке, и когда уже нечего стало собирать, нас вознаграждал вид довольно приличной поленницы дров.
Долгожданное время суток, которое нам больше всего нравилось, — наступающие сумерки осеннего вечера, когда река становилась пустынной. Мы собирались у костра, пекли картошку, украденную на чужих огородах. Сидя перед теплым мерцающим костром и лакомясь печеной картошкой, мы говорили обо всем на свете: о прошлых и настоящих проделках, о таинственном исчезновении украинской семьи, когда город переходил из рук в руки. Дети из этой семьи, Борис и Лена, всегда были с нами, но неожиданно уехали, никого не предупредив. Мы говорили обо всем, но только не о политике. Она для нас ничего не значила. Может, за этим крылось неосознанное желание избегать того, что причиняло боль или тревогу. Никто никогда не спрашивал Веру и Володю об их отце.
Разговор обычно вращался вокруг захватывающей темы еды и особенно чего-либо сладкого.
— Расскажите еще о тех кондитерских магазинах в Шотландии, — просили нас мальчики.
— Что такое конфеты? — спрашивал Шурик, никогда в жизни не видевший их.
— У нас тоже были конфеты, только давно, — замечал Володя и добавлял задумчиво: — Может, снова скоро появятся.
— Конечно появятся, — подтверждал Толя с неиссякаемым оптимизмом.
Река неприветлива. Холодный ветер гонит речную волну к берегу, бросает в лицо желтые искры и дым костра. Пора искать более уютное место для наших встреч.
Выбор пал на наш сад и пруд, тем более что Василий больше не гоняется за нами. И чтобы уж совсем насладиться полнотой жизни, нужна лодка. Петька Карельский, полный блестящих идей и не особо обремененный моралью, предложил принести лодку из яхт-клуба.
— Это же воровство! — протестовала Вера.
— Никакое не воровство, — ответил Петька, которому не нравилось, когда ему противоречили. — У кого крадем, если хозяина-то нет?
Лодку принесли и спустили на воду. Мы кружили по пруду под свисающими ветками ив, и пруд становился для нас то Миссисипи, то Амазонкой, а в кустах прятались индейцы, готовые к нападению. Иногда пруд казался нам Волгой-матушкой из песни о Стеньке Разине и его казаках, которую мы пели звонкими голосами.
В один из вечеров к нам пришел дядя Адя. Он стал совсем не похож на себя прежнего, веселого человека, и горько сокрушался, что уговорил Наташу с малышом вернуться на «Канаде». Хотя его сестры и мать-вдова были в безопасности за границей, ни он, ни Наташа не получили разрешения на выезд. Лесопильное дело, бывшее на протяжении веков во владении семьи Шольцев, конфисковали, как и дом, принадлежавший моему крестному отцу. Аде еще повезло, что его не арестовали и не расстреляли, как некоторых владельцев лесопилок. Дядя Адя сказал, что собирается поступить в актерскую труппу и тем зарабатывать на жизнь.
Поговорив некоторое время, дядя Адя решил прогуляться по саду, а когда вернулся, заметил отцу:
— Ты знаешь, Герман, у тебя на пруду моя лодка.
Родители рассердились. Мы с Гермошей получили хорошую головомойку. Нас заставили извиниться перед дядей Адей. Он вовсе не жалел лодку и даже хотел, чтобы мы оставили ее себе, но отец и слушать этого не желал. И нам пришлось снова тащить лодку в яхт-клуб, без сомнения, только для того, чтобы ее украл кто-нибудь другой.
В дождливые осенние дни два главных кинотеатра, куда вход был бесплатный, тоже служили неплохим местом развлечения. В каждом из них через день шли два фильма. В «Эдисоне» мы смотрели «Почему Америка объявила войну?». На следующий день там же шел русский фильм о смелой девушке, которая занималась революционной работой и была арестована. В отчаянии она повесилась в камере. Фильм назывался «Огоньки» — они светились в глазах волков, гнавшихся за девушкой, когда она пыталась бежать. В кинотеатре «Арс» показывали американскую классику: «Три крестных отца» и ленту о таинственном «Человеке в сером». Американские фильмы остались «на память» от интервентов. Фильмы были с титрами на английском языке, совершенно непонятном простому русскому зрителю.
Так как в те времена кино было немое, фильмы обычно сопровождались игрой пианиста, исполнявшего соответствующую мелодию. Но сейчас такого пианиста было не найти. В начале каждого сеанса работник кинотеатра поднимался на сцену и спрашивал зрителей, нет ли желающих поиграть. Энтузиастов хватало всегда. Некоторые, ничуть не смущаясь своей абсолютной неспособности играть, колотили по фортепиано со всей силы. Так что бедная революционерка частенько лезла в петлю под залихватские звуки «кошачьей польки».
Многократный просмотр одного и того же фильма ничуть не уменьшал интереса к нему. Мы без конца наслаждались каждой сценой, каждым жестом, каждой слезой, давно и хорошо известными, а когда желающих играть на пианино не находилось, мы восполняли отсутствие музыки собственными вокализами. Трех преступников, бредущих по горячим пескам пустыни с крошечным младенцем, мы подбадривали забористой песенкой, которую поют марширующие солдаты. Финальная драматическая сцена, где последний оставшийся в живых крестный, спотыкаясь, вваливается с ребенком на руках в церковь, шла под вдохновенный хор, исполнявший «Интернационал»:
Это есть наш последний И решительный бой, С «Интернационалом» Воспрянет род людской!По утрам уже темно. С каждым днем тьма все гуще, и лампы зажигают все раньше. В саду наши постоянные гости — красногрудые снегири. С невероятной скоростью и энергией под сумасшедшее чириканье они набрасываются на куст бузины и клюют алые ягоды. Куст беспомощно качается и дрожит под натиском пернатых завоевателей, но через день-два, когда с ягодами будет покончено, они улетят. Мирный покой сойдет на умирающий сад.
В городе через шесть месяцев жизни под новым правительством по-прежнему хаос. Власти слишком заняты внедрением в жизнь своей доктрины, выявлением и преследованием инакомыслящих, чтобы заниматься такими малозначительными делами, как еда и одежда для горожан.
По всему городу митинги. На них должны являться даже дети, чтобы выслушивать крикливые речи о торжестве коммунизма и бесконечные обещания светлого будущего. Мы устали от всего этого, мы хотим чего-нибудь хорошего в настоящем — немножко больше хлеба и что-нибудь из одежды.
Очереди за хлебом с каждым днем длиннее. Часто, выстояв несколько часов, подходишь к пустому прилавку. Обычно полно слухов о выдаче в той или иной части города редких продуктов или товаров: от чая и сахара до валенок и мыла. Страстные, но тщетные ожидания. Однажды прошел слух о выдаче яблок. Яблок! — которых мы не видели давным-давно. Марина и я тут же отправились в длинную очередь к ближнему кооперативу, за закрытыми дверями которого были обещанные яблоки. Кто-то собственными глазами видел ящики с волшебной надписью: «Яблоки». Их якобы вносили в магазин.
Мы ждали час, два. Убивая время, читали многочисленные «агитки» на стенах. Одну я помню очень хорошо: гигантский черный кот стоял на задних лапах, одетый в красную рубаху, черные штаны заправлены в сапоги. В окровавленных лапах маленькие птички в коронах. На заднем плане валялся перевернутый трон, и такие же коронованные птички лежали рядом с ним. Стих, написанный огромными красными буквами, гласил, что царские подпевалы поют теперь другую песню, когда трудящийся кот поймал их в свои лапы. На стене было много других подобных произведений, таких же противных, но они помогали скоротать время.
Наконец дверь отворилась и появилась толстая женщина.
— Чего ждете? — спросила она.
— Яблоки, — с надеждой закричала очередь.
— Яблоки? — повторила она, расхохотавшись. — Тут вы яблок, друзья мои, не найдете. Откуда им взяться? Вы в своем уме? Идите-ка лучше домой!
Что мы, опечаленные, и сделали.
Тот день остался в памяти, потому что к вечеру пришло известие о разрешении властей выехать нам в Шотландию для временного посещения родителей. С разрешением пришло строжайшее распоряжение составить список того, что мы возьмем с собой. Все фотографии и открытки следует отправить в Петроград для предварительного просмотра властями.
Через некоторое время список наших вещей вернулся обратно с официальной отметкой о разрешении. Фотографии и почтовые открытки были возвращены в запечатанном конверте со строгим приказом не вскрывать, пока мы не приедем на место. Когда мы приехали и вскрыли конверт, все было на месте, кроме фотографии Мейзи. Она исчезла.
На следующий день пришла мадам Анкирова. Она тоже получила визу на выезд. Теперь нам нужно было объединить усилия и найти судно, на котором мы могли бы уехать в Норвегию.
Мама начала готовиться к отъезду. Говорили, что бумажные деньги с изображением Александра II за границей все еще принимают, и хотя достать их было трудно, маме удалось собрать приличную сумму. Она надеялась обменять их на иностранную валюту, когда мы будем в Норвегии. Деньги положили в белый полотняный пояс, который мама собиралась обвязать вокруг талии. Большую часть наших вещей пришлось оставить. В любом случае мы не могли забрать их с собой, ведь здесь оставался папа. Они понадобятся ему для обмена на продукты и всякие необходимые вещи.
Найти судно, которое увезло бы нас прямо в Норвегию, оказалось гораздо труднее, чем мы думали. Неделя за неделей проходили без всякого успеха. Уже приближался конец сентября. Через три-четыре недели река встанет и навигация закроется.
Жизнь меж тем продолжалась. По вечерам приходили друзья и родственники. Сашенька все еще руководила чаепитием, хотя вместо чая мы теперь пили отвар липового цвета, собранного в саду. Он был не особенно вкусен, но собирал нас за столом для разговоров.
В доме поселились чужие люди. Спальню Марги теперь занимали две молодые учительницы. Это были приятные девушки. Иногда они пили с нами чай. Одна из них, Маша, потом вышла замуж за Сережу.
Однажды дама, которую мама учила английскому языку, упомянула в разговоре, что она слышала, будто пароход «Север» должен в конце месяца отправиться в Мурманск. Расспросы подтвердили это сообщение. Мама и мадам Анкирова решили ехать на «Севере». Это был наш последний шанс. Из Мурманска — незамерзающего порта, мы надеялись попасть в Норвегию.
Бабушка тем временем уже была готова ехать к деду, который жил на поселении. Вечером накануне ее отъезда она попросила меня переночевать с ней в ее комнате. Ночь была штормовая, ветер и ливень хлестали в окна. Я лежала, свернувшись калачиком, и слушала рассказ бабушки о поездке в Санкт-Петербург на свидание с Александром II.
Утром буря утихла. Бледное осеннее солнце светило в окна. Я до сих пор помню, как бабушка стоит в прихожей черного входа. На ней старый дорожный плащ, голова по-крестьянски повязана шалью. Среди родственников, которые пришли проститься, была тетя Пика, похудевшая и печальная, — единственный оставшийся свидетель того расставания сорок лет назад, когда бабушка уезжала в ее памятное путешествие в Петербург.
Последние слова прощанья, в печали и слезах, трудно вынести. Желая как-то облегчить эти минуты, я выбежала из прихожей и, схватив кусочек мыла из двух остававшихся еще у мамы в чемодане, сунула его бабушке в руку. Она обняла меня и крепко прижала к груди. В последний раз я видела свою любимую бабушку.
У ворот ожидала телега. Через черный вход мы все вышли во двор, стояли и смотрели, как бабушка устраивается на телеге со своими вещами и Юра садится рядом. Он должен был сопровождать ее через реку и остаться на несколько дней в деревне у своей мамки.
Телега выкатилась за ворота на мощеную мостовую. Бабушка повернулась и, прощаясь, махнула рукой.
Прощай, дом, прощай, родной очаг
Мама пошла уточнить дату и время нашего отъезда и вернулась с известием, что «Север» отходит в последний день сентября в четыре часа пополудни. Багаж нужно доставить на борт судна рано утром.
Весь последний день до позднего вечера мама укладывала вещи. Измученная, она легла спать. Гермоша тоже крепко спит в своем уголке детской. Я некоторое время разговариваю с папой. Он рассказывает о своей молодости, о счастливых днях в Шотландии, о том, как важно мне научиться читать и писать по-английски, найти свою дорогу в жизни. Жизнь, говорил он, будет нелегкой. У меня осталось чувство, что в тот момент он уже смирился с потерей жены, детей, всего.
Я пошла в свою спальню и в полной темноте забралась в постель, но долго лежала без сна, терзаемая горькими мыслями о разоренном доме, о расставании с папой, с теми, кто так много значил для меня.
Утром наши ящики погрузили на телегу. Арсений отправился в порт. Пристань была в четырех верстах от дома. Мы тоже пошли к судну, чтобы проверить, как погружен багаж, и потом вернуться и провести последние часы с папой.
Был полдень. Мадам Анкирова уже устроилась. Когда мы уходили с судна, капитан подошел поговорить с мамой. И произошла одна ужасная ошибка, из тех, которые иногда переворачивают всю жизнь человека. Я отчетливо запомнила, как капитан сказал, что мы отходим в четырнадцать часов. Мама, которая знала русский не очень хорошо, перепутала время, решив, что отход назначен на четыре.
— Мама, — сказала я, волнуясь, — капитан говорит, что корабль отойдет в два часа, а не в четыре.
— Ерунда! — отреагировала она.
Мама не обратила на меня внимания, а я, вероятно, желая поверить ей, не стала спорить. У нас еще было время вернуться, если мы поторопимся.
Дома все собрались в детской. Поставили самовар. Пока он грелся, я побежала в сад попрощаться с деревьями, с теми местечками, которые знала и любила. Душистый тополь напомнил о былых веснах. Его красные сережки печально свисали с голых ветвей. Волшебная беседка казалась заброшенной и обветшавшей.
Я забралась на башню, где когда-то развевался красный стяг с золотым львом, приветствовавший шотландскую невесту. Передо мной лежал город: дома, сады с облетевшей листвой, широкие мощеные улицы, купола церквей под лучами осеннего солнца, Двина, извивающаяся серебряной лентой меж берегов.
Но надо спешить. Самовар уже пел, когда я села рядом со всеми. Домочадцы сидели в полном молчании, страшась момента, когда нужно будет сказать последние слова прощания. Вдруг в комнату вбежал папин друг Александр Александрович, совершенно запыхавшийся. Он собирался побыть с отцом, но решил сначала зайти на судно. Там он узнал, что нас еще нет, а судно выходит на час раньше. Рассерженный капитан собирался вынести наши вещи на пирс, и только мольбы нашего друга предотвратили это. Капитан обещал подождать. Это поразившее нас известие каким-то образом сгладило боль последнего расставания.
Я ничего не помню, кроме мучительно живого образа отца, прильнувшего к Гермоше. Мы бросились из дома. За воротами нас поджидала олонецкая компания, чтобы попрощаться. Быстро принимаем решение: мама и тетя Шура поспешат на Троицкий, чтобы сесть на трамвай, а мы побежим по набережной, и кто первый окажется на Соборной пристани, будет умолять капитана задержать отход.
Началась гонка. Никогда в жизни я не бегала так быстро — ни до, ни после. Впереди всех несся легконогий Петя Скрозников, а Толя и все остальные растянулись за ним. Он уже добежал до судна, а вот и я бегу вверх по трапу. Мамы еще не видно. Рассвирепевший капитан приказал выгрузить наши вещи. В этот момент я в совершенном отчаянии заплакала и бросилась ему в ноги, умоляя подождать, уверяя, что мама уже близко.
Эта трогательная сцена, вероятно, задела сердца других пассажиров, собравшихся вокруг. Все стали хором упрашивать капитана, а тот, совсем ошалевший, кричал: «Идиоты! Они ведь меня к стенке поставят, вот что они сделают за нарушение приказа!».
В разгар этих воплей появилась мама в сопровождении тети. Спокойно, не спеша, спустились они к пирсу. Ни следа волнения и спешки, лишь легкое удовлетворение на лицах. Для меня это было уж слишком. Я слетела по сходням, встретив ее потоком таких слов, каких она никогда в жизни от меня не слыхала и в которых я раскаиваюсь всю жизнь.
Наконец все на борту. Судно отошло и направилось вниз по реке. Мама и Александра Андреевна спустились в нашу каюту. Я осталась на палубе с Гермошей. Олонецкая компания бежала по берегу следом за судном, но вскоре отстала. Облокотившись на перила, я стояла на палубе. Знакомые места исчезали одно за другим: бульвар, Успенская церковь, напомнившая о Пасхе, полночных службах, горящих свечах, мореходное училище…
И вот наш дом. Марина машет нам с балкона, пока Соломбала не заслонила ее. В это мгновение всем своим существом я страстно захотела еще раз увидеть наш дом, хотя бы на миг. Кто-то услышал меня? Именно в эту секунду судно приподняло на волне, и я увидела наш дом, как вижу до сих пор, залитый алым светом заходящего солнца.
С ужасом вспоминаю наше путешествие в Мурманск.
В счастливые времена «Север» возил пассажиров, по большей части паломников, посещавших Соловецкий монастырь. Судно заходило на маленькие островки, разбросанные в Белом море. Тогда пассажирам предлагались удобные, безупречно чистые каюты и простая, сытная пища. Теперь все изменилось. Наши каюты были неописуемо грязны и кишели клопами. Все три недели они поедом ели нас, несчастных. День и ночь полчища клопов ползали по стенам и потолку, словно бусы унизывали швы постельного белья.
На судне было два вида груза: зерно, которое доставляли на разбросанные острова, и политические заключенные. Их везли в трюме, и мы с Гермошей часто смотрели на их поднятые вверх бледные лица и улыбались им. Казалось, это доставляет им удовольствие, потому что в ответ они махали нам рукой и пытались разговаривать. Заключенные были ужасающе худы и оборваны. Когда путешествие подходило к концу, мы обнаружили, что трюм пуст. Когда и где их высадили, мы не знали.
Еда, которую мы взяли с собой, кончилась через несколько дней. Вся надежда была на острова, но, когда мы сходили на берег, чтобы выменять что-нибудь на наши вещи, островитяне могли предложить только семгу. Ничего другого у них не было.
На одном из островов мы сошли на берег. Водопады, мостик, березы и ели, окружавшие несколько изб — деревня очаровывала, как забытый мир. Мы постучали в дверь одной избы. Молодая светловолосая женщина в сарафане пригласила нас в дом и усадила на скамью, которая, как и деревянный пол, была выскоблена добела. В углу комнаты висела икона, прикрытая изящно вышитым полотенцем. Рядом с ней располагалась картинка с изображением царской семьи. Знала ли хозяйка дома, что несчастная семья давно уже расстреляна? Можно было подумать, что война и революция не задели этот край.
Женщина угостила нас молоком, которое мы с благодарностью пили из глиняных кружек, а ее трое светловолосых детишек с серьезными лицами внимательно рассматривали нас. «Муж ловит рыбу, — сказала она, — он скоро вернется». Чуть позже мы увидели, как к берегу приближалась лодка. И опять нам могли предложить лишь семгу.
От острова к острову за блузки, платья, кружевные панталоны и нижние юбки мы получали семгу и снова семгу. На судне нам разрешили пользоваться камбузом, и мы ели эту рыбу горячей и холодной, вареной и печеной — без соли, без хлеба, без картофеля.
Иногда людям приходят в голову странные идеи, а мы, русские, вероятно, наиболее предрасположены к этому. Мадам Анкировой вздумалось привезти любимой дочери, живущей на юге Франции, самую большую рыбину. Мария будет счастлива, считала она, ведь семга — рыба ее родных северных мест. Рыбу нечем было засолить, но это казалось ей неважным. Рыбину зашили в наволочку, привязали к хвосту веревку и приговорили брата таскать везде этот сверток с собой.
Мы плыли вдоль темных берегов Кольского полуострова. Погода была удивительно добра к нам. Но постепенно становилось холоднее, легкий снежок то и дело покрывал палубу нашего судна. И наконец мы снова в Мурманске, куда десять месяцев назад заходили на «Канаде» по пути в Архангельск.
Наш капитан, в душе добрый человек, разрешил нам остаться на борту, пока он не получит дальнейших указаний. Нам выдали талоны на один обед в день в общественной столовой. Обед состоял из непонятной жижи, в которой плавали головы селедки и кусочки хлеба, и маленькой порции вареного зерна, но после бесконечной семги и это показалось съедобным.
Каждый день, с момента прибытия судна, мама и мадам Анкирова отправлялись на поиски судна, которое идет в Норвегию, и каждый вечер возвращались разочарованные. Гермоша и я проводили дни, играя в карты в пустом салоне или бродя по окрестностям в поисках клюквы под снегом. И если удавалось найти, мы жадно ее ели.
В конце недели, когда мы уже начали подумывать, а не вернуться ли обратно в Архангельск, мама и мадам Анкирова пришли с радостной вестью: нам разрешили сесть на траулер, который на следующий день уходит в Варде. На этом траулере отправлялись в Норвегию какие-то важные большевики и с ними женщина-секретарь.
С надеждой и волнением мы принялись готовиться к последней стадии нашего путешествия.
Капитан траулера предупредил, что перед тем как нам подняться на борт, наш багаж будет подвергнут таможенному досмотру. Он предложил отдать ему на сохранение некоторые вещи, которые вернет по прибытии в Норвегию. Нам не хотелось злоупотреблять его благородством, но мы отдали ему кое-что: мамин сверточек с драгоценными рублями, одну-две золотые монетки и несколько фунтов, оставшихся от нашей последней поездки в Шотландию. У мадам Анкировой было много ценностей, но она, не желая подвергать опасности капитана, дала ему лишь часть драгоценностей. Остальное нужно было спрятать на себе. Если спрятанное найдут, не только все конфискуют, но и мы сами попадем в беду.
Мама зашила кольца и броши в свое черное платье в складку. Анкирова хитроумно вшила ожерелье из редчайших жемчужин и бриллиантов между прокладками манжет своей блузки, а другую нитку вшила в воротничок. Сверточек с норвежскими деньгами она спрятала в чулки. Это было особенно опасно, так как все попытки провезти через границу иностранную валюту жестоко наказывались. Еще у нее оставалась пара аквамариновых серег, представлявших огромную проблему. Большие, в форме шара камни, обрамленные бриллиантами, спрятать было невозможно. И я предложила такое: мы с Гермошей возьмем по серьге в рот. Мама сначала не соглашалась с этим глупейшим и опасным предложением, но мы ее уговорили.
На следующее утро наши коробки погрузили в санки и с помощью команды поволокли в таможню. Там нас окружили вооруженные солдаты, и служащие начали вынимать и осматривать наши вещи, откладывая то, что подлежало конфискации. Мы предъявили бумагу со списком вещей, разрешенных на вывоз. Зная, что бумага подписана в Петрограде высоким чином и что робость не поможет, я горячо протестовала, иногда со слезами, указывая на бумагу, и особенно отстаивала браслет, подаренный мне папой. Мама к этому времени была совершенно вымотана эмоционально и готова отдать все, что им заблагорассудится взять. В продолжение всех споров и слез драгоценная серьга лежала у меня за щекой. Главной целью осмотра багажа был поиск писем, драгоценностей и иностранной валюты, и в этом он не увенчался успехом. У нас изъяли кое-какое белье и мамину любимую шляпку с перьями цапли, но большая часть вещей была возвращена.
В какой-то момент обыска мы вдруг обнаружили, что моего младшего брата куда-то увели. В комнате была дверь, ведущая в коридор, а оттуда еще одна вела в крошечную комнату. Обе двери охраняли солдаты. Мы услышали плач Гермоши, и я с ужасом представила, что сережку обнаружили. Мама бросилась к двери, но ее остановили, объяснив, что ничего страшного с мальчиком не происходит, его просто обыскивают. Гермоша вскоре появился, заплаканный и несчастный. Его раздевали догола. Серебряные часы — самое дорогое, что было у Гермоши, подарок дедушки из Шотландии, а также несколько пенсов и серебряный шиллинг остались у таможенников.
Потом позвали меня. Я вошла в маленькую комнату, где за столом сидела молодая женщина. Выражение ее лица было холодным.
— Сними одежду, — скомандовала она.
Я повиновалась и стояла голая, дрожа от холода, пока она осмотрела мою одежду и вытащила из карманов несколько шиллингов. Эти драгоценные монетки были для меня воспоминанием о последней поездке в Шотландию. Женщина положила монетки на стол. К счастью, ей не пришло в голову приказать мне открыть рот. Мне велели одеться и разрешили уйти.
Наступила очередь мамы. Она тоже разделась и распустила волосы. Платье в складку, лежавшее на стуле, просто встряхнули и положили обратно. Когда мама оделась и стояла с поднятыми руками, закалывая волосы, женщина подошла к ней и провела рукой по спине и бокам платья. Драгоценности в складках она не нашла.
Последней на обыск пошла мадам Анкирова. Она и мама встретились в коридоре.
— Они смотрели чулки? — шепотом спросила Анкирова.
— Да.
— Я пропала, — сказала Анкирова и вошла в комнату.
Она распустила волосы и, сняв одежду, присела на стул, чтобы снять чулки. Трудно сказать, но, может быть, искра сочувствия, сострадания в это мгновение вспыхнула в молодой женщине, обыскивавшей Анкирову; а может, покорное выражение лица старой нагой женщины напомнило ей о ком-то близком, и она вдруг сказала:
— Не надо, мамаша, оставьте чулки.
Мадам Анкирова была спасена.
Досмотр закончился. Вещи снова погрузили на санки. Обе женщины и я тащили их, а Гермоша брел сзади с семгой, болтавшейся у него за плечами. По обе стороны шли солдаты, так как теперь мы шли к нашему траулеру. Члены команды помогли нам поднять багаж. Вскоре прибыли комиссары и их секретарь, толстая женщина с тестообразным лицом. Они устроились в каюте капитана. Гермоша и я заняли скамью у обеденного стола в помещении команды, мадам Анкирова и мама устроились на полу крошечной площадки на верху лестницы.
Незадолго до отплытия один из комиссаров присел рядом со мной.
— Итак, юная леди, — сказал он, — мы с вами попутчики.
Он был настроен дружелюбно.
— Да, — ответила я вежливо, взглянув ему в лицо.
Что-то в нем было не так. После нескольких фраз в том же духе он, словно невзначай, уж слишком невзначай, заметил:
— Хорошо, что они не нашли писем.
Где-то внутри у меня прозвенел предупредительный звоночек: этот приветливый человек с добрым лицом опасен.
— О нет, — ответила я так же дружелюбно, — у нас и не было никаких писем.
— А деньги?
Я отрицательно покачала головой.
— Что же вы будете делать в Норвегии без денег?
— У нас там родственники, — ответила я правдиво.
Последовало короткое молчание.
— У вас что-нибудь взяли? — спросил он мягко.
— О да, — ответила я так же тихо, кивнув головой. — Мамину шляпу и панталоны.
Тут его поведение резко изменилось. Он встал.
— Моя дорогая юная леди, — голосом, полным сарказма, произнес он, — вам повезло. Многие потеряли не только шляпы, но и головы.
И он ушел в салон.
Каждый моряк, плававший вокруг Кольского полуострова, знает, как опасны могут быть эти воды. Вскоре после выхода из Мурманска разразился самый настоящий шторм. Гермоша и я лежали голова к голове, и нас постоянно швыряло на стол. Только он каждый раз и не давал нам упасть на пол и удариться о переборку. Я и в лучшие времена плохо переносила качку, теперь же отчаянно страдала, впрочем, как и Гермоша. Мы в тот день ничего не ели, что усугубляло наши мучения. Я даже представить себе не могла, что происходило на крохотном пятачке лестничной площадки. Мы слышали лишь ужасный скрип судна и вой ветра, словно стон заблудшей души. Как будто некий демон из преисподней поднимал наше хрупкое суденышко почти до небес, а потом бросал в бездну бушующего моря. Но судно продолжало смело плыть вперед, то ныряя, то снова появляясь на поверхности кипящей воды. Медленно, но упрямо продвигалось оно к спасительным берегам Норвегии.
Не знаю, сколько длилось это путешествие. Я утратила всякое понятие о времени. Я не верила, что можно выжить в таком шторме. Вскоре я дошла до такого состояния, когда мне стало уже все равно.
И вдруг наступила оглушительная тишина: ни ветра, ни качки, ни бросков. Мы вошли в залитую солнцем гавань Варде. К нам пришли мама и Александра Андреевна. Они тоже всю ночь катались по полу, моля Бога о спасении.
Два офицера и врач поднялись на борт траулера. У обоих комиссаров и секретарши они без каких-либо комментариев тщательно проверили бумаги и ящик, набитый банкнотами. Потом была наша очередь. Все официальные лица говорили по-английски и по-русски. Доктор подошел ко мне.
— Эта девочка, — он взглянул на меня с состраданием, — вероятно, очень больна. Если у нее что-нибудь серьезное, боюсь, вам нельзя будет сойти на берег.
— Пожалуйста, поверьте, о поверьте мне, — начала объяснять взволнованно мама, — она просто плохо переносит качку. Это лишь морская болезнь. И кроме того, — добавила она, — мы почти два дня не ели.
Офицеры и врач отошли в сторонку и посовещались о чем-то. Мы испугались, что, может быть, придется возвращаться в Мурманск. Но тут один из них повернулся к нам.
— Дамы, — сказал он с широкой приветливой улыбкой, — вы и ваши дети можете сойти на берег. Норвегия приветствует вас.
Эти чудесные слова навсегда остались у меня в сердце и памяти. Прошло почти шестьдесят лет с того дня, как мы ступили на норвежский берег, и я всегда думаю об этой прекрасной стране с чувством огромной благодарности.
К двум комиссарам и их секретарю наш норвежский офицер обратился другим тоном:
— Сожалею, — вежливо сказал он на прекрасном русском языке, — но мы не можем позволить вам сойти на берег. Вы должны вернуться в Россию. Два наших корабля проводят ваш траулер из гавани.
Получается, что траулер только нас одних привез в Норвегию. Это было так странно, что казалось просто чудом.
Мы сошли с траулера и пошли по пирсу, потом по крутому берегу к маленькой гостинице на углу квартала. Пошел снег, улицы и крыши домов городка казались ослепительно белыми. Розовощекие детишки мчались мимо нас на санках. Небольшие группы людей молча наблюдали за странной процессией, которую замыкал маленький мальчик с огромной рыбиной за плечами.
В нашей комнате в отеле приветливо горел в камине торф. Горячая ванна, чистые простыни, еда — все было чудом, явившимся из мира, который мы потеряли.
Во время короткой вечерней прогулки мы увидели в сумерках наш траулер. Как черная тень, стоял он на рейде под охраной военных кораблей Норвегии.
— Неисповедимы пути Господни, — глубокомысленно произнесла мадам Анкирова. — Вот он, этот траулер, ему велено возвращаться обратно, и сторожат его не кто-нибудь, а военные моряки. Мы даже быть на нем не имели права, а теперь в безопасности в Норвегии.
Перед тем как нам покинуть траулер, капитан вернул нам наши вещи. К несчастью, когда мама пошла обменять рубли, они оказались бесполезными. Это был жестокий удар, потому что мама собирала их, продавая дорогие для нее вещи, которые было бы разумнее сохранить. У меня все еще хранится этот сверток с рублями в том виде, как когда-то его свернула мама, разложив по маленьким полотняным мешочкам. Мама надеялась на них доехать до Шотландии, но теперь пришлось послать дедушке телеграмму с просьбой о деньгах, которые он тут же выслал.
На следующее утро по прибытии в Варде в отеле нас посетило несколько человек. Это были репортеры и беженцы, которые все еще жили в Варде. Они ждали последних новостей из России. Один из репортеров перевел нам статью из местной газеты, в которой говорилось: «Вчера маленькая группа беженцев, состоящая из двух женщин, молоденькой девушки и мальчика, прибыла на наши дружественные берега. Они сказали нам, что приехали из России, но, вероятно, они прибыли с другой планеты. У них на лицах странное неземное выражение».
Два дня спустя мы покинули приветливый остров и сели на один из симпатичных прибрежных пароходов, шедший в Берген. Название судна в переводе означало «Серебряные воды». Ничего роскошнее этого путешествия, на наш взгляд, не могло быть. Наши две каюты — в одной расположились мадам Анкирова и мама, в другой мы с Гермошей — были просторными изысканными комнатами, отделанными в голубых и серебряных тонах, белые скатерти из дамаста, столовое серебро, хрусталь, цветы на столе. Прекрасная кухня. Блюда подавали безупречные официанты. Все это, казалось, из какого-то другого, давно сгинувшего мира.
Величественная меняющаяся панорама фиордов, сверкающей воды, гор и островов оживила во мне воспоминания о детстве, и мне показалось, что разбросанные по склонам домики — это игрушки, а фигурки, спешащие вниз по тропинкам — человечки из волшебных сказок.
Когда мы выехали из Варде, остров был покрыт снегом, и дети скатывались на санках прямо от своей школы на вершине холма. Но по мере того как мы плыли по зеленовато-синим водам фиордов, обогнув мыс Нордкап, к Хаммерфесту, Нарвику и дальше на юг, погода становилась все теплей. В садах Бергена мы увидели розы и хризантемы.
Тут мы попрощались с «Серебряными водами» и отправились по мощеному тротуару в ближайший отель. Семга была все еще при нас. Когда рыбину зашивали в наволочку, у нее был приятный запах моря, но теперь, после долгих странствий, она воняла так, что хоть святых выноси. Гермоша — мальчик очень чувствительный, страшно переживал, когда прохожие, поравнявшись с ним, отворачивались, зажимая носы.
— Мама, — сказал он в отчаянии, — я просто не могу больше носить эту рыбу.
Мама согласилась, что дело перешло все границы.
— Александра Андреевна, — начала она убедительным тоном, — мне кажется, вашей дорогой Марии эта рыба уже не понравится. Что касается Франции, ни один уважающий себя француз не разрешит перевезти ее через границу. — И чтобы окончательно прекратить всякую дискуссию, добавила: — Нас здесь не пустят ни в один отель.
Мадам Анкирова помолчала минуту-другую.
— Вы правы, — сказала она наконец. — Выбрось ее вон в ту бочку, дорогой.
Гермоша так и сделал.
На нашем пути больше не было препятствий, поскольку мама была британской подданной, и мы на следующий день уезжали в Ньюкасл. Мадам Анкирова, к нашему огромному сожалению, не могла ехать с нами. Ей нужно было ждать получения въездной визы во Францию. А мы так хотели бы продолжать наш путь вместе и дальше, но это было не суждено. Мадам Анкирова пришла нас проводить. Мы все плакали, когда она по очереди целовала и благословляла нас.
В Ньюкасле на такси мы добрались до гостиницы. Хорошо отдохнув, на следующее утро мы сели на поезд, идущий в Данди. В окна снова видны были аккуратные домики, ухоженные садики, поля с одинокими дубами, пасущиеся коровы, рощицы в желто-красном убранстве. В полдень мы уже были на мосту. Поезд громыхал над рекой Тэй. Вдали виднелся старинный замок, и от него тянулась на запад деревня Броути Ферри — конец нашего пути.
Поезд замедлил ход и, взвизгнув тормозами, встал на станции «Мост через Тэй». Теперь нам надо было пересесть на поезд в Уэст Ферри, отправлявшийся с Восточного вокзала, расположенного на другом конце Портовой улицы. Услужливый носильщик уложил вещи на тележку и отправился по мощеной улице. Мы последовали за ним.
Купив билеты и рассчитавшись с носильщиком, мы сели в поезд. В нашем купе оказалась стайка школьниц. Их красивая одежда, веселая болтовня привлекли мое внимание, но и мы тоже вызывали их любопытство: я в тяжелом пальто и меховой шапке, Гермоша в серой форменной шинели с каракулевым воротником. Будучи воспитанными, школьницы не могли глазеть на нас в открытую и поглядывали краем глаза, продолжая весело сплетничать. А я, слушая их беззаботные голоса и веселый смех, была переполнена огромным, страстным желанием быть как они, принадлежать к их кругу, и чтобы у меня были папа с мамой, был наш дом.
Спустя несколько минут мы подъехали к опрятной станции в Уэст Ферри. Изо всех вагонов выскакивали детишки и спешили к лестнице, ведущей к вокзалу. И тут мы вдруг увидели знакомую фигуру — дед в синем костюме, стетсоновской шляпе и с цветком в петлице невозмутимо шагал к выходу. Оказалось, мы ехали в одном поезде.
— Поторопись, — сказала мама, — догони дедушку.
Дед был уже почти на верху лестницы. Нас разделяла веселая толпа людей. Спотыкаясь и проталкиваясь сквозь них, я догнала его и тронула за руку:
— Дедушка!
Он повернулся. Изумление появилось на его лице.
— Дедушка, — повторила я, — мы снова вернулись, мы вернулись.
Эпилог
Нам повезло. Из всех пассажиров, плывших с нами на невезучей «Канаде», я знаю только одного человека, который вернулся в Британию. Однажды в Бей Хаус приезжал молодой офицер Королевского военно-морского флота. Это был Осборн Гроув. Он принял приглашение переночевать у нас, и мы допоздна разговаривали. Среди прочего он рассказал о трагической гибели своего пилота Кости, когда их самолет потерпел аварию. Тот же печальный конец постиг многих из наших тогдашних попутчиков. На следующее утро Гроув уехал, и мы больше никогда не виделись.
В Шотландии моя жизнь началась, можно сказать, заново. Меня определили в частную школу Сейнт-Маргарет, где я научилась читать и писать по-английски. После школы я поступила в Брюс Колледж в Данди, где училась управленческому делу, что позволило мне найти свою дорогу в жизни.
После смерти деда и грэнни мама переехала в маленькую квартирку в Данди. Я вышла замуж, уехала в Калькутту и жила в Индии, разрываясь между мужем, служившим там, и нашими близнецами-сыновьями, которые учились сначала в Данди, а потом в Эдинбурге.
Мой брат тем временем делал карьеру в британской нефтяной компании в Венесуэле. В Нью-Йорке он познакомился с привлекательной американкой, они поженились. Так как их дети тоже учились в Эдинбурге, наши семьи обосновались в этом городе, а под конец к нам присоединилась и мама, которая очень радовалась нашим семьям и внукам. Она умерла в возрасте восьмидесяти двух лет.
До самой смерти отца мама постоянно переписывалась с ним и пыталась любыми путями облегчить его существование. Большевики не пропускали посылок, но между страницами своих длинных писем мама всегда вкладывала лезвия «Жиллетт». В России в то время не было никаких лезвий, и папа, таким образом, мог обменивать их на продукты.
Стоит ли добавлять, что в Архангельске мы больше не бывали.
Незадолго до окончательного поражения белой армии двоюродная сестра папы, Маргуня, бежала в Норвегию. Ее муж, подполковник Дилакаторский, воевал до конца. Когда стало очевидным, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, он присоединился к беженцам, уезжавшим на последнем судне в Норвегию. Прибыв на пирс, он обнаружил, что нет двух его молодых подчиненных. Зная, что их ожидает, если они отстанут, Дилакаторский, получив заверение капитана, что судно их подождет, поспешил за отставшими, но когда наконец они пришли, судна уже не было.
Единственный выход, который у них оставался, был переход границы по суше. Поход на лыжах в самую зиму требовал огромной воли и терпения, и они уже были почти у цели, но, до предела измученные, соблазнились видом встретившейся на пути избушки, куда попросились переночевать. Хозяин оказался приветливым, согрел самовар, предложил какую-то еду. Спешить незачем, уверял он их, здесь вы в полной безопасности. И пока они сидели, согревшись и подкрепившись, и разговаривали с хозяином, избу окружили. Этот же хозяин и выдал их, послав сына к большевикам.
Дилакаторского и двух его офицеров арестовали, собрались везти в Мурманск, но затем тут же расстреляли и тела бросили в море. Тело Дилакаторского позднее выбросило на берег, и оно было опознано его верным денщиком Валеновым. Петр Дилакаторский был способным офицером и благородным человеком. Он мог остаться в живых, если бы не покинул судно, чтобы спасти жизнь двум молодым людям. Пытаясь сделать это, он погиб сам.
Как сложилась судьба тех, кто остался в Советской России, спросите вы. Вскоре после нашего отъезда дом был конфискован. Отца с его пожитками перевезли жить к дяде Сане. Марина уехала в Финляндию, где вышла замуж и растила сына. Я до сих пор поддерживаю переписку с ним, хотя моей дорогой кузины уже давно нет.
Власти решили превратить наш дом в студенческое общежитие, но тут в нем случился пожар, начавшийся на чердаке и быстро распространившийся по всему дому. Одни говорили, что был поджог, другие считали, что причиной пожара стала ветхая электропроводка. Члены нашей семьи тоже прибежали и гасили пламя вместе с новыми жильцами и «помощниками», пришедшими чем-нибудь поживиться. Наконец с прибытием пожарной команды пламя удалось сбить, но стены обгорели основательно.
После пожара дом был отремонтирован, но оба балкона разобрали, и теперь он мало напоминал когда-то симпатичный оригинал.
Через восемь лет после нашего отъезда бабушка с дедушкой вернулись из ссылки. На Троицком проспекте им выделили «комнату с половиной», где общую кухню они делили с такими же людьми, чьи дома были конфискованы. «Половиной» служила часть прихожей. Дедушка поставил там свой стол и принимал пациентов, которые продолжали приходить к нему, принося плату натурой. Без этого на жалкое пособие, которое он получал в больнице, работая хирургом, им бы не выжить.
Сережа с женой и двумя детьми жил в Ленинграде, где работал куратором одного из музеев. Юра, тоже уже женатый, занимался разведением пушных зверей (мех в те годы был для государства источником иностранной валюты). И хотя он жил с женой и маленьким сыном в одной комнате, жизнь казалась ему сносной.
В январе 1928 года я, отправляясь навестить подругу, встретила у ворот мальчика-разносчика телеграмм. Он вручил мне телеграмму, в которой сообщалось о смерти папы, а две недели спустя пришло письмо. «Не плачь, — писал мне дядя Саня, — теперь твой отец свободен от страданий и горя. Он покоится рядом с отцом».
Дедушка с бабушкой пережили папу на четыре года. Они умерли почти одновременно, с разницей в десять дней, умерли вовремя, так как наступили свинцовые тридцатые годы. Некоторое время от Юры и Марги еще шли письма, а потом наступило полное молчание.
Прошло десять лет. Закончилась Вторая мировая война. Я жила в Индии, но, приезжая в Шотландию, снова и снова пыталась найти своих родственников. И только позже через Финляндию и другие источники я узнала всю правду. Причина долгого молчания была проста — в Архангельске все умерли. Я не подозревала, да и никто, насколько мне известно, не знал о сатанинской всепожирающей работе кремлевского чудовища.
Первым по сфабрикованному обвинению убили Митю Данилова. Все его вещи забрали, а Маргу с тремя детьми выбросили на улицу. В отчаянии она бросилась к Сашеньке, которая приняла ее. Но вскоре Маргу арестовали и отправили в один из лагерей на Белом море. Оба ее мальчика погибли — одного убили, другой в возрасте четырнадцати лет покончил с собой. Марга, потеряв рассудок, умерла. Осталась только девочка.
Юра, видя, как преследуются все, кто боролся с большевиками во время интервенции, понял, что обречен, и, опередив своих палачей, покончил с собой.
Никогда, начиная с зари русской истории, еще не было такого страха, горя и ужаса. Недаром Анна Ахматова назвала это временем, «когда улыбался только мертвый, спокойствию рад».
Сережа, его жена и маленький сын умерли от голода в блокадном Ленинграде и похоронены на Пискаревском кладбище в общей могиле. Их маленькую девочку вывезли через Ладожское озеро в тыл, и тем самым она была спасена.
В 1972 году наш бывший дом снесли, и на его месте теперь один из корпусов больницы имени Семашко. Сад, подобного которому не знал Архангельск, сторожка, конюшни, службы и изгородь пропали еще до войны.
Что касается самого города, то он разросся невероятно, население увеличилось раз в десять. На смену деревянным домам пришли бесчисленные высокие панельные дома. Через Двину перекинуты мосты, и пассажиры с поездов попадают теперь прямо в город. На месте снесенных в тридцатые годы церквей стоят школы и театр. В современном Архангельске имеются все удобства — горячая вода, газ, водопровод, и людям не надо больше ходить на реку морозными зимами за водой или полоскать белье. Прибрежные валуны, на которых когда-то собиралась наша олонецкая компания, исчезли в бетонной набережной и под желтым песком пляжа, что располагается теперь в центре города.
Фотографии
Сад Поповых
1
(Granny от Grandmother) — бабушка, бабуля.
(обратно)2
Fleur d'orange (фр.) — белые цветы померанцевого дерева, в некоторых странах принадлежность свадебного убора невесты.
(обратно)3
Дословно: «травянистый берег или пляж» — название набережной в деревне Броути Ферри.
(обратно)


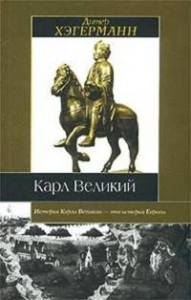


Комментарии к книге «Дом над Двиной. Детство в России», Евгения Германовна Фрезер
Всего 0 комментариев