Сергей Кравченко КНЯЗЬЯ И ЦАРИ
*
Серия «ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ»
© Кравченко С. И., 2000
© Оформление: издательство «Феникс», 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы говорим о нелегкой судьбе России и русского народа. Мы пытаемся найти причины русских бед и неустройств.
Мы ищем врагов, ссылаемся на природные условия, на военные напасти, на превратности истории.
Мы остаемся в привычных рамках самооправдания. Мы по-прежнему не хотим заглянуть внутрь себя… А ведь есть, есть у нас темы, которые неудобно обсуждать. Есть очевидные обобщения, которые мы опасаемся сделать. Есть документальные факты, которые мы до сих пор комментируем извращенно, подчиняясь традиционному мнению и твердой правительственной указке.
Нам легко грешить против истины — мы ее почти не знаем. Поэтому, отчеканивая в диссертациях, что «…князь Игорь был далек от чаяний простого народа…», мы оправдываем себя тем, что сами половецких плясок вокруг пленного Игоря не плясали. И кажется нам, что предки наши — не люди, а почти инопланетяне, и понять их уже нельзя. Так и не судим, и не судимы будем, а в диссертациях с чистой совестью напишем — что кому задано.
Оглядываясь на прошедшие века и тысячелетия, мы обнаруживаем там другие одежды и технику, другую музыку и другой уровень коммунальных удобств. Но людей мы там встречаем наших, знакомых с детства: руководящих дураков, обиженных умных и честных, ограбленных работяг, прославленных негодяев и забытых героев. Человек меняется очень медленно!
Так наберемся же духу объяснить Историю страны нашей простыми и понятными причинами. Вглядимся в лица и дела героев былых времен. Попытаемся понять их мотивы, — они не всегда были благородны: под кольчугами и латами, под царскими мантиями и архиерейскими ризами трепетали такие же слабые, уязвимые сердца, как и у нас с вами, дорогие читатели. Не будем судить их строго, — они жили и умирали в не менее драматичные времена. Не будем завидовать им, — не все так блестяще отражалось в лужах и болотах древнего быта. Но не будем и унижать себя преклонением перед сомнительными персонами старого времени, — правдами и неправдами добились они величальных записей на бересте, пергаменте и бумаге.
В нашем повествовании иногда будут появляться еще два автора — Писец и Историк.
Первого летописца звали вроде бы Нестор, хотя многие считают, что это образ собирательный, так сказать — союз писателей, составленный из грамотных и полуграмотных монахов. Задача у него была тяжкая и неприятная. Он должен был описывать события по горячим следам, под пристальным княжеским оком (вернее сказать — ухом: ни писать, ни читать, ни считать князь обычно не умел, и приходилось летописцу вслух пересказывать новые летописные повести о том, как он, батюшка, намедни за народ потно потрудился и славно попировал). Труды летописца часто шли прахом. Не сохранилось ни одного оригинала «Повести временных лет», четко датированных хроник. Только в 18 веке (!) при Петре Великом в прусской столице Кенигсберге был найден так называемый Радзивиллов список с «Повести временных лет», заботливо сохраненный педантичными немцами. Вообще, почти все, что удалось найти, — это списки, копии или цитаты и упоминания…
Еще более важную, хотя и черную работу, выполнял младший брат летописца — писец. На нем лежала обязанность ездить с князем, а также с кем попало и куда пошлют, вести всю государственную документацию, вообще заменять собой все нынешние телеграфные аппараты, печатные машинки и компьютеры. С развитием государства на сутулые плечи писца обрушилась тяжкая бумажная лавина, и он кряхтел, но тянул. В мелких писцовых бумажках дошла до нас не меньшая часть живой
Истории, чем в подцензурных официальных летописях. Так что, собирательный первоисточник наш будет у нас называться в честь скромного труженика гусиного пера. Короче — Писец.
Второй наш автор — это великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, оставивший нам многотомный академический труд, в котором чего только нет. Тут и библиография, и дипломатическая переписка, и забавные случаи из придворного и народного быта. Историку нашему работать было легче. Ездить по полю брани ему не приходилось — он только читал и читал труды Писца. И зашел он издали, от основания Руси, и честно писал обо всем подряд, не забывая, правда, что живет в Империи, служит Императору и многолюдной Императорской фамилии, что Москва — праведный центр вселенной, и нет греха большего, чем в этой праведности и вселенском достоинстве усомниться. Рюриковичи у власти уже не стояли, поэтому подробности их быта освещать было легко, — лишь бы не обижать сильных потомков, не разоблачать церковных легенд и, самое главное, — случайно не опорочить в передаче древних событий великую идею строительства Империи. Но чем ближе дело подходило к Романовым, тем скучнее и теснее становилось нашему Историку. Поэтому с какого-то момента придется нам его дополнить другими писателями, и он у нас тоже станет коллективным автором и собирательным персонажем.
Часть 1 УТРАТА (862-1035)
ПРЕДКИ НАШИ
Россия как государство при возникновении была отмечена двумя непоправимыми утратами — потерей национального руководства и гибелью коренной религии. Эти утраты и сопутствовавшие им сомнительные приобретения нанесли невосполнимый ущерб народному духу, не позволили в дальнейшем сформироваться национальному стержню, привели к череде тяжких военных, политических и нравственных катастроф. Итог известен: вялая, столетиями оскорбляемая и угнетаемая нация, вгоняемая чуждыми правителями и учителями то в экстаз самоуничтожения, то во внешнюю агрессивность, то в наивное построение идиотских конструкций — на страх всему человечеству, на осмеяние перед всем миром. Много было на Руси умных, смелых, благородных, а то и святых людей. Но отдельные люди — это еще не народ.
Что же были за люди наши ранние предки? Что это была за Земля?
Земля наша в основном пуста была. В Европе, Африке и Азии зарождались и гибли цивилизации, бушевали толпы, лилась кровь, бурлила мысль, строились города, возводились гигантские статуи, маяки, пирамиды, работали библиотеки, писатели и поэты в белых одеждах диктовали секретарям оды и поэмы, возносили хвалу Небу, славу и проклятия — императорам. Пифагор, Евклид, Архимед, Аристотель — да разве всех перечислишь? — заложили основы наук; Александр Великий, Ганнибал и Цезарь успели завоевать мир и растерять завоеванное; Вавилон, Афины, Рим и Карфаген испробовали на себе и предложили на выбор все формы государственного устройства; Клеопатра и Антоний, Сафо, Дафнис и Хлоя, Орфей и Эвридика, Одиссей и Пенелопа объяснили людям, что такое любовь…
Прошло пять тысячелетий — пятьдесят веков цивилизации! Слегка уже устал мир. Вот уже прокатились по империям и республикам волны варварских нашествий. Это молодые, глупые и злые народы пришли отнять и поделить плоды чужого труда. Уже и эти дикари уселись в своих Германиях.
Уже и боги устали. Уже не о чем было говорить им с людьми — все было сказано. Уже придумали люди бога из своих. Уже и убили его.
А у нас все еще ничего не было…
Садись на коня, поезжай от устья Дона на север. Дорог нет. Тропинок нет, зверье, болота. И Дикое Поле не переедешь — полно лихого народу, каких-то проезжих и кочевых всадников, которые съедят и твоего коня и тебя.
Нет России, нет русских. Степь. Лес. Волки. Медведи. Кабаны. Кочевники.
Впрочем, если тихо отыскать полянку на окраине леса, присмотреться повнимательней, то и здесь можно обнаружить какую-то жизнь. Только подойти надо очень тихо, спрятаться за толстый ствол и не хрустнуть веткой — распугаешь всех людей. Они здесь прячутся не от хорошей жизни.
Появились-таки люди в нашем краю! Слава Богу! Хоть и не учены, на лирах играть не горазды, а нам — милы! Это же славяне, деды наши (не умеют они еще до столька и досчитать, в каком колене). Что же и откуда занесло их в эти леса? Чего ж они не разъезжают гордо в богатырских кольчугах по просторам своей необъятной Родины? Чего ж не оглашают посвистом молодецким поля и реки? А нету у них в достатке железа на кольчуги и копья. А помалкивают они, чтобы не навлечь на себя злых, наглых, сильных, которые на конях, в кольчугах, с посвистом.
А пришли сюда славяне невесть откуда.
Почему вообще народы двигаются с места? Или на старом месте совсем плохо, голодно, опасно, дико. Или поверят какому-нибудь рассказчику, что вон за теми горами есть страна Ковыляндия, и там работать, мужики, не надо — все само растет прямо в ковы лях, а злой человек туда не доковыливает — не знает пока дорог. И можете вы там жить — не тужить и строить помаленьку хоть коммуну, хоть светлое царство, а хоть — и Империю. Вот и переходят-перебродят мужики на новое место. Но и тут все то же. Еды мало, работы много, гостей — поесть, попить и с собой увезти — хоть каждый день. Но ковыля, и правда, полно. И еще хорошо, что лес рядом, можно перепрятаться от гостей.
Пока другие славяне поместились в самом центре Европы, воевали там, учились и строили города, наши охотились, собирали мед, варить и сытить его научились, торговали воском и мехами, выезжая ненадолго к городским соседям. И вовремя прятались обратно на опушку, перебегали, пригнувшись, опасные ковыли.
У такого народа волей-неволей воспитываются оригинальные черты национального характера.
1. Чувство простора: вон, сколько леса и ковыльной степи.
2. Чувство смирения: вы к нам в гости — пограбить, а мы к вам — нет, мы — дальше в лес.
3. Чувство осознанной нелюбознательности: что нам в ваших городах да науках? — мы в белку и своим умом попадем.
4. Любовь к созерцательности и пассивному рассуждению: когда почти нечего терять, а лезть в драку неохота, то суждения рождаются незамутненные, абстрактно честные и точные, но и почти бесполезные. Язык формируется сложный, красивый, многозначительный и неторопливый.
5. Любовь к труду: грабить не умеем, кто же нас прокормит, кроме нас самих? Хорошее это чувство — живи себе, работай. От трудолюбия происходит и миролюбие. Да разве ж дадут пожить?
6. И вот еще одно, досадное, Чувство зародилось у нас и окрепло. Это проклятое Шестое Чувство так и поведет нас сквозь века. Чувство Зависти. Великой и бессильной зависти к соседям. Великой, потому что очень велика была разница в жизненных удобствах между ненавистным уже тогда городом Парижем и нашей коммунальной полянкой. А бессильной потому, что как-то не хотелось и боязно было, добираясь до Парижа, выходить в лаптях во чисто поле и молодецким посвистом да медвежьей рогатиной побивать жуткую скифскую конницу да генуэзскую панцирную пехоту.
Чувство наше разрослось, источило нас, вошло в наши законы и правила хорошего тона.
Чувство чувством, но жить как-то надо было. И заметили мы, что у всех благополучных народов особой статью и умом отличаются их начальники — статно сидят на белых конях, рубят, не задумываясь, головы ближним и дальним. Следовало и нам таких начальников назначить. Следовало, но никак не назначалось. Чувство не давало. Это что ж, соседа неумытого — в князи? Не-ет! Тяжко даже вообразить.
И надумали мы такое, чего никто нормальный даже в те глупые годы придумать не мог. Мы стали звать начальников с улицы. Приходи хоть первый встречный и правь!..
Другие народы строго следили за достижениями своих соотечественников. Четко устанавливали для них правила движения по служебной лестнице: из базарных крикунов — в трибуны, из кухонных склочников — в судьи, из анекдотчиков — в сенаторы и квесторы. А там уж, если от человека выгода видна была, то и в диктаторы, в сатрапы, в консулы, в короли, в императоры. Сделал карьеру на пользу народа — руби теперь нам головы, батька, секи нас, только не оставляй.
Такой пример служебного движения захватывал юные умы и чувства. И развивались эти умы, — уверяет Историк, — и совершенствовались чувства. Всем становилось хорошо.
А мы показали нашим юным, что все равно править он не будет. А пороть его будет чужой и непонятный дядька. И прав у нас всегда будет чужой, заграничный, умный каким-то не нашим умом. Какое нравственное ускорение мы могли получить, вот так начиная свои скромные лесные карьера?
Итак, с начальством прояснилось — давай сюда, кто хочет. А кто же захочет — в глушь, в лес, в грязь, в отрыв от александрийских библиотек и римских бань, от помпейских лупанариев, где все проститутки — с высшим образованием и чешут гекзаметром на пяти языках? На первый взгляд — никто.
И никто бы и не пошел в начальники. Но было одно дело, которое всех к нам привлекало, да поднять его в одиночку никто не мог. Дело это называлось — Большая Дорога. Через наши земли проходили три Большие Дороги — Днепр, Дон и Волга. Две последние — это на будущее, а первая всем уже тогда очень нужна была. Не в том смысле, чтобы по ней удобно было ездить из скандинавских стран в безмерно цивилизованное Средиземноморье, а затем, чтобы за проезжающими внимательно наблюдать. Брать с них налоги, пошлины (раз уж они решились и по этой Дороге пошли). Сильно эта Дорога была выгодна в хозяйстве, а никто ее по-настоящему не контролировал. Мелкие банды набегали, выслеживали и начисто грабили купцов. У спасшихся пропадала охота ездить с товарами и за товаром. Умные бандиты понимали, что брать надо не все, а только часть, чтобы охота оставалась и на следующий заезд. Для постоянного высокодоходного надзора за этой золотой жилой здесь надо было жить. Да еще нужно было бы заручиться содействием здешних славян, чтобы работать спокойно, без оглядки на ковыли.
Гости, которые объедали славян (с севера это были «варяги»: скандинавы, прибалты, с востока — хазары), присматривались к Днепру, но без плотной оккупации его берегов наладить дохода не могли.
Славяне, выгнав как-то варяжских гостей за порог, решили-таки укрепиться — выбрать начальника. И вот здесь проснулось Чувство и не позволило им свободно, равно и тайно проголосовать за своих. В отчаянном помрачении и досаде кинулись славяне за отъехавшими гостями, извинились и позвали их назад. Не в гости. Насовсем.
— Ладно-ладно, — быстро согласились варяги, — только наша столица будет не в лесу, а в узловой стратегической точке — на Ладоге, в самом тугом узле Большой Дороги (здесь неподалеку приходилось корабли посуху перетаскивать из Днепра в северные реки и обратно; здесь удобнее всего было уговаривать купцов).
РЮРИК, АСКОЛЬД И ДИР
Было это в 862 году. Тогда, ровно за тысячу лет до отмены крепостного права, славяне попали в первое свое, добровольное, рабство. Теперь за них думали на чужом языке. Теперь ими владели. И никто у них не спрашивал, нравится им это владение или нет. Владетелей звали Рюрик, Синеус и Трувор. Эти три брата бандитствовали в Прибалтике, но удержаться против тамошних не смогли. Новое владение казалось перспективным. Поэтому и братьев через два года осталось меньше — один Рюрик. Синеус и Трувор вроде бы сами умерли от неизвестной славянской болезни. Но мы-то знаем, что это за болезнь. Это наше родное Чувство! Делить на единицу Рюрику стало не в пример сподручнее, чем на три…
Что же у нас получилось с варягами?
Они пришли к нам с небольшой дружиной, оккупировали нас поначалу мягко.
Не стали навязывать нам свой язык. Не стали проводить классовых и национальных чисток. Дань брали ту же — гостевую. Да и боги у нас с ними были похожие. На каждый случай — свои.
И править они стали приятно и жестко. Попытался Вадим бунтовать в Новгороде, построенном для контроля истоков Днепра, убили его, честно вырубили пол-Новгорода, перенесли туда столицу.
Русские (а именно племя Рюрика называлось русью) принялись за освоение Большой Дороги. Простого контроля Днепра в одной точке было недостаточно. Стало известно, что на юге есть еще одно место, удобное для мягкого грабежа. Там Днепр растекается по каменистым порогам. Крупная лодка не проходит, ломает дно. Вытаскивают купцы лодки на тот берег, где засады не видать, и перетаскивают на чистую воду. Хорошо бы в том месте сесть на обоих берегах.
В 866 году (через четыре года после назначения Рюрика, — как стремительно понеслись события на Руси!) двое его подручных, Аскольд и Дир, собрали шайку из родни и отпросились вниз по Днепру — в «греки». Знал ли Рюрик о Порогах или это была разведка, но Аскольд и Дир нашли в низовьях великой реки полузаброшенное поселение, контролируемое хазарами. Городок стоял удобно и назывался в честь одного из покойных основателей — Киев. Был Киев воровским притоном. Здесь околачивались искатели приключений, отсюда во все края расходились шайки. Сюда тащили награбленное добро.
— Всегда на краю Руси находилось такое лихое место, — вздыхал Писец, — то Киев, то Тмутаракань, то Берлад…
Аскольд и Дир шуганули хазар. Быстро договорились с местными. Недовольных вырезали. Быстро наладили дело. Сюда к ним уже и люди побежали. На волю. От Рюрика, от хазар, от славянских лесных костров. Куда столько народу девать? Как куда? — куда всегда — в землю обетованную, на Царьград! В 200 лодках поплыли к Царьграду (Он же Константинополь, потом Стамбул). Там по непогоде их благополучно перебили. Аскольд и Дир благополучно же-вернулись в Киев, решив проблему перенаселения.
— А случилось это, — запел нам под баян Писец, — чудесным появлением у стен Царьграда Богородицы!
— Да, да! — подтвердил Историк.
— А вы ее сами видели, или как?! — строго спросил я, и они стушевались…
И стали Аскольд да Дир в Киеве жить-поживать, про Рюрика не вспоминать. Но так не договаривались. Звали на Русь — на всю Русь! — семейство Рюрика. Никаких Аскольдов и Диров не предусматривалось.
От досады ли, от болезни славянской или еще почему, но скончался наш первый батька Рюрик в 869 году от рождества Христова. Ни про какого Христа не знаючи. Остался у Рюрика один, маленький совсем сын — Игорь.
ВЕЩИЙ ОЛЕГ
Править стал Олег, боковой родственник Рюрика. Это был тот самый, пушкинский Вещий Олег. Он был крупный полководец. С мелкой дружиной сразу двинул на юг. Все племена, жившие без начальства, присоединил к себе. По пути настроил городов. И даже один из них областного значения — Смоленск. Везде посадил своих воевод с малыми оккупационными гарнизонами. Олег создал Киевскую Русь — огнем и мечом присоединил те славянские племена, которые пока еще себе начальников не желали…
— Ну, почему же — огнем и мечом? — заупрямился Историк.
— А вы у Писца спросите, записал бы он, что народ радостно выползал из ковылей и славил батьку народными песнями, девок ему предлагал, хлеб-соль? Записал бы?
— Первым делом бы записал! — гордо признался Писец, и Историк отстал…
Добрался Олег и до Киева. Лодки с основной дружиной спрятал в засаде. Спецназ на нескольких лодках прикрыл брезентом, подогнал к пристани. Послали за Аскольдом и Диром: вот, мол, приплыли ваши земляки, гостинцы, приветы привезли с милого севера в сторону южную. Два лопуха, забыв за собой измену, наперегонки и без охраны потрусили к реке за гостинцами. Стянули брезент. И вот уже «родня» их окружила. Стали разбираться. Олег напирал на родовое право.
— Вы, ребята, — говорил он, — не княжеского роду, с вами договора на владение Русью не было. Я — другое дело. Да вот у нас и Игорек, Рюриков сын, он тоже имеет право Русь иметь. А вам, ребята, изо всей Руси остается только, сами знаете, сколько на сколько и сколько в глубину. Чем отнекивались Аскольд и Дир, неизвестно.
— Ты чего не записал? — спросили мы у Писца.
— А чего тут записывать? — обычный базар, — резонно ответил он, — слова говорились грубые, все мать, да мать, — только и удалось записать, что присвоил Олег Киеву почетное звание «Мать городов русских»…
Короче, порубали Аскольда и Дира прямо здесь, на глазах у Игорька. Урок этот, как нам потом расскажет Писец, пошел младенцу впрок. А похоронили Аскольда и Дира на бугре, и могила их известна киевлянам по сей день, но называется почему-то только Аскольдовой. Будете в Киеве, заходите.
Почти 40 лет провозился Олег со славянами, все их присоединяя да миря. Организовал правильное финансирование своей варяжской дружины, установил четкий контроль Дороги, завел неусыпный догляд в сторону ковы лей. В 907 году решил подумать и о душе — двинуть на Царьград. Вызвал Писца, объяснил ему историческую важность задачи, игнорировал его христианские мольбы не трогать оплот православия, строго указал, что он и своих-то, языческих волхвов про смерть от коня не слушает. Ушел Писец в поход собираться — перья острить и чернила квасить, к иронической фразе «Как прежде сбирается Вещий Олег…» рифму подбирать. От отеческого напутствия и угрозы цензурой Писец стал писать о походе Олега величественно и условно.
У Аскольда и Дира было 200 лодок? — пишем: у Олега — 2 000. Сажаем в них… ну, скажем, по 40 человек (тогда и белок и девок любили считать «сороками»). Итого получается 80 тысяч! Увидев такой флот, греки испугались, заперлись в Царьграде, вход в бухту, проникающую в город, перегородили толстой цепью.
— Золотой! — потупившись, вставил Писец.
Стали варяги да славяне по обыкновению все деревушки вокруг Константинополя грабить и жечь. Потом Олег придумал красивую шутку: поставил лодки на колеса и под парусами двинул на Царьград!..
Представим себе технику этого дела. Возможно, Олег заранее все подготовил — оси, колеса, крепления, рули для колес. Но это маловероятно. Он заранее не знал ни местности, ни погоды. А была бы грязь? — тут бы он на своих парусных телегах и приплыл. Скорее, придумал Олег эту танковую операцию на месте. Колеса и оси поснимали с телег в ограбленных пригородах, прикинули ветер — с ветром повезло. Рулей не было, толкали лодки, подправляли вручную, тормозили лаптем. Картина получилась величественная. Греки сразу капитулировали. Выслали князю хлеб-соль, вино. Отравленные, конечно. Опытный Олег вино вылил в бухту, хлеб-соль выбросил на дорогу.
— Так, — прижал я Писца, — где в этот раз была ваша Богоматерь? Не могла ветра наслать в бейдевинд? Даже отравить дикаря по-человечески не захотела!
— Милосердна еси… — залепетал Писец. Заврался, в общем.
Как бы то ни было, прибили для страха Олеговы дружинники свои старые щиты на ворота Царьграда, новых, золоченых набрали у местных оружейников и ювелиров. Обложили Византию налогами, данями, придирками всякими: нам тут и ездить, и есть, и пить, а паруса нам на обратную дорожку шейте шелковые! Еле выпроводили Олега восвояси. По рассказу нашего Писца, все лодки сидели по ватерлинию от золотишка и трофейной мануфактуры.
— Поэтому, — подсказал я, — славянское войско обратно всю дорогу ковыляло пешком. Возразить против логики наш Нестор не решился, хотя сам при князе, конечно, плыл под шелковым парусом…
Олегу удавалось контролировать Царьград 5 лет. За это время в переписке с хитрыми греками он добился заключения международной хартии из 12 пунктов, — почти все в свою пользу. Греки кряхтели, но не упустили случая подползти к Олегу змеей: дескать, давай, князь, мы тебе еще и церковные дары посылать будем. И со служителями, чтобы объясняли, как этими дарами пользоваться…
— Дары? Дары давайте, — вяло согласился престарелый Олег.
— А ты куда смотрел, ты же ученый?! — полез я на Писца. — Почему князя от греков не предостерег?
— Не расстраивайтесь, тезка, — вмешался Историк, — он хоть и грамотный, но сам грек! — Пришлось мне рассерженно замолчать.
Осенью 912 года, в грустную поэтическую погоду пошел Олег проведать своего покойного коня, кости которого валялись в поле. Ну, и дальше все вышло по Пушкину…
43 года прокняжил Олег, протомил Игоря Рюриковича…
Здесь Историк стал покашливать, елозить в кресле и как-то подозрительно поглядывать на Писца.
— Понимаете, — начал он, — тут в летописи содержится неувязка, которую отечественная история никак развязать не может. Записано, что Олег стал править сразу после Рюрика, то есть с 869 года, и правил 33(?!) года, Игоря женил на Ольге в 903 году. Убийство Аскольда и Дира Игорь наблюдал с рук — еще ходить не умел. Получается, что либо Олег правил с 879, а не с 869 года, либо правил 43, а не 33 года. Вот и вы пишете — 43! Вы как изволили считать?
— Я изволил считать на калькуляторе CITIZEN-411. От 912 отнял 869. А вы как изволили?
— А я не считал, я у него прочел, — кивнул Историк на притихшего под иконостасом Писца.
— А, ну с ним мы сейчас разберемся! — страшно обернулся я.
— Молви, брат Гусиное Перо, какой матери промыслом на этот раз ты нам исказил факты по делу?
— Не матери, не матери, — стал отпираться и заискивать Писец.
— Когда скончался от змия поганого батюшка Олег, был великий стон в Земле русской, на небесах ходили сполохи…
— Ты покороче давай, не задерживай следствие, писатель…
— Ну, в общем, по Олегу все цифры правильные. А как стали мы в 903 году матушку нашу святую честную деву Ольгу за Игоря сватать, то засумлевалась она, не стар ли Игорь. А было ему 36 годков. И тогда переписали мы еще раз сватью грамоту во Псков. «Пиши:… а молодцу-то нашему — 26-я весна!» — велел мне князь великий, светлый, сияющий аки диамант небесный и….
— Понятно, — успокоились мы с Историком, — втерли очки девке!
ИГОРЬ
Игорь воспитывался Олегом неправильно. Жестокостям всяким его обучили, а доблести и чести преподать не собрались. Во время похода на Царьград Олег Игоря оставил на хозяйстве с молодой женой Ольгой (четыре года как женаты).
— Оля эта, — раньше времени стал нашептывать Писец, — была не подарок!..
Но вот досталась Игорю Русь.
— Давайте объяснимся наперед, — предложил Историк, — Игорь мог бы ничего и не получить, если бы от Олега, Рюрика и даже Синеуса или Трувора остался хоть кто-нибудь старше Игоря.
Тогда, поначалу, Русь наследовал старший в роду, а не старший сын правящего князя. Поэтому и Олег заступил на княжество. Этот старый закон наследования происходил, видимо, оттого что бродячая жизнь варяжских шаек не очень-то располагала к законному размножению. Кто был чей сын, вспоминалось с трудом. Зато и правили всем родом. Каждому Рюриковичу старались хоть на время, хоть захудалый какой городок, а дать. С последующим возвратом в общий котел для новой дележки…
Засел Игорь в Киеве на 33 года. Правил дурно, с Писцом не ладил, значения ему не придавал, хоть и был за невесту должен. Поэтому и записали про Игоря в летописях только пять раз за треть века, да и то с незаметной тогда издевкой. Славяне стали от Игоря ховаться в ковыли, от налогов отлынивать. С подвигами тоже как-то не заладилось. Двинул было Игорь по проторенному пути на Царьград, да греки перехватили его малую шайку по доносу болгарских побратимов и попалили лодки прямо в море греческим же огнем — ракетами «корабль-корабль». Под конец бесславной карьеры Игорь набрал смешанное огромное войско из печенегов, славян, варягов, дополнительно приглашенных на грабеж, и «покрыл все море кораблями». Греки сосчитали все это и выслали Игорю встречное предложение: дань по-старому, Олеговы договора — в силе, миру — мир, дружба навек. Жадный, трусливый, неприятный Писцу, Игорь суетливо, не по-рыцарски согласился. Деньги взял тайно от дружины. Наемников отпустил грабить Болгарию, позволил им поживиться хоть за счет неверных другарей.
Пока он так бесславно гулял, наши в ковы лях совсем разболтались, уже и забыли, как дань платить. Пришлось Игорю с дружиной лично заниматься грязным делом. Пошел он к древлянам сразу после войны, в 946 году. Собрал дань. И тут дружинники, не солоно похлебавшие черноморской водички, напомнили князю, что с дружиной принято делиться чуть ли не поровну! Ох, как не хотелось Игорю делиться, а пришлось — лес кругом! Тут Чувство вскипело. Пошел Игорь назад к древлянам нашим почти в одиночку, с несколькими совсем уж приближенными по новой дань собирать. Наши древляне были люди, конечно, забитые. Но все-таки до нас им было еще 1 000 лет унижаться, и они Игоря убили. Не со зла, а по справедливости.
— Здесь, братие, темна записана весть, — молвил Писец…
— Ну что опять такое? — насторожились мы с Историком.
— Уж вы сочли, что Игорь явился на свет Божий лета…э…867-го, — с трудом перевел наш архивариус привычное исчисление от сотворения мира на дату от Рождества.
— Считайте, сударь, — косясь на калькулятор, понял Историк.
— 946–867 = 79!
— Верно, верно! Стар был батюшка. На коня всходил по отрокам — по спинам, плечам, головам. Потому и доли требовать посмели. Потому и почил от малой древлянской грубости.
— Потому и Ольга при таком муже бешеная была, — заключил я.
СВЯТАЯ ОЛЬГА
Осталась Ольга вдовой что-то около 58 лет от роду. По идее, ей никакой власти не светило. Но был у нее от Игоря сын Святослав, а других никаких Рюриковичей от походов да пиров не сохранилось. По закону, Святослав должен был подрасти и вырезать побольше древлян. Закон кровной мести успешно действовал тогда не только среди справедливых горских народов. Но у Ольги и своего Чувства было предостаточно: подсунули ненового мужика, скотину, жадину, сквалыгу и труса, и теперь — вдоветь? Ольга решила действовать сама, то есть мстить. А тут и древляне напросились. Они посовещались и приняли наглое решение. Предложили Ольге в мужья своего лесного князя Мала, чтобы Святослава потом от власти оттереть. Приодели 20 своих видных ответственных товарищей и в лодке послали в Киев. Те приплыли и послали сказать о себе Ольге. Не икалось же им у Аскольдовой пристани!
Ольга сообразила мгновенно: а оставайтесь-ка, братья-славяне, в своем корабле, а завтра с утра мои дружинники вас с честью внесут прямо на мой двор. Круто! Почетно! Олег на Царьград катился в лодках под горку и по ветру, а мы пойдем по рукам и на гору! Будет о чем рассказать в ковылях! Утром пришли красивые, приодетые, безоружные ребята. У всех хлебосольные улыбки, чистые руки, холодные головы, маузеров не видать. Взяли лодку с 20 пассажирами (значит, было носильщиков человек 50–60!), понесли потихоньку, с перекурами и осмотром киевских достопримечательностей.
— Ну, Аскольдову могилу, гости дорогие, вы уже видели… Это главная наша улица — Боричев Взвоз (ныне Алексеевский спуск — С.К.). С этой вот площадки открывается прекрасный вид на Подол…
Принесли гостей на княжий двор. А тут все в цветах, столы с заморской посудой, еда — названий не знаем! Коврами невиданными устлана вся земля! Бережно опустили лодку с послами на ковры! И тут, — ах! Все посольство вместе с лодкой проваливается в прорву! Оказывается, коварная и злопамятная Ольга, пока гостям морочили головы музейными редкостями, велела вырыть во дворе волчью яму и прикрыть ее коврами. Могла она их, конечно, и просто порешить на пристани, но ей, уже вкусившей византийской тонкости, хотелось красиво поиздеваться. При этом она не забывала внимательно следить, чтобы наш ненадежный друг Писец все записывал правильно и красочно. И он, испуганный кровожадностью своей хозяйки, строчил — не успевали гусей ощипывать! Он помнил свой грех! — а ну, как Ольга узнает, что он так и не сумел, в конце концов, скрыть из ее возраста десятку?!..
Тем временем, казнь византийская продолжалась. «Довольны ли вы честью, сваты дорогие?» — ласково аукнула Ольга в яму. «Ох, хуже нам Игоревой смерти!» — честно отвечали те, кто еще мог говорить. Ольга удовлетворилась ответом и милосердно велела засыпать сватов живьем.
Ольге развлечение понравилось. Вот затейница! Было в ней много новых оттенков Чувства, которые она по-матерински прививала славянам. Послала она послов к древлянам: ну все, мужики, квиты! Шлите теперь настоящих сватов. Но только самых высших ваших начальников! Древляне насторожились было, но выпили медку и поверили. А и как тут было не поверить будущей святой? Послали сватами весь цвет древлянской знати. Хоть и славянских, но как бы князей. Истопила им Ольга баньку по-белому. Сваты не обиделись на намек, а приняли даже за честь. С тех пор на Руси попариться в гостях в бане считается уместно и шикарно!..
Вы уже догадались? Правильно! Банька загорелась от неосторожного обращения диких древлян со сложным банным оборудованием! А кто двери подпер кольями да валунами — чистыми руками и с холодной головой — про тех наш Писец дрожащий записать побоялся. Все свалили потом на святую нашу бабу Олю.
Но Бог, которому так крепко еще послужит Ольга, уже тогда любил троицу. Поэтому, пока пожарные тушили баню и прятали в карманы оплавленные древлянские побрякушки, Ольга уже диктовала нашему пернатому брату: согласна брак тчк еду свадьбу зпт а в том месте, где мужа моего старенького порешили, соберите меды и закуску — буду перед свадьбой тризну (языческие поминки) справлять, чтобы с этим делом покончить.
Обрадовались наши предки (вот наивная славянская душа!), — навезли еды и питья, суетятся, в дудки играют. Посетила Ольга могилу мужа, велела насыпать курган, — сразу и насыпали, торопливо рыли землю руками, носили в шапках и подолах. Стали есть, пить, постепенно переходя к теме свадьбы.
— Что мы все о грустном? — намекали местные, вот же мы к вам уж и вторых сватов засылали, а кстати, где они, князья наши?
— А следом едут с командой гостей со стороны невесты и неподъемным приданым, — честно отвечала Ольга. Приданое! Это было по-нашему! Ура! — закричали древляне, а некоторые, самые пьяные, даже замычали «горько!» и полезли к княгине целоваться.
— Так выпьем же за древлян — драгоценное звено в цепи российских народов! — казенно, но и с намеком, непонятным во хмелю, провозгласила Ольга. Отходя в сторонку, она улыбнулась своим отрокам: «И вы пейте!» То ли это был условный сигнал, то ли варяги спутали «пейте» и «бейте», но вырубили они всю родню жениха, всю его пьяную свадьбу.
Вернулась Ольга в Киев и, собравши войско, честно объявила древлянам войну. Так на Русь впервые вползла змея геноцида. Весь народ древлянский у кровавой Ольги виноват был в падении с коня ее старого маразматика Игоря. Целое племя славянское, с женщинами, стариками и детьми, должно было умереть по бабьей злобности. И не месть это уже была. Как споет нам дальше наш Писец, только со смертью Игоря и открылись Ольге шикарные заграничные возможности. Это просто здорово, что Игорь был таким старым, а то пришлось бы Ольге всю жизнь в тереме куковать — по заграницам не шастать. Так что, пила Ольга славянскую кровушку просто из гастрономического удовольствия.
Поход на древлян был стандартным и официальным. Впереди законный князь Святослав на смирном коне. Выехали в поле, кинул Святослав игрушечное копье в сторону древлянских позиций, поцарапал коню ухо, упало копье в ноги Савраске, ободрало копыто.
— Детеск вельми! — объяснил Писец. — Четырех лет.
— Так от кого он у Ольги, если Игорь умер в прошлом году 79 лет, а он у тебя все еще «детеск»?
Смолчал Писец, но по глазам было видно, что знает…
Тут воевода Свенельд закричал: «Потянем, дружина! Князь уж начал!» Потянули. Но по-честному у них получалось хуже, чем по-умному. Осадили древлянскую столицу Коростень. Застряли на все лето. Тогда Ольга написала осажденным, что мне вас, братья-славяне, жалко; кушать у вас поди уж нечего. Так отворитеся-отопритеся. Бить не буду. А возьму малую дань. Не белкой, не куницей, а по три воробья да по три голубя с хаты.
— Всего и делов! — обрадовались недобитые. Переловили птицу, вынесли Ольге: вот тебе, матушка, все, что у нас осталось, бери!
Взяла Ольга птичек, привязала к их лапкам мешочки с импортным греческим огнем и отпустила несчастных пернатых по домам. Дома эти, как мы понимаем, сразу и загорелись. Люди кинулись из проклятого города. Отроки Ольгины проявили отвагу на пожаре — порубали погорельцев. На уцелевших наложила милосердная Ольга тройную дань — два раза на благоустройство города Киева, один раз — себе в карман. Так погиб город Коростень. Но потом возродился из пепла и сейчас радует гостей на середине популярного маршрута Киев — Чернобыль. Приезжайте, не пожалеете!
Историк очень хвалит Ольгу, называет ее мудрейшей из людей, «нарядницей», заботящейся о строе земском. И правда, все земли славянские Ольга объехала, там установила дань, там — оброк, там — урок: что к ее следующему наезду приготовить. Ольга первой стала рассаживать по городкам не только воевод и сборщиков налогов, но и многочисленное гражданское чиновничество — тиунов (приказчиков), обслугу своих охотничьих домиков, поваров и егерей, охрану заказников, банщиков, постельничих и прочая и прочая…. Так что святая наша Ольга еще и тем свята Российской Империи, что основала неистребимый корпус земских чиновников — хранителей земли русской от русского народа.
Но Ольга все же женщина была! Сначала Олег привозил юной невестке «паволоки» — тряпки заграничные, потом Игорь одевал ее от византийских портных. Не терпелось ей и самой на чудесные царские города полюбоваться, по тамошним магазинам походить, да и себя показать. В 955 году, по уверениям Писца, но в 957 по данным Историка, поехала Ольга в Константинополь. Там правили сразу два императора! Константин Багрянородный и Роман. Ольга оказалась вдруг в положении бедной родственницы. Для императорского двора было все едино: княгиня ты земли русской или скифская сыроедка.
— Нехристь поганая! — только что вслух не говорили богатые греческие провинциалки, среди которых посадили Ольгу в дальнем конце стола. Императрица, жена Романа, на нее даже не глянула, зато холостой Константин глаз положил! Особенно его привлекали рассказы о проделках Ольги с древлянами. Как раз такая хозяйка ему и нужна была. Стал Константин Ольгу сватать через патриарха Полиевкта. Параллельно хотели Ольгу крестить. Полиевкт врал Ольге, что все византийское богатство происходит исключительно от христианского смирения и покровительства все той же Богоматери!
— А парадное платье императрицы? — наивно спрашивала Ольга.
— Тоже от нее! — настаивал хитрый грек. Согласилась Ольга креститься и подала вид, что согласна замуж. Хотелось ей жениховы дары разведать. Стали ее дарить. Стал наш борзой быстро-быстро все подарки записывать. Но опись скудна оказалась: один раз сорок, да другой раз — полсорока червонцев. Затаила Ольга обиду. А мы затаили дыхание в предвкушении очередного представления: мы же знаем, что в рот нашей праматери палец не клади! И вот занавес открывается. Выходит Константин Багрянородный. Выходит Роман. Партер забит попами, галерка — разодетыми, ненавистными греческими бабами.
— Согласна ли ты, Ольга, стать моей женой и императрицей всего мира? А для того принять православное крещение? — лживо спрашивает Константин (во-первых, не всего мира, а только четвертушки, а во-вторых, еще с Романовой женой делиться!).
— Креститься я согласна! — порывисто отвечает Ольга, о свадьбе пока умалчивает, как бы из скромности. — Прошу тебя, великий император, стать моим восприемником (крестным отцом).
— Да ради бога! — кидается Константин и с ходу принимает обряд крещения. — Теперь давай быстрей жениться! — теснит он Ольгу к алтарю.
Но, Матерь Божья! Что с невестой? Ольга стоит, зловеще улыбаясь, держит драматическую паузу, а потом дерзко бросает в зал прокурорским тоном, что облом тебе, ваше величество! По твоим же христианским законам, — параграф такой-то, пункт — сам знаешь какой, — жениться восприемник на новообращенной не может! Сам посуди — «отец» на «дочери»!
Аплодисменты! Занавес!
Оторопел Константин! Ну, баба! Было б ей не 69 лет, по счету нашего Писца (а где он, кстати, спрятался?), так нашел бы способ… А так — отпустил…
Вернулась Ольга на Русь христианкой! Решила она, раз личная жизнь не удалась, так хоть получить сполна все духовные блага, которые обещало христианство: спасение души, царствие небесное, почетные церковные звания. Стала она сына Святослава в новую религию уговаривать. Но тому недосуг было: он успешно воевал в Болгарии, почти жил там. Тогда упорная бабка стала вдалбливать свои уроки в головы малолетних внуков, которых какие-то женщины, называвшиеся женами Святослава, без конца Ольге подбрасывали. Что из этих уроков получилось, мы потом увидим. Так или иначе, заслуги Ольги перед российской церковью оказались велики, и эта истребительница собственного народа, коварная клятвопреступница, дама, не отмеченная ни единой христианской добродетелью — ни смирением, ни человеколюбием, — удостоилась высшей церковной награды: была причислена к лику святых.
Пример первой русской святой показывает нам, как четко церковь отделяет христианскую мораль от политического результата. И вознаграждает в первую очередь за результат. Подтверждений тому — легион. Александр Невский и Владимир Красно Солнышко в том порукой.
Скончалась Ольга от старости году примерно в 970, и было ей, получается, за 80 лет.
Чего ж мы, славяне, ждали от варягов, призывая их в князья? Мы надеялись, что эти мудрые вожди надежно защитят нас от соседей, научат нас правильно хозяйствовать, разовьют у нас ремесла, науки и искусство. Насадят поголовную грамотность.
Что мы получили? Нас не защитили от войны и грабежа. Нас самих погнали убивать, прорубать дорогу на Царьград и в Прибалтику. Эти антихристовы, а потом и крестовые походы продолжались ровно 1000 лет! Нас стали травить друг другом. Гражданская война между славянскими племенами стала повседневностью. Мы привыкли и стали равнодушны к братской крови. Никаким новым технологиям нас не обучили, учились мы сами. Нам редко-редко не мешали. И грамотность нам прививать не спешили. Брали чужих грамотных и платили им, и ставили их над нами. А учиться нам дозволяли только по их книгам: «Аз есмь червь!». Так что ничего хорошего из нашей первой попытки обустроить Россию не получилось.
СВЯТОСЛАВ
Святослав матери не слушал: в христианство не вступал. Да и дружина варяжская его бы не поняла. Так он и княжил, бросив Киев на произвол судьбы, едва печенеги раз за разом Киева не разоряли. Святослав был одержим военной службой. Слава троюродного деда Олега спать ему спокойно не давала, и он все время порывался на Царьград! Тем более, что все земли до Греции он уже завоевал.
Пошел Святослав на Константинополь проверить мамины рассказы. Император привычно испугался. Поставили греки эксперимент: а пошлем-ка мы ему денег и вещей и посмотрим, как он их примет. Послали. Не глядя на тряпки, велел Святослав все это принять и свалить на склад. Достали именное оружие. Стал Святослав каждую саблю рассматривать, каждое копье гладить.
— Дело дрянь! — поняли греки. Послали дипломатов уладить дело миром на любых условиях. Временно уладили, а сами, по обычной христианской верности договорам, собрали огромную армию и стали Святослава с его малочисленной гвардией по Болгарии гонять. Болгары тоже мстили Святославу за привычку к геноциду, впитанную с молоком матери. Они и предупредили печенегов, что Святослав возвращается в Киев с «несметными богатствами», — приврали, конечно.
Святослав, забыв преданья старины глубокой, пошел вверх по Днепру через пороги! Застрял. Печенеги его окружили, осадили в ближайшем городке. Долго сидел там Святослав, всю зиму 972 года. Ели лошадиные головы — вспоминали Вещего Олега. Стыдно было Святославу у Киева помощи просить: от Руси он отрекся, предал ее. В Киеве давно правили его сыновья. Не дождавшись помощи и спасаясь от голода, вышли дружинники Святослава на последний бой. Все легли с князем и за князя. Но святыми их не называют…
При описании деяний Святослава наш Писец отличился. Впервые он дал развернутый, криминалистически четкий портрет своего подопечного. И правильно сделал! Фотоаппаратов тогда на Руси не было, живописного искусства за классовыми боями еще не постигли. Так и остались мы без портретов Рюрика, Олега, Игоря и Ольги.
— А Святослав был, — пишет наш наблюдательный друг, — среднего роста, плечистый и крепкий; нос имел плоский (ударили, наверное, где-то), глаза голубые, брови густые, усы косматые и длинные, бороду жиденькую. Волосы на голове его были выстрижены, кроме одного клока, разложенного на две стороны, якобы в знак княжеского достоинства. Шея у него была плотная, все остальные члены — стройные. Дальше Писец отмечает, что, даже на его вкус, Святослав имел мрачную и свирепую наружность, в одном ухе носил серьгу с жемчугами и карбункулом. А было Святославу в последнем бою ровно 30 лет.
Князь печенежский Куря велел сделать из черепа Святослава кубок, окованный золотом! Любил потом Куря потягивать из этого кубка византийское крепленое и рассуждать о значении пропорций черепа в княжеской судьбе, о соотношении черепов и судеб — княжеских и лошадиных…
ДЕТИ СВЯТОСЛАВА
У Святослава от разных жен осталось три сына — Ярополк, Олег и Владимир. Впервые в роду Рюрика было сразу три претендента на власть. Сыновья эти были малолетки. Старший, Ярополк, с 11 лет правил в Киеве, пока папа воевал в Болгарии. Средний, Олег, был бабушкой пристроен княжить у незабвенных древлян. Младшего, Владимира, по подлости происхождения отослали с глаз подальше — в Новгород. Естественно, сами эти дети править не могли. Поэтому нуждались в учителях. Бабушка их, конечно, наставляла, но по месту княжения к ним еще добавили «дядек». У Ярополка дядькой был Свенельд — древний старец, служивший еще Игорю и вывозивший 4-летнего Святослава на древлян. Вдобавок отец прислал Ярополку в жены красивую и грамотную пленную греческую монахиню, чтобы она его обучила всяким византийским штукам.
Итак, вроде бы все расселись по местам. Но чтобы пацаны и не подрались? Произошел случай на охоте. Свенельдов сын полез охотиться в древлянских лесах. Встретился с Олегом и его охотничьей сворой.
— Ты чей сын? — с намеком спросил Олег.
— Свенельдов, — неудачно ответил охотник. Ну, так Олег его и зарубил. Не за то, что он сын любимого народного полководца и братнего «дядьки», а как бы за то, что как ты смеешь, холоп, пугать мою дичь!
А я так думаю, что змея древлянской мести Киеву попутала, в чье сердце ей вползать. Или, наоборот, не попутала, а расчетливо внесла раскол в ряды внуков проклятой святой Ольги.
Свенельд стал из мести за сына подначивать Яропол-ка на захват Олегова надела: пойдем, князь, на древлян, как дед и отец твой ходили. Пошли. Разогнали древлян. У города Овруча (он и сейчас еще есть, но пока радиоактивен) на мосту через речку в рядах отступающих возникла давка. Мостик проломился, все попадали в воду, кони — сверху. Труп Олега выловили через два дня. С почестями положили на коврах перед Ярополком.
Меньшой Владимир (а было ему тогда лет 10–12) узнал у себя в Новгороде о таких семейных делах и сбежал на родину предков, в Прибалтику. Ярополк послал в Новгород своего воеводу, и князем стал единоличным над всей русской землей!
ВЛАДИМИР
Всем нам с детства знакома картина Васнецова «Три богатыря». С конфетных и сигаретных коробок, с календарей и прикроватных ковриков смотрят на нас три всадника. Мы выросли с ними. Они стали членами нашей большой семьи. Поэтому мы даже помним их имена. Прадедов родных не помним, а этих — пожалуйста! — Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич. Герои сказок и былин.
А вот и не только былин! Нас конкретно интересует правый крайний в тройке богатырского нападения — Добрыня, он наш сегодняшний герой, он историческая личность, виновник наших взлетов и падений!
Добрыня был ближним, подручным дружинником у Игоря и Святослава. Отправляясь со Святославом в очередной набег, Добрыня пристроил в терем Ольги свою родную младшенькую сестренку Малушу. После очередного короткого отдыха дружины в Киеве Малуша пришла к Ольге и спросила, а можно я вас, государыня, буду мамой называть?… В конце концов, как женщина вы меня понять должны… Ольга все поняла и сослала Малушу с глаз долой в родную деревню, но Владимира, который родился у Малуши будто бы от Святослава, потом взяла ко двору. Тем временем Добрыня был весь изранен в боях и оправлен на покой в Киев. Все места были заняты, и Добрыню назначили наставником, «дядькой», к третьему, незаконному сыну Святослава. Незаконность была не в отсутствии записи о браке Святослава и Малуши, а в социальном происхождении матери: не из варягов, подлой профессии — ключница (завхоз). Итак, Добрыня, как мы разобрались, был настоящим дядькой Владимира, без кавычек. Когда лет в б —8 Владимира назначили князем Новгородским, то поехал он туда, естественно, с Добрыней. Добрыня стал воеводой и фактическим правителем Новгорода…
После победы Ярополка, бегства за границу и трехлетней эмиграции Добрыня и Владимир с крупной бандой варяжских наемников возвратились в страну и стали посягать на монархию Ярополка. Выгнали его посадников из Новгорода. Честно объявили войну. Пошли на юг. Попутно Добрыне хотелось отомстить кой-кому за недавний инцидент…
Дело было так. Хотел Добрыня женить Владимира на Рогнеде, дочери полоцкого князя, назло Ярополку, которому Рогнеду уже обещали вдобавок к гречанке. Поехали сватать Рогнеду (вы знаете это имя — была такая модель проигрывателя грампластинок). Получили от ворот поворот: «За робичича (сына рабы) не иду! Хочу за Ярополка!». Не знала Рогнеда, кого обижала! Если 6 ей тогда сказали, что жених будет править в Киеве, что получит почетное звание Святого Равноапостольного князя, а в народе ласковую кличку Красно Солнышко, она бы не ломалась. А так пришлось им в Полоцке окапываться, стены дополнительными бревнами укреплять. Да разве против Добрыни устоишь?! Мы ж его знаем! Илья Муромец еще только высматривает дым на горизонте, Алеша еще грустно вспоминает о вчерашних поповских делах, а Добрыня уже меч из ножен потянул!..
Взял Добрыня Полоцк. Повязал родителей и братьев Рогнеды. Поставил их к столбам. Положили обладательницу музыкального имени прямо на пол и стал ее Володя…э… «быти с нею пред отцем и матерью», — сконфуженно начертал Писец. Простой эротикой дело не кончилось. Порубал Владимир и папу и братьев молодой жены прямо у нее на глазах. Такая вот любовь! Хоть маму Владимир пожалел. По крайней мере, никакого анекдота о теще Писцом не записано…
Осадил Владимир Ярополка в Киеве. У Владимира были варяги с Добрыней, у Ярополка одни наши славяне-ковыляне с воеводой по имени Блуд. За что можно такое имя получить? Ну, уж не за разгром шведов под Полтавой. Ничего против шведов сделать Ярополк с Блудом не смогли, а славяне и не захотели. Тут и Владимир совратил Блуда.
— Переходи ко мне, — продиктовал Писцу, — убьем моего брата — будешь мне за отца, получишь от меня большую честь.
Чувствуете логику? Убьем брата — будешь за отца. То есть как бы — убей сына! Блуд, конечно, согласился — святое дело! Но просто перебегать было глупо. Стал Блуд работать резидентом. Стал врать Ярополку, что киевляне тайно пересылаются с Владимиром, хотят его впустить, и надо тебе, сынок, рвать когти.
Поверил Ярополк в предательство киевлян. Как было не поверить, когда вокруг одно предательство? Когда этих славян-киевлян вот уж 50 лет предательству успешно обучают? Поверил и рванул в степь. Затворился в провинциальном городке. Выдержал голодную осаду. Тут Блуд ему нашептал идти на поклон к Владимиру, просить любую волость на любых условиях. Пошел Ярополк на княжий двор — Блуд за ним. В дверях Блуд сделал вид, что зацепился карманом за ручку, придержал телохранителей. В подъезде стояли два «отрока». Они Ярополка с двух сторон и прокололи. Куда потом делся Блуд, неизвестно. В отцы он к князю не попал — куда ж Добрыню девать?! Но имя его сохранилось в веках и делах потомков. И первым отдал дань памяти Блуду святой равноапостольный Владимир. Гречанку ученую он забрал себе. Рогнеда и без Ярополка оказалась с ней в одном комплекте…
— Никогда еще на русской земле не было такого гнусного идолослужения, — горестно вздыхает Писец наш православный. По всей земле понаставили Добрыня с Владимиром идолов (как нам это знакомо!). Тут и Перун деревянный — голова серебряна — ус золотой! Тут и Хорс-Дажбог, и Стрибог, и Симаргл и Мокош какой-то. Скверное, поганое сборище. И будто бы по жребию приводили к ним и приносили в жертву сыновей и дочерей славянских (княжеские-то детки жребия не тянули: отсрочка, справка о болезни).
Тут еще возникло праведное возмущение простого народа на ханжеские ограничения естественных желаний, которые непорочная вдова Ольга хотела насадить вместе с христианством: не допускать многоженства. Виновник языческого торжества — молодой наш князь, к восторгу славян, «предался необузданному женолюбию», — брызгая чернилами, скабрезно хихикал Писец.
— Кроме пяти «законных» жен было у Владимира в Вышгороде 300…э… блудей… — пытался на ходу придумать подходящее слово Писец.
— Наложниц! — пришел ему на помощь деликатный Историк.
— Ага, — обрадовался Писец, — значит 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 — поменьше — в селе Берестове — село ведь; но, однако, большое и село! Всего 800… э… подложниц получается! Двадцать соро-ков! — радостно подбил Писец!
Велик, молод, здоров был князь Владимир! Женолюбив, аки Соломон! Мало ему было этих двадцати соро-ков, так он еще таскал к себе всех подряд замужних женщин и девиц на растление (видимо, благородных особ; с деревенскими дурами из Берестова какое ж растление? — они и слова такого не знают!).
Были у него и нервы в порядке: вряд ли какой современный «муж» выдержал бы круглосуточное мелькание перед глазами пяти «законных» жен. Одна только наша знакомая сиротка Рогнеда чего стоила! Надоели ей Володины танцы-шманцы с голыми наядами вокруг столба с башкой Перуна, лопнуло супружеское терпение! Появлялся он в спальне у своей первой любови редко-редко, так что стала звать она его «Красно Солнышко» (оттуда эта кличка и в народ потом перешла). И страсть как захотелось ей его зарезать во время одного из таких нечастых восходов-заходов. Нетерпение женское подвело Рогнеду! Не дала упырю отпавшему заснуть, как следует, — замахнулась на спящего ножом. Совсем она его убить хотела или только отхватить чего? Ответ на этот вопрос непразден. Убей Рогнеда великого блудодея, так, может, и некому было бы потом Русь крестить, и нам бы еще довелось с язычницами в папоротниках покувыркаться! А так — нет. Не приходится…
Проснулся аспид подколодный! Набил морду супруге верной.
— Теперь одевайся, — говорит, — сейчас я убивать тебя приду.
Побежал за понятыми. Одежду верхнюю и оружие оставил под кроватью… Рогнеда приоделась, накрасилась, подкрутилась. Успела выстроить мизансцену: вот отсюда войдет Владимир, там будут толпиться понятые, сплетники, сволочь дворовая, дружинушка хоробрая.
— А ты, Изя, — объясняет она роль сыну маленькому, Изяславу, — выходи отсель. Вот, возьми батюшкин меч, и так, подбоченясь, грозно молви: «Ты что ж думаешь, ты один здеся?!» Ну, от себя можешь добавить выражения какие-нибудь детские, похуже…
Вот величие театра! Получилось! Вошел Владимир с Писцом (протокол вести), зрителей полуодетых набежало. Рогнеда грустная сидит на кровати — колени сдвинуты. Сквозняк шевелит ее прекрасные скандинавские локоны. Выходит Изя весь в соплях. Волочит меч не за тот конец.
— Рубай, — плачет, — папка мамку, но. помни — ты не один тут такой был!
Галерка заржала. Писец облился чернилами. Бояре из партера стали кричать князю: «Помилуй автора, государь!» Князь досадливо плюнул, велел построить в честь сына город Изяславль и поселить в нем мать его, чтобы здесь в дела религии не лезла и имя святого Блуда всуе не поминала…
ВОСХОД КРАСНОГО СОЛНЦА
Историк и Писец, вослед за Церковью и князьями-царями нашими, наперебой уговаривают нас, что православие нам очень нужно было. Что без него мы гибли ни за грош. Что оно нам пришлось так кстати, так вовремя, так впору! Перечисляют все исторические, экономические и политические причины его неизбежности. А когда прижмешь их к стенке простыми аргументами и фактами, то они заголосят и начнут блажить, что ты ничего не понимаешь, что это — Божий Промысел! И не Владимир с «блудями», так любой другой наш князь-батюшка святую веру на поганую Русь занес бы.
Ну что ж, послушаем их…
«…У нас произошло то же, что и в Империи при Юлиане. Юлиан истощил все силы язычества, извлек из него все, что оно могло дать для умственной и нравственной жизни человека и тем всего резче выказалась его несостоятельность, его бедность перед христианством…»
Это пишет наш Историк, забывая, чем кончила Византия, как теперь называется Константинополь, кто служит и молится в тамошнем Софийском соборе — ныне мечети Ас Софи. Вот вам и объективная необходимость православия, и божественное провидение и заступничество Богоматери! Грустно…
И так уверены в себе учителя наши, так наседают на нас по сей день, будто нравственность народа, его культура, урожайность его полей, правила налогового грабежа, дикость гражданских войн — все это зависит и меняется от перемены божественных изображений. Будто объемный, скульптурный Перун не столь же величествен и бессилен, как и плоские обитатели икон. Будто сами священнослужители ежеминутно подают своему народу пример нестяжательства, кристальной честности, политической мудрости и принципиальности, повседневно нищенствуют вместе с самой обиженной частью паствы, горячо и самоотверженно заступаются за народ перед властями…
Конечно, с людоедством надо было кончать. Смогли бы мы это сделать под Перуном? Может быть, и смогли. Ведь терпели же еще 300 лет после крещения Руси осмотрительные варяги свою отцовскую веру. И благополучно совершенствовали свою нравственность, свою шведскую модель семьи и социализма.
Ох, сдается мне, братья-ковыляне, что будь мы покрепче душой, не поддайся исконному Шестому Чувству, не навесь себе на шею этих кровавых блудодеев, а разберись меж собой как-нибудь потихоньку, то и спокойного, верного бога мы бы сами нашли среди наших. И князь наш Кузя с соседней Неумывайской улицы, умывшись, стал бы нормальным правителем и воеводой, и земля наша прокормила бы нас безо всяких посторонних дегустаторов, и копье бы не сломалось, и меч не погнулся, и Царьграду мы так же наглядно показали бы Кузькину мать и навешали щитов. И 1000 лет всходило бы над нашей родиной, над ковылями и лесами, днепрами и волгами не кровавое Красное Солнце, а обыкновенное — золотое…
Но это лирика. А жизнь шла своим чередом.
Притомился Владимир по девкам бегать. «Истощил силы языческие…»
Окружающие это заметили и стали нашептывать ему всякие научные объяснения потери интереса к играм на свежем воздухе. Они все были люди ученые, а значит, религиозные. Каждый стал Владимира в свою религию перетаскивать.
— Первым подскочил жид, — нетактично определил иудейского проповедника Историк. Он подробно расписывал достоинства своей веры, густо цитировал Ветхий Завет, указывал положительный пример: вот Хазарское-на-Дону ханство-каганство приняло иудаизм, и видите, ничего — живет.
— А сами вы откуда будете? — спросил князь.
Хотел еврей выразиться в том смысле, что они уже всю землю ненасильственно заселили. Но вышло у него заумно: земля наша расточена есть…
— А! Так вы свою землю проворонили и к нашей подбираетесь? Ну, так вы нам — не указ! — Выгнали еврея в шею. Поторопились грубить. Не знали еще, что новый бог у нас тоже будет еврей.
Больше всех врал и плевался греческий монах, родственник нашего Писца. Он грозил адскими муками верующим всех мастей, кроме своей. Сумел красочно нарисовать эти муки, передать в лицах всю подземную хирургию и пиротехнику. Страшно!
— С женами, — сказал он, — придется по легче: одна законная, остальные — по отпущению грехов.
«Так и лоб пробьешь, по каждой каясь…» — мрачно слушал Владимир.
Все сломала речь мусульманского товарища из среднеазиатских государств. Он расписал райский сад — нормально! — адские муки — хорошо, не холодно! И тут дал в штангу: на небе будет у тебя, государь, прекрасных дев столько же, сколько и на земле! (Ох, тяжко мне!).
— Ну, и вина пить нельзя, — продолжал мулла, — свиные отбивные — нельзя (да и для печени вредны!), и сделаем мы тебе, князь, обрезание — маленький чик-чирик.
Не совсем понял князь про обрезание, но испугался его больше райских излишеств. Прогнал муллу под предлогом, что дружина в лютые морозы без водки и сала Киева от немцев не отстоит.
Писец с Историком клянутся, что с этих смотрин Владимир точно решил переходить в христианство, — видно, прочитали это на его озабоченном лике. Но Владимир тянул. Писец и другие греки, которых при дворе вдруг оказалось не протолкаться, все время напоминали батюшке, что надо же, государь, креститься. Креститься было негде и не совсем понятно как. Пошли на южный берег Крыма, к ближайшему христианскому городу — греческой колонии Херсонес, которую иногда еще называли Херсон и Корсунь, прихватили по привычке побольше войска. Нечаянно возникла осада. За взаимными оскорблениями и подкопами было уже не до христианской любви. Владимиру спешить было некуда, и он приготовился скучать — морить будущих братьев православных голодом до смерти. Здесь осадную муть пробил лучик надежды — приятное сердцу властителя предательство: из Корсуня через стену прилетела от некоего Анастаса стрела с бумажкой: там-то и там-то, князь, к городу подходит водопровод. Ну, ты не знаешь, что это такое, но копай! Увидишь трубу — ломай и забивай ее дохлятиной. Город сдастся!
— Не может быть такого чуда! — молвил князь. — А если так, то крещусь немедля!
Понятное дело, перекрыть воду можно и без небесного покровительства. Сломали водопровод. Взяли Корсунь. Ну, отдохнули там, как следует.
— Но обещали же и креститься? — Молчание. Очень хотелось воевать дальше! Или хотя бы грабить. Продиктовал князь Писцу ноту в Константинополь императорам Василию и Константину (как они там попарно уживались?): «Слыхал я, есть у вас сестра в девках, так давайте ее сюда! А то будет, как при прадедушке Олеге!»
Прочитали ноту императоры, испугались. Но тут, говорят, увидели они внизу пергамента мелкую приписку нашего Писца, в которой храбрый разведчик сообщал с риском для жизни, что если отдать дикарю царевну, то можно его и окрестить. Послали встречную ноту: «Крестись и венчайся на сестре по-нашему». Получили обратно: «Давайте девку и попов сюда, сыграем сразу все!» Можно было и соглашаться.
Стали уламывать царевну Анну: «Какая тебе разница, где погибать, в Киеве или Константинополе? И так и этак — под Владимиром!»
Сдалась Анна: «Иду, точно в полон!» Собрали ей команду — попов в больших чинах, — поплыли в Корсунь. Крестили Владимира, сыграли свадьбу. Легко, косметически ограбили Корсунь. Вернулись в Киев. Корсунского стрелка-предателя Анастаса, убийцу православных, возвеличили за подвиг — содействие крещению Руси. Все смешалось в умах россиян! Нравственность ублюдка — с нагорной проповедью, непрерывная бандитская резня — с учением о ненасилии…
Так победили греки. Наш Писец сиял. Он сохранил работу, еду, набор казенных привилегий. Теперь ему в подмогу густой стаей полетели из хитрого Константинополя легкоперые коллеги — славить тех, кто «за», клеймить наивными ругательствами тех, кто «против» или «воздержался».
И стали мы ждать христианского человеколюбия и смягчения нравов. Ждем по сей день…
КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Начал Владимир Русь крестить. Поскольку был он первым христианином на русском престоле, то не приходилось его подданным оставаться в стороне от нужного дела. И должны они были изобразить всенародный порыв, дать примеры сознательного крещения под запись моему опасному коллеге.
Здесь следует сделать отступление и объяснить величие и неподъемность литературной задачи, вставшей перед нашим дорогим другом Писцом. Представьте себе, что грамотных людей на Руси не больше одного — двух сороков, а предстоит эпохальное событие, не слабее полета на Марс. И описать его надо величественно, не хуже, чем программу строительства коммунизма. Какие тут возникают требования к журналисту? Какие слова говорятся ему в келье митрополита и гриднице князя? Какими кнутами и пряниками обещают отметить его литературное произведение, когда Нобелевской премии еще нету?.. Страшно! Падежи падают криво, гласные застревают в горле, гусь перо дает худое…
Что делает наш троечник? Правильно! — пытается списать эту чертову повесть временных лет у маститых классиков.
Сдается мне, что Писец скатывал сочинение с источника проверенного и утвержденного высшим начальством, то есть новым митрополитом. Что мог порекомендовать ему шеф в качестве образца? Понятно что: Библию. Так берите и вы Ветхий Завет и читайте историю Иакова. Его биография и политическая карьера один в один совпадают с биографией и карьерой Владимира Красно Солнышко в интерпретации нашего Писца.
Плагиат — обвинение серьезное, поэтому за давностью событий не буду на нем настаивать. Но судите сами.
Иаков обманом получает верховенство в племени.
Владимир силой и коварством преодолевает свое худородство.
И тот и другой пролазят к власти вопреки воле отца и в ущерб старшему брату. Ради будущих богоугодных дел не грешно посягнуть на жизнь, честь, право старшего брата. Еще раз этот житейский мотив мы обнаружим в деле Александра Невского. Этот святой наш тоже хотел брата уморить, да не вышло.
Иаков запутывается в женщинах.
Владимир — во сто крат сильнее.
Иаков получает божественное покровительство, приобретает новое имя — «Израиль», его двенадцать сыновей от двух жен и наложницы — это двенадцать колен Израилевых.
У Владимира почему-то тоже оказывается только 12 сыновей — и это при пяти женах и 800 наложницах (чуть-чуть не дотянул до 1 00 °Cоломоновых). Что-то очень низкая рождаемость получается. Цифру 12 явно подогнали под Иакова.
Иаков устраивает государство нового типа.
Владимир тоже.
Иаков любит больше других двух младших сыновей — Иосифа и Вениамина.
Владимир тоже двух младших — Бориса и Глеба.
Сыновья Иакова от нелюбимых жен хотят убить Иосифа, — он чудом спасается, проявляя удивительную покорность и немстительность.
Сыновья Владимира от языческих жен тоже пытаются задвинуть Бориса и Глеба. Борис и Глеб убиты — сами ложатся под нож. И так далее.
Я надеюсь, вас заинтересовала эта цепь случайных совпадений. Безобидный средневековый плагиат был нужен, чтобы окрасить одежды святого князя в пурпур палестинских восходов и закатов, придать его миссии эпохальное звучание, вызвать у современников и потомков чувство восторга от сопричастности к открытию: смотрите! — святой равноапостольный Владимир — вылитый Иаков и основал Русь православную, аки Израиль! Ну, в общем, гнали, гнали еврея, а он опять тут!
Но вернемся к «действительным» событиям. Сначала князь крестил сыновей. Потом ближних людей. Это означало, что все, кто хотел быть к князю поближе, с разбегу кидались в днепровские купели. Они были готовы ради карьеры поступиться языческими принципами.
Стали громить идолов. Ломали их, рубили на дрова, жгли на месте. Верховного бога Перуна привязали к коню и потащили вниз к Днепру. По бокам шли полсорока «возмущенных граждан» и секли страшную статую прутьями. По сторонам Боричева Взвоза стоял наш народ. И все мы плакали…
Перуна бросили в Днепр, он поплыл, но все время пытался пристать к нашему берегу. Специальная команда разгоняла рыдающих славян и отталкивала их Бога жердями обратно в реку, пока он не скрылся за туманными порогами…
Стали крестить киевлян. Привезенный с Анной митрополит и его агитаторы ходили по городу, князь для примера следовал с ними. Кое-кто крестился. Большинство же народа отвергло новую веру. Не было им никакого божественного озарения и воодушевления. Они и слышать не хотели проповеди на чужом языке! Да и что им могло услышаться, когда семьи славянские признавались незаконными, любовь — грехом, дети — ублюдками!
Если бы крестители наши повели себя точно по Евангелию, то они должны были бы неспешно, терпеливо, «не меча бисер перед свиньями» (то есть, не навязывая свою веру самым упорным), убеждать, показывать на своем примере, какая выгода нам будет от христианства. Чтобы мы могли сравнить два образа мысли, два способа жизни, почувствовать разницу, получить первый обнадеживающий результат. А там бы и церкви наполнились. И Перун бы остался простой достопримечательностью, напоминанием о грешной старине.
Так нет же. Они спешили и применили понятный способ: крикнули, чтоб завтра все шли креститься к Днепру. А кто не пойдет, тот враг князю! (читай — «враг народа»).
Это сломило колеблющуюся часть населения, тех, в ком вера отцов была смешана с ужасом перед властью. Некоторых удалось запугать по ходу дела или силой затащить в воду. Самые стойкие бежали в леса и ковыли.
Так осуществлялся привычный нам противоестественный отбор: подлецы спешили угодить власти и оказывались наверху. Глупых и доверчивых ставили в строй. Пытавшихся жить своим умом уничтожали…
Картина самого крещения, разумеется, была величественной. Толпы дрожащих от страха, холода и неизвестности славян, с детьми на руках — кто по пояс, а кто и по шею в воде. Темнолицые священники на берегу. Еще дальше — конные и пешие варяжские дружинники. Странные, непонятные, пугающие слова молитв по-гречески. Что будет с нами, славяне?!..
Стали крестить и всю остальную Русь. Велели строить церкви по городам и загонять в них народ. Священников наехало из Греции немало, но для поголовного крещения было недостаточно. Повсюду возникали очаги сопротивления. Поэтому для проведения генеральной линии использовали проверенных товарищей. В самое осиное гнездо язычества, в оплот славянства — Новгород, были посланы корсунекий предатель Анастас и скорый на кровь Добрыня.
«Умрем, но не поддадимся!» — заперлись новгородцы. Они сломали мосты, перекрыли дороги.
Надо сказать, что церкви в Новгороде, как и в некоторых других наших городах, уже были. Кто хотел, свободно исповедовал православие. Но насилие над свободными душами честным людям было невмоготу. Возмущение, как обычно, перешло цивилизованные границы. Толпа озверела, разграбила дом Добрыни, убила его здешнюю жену и родственников, спалила церковь Преображения. Ночью наемники Добрыни тайно пробрались в город и перехватали зачинщиков или, скорее, случайных заложников. В ответ 5 000 новгородцев вышли на смертный бой. Добрыня поджег город. За тушением пожаров сеча стихла. Богачи, спасая имущество, привычно побежали просить у Добрыни мира. Повторилась киевская история: сожгли при всенародном плаче старых богов, силой погнали толпы новгородцев в Волхов…
Здесь случилось занятное дело. Самые хитрые новгородцы, твердые в старой вере, прибегли к лицемерию: а я уже крестился, век воли не видать! — а сами скручивали кукиш в кармане. Тогда подозрительный епископ Иоаким придумал помечать крещеных! Им стали на шею вешать крестики, а немеченых крестить силой, хоть и по второму разу! Вот что символизировал на самом деле для первых русских христиан крест нательный! Это — багажная бирка, ярлык «уплачено»! Потом были придуманы всякие паспорта и удостоверения, партийные билеты и желтые звезды для еврейских гетто, личный номер на фуфайке и татуировка на руке, выжженные буквы «ВОР» на лбу, обрезанные носы и уши диссидентов и государственных преступников. А началась на Руси эта коллекция отметин с нательного православного креста…
Основной вал крещения прокатился по берегам великого речного пути из «греков» в «варяги» в 988–992 годах. Тогда же к греческим монахам добавились болгарские. Они-то и принесли на Русь славянскую письменность для христианского просвещения на понятном языке.
Владимир умер примерно 50–55 лет от роду — 15 июля 1015 года в досаде на своего сына Ярослава, княжившего в Новгороде и отказавшегося платить отцу обычную дань. Был кликнут поход, но ни отцеубийства, ни сыноубийства тогда еще не произошло…
ДЕТИ КРАСНОГО СОЛНЦА
Сыновей у Владимира, как мы знаем из Ветхого Завета, — было 12. В счет шли только сыновья пяти «законных» жен, а толпы детей восьмисот подруг никто не потрудился сосчитать. Вот кто были эти 12 сыновей:
1. Вышеслав — от скандинавки Оловы,
2. Изяслав — от Рогнеды,
3. Святополк — от жены Ярополка, отнятой Владимиром у побежденного брата,
4. Ярослав — еще один сын Рогнеды,
5. Всеволод — опять сын Рогнеды (видно, князь навещал-таки опасную подругу в изгнании!),
6. Святослав — от «чехини» Малфриды — чешской княжны или пленницы,
7. Мстислав — от нее же или от Адели,
8. Станислав — от Адели,
9. Судислав — не ясно чей,
10. Позвизд — тоже непонятно,
11. Борис и
12. Глеб — дети царевны Анны.
Всем сыновьям Владимир раздавал города, потом отнимал их, перемещал княжат с места на место. Первые два сына умерли. Старшим стал Ярослав Хромой. Он был хромой натурально, в прямом смысле этого слова. Это потом уж, став великим князем, он заставил Писца переписать себя в Ярослава Мудрого. Да, и правда, — как мы увидим, — оказался неглуп.
Пока же возник неприятный казус. Владимир был венчан по-христиански только на Анне. Остальные 4 жены с крещением Руси потеряли законность и пополнили ряды памятных двадцати сороков «подложниц». Их детям, конечно, было обидно числиться в ублюдках по милосердным церковным правилам. Они затосковали. Особенно нервничал Святополк. «А ну, — думал он, — как на самом деле я сын не Владимира, а злодейски убиенного Ярополка — законного сына Святослава и князя киевского?»
Терзался парень. Владимир для профилактики нет-нет, да и сажал его в тюрьму. А тут еще наш Писец соловьем разливался о социально близких Борисе и Глебе: «Аки цвет в юности!…Светятся царски!…», — и прочие эпитеты и гиперболы. Подействовало это и на Владимира. Стал он старшего из младших, Бориса, двигать в наследники. Но не тут-то было!..
Владимир умер в Берестове в ностальгии о 200 тамошних «блудях», дорогих его сердцу непритязательной простотой… Возникла сложная интрига. В Киеве под надзором находился Святополк, оттираемый от престола. Борис увел киевские полки воевать. Греки, обсевшие умирающего Владимира и отпустившие ему перед смертью грехи молодости, побоялись перемены власти и веры. Факт смерти князя был скрыт. Ночью его тело закатали в ковер. В полу терема прорубили дырку. Спустили тело в высокий подпол — в подставленные сани. И под видом багажа поволокли в Киев…
Вы, наверно, догадались, что снега в июле, хоть и 1015 года, а все же не было. Но таков был русский обычай — везти покойника в санях по любой погоде. Была даже присказка: «Уж сидя на санях», то есть будучи при смерти.
Итак, тело Владимира было заперто в киевской церкви. Утром неожиданно для Святополка по княжьему двору забегали, захлопали крыльями черных риз, завыли в голос, зазвонили в колокола. Думали, что народ, ошеломленный потерей милостивца, поступит по его воле, задвинет старшего, «блудного» сына и будет дожидаться с войны «законного» Бориса. А нам было все равно! Да и Святополк — не лыком шит! Уселся на батькин трон и ну командовать, раздавать подарки, распоряжаться на похоронах!
— Папу, значит — в мраморный гроб, да чтоб с позументами, да с воинскими почестями!
С тех пор на Руси замечено: кто возглавляет комиссию по похоронам старого царя, тот и есть новый царь! Справили веселые поминки. Писец наш там был, мед-пиво пил, двусмысленно записывал, что люто граду тому, где князь юн, любит вино пить под гусли с молодыми советниками. Не понравилось греческим ученым русское веселье и самостоятельное размышление.
Крепко запахло гражданской войной. Войско Бориса стало радостно потирать руки: айда, князь, на Киев! Сядешь на престол отцовский! И мы вокруг тебя. Но князь был вялый. По молодости буквально понимал христианское смирение. Стал длинно рассуждать, что не поднимет руку на брата.
— Какой он тебе брат?! — горячились дружинники. Но не переубедили князя, плюнули и пошли по домам. Святополк, не поверив в долгосрочность братских чувств, решил поступить по отцовскому, равноапостольскому примеру: убить брательника, и нет проблем! Вся история, весь опыт, все воспитание придворное доказывали Святополку, что любовь — любовью, смирение — смирением, но пройдет время, и советники греческие науськают Бориса…
Послали исполнителей из верных слуг. Подкрались ночью к походному шатру Бориса. Его уже кто-то предупредил, и он молился всю ночь, вместо того, чтобы бежать. Дали ему домолиться и лечь спать. Завалили шатер и стали копьями тыкать в лежанку Бориса. Но на Борисе сверху оказался его отрок Георгий. Поэтому Борис остался жив, хоть и тяжело ранен. Перебили всю дворню. Отрезали голову этому Георгию, чтобы снять с его шеи подарок Бориса — тяжелую золотую гривну.
Такие гривны из серебра, бронзы, золота поначалу отливались в форме «женского детородного органа», и женщины диких племен носили их на ремне или цепи — на бедрах; цепь — пояс, подвеска — под животом. Самые смелые дамы надевали гривны на шею. Так они и превратились в шейные металлические обручи с подвесками и рельефными формами. Гривны были дороги, поэтому ходили как деньги. Название это прилипло к деньгам и используется простодушными киевлянами по сей день. Происходит слово «гривна» предположительно от слова «грива» — не иначе, как по кучерявости волос, изображавшихся ранее в верхней части подвески…
Раненого Бориса в беспамятстве повезли к Святополку, и тот милосердно велел добить его.
Чтобы покончить с христианским престолонаследием, Святополк вызвал Глеба из его волости «к больному отцу» и послал ему навстречу убийцу-повара. Глеба зарезали в лодке. Вся его молодая дружина разбежалась.
Борис и Глеб пали и получили звания святых. Церковь нашла в них три мотива для поучения. Во-первых, — христианскую покорность. Режь меня, я не против. Теми, кто был так доступен, стало очень легко управлять. Во-вторых, — признание молодыми князьями права на престол старших, хоть и не вполне православных. Это создавало прецедент, формировало стержень для строительства Империи, для жесткого порядка престолонаследия. В третьих, — благостные лики Бориса и Глеба будто бы разоблачали дикую дохристианскую мораль, служили вечным укором сильным и дерзким. Просто свиньями должны были себя чувствовать те, кто обижал маленьких. Но не чувствовали! Все внутренности у нашего руководства были заняты своим, известным нам Чувством.
Война разгоралась!
Святополк успел еще спугнуть из древлянских лесов брата Святослава, тот бросился бежать на родину матери — в Чехию, был настигнут и убит в Карпатах.
— Придется всех братьев перебить и править самому, — мечтал Святополк.
В это время в Новгороде Ярослав Хромой готовился к войне с отцом. Пригласил варяжских наемников. Но отец все не шел, и варяги от безделья и воздержания стали безобразничать. Новгородцы их перебили. Ярослав обманом зазвал зачинщиков к себе и вероломно убил до 1 000 человек! На другой день получил письмо из Киева о тамошних делах. Надо было спасаться от Святополка. Но Ярослав не побежал, он был сын Рогнеды. Быстро и мудро помирился с новгородцами: что поубивал, то простите, а пошли со мной на Киев, чтоб вам снова туда дани не платить!
Ярослав с 40 000 новгородцев (опять Писец округлил до сорока!) и уцелевшими варягами пошел на брата. Тот позвал на помощь печенегов. Стали по берегам Днепра. Гордые новгородцы, обзываемые через реку «купцами» и «ремесленниками», обозлились и поклялись убить каждого, кто ночью не поплывет с ними на ту сторону мстить за оскорбления!..
Надо сказать, что Новгород на протяжении всей истории дает нам примеры благородства славянской культуры, особой, высокой этики, политического кругозора, стойкости. Новгород предстает призраком утраченного: такой могла бы быть Россия! Такими могли быть мы…
Но Ярослав, не надеясь на простой героизм, искал привычных путей. Был у него агент в стане Святополка, он донес, что Святополк стоит на холодном месте — меж двух заледеневших озер, и поэтому вынужден весь день поить войско для сугреву. Ночью по совету предателя Ярослав и оскорбленные новгородцы переплыли Днепр, оттолкнули лодки, чтоб не побежать, и напали на перепившуюся дружину врага. Печенеги благоразумно наблюдали убийство пьяных с другой сторону озера. Похмельное стадо было выгнано на лед и, — правильно! — провалилось. Святополк бежал в Польшу.
Ярослав сел княжить в Киеве. Новгородцев щедро одарил: выдал всем по 10 гривен, даже смердам — по одной! Хошь пропей — хошь носи на здоровье…
Но братское чувство не утихало. Святополк привел на Русь поляков. Ярослав без боя бежал в Новгород. Поляки хамили киевлянам и надоели Святополку. Он тихо подзуживал на них киевлян. Пришлось полякам бежать. Они прихватили имущество Ярослава, двух его родных сестер (Опять Рогнеда! Плодовитое изгнанье!…) и всех бояр. Казначеем при трофеях у оккупантов пристроился известный нам Анастас…
Ярослав в Новгороде стал укладывать вещи на лодки — бежать в Скандинавию. Новгородцы порубили лодки. Собрали деньги — больше, чем князь им подарил. Сказали: хотим еще бить Святополка. Пошли на Киев. Выгнали Святополка. Тот нанял печенегов. Ярослав вышел им навстречу. Сошлись на месте убийства Бориса. Тут уж Святополк никак победить не мог. Кровь заполнила окрестные ручьи. И опять Святополк побежал в Польшу…
Так бы и крутилось это колесо («у попа была собака»), но тут Святополк умер при невыясненных обстоятельствах.
Был уже 1023 год. В живых оставалось еще два брата Ярослава — Мстислав и Судислав. Идея монархии нравилась мудрому Хромому, и он не торопился братьям ничего давать. Мстислав, жесткий рыцарь, похожий на деда Святослава, пришел разбираться из Тмутаракани, где жил геройскими делами — грабежами да набегами. Мстислав с хазарами и касогами разгромил варяжское войско Ярослава, тот опять бежал в Новгород. Мстислав, впрочем, был человек порядочный, в Киев не пошел. Написал брату: иди в Киев, а я возьму левый берег Днепра. Ярослав перемудрил — не поверил. Собрал огромное войско и через год пришел на юг.
— Ты чего с войском, Слава?
— Мириться пришел, Славик! — Помирились. На условиях Мстислава. Тот сел в Чернигове, и стали жить в «братолюбстве».
— Была тишина великая в Земле! — сыто царапал Писец.
Мстислав умер в 1035 году геройски — на охоте. Ни один из князей не оставил по себе такой восторженной памяти в летописях. Он был дорог россиянам богатырским, бесхитростным характером. Его поведение не омрачалось никакими подлыми уловками. В летописи о нем нет никаких поздних вставок и подтасовок в угоду церкви или Империи. Как документальный факт, а не былина, приводится такой эпизод. Перед битвой с касогами, когда два войска уже стояли друг против друга и горячились, вышел вперед касожский вождь Редедя. Он был огромен, накачан и нагл. Хотелось ему покрасоваться перед своими и укрепить авторитет.
— Эй, Мстислав! Чего людей губить? Высылай кого-нибудь покрепче — поборемся. Кто победит — возьмет жену, детей и землю другого! — широкий жест — забота о рядовых бойцах…
Вышел сам Мстислав. Он, как и дед, был коренаст, и бицепсов у него под рубашкой не видать было. Касоги стали смеяться, отпускать по поводу князя хамские шуточки. Но в долгой схватке один на один Мстислав поднял и расшиб Редедю о землю. Потом зарезал его. Уговор был исполнен — Мстислав стал князем касожским, вождем огромного войска, с помощью которого потом усмирил Ярослава и контролировал всю левобережную Украину.
Таких бы всех нам князей!
«НЕ СКОРО ЕЛИ ПРЕДКИ НАШИ…»
Со смертью Мстислава закончился особый период русской истории. Пролегла неуловимая, незримая грань, затуманившая романтические подвиги и грехи молодой нации. Там, в полях и лесах первого тысячелетия, осталась первородная, языческая, русалочья Россия. Туда теперь могут возвращаться только художники и поэты. Там они дышат особым воздухом душевной свободы, не скованной строгими правилами церковных и партийных догм.
Хотите пример? Вот он.
А. С. Пушкин в 17 лет пишет величайшую русскую поэму «Руслан и Людмила». Куда он помещает героев? Конечно, ко двору Красного Солнца, в ковыльную степь, в буреломы больших дорог и великих лесов, в хрустальные гиперборейские горы, в Лукоморье. Кто его герои? Дочь Владимира, волхвы, колдуны, богатыри, хазарский хан Ратмир, скандинав Фарлаф, Рогдай, в одиночку выходивший на 300 печенегов! (достоверные сведения Историка — С.К.) Знакомые все лица.
Но что-то вызывает томление. Здесь что-то не так. Руслан убил Рогдая — бросил русалке молодой (это у Пушкина). Писец наш помечает смерть Рогдая 1000-м годом. Владимира, потерявшего дочь, поэт сочувственно называет стариком. Понятно, что в 40 лет Владимир при его бурной жизни мог казаться стариком 17-летнему Саше Пушкину, но все равно: крещение Руси давно миновало! Уж лет 15 как все обращены в истинную веру. Но что-то никто из богатырей не помечен крестиком нательным. И свадьба Руслана и Людмилы проходит без видимых признаков венчания — под языческую музыку: «Все смолкли, слушают Баяна…» И в постели поминают Леля, а не Божью матерь. И нигде: ни в бою, ни в предсмертных муках, ни в отчаянье или радости — не взывают к христианским святыням. Даже просто не воскликнут: «Слава богу!» Почему? А потому что только намекни Пушкин на православие Руси, как сразу полезут в терем Владимира черноризцы, потащат Людмилу причащаться и читать канон на сон грядущий, потянутся выяснять, а крещен ли Руслан и чей он сын (имя у него какое-то подозрительное). В общем, испортят весь сюжет, и писать уж будет нечего. Вот Пушкин и пробросил лет 20 казенного курса лицейской истории. И правильно сделал. Ай, да Пушкин!..
Россия богатырская держалась на трех китах: на князе, на дружине, на народе.
Князь мудро правил и воевал.
Дружина его сопровождала, охраняла, решала тактические задачи — подавляла мятежи, в разумных пределах отражала нападения, поставляла дипломатов, посыльных, богатырей, разведчиков, командиров для сборных полков; дружина была княжеским парламентом, советом и семьей, думала и пировала с князем, охотилась на зверя и девок; потом все вповалку спали. Дружина для князя-богатыря была всем.
Народ дружину и князя кормил, строился в полки, тоже воспитывал богатырей, составлял основу экономики.
Почитайте русские сказки и былины. В них почти не осталось исторической достоверности. Но они сохранили тот общественный и природный фон, которого не стало с приходом на Русь христианства.
Часть 2 КРОВЬ (1035–1224)
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
Наступило новое время. Время государственного строительства, чиновничества, законов. Князь Ярослав стал править в одиночку. Он избрал монархический путь развития страны. Сохранил христианство, удобное для строительства Империи, но митрополита посадил уже своего — из русских. Ярослав, в отличие от предков, умел читать и пытался распространить грамотность, естественно, только среди своих. В Новгороде была открыта школа на 300 учеников — поповских и боярских детей. Ярослав первым из князей занялся созданием государственной системы со всеми ее элементами.
Он укрепил границы: стал расселять на пустынных окраинах пленных поляков и другие, еще не крещеные, но не совсем дикие народы. Велел строить пограничные города. Принял тактику Добрыни — грабить окраины в пользу центра: чем ближе к столице, тем меньше дань; провинция — основной налогоплательщик; спасибо, Добрыня Никитич, по сей день так живем!.
При Ярославе наехало на Русь огромное количество монахов. Князь покупал у них, выписывал и заставлял переводить новые книги. Писец наш валился с ног! Под общей редакцией князя вышел первый на Руси нерелигиозный труд — гражданский устав «Русская Правда».
Слово «правда» сейчас несколько изменило свой первоначальный смысл. Мы воспринимаем «правду» как оценочную категорию: это — правда, а это неправда. Синонимы и антонимы к слову «правда» тоже таковы: истина, ложь… На самом деле, правда — это процесс. Такой же, как еда, борьба, вражда. На Руси словом «правда» описывали действие — «происходит правда», «князь начал правду», то есть начал править суд. Так что «Русская Правда» дословно расшифровывается как «принятые на Руси меры наказания» или «русский процессуальный кодекс». Это отступление я сделал для того, чтобы мы с вами не подумали сгоряча, что законы Ярослава дают мудрый и исчерпывающий ответ на вопросы «Что на Руси есть истина» или «Кому на Руси жить хорошо». Князю просто необходимо было записать какой-то порядок суда, чтобы в Новгороде не отрубили голову за то, за что в Киеве только пожурят.
За основу был взят импортный «закон талиона»: кто кому что сделал, то и себе получи. В античные анналы Писцу углубляться было недосуг, поэтому он воспользовался привычным первоисточником, с детства впечатанным в нижнюю часть спины монастырской розгой, — Ветхим заветом. Один из его авторов, Моисей, спустился с горы Синай, потея под тяжестью каменных скрижалей, только что полученных от Бога. На них были высечены 10 заповедей: не убий, не укради, потише с женой соседа и так далее. Под горой его подопечные евреи буйно выплясывали вокруг золотого тельца. Моисей испробовал на них первую заповедь: гвардия Моисея вырубила 23 тысячи шалунов. Тогда Моисей дописал к 10 заповедям еще свои законы: кому, за что и что полагается.
Таким образом, Ярослав с Писцом имели перед собой проверенный образец. Оставалось только разукрасить его введением о наших лесных предках и подробно разработать правила кровной мести. Был определен список родни врага, которую разрешалось безнаказанно убивать в отместку за убийство. Брат мстил за брата, отец за сына и наоборот; дядя — только за родного племянника. Если мстителей не было, то уж князь штрафовал преступника в свою пользу. Особенно князь усердствовал в ценах на своих придворных холопов: брал по 40, а то и по 80 гривен (например, за любимого конюха).
Милые дамы, гибнущие, как правило, от грубой любви, ценились обидно дешево, вполцены — по 20 гривен. Простой народ обходился местью или прощением, брать деньги с убийц считалось подло — это оставляли князьям. Была даже такая нравственная формула: «Не могу я носить своего убитого сына в кошельке!» О времена, о нравы!..
«Русская Правда» подробно, до мелочей описывала приемы следствия («пытки»), порядок подачи исковых заявлений, порядок исполнения наказаний.
«Русская Правда» вряд ли снизила преступность. Но она ввела в обиход казенные правила, ограничивающие самосуд и не дающие частной мести развернуться в гражданскую войну. Так хотелось думать. Что уж точно, — так это то, что «Русская Правда» еще на один оборот завернула имперскую удавку: теперь человек должен был отвечать не только за самосуд, но и за уклонение от мести, естественные человеческие чувства становились деталью государственной машины. И появилось много новых рабочих мест в судебных заведениях…
Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Он меньше пролил народной крови, чем отец, он больше принес пользы России. Но его называли Хромым, иногда — Старым, но не святым.
— И в народе его любили меньше, чем Красное Солнышко, — записал Писец, изнуренный переводами с греческого. Но Писец наш — это еще не весь народ.
СУКИНЫ ДЕТИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Ярослав оставил пять сыновей — Изяслава, Святослава, Всеволода, Вячеслава, Игоря, внука Ростислава от умершего старшего сына Владимира и племянника — сына Изяслава, участника сцены в спальне Рогнеды. Мудрец справедливо опасался, что дети передерутся, и пытался внушить им завет: «Вот я отхожу от этого света, дети мои! Любите друг друга, потому что вы братья родные, от одного отца и от одной матери. Если будете жить в любви между собой, то бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире; если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцов и дедов своих…»
Надо сказать, что это великое и простое завещание было записано нашим Писцом, сохранено и часто цитировалось многочисленными отпрысками рода Рюрика. Они принимали его на свой счет, отделяли им себя от остального народа. Иногда завещание Ярослава останавливало братоубийство в княжеской семье. Но, в основном, к нему относились как к абстрактному призыву и рвали глотки друг другу так, что клочья разлетались по всей Руси. И не единожды погибали сами и губили нас; и раз за разом расточали земли «отцов и дедов своих», а если разобраться — отцов и дедов наших…
Не пошла русским впрок «Русская Правда». Не выполнили потомки наказов мудрого старика. Стали они веками лицемерно поддерживать идею о совместном правлении всей Россией, а в сердцах накапливать Шестое Чувство. Все равно, кто-то должен был сидеть на троне в Киеве, а потом в Москве, а остальные — терпеливо ждать, чтобы он простудился или упал с коня, удушился нательным крестиком. Хорошо хоть медицины не было, и какой ты князь не будь, а все равно тебя — простым гриппом — и с трона долой!
От многолюдности княжеских семей возникли нудные периоды истории. Наш Писец, будь он похитрей, даже поленился бы записывать повторяющиеся события, а отдал бы своему ученику перо и приказал списать дважды или трижды от сех до сех: побил брат брата, тот нанял печенегов и выгнал брата, тот нанял поляков и выгнал брата, тот дождался весны и с варягами выгнал брата из Киева… И так далее, сколько нужно раз. Только и забот, что не забывать приписывать: «…а поляки (печенеги, варяги) поганили девиц, выжгли слободу, ограбили купцов, надругались над святынями…» и т. д., и т. п.
Дети Мудрого так и жили. Изяслав Ярославич сел в Киеве. Поделили остальные земли. Обидели племянника Ростислава Владимировича. Он побежал в Тмутаракань по примеру великого Мстислава. Выгнал оттуда двоюродного брата Глеба. Отец Глеба вооружился и выгнал Ростислава из Тмутаракани; вернул Глеба. Пошел отдыхать. Тут Ростислав снова выгнал Глеба и засел в Тмутаракани крепко. И совсем он стал напоминать Мстислава. И жутковато стало от такого соседства битым грекам в Корсуни-Херсоне-Херсонесе. Заслали они к Ростиславу своего котопана (это чин такой): или убей Ростислава, или не командовать тебе нами. Котопан оказался ловким агентом. Втерся в дружбу к Ростиславу. Погостил у него. Сделал ему много добра. Потом стал прощаться. Закатили буйный пир. Встал котопан: давай, князь, выпьем вина по-братски из одной чаши. Выпил Котопан половину братины, протянул чашу Ростиславу. Пока протягивал, окунул в вино конец пальца. Под ногтем у него был яд замедленного действия. Вернулся котопан в Корсунь, доложил: во столько-то часов, во столько-то минут, такого-то числа помрет Ростислав Владимирович, горе-то какое! Сначала заказчики не поверили в такую точность. А потом — гляди-ка — и правда! Им бы радоваться, а они забили котопана-героя камнями насмерть. Историк утверждает, что корсунцы испугались мести русских. Да кто бы узнал? Испугались грешники такого начальника иметь! Это ж теперь и не заснешь спокойно. Вот тебе и Херсон! Но есть версия, что котопан был двойным агентом — сработал на Ярославичей…
Только сделали это семейное дело, как возникло новое — из Полоцка надвинулся страшный Всеслав, обделенный родственник Рогнеды, которому сговор и дележ всех этих Рюриковичей и Ярославичей был ничем не свят. В гробу он их видал. Хотел видеть…
Всеслав был рожден колдовским, йскусственным способом — от волхованья. Поэтому и действовал прямо, грубо и цинично. Сначала он проверил силу своего колдовства на Новгороде. В 1063 году Волхов в течение 5 дней тек в обратную сторону, — новгородцы испугались до обморока. Чудо было приписано Всеславу, поэтому он легко взял Новгород в 1066 году, ограбил церкви, снял колокола. Ярославичи в дикие морозы выгнали народ на войну, взяли Минск, выжгли его дотла. Вырубили по завету святой Ольги всех мужчин призывного возраста. Детей и женщин раздали солдатам. Столкнулись с войском Всеслава. В страшной, кровавой мясорубке русские одолели русских (или, если угодно, — белорусов). Всеслав бежал. Ему написали «опасную грамоту»: не опасайся, приезжай на переговоры. Восставший из ада поверил, как последний дурак. Даже не посмотрел в хрустальный шар, не покатал наливное яблочко по золотому блюдечку. Поехал. Был схвачен, — но вот милосердные времена! — не зарублен, а посажен в тюрьму на вечные времена.
Мы-то с вами понимаем, что не милосердие двигало крещеными братьями: боялись серые, как бы смерть Всеслава не была столь же страшной, как и его рождение. Мало ли что могло произойти на эшафоте! Ты ему честно рубишь голову, а у него, например, из горла вылетает аспид крылатый и ну косить честной народ, не дай бог, начиная с князей! Опасно! Лучше пусть сидит.
Вздохнули свободно. А зря.
Не иначе, как Всеслав наколдовал в темнице, но взошла кровавая звезда, неизвестная киевским астрономам. И к тому же солнце стало, как Луна. Не успели испуганные князья рассмотреть затмение через копченые осколки венецианских бутылок, как прибежали визжащие от ужаса монахи и простые граждане, а следом приволокли к княжескому крыльцу рыбацкую сеть с выловленным в реке Сетомле страшным уродом, также неизвестным науке. На лице его торчали «срамные уды», пришлось его по-быстрому бросить обратно в воду, чтобы не смущать девиц. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!» — дергали Изяслава за штаны малолетние Рюриковичи, успевшие все-таки осмотреть членоликого «детища». Надо было готовиться к худшему.
И худшее настало в том же 1068 году. Пришли из Дикого Поля новые дикие люди — половцы. Они изгнали, рассеяли, подчинили печенегов и хазар. Стали жестко нападать на Русь. Три брата Ярославича выехали на них, подбоченясь. Не как Три Богатыря, а с приличным войском. И были биты, и побежали в Киев. Простой народ стал проситься в ополчение. Струсившие князья отнекивались, бормотали что-то о ненападении. Народ стал бунтовать на княжом дворе. Изяслав пытался нас успокаивать из окошка. Пошли разговоры, что неплохо бы князя сменить. Кто-то, небось, резонно указывал, что вообще пора гнать Рюриковичей в шею. Первыми поняли опасность дружинники-особисты: послал бы ты, князь, кого-нибудь заколоть Всеслава, а то во время бунта тюрьмы обычно разбиваются и всех зэков выпускают на волю. Но проблема состояла в том, что в камере Всеслава не было дверей. Они были то ли заложены, то ли заклепаны насмерть — еду колдуну подавали в окошко. Был вариант подманить Всеслава к кормушке чем-нибудь вкусненьким и, перекрестясь, бить его копьем, но тут уж ведьмак смотрел в оба. Убить его не удалось. Первая русская революция победила. Восставшие разграбили казну — взяли «бесчисленное множество золота и серебра…»
Здесь следует оговориться. В наших сказках, былинах и летописях слова «бесчисленное», «несметное» и т. п. означают не буквально огромные горы серебра, золота, мануфактуры, а только то, что никто из участников событий не умел сосчитать, и даже навскидку «смекнуть», сколько же награбили? Был такой случай. Захватили русские в плен «бесчисленные» толпы печенегов. Пригнали в Киев. Оказалось их всего-то двадцать сороков. О чем это говорит? Это говорит о том, что ты, брат наш Писец, по полю бранному на ретивом коне не скакивал и чумазых печенежек через седло не кидывал. А сидел себе тихо в Киеве, как бы за инвентаризацией княжих кладовых. А когда пригнали пленных, так ты тут как тут!
— Этих, значит, пять сороков — сюда, тех семь соро-ков — туда, барахла — «немеряно», так валите его в кладовые… Не рыться же тебе в грязных тряпках!
Итак, Всеслава «поставили на княжом дворе», и стал он править. Изяслав сбежал — правильно! — в Польшу.
Из Чернигова вышел Святослав и с 3 000 наших разгромил 12 000 половцев. Конечно, Изяслав в Польше сразу стал храбрым. Набрал поляков, пошел сгонять волхва со стола отцова и дедова. Оказался Всеслав меж двух огней: с запада Изя и поляки, с востока Святослав и Всеволод с нашими. Пришлось ему сматываться по-своему. Коснулся он копьем золотого стола княжеского (сглазить хотел киевское богатство), обернулся серым волком и побежал к себе в Полоцкие колдовские чащи.
Честные братья стали просить Изяслава не губить Руси поляками. Большинство поляков с дороги отправили обратно, самых наглых разослали кормиться по провинции, чтобы они мучили нас, а столицу не беспокоили. На местах их стали тихо резать по обычному женскому делу, и они убрались домой. Изяслав послал сына Мстислава с дороги вперед казнить сообщников колдуна. Наловили первых попавшихся киевлян, семьдесят убили на месте, сколько-то еще, не считая, ослепили — выкололи ножами глаза. Это была такая смягченная мера наказания: а вдруг да ослепленный выживет и станет народным певцом? Такие случаи бывали, но, в основном, ослепленные умирали за отсутствием медикаментов и перевязочного материала.
Народ встретил Изяслава фальшивыми овациями. Как любой нормальный руководитель, Изяслав первым делом вернул себе контроль над доходами: перевел киевский базар с Подола на гору, поближе к терему. Опять крутанули колесо: выгнали из Полоцка в финские дебри Всеслава, обернувшегося было человеком, посадили княжить там Мстислава-окулиста. Но место было проклятое, нежилое. Помер Мстислав скоропостижно. Всеслав вернулся с дикими финнами и вожанами. Напал на Новгород. Славного города нашего не осилил, был бит, вожан вырезали всех. Всеслава милосердно и суеверно отпустили «ради Христа» — нашли к кому Христа приплетать!
Всеслава любили мистически, завороженно: он напоминал нам старую Русь, страну-берендеевку. Сошлись к нему богатыри. Очистили Полоцк. Изяслав начал переговоры, но они были безрезультатны: о чем можно было договариваться с продажным Изяславом?
Братья тоже на него обозлились за геноцид и коварство. Вдруг выяснилось, что святой Антоний, основатель Киево-печерской Лавры, был другом Всеслава! То ли Всеслав не такой уж волк поганый, то ли Антоний не столь свят. Решил Изяслав посадить Антония в темную. Тот бежал волком или покровительством Богоматери в Чернигов и укрылся у Святослава, победителя половцев. По всем статьям, за исключением статей завещания Ярослава Мудрого, моральное право править Русью было у Святослава (если нам вообще признавать за кем-либо такое право, тем более за Рюриковичами). Поэтому Шестое Чувство восстало, и Святослав без боя спугнул брата из Киева. Тот успел прихватить с собой казну, пошел нанимать поляков. Те золото взяли, а Изю выкинули вон. Он стал ездить по Европе то к германскому императору Генриху IV, то к папе римскому Григорию VII. Везде давал деньги. Все деньги брали, но помощь ограничивали грозными посольствами в Киев. Святослав посмеивался. Так продолжалось, пока Святослав не умер в 1076 году, промотавши остатки золотого запаса (не зря Всеслав колдовал над золотым столом!). И потом так же продолжалось при Всеволоде. Но Изяслав пришел с поляками, Всеволод отдал Киев, сел в Чернигове. Полякам за работу достались Червенские города…
Вам не надоело? Дальше будет хуже, потому что князей расплодилось, как собак, и все хотели урвать кусок от нашей земли. К тому же у них завелась дурная привычка ходить жениться и замуж за границу. Полчища семибатюшных племянников всех мастей и оттенков, чурающихся славянского родства, ползали по нашим землям с чужими войсками. Нанимали поляков или половцев, обещая, что после «победы» тем будет отдано на разграбление или во владение то-то и то-то. С русскими нашими предками и домашним скотом.
Вы не забыли, конечно, что все это совершалось при божьем покровительстве или попустительстве. Что князья наши несытые поминутно крестились, лживо целовали крест, отстаивали всякие всенощные и заутренние, слушали литургии и чинно шествовали в крестных ходах. Молились беспрестанно, чтобы бог дал им побольше награбить, дал им русских вырезать, растерзать, утопить в крови. И бог милостиво давал. Не забывали перекреститься и помянуть Богородицу, вытирая ножи и распихивая из-под ног визжащих ослепленных. Так что православие победно шествовало по нашей стране и набирало силу. Грешны были люди, значит и нужны, очень нужны были им церкви и служители культа, отпускающие грехи. А человеку негрешному зачем каяться? Если и согрешил перед собственной совестью, так вон небо — говори напрямую.
Можно было бы Hi пропустить без ущерба для общей картины несколько десятилетий и поколений князей, но нет-нет да и промелькнет между их славными хождениями друг на друга интересный сюжет.
Вот у Всеволода Ярославича подрос сын Владимир Мономах, это после которого потом останется первая корона Российской Империи — «Шапка Мономаха». Он сразу полез в драку. Стал жечь окрестности Полоцка: было хорошим тоном покушаться на великого колдуна Всеслава…
А то погиб в лесах Глеб, которого Ростислав гонял из Тмутаракани. Погиб, небось, от несчастного случая на болоте. Потому что в бою князья гибли крайне редко: больше подставляли нас. Накрошат русских с той и с той стороны, а сами потом поцелуются, помирятся да поделятся и поедут накапливать свежее Чувство. А мы с черной вестью побредем, порубленные, по своим местам.
Эта книга не вмещает пересказа, какие племянники какого дядю гоняли ради захвата его волости, какой брат какого брата одолевал. Непомерен список погибших бояр да дворян. Бессчетны потери народные. Их Писец ленится и упоминать. Иногда только чиркнет вскользь: этих «перемогли» да тех «прогнали». А что за каждым пешим марш-броском мужицких полков, за каждой беглой стычкой холопов, за каждым «братским» побоищем стоят немые лики невинно убиенных светлых предков наших, что сотни тысяч и миллионы молодых ребят, не ставших нашими праотцами, положены ради кривой усмешки, ублюдочного наследства, паволок для дворцовых шлюх, это опустил грешный писатель. Неудобно омрачать радость князя. Неловко усугублять его мимолетную печаль…
Но вот в одной из битв 3 октября 1078 года случайный вражеский кавалерист прорвался к княжескому шатру и убил копьем Изяслава. «Сделался великий вопль в Киеве, так что не слышно было пения молитв». Вы верите? Верите, что киевляне, ежедневно встречавшие на Подоле телеги с изрубленными детьми, братьями и отцами своими, извопившиеся по погибшим и уходящим на верную погибель, вдруг завопили о старом разбойнике, который многократно предавал их на поругание полякам? Я не верю, потому что знаю, кто записал этот репортаж с похорон. Я вижу, как обступили моего дружка со всех сторон сынки, внуки и племяннички Изяслава и давай подталкивать.
— Пиши, что папа святого Антония не преследовал — это. все покойный «ослепительный» Мстислав, пиши, что папа был добр и с братьями вражды не затевал, да помяни слезы наши горькие, смерд!
Кто помянул бы наши слезы! Нет для них места, нет емкости…
Всеволод засел в Киеве после брата, а на всю чертову дюжину племянников наплевал. Братская вражда разрослась и перешла опасный предел: стали гибнуть князья! Всеволод подстроил убийство Романа Святославича и продажу в рабство его брата Олега. Наемным убийцей был зарублен Ярополк Изяславич, не сумевший наследовать отцу.
Наконец, в 1093 году умер и Всеволод. За два года до смерти было ему двойное предзнаменование. Во время охоты на клич князя с неба вдруг свалился «превелик змий; ужасошася вси людье». Еще бы людям не «ужасошиться»! Следом за этим «земля стукну», так что слышали все. Землетрясение и вовсе было в новинку в наших краях! Как тут было Всеволоду не умереть? Опять дежурный наш Писец писал конфузливо, что этот князь был «измлада боголюбив, любил правду, был милостив к нищим, но особенно любил монахов…» Еще бы их не любить! Как заслужишь красивый некролог? Но кроме некрологов уже появились экономические комментарии, и там прямо проскочило, что боголюбивый князь обездолил сентиментальных киевлян: «…земля их оскудела от рати и продаж» (налогов).
КРОВНЫЕ БРАТЬЯ
Владимир Мономах, любимый в народе, уступил престол киевский двоюродному брату Святополку, у которого будто бы было больше прав. Хотя мог этого и не делать, но тогда пролилась бы русская кровь. Мономах всегда, даже с половцами, пытался начинать дело с переговоров, а заканчивать миром. Положительный его пример не действовал, и год за годом разгоралась вражда между двоюродными братьями, внуками Ярослава. Тут надо было объединяться против половцев, а они придирались друг к другу по пустякам. На этом грязно-кровавом фоне Владимир все время оставался удивительно незапятнанным. Вот что делает правильное воспитание!
Доброта всегда выходит боком: погибли родной брат и сын Владимира. Но он все равно пытался уговаривать двоюродного брата Олега: «Посмотри, брат, на отцов наших: много ли взяли с собой, кроме того, что сделали для души своей?» Владимир в своей переписке использовал высокий поэтический слог. Как это должно было воздействовать на впечатлительные умы его современников!
Силой слова и оружия Владимиру удалось в 1097 году усадить за стол переговоров Давыда Игоревича, Василька Ростиславича, Давыда и Олега Святославичей, Святополка Киевского. Князья кое-как уговорились оставить наделы, — у кого что есть и кому что завещал Всеволод, — поцеловали крест, поцеловали друг друга и до поры разъехались. Обещание не трогать племенных наделов нарушало старое правило совместного владения землей.
Мономах честно, до мелочей соблюдал все договоренности, и это было подозрительно. Стали перешептываться при дворах его братьев. Стали поминать убитых: «Кровь взывает к отмщению!» и т. д. Больше всех от клеветы пострадал Василек. Он во всем бескорыстно поддерживал Мономаха, согласился на третьестепенный надел — Требовль. Естественно, все думали, что он замышляет передел: Мономаха в Киев, себе — Владимир Волынский. Больше всех клеветал один из Давыдов — Игоревич. Он подбил Святополка на преступление. Они заманили Василька в Киев ко двору. Тот был предупрежден, но понадеялся на крестное целование. Василька заковали.
Здесь разыгралось первое в истории Руси публичное судилище над врагом народа. Были созваны бояре, дворяне и даже представители трудящихся, которые стали, конечно, единогласно орать: «смерть!». Попы сгоряча кинулись было заступаться, но потом, по обыкновению, пошли помолиться. Князь киевский колебался. Тогда Давыд Игоревич стал пугать его последующими притязаниями и местью Василька и уговорил на смягченное наказание. Историк и Писец приводят дикое описание ослепления Василька: как его вывезли за город, как точили нож, как он в ужасе и крике отбивался от палачей, как закатали князя в ковер, как придавили его досками и переломали ему ребра, как мясник изрезал ему все лицо и вырезал наконец оба глаза. Повезли Василька в беспамятстве во Владимир к Давыду Игоревичу. Везли 6 дней, по дороге он совершенно пришел в себя: видно не задели никаких вен, артерий и т. п. Давыд Игоревич посадил слепого «брата» под стражу из 30 человек при двух офицерах-отроках.
Теперь надо было ждать возобновления боевых действий. Ошеломленный Мономах по-прежнему начал с приглашения на переговоры: «Приезжайте, братья, исправим зло, какое случилось теперь в Русской земле». Олег и Давыд Святославичи плакали от огорчения, собрали большое войско, пошли на Давыда Игоревича к Владимиру. Заодно нажали на Святополка: ты что натворил, зачем бросил нож между нами?! Святополк трусливо отнекивался: это все Давыд, он все мне донес на словах, и как было не поверить и не ослепить брата? Да и ослепил его не я… — и прочий нелогичный бред. Оправдания приняты не были за идиотизмом, да и хотелось повоевать. Братья стали готовить ночное форсирование Днепра, Святополк собирался бежать, а киевлян бросить. Его не отпустили, собрали крупную делегацию из священников, почетных граждан, вдовствующей великой княгини. Пошли переговоры. Принудили Святополка идти на Давыда Игоревича, раз виноват — он.
Тем временем во Владимире Давыд пригласил к себе Писца Василия, чтобы воспользоваться высоким авторитетом российского журналиста. «В одну ночь, — записал Вася, — прислал за мной князь Давыд: «Иди в темницу к Васильку и пусть он пошлет своего человека и остановит наступление братьев. Я ему за это дам любой из своих городов».
Василий провел переговоры. Несколько раз, как челнок, бегал в яму и обратно в терем. Слепой советовался с ним, каялся в намерениях воевать с поляками и половцами, в общем, доверился, как адвокату. В целом, переговоры зашли в тупик, но война не начиналась, и Давыд, будучи законченной сволочью, пошел забрать имения Василька — бесхозный Требовль. Его не остановила даже Пасха. Давыда встретил брат Василька Володарь. Сильно испугал. Давыд все опять стал валить на Святополка и выдал слепого брату.
Тут начинаются подвиги Василька. Слепой князь садится на зрячего коня и говорит ему: «Даешь, Савраска, врага нашего!». При этом формальным поводом для войны служит не месть за ослепление, а воровской захват Давыдом кое-каких земель. Василек пошел на Всеволож, осадил и взял его. Давыд успел бежать. Всеволож был сожжен, жители и военные вырублены начисто. Неповинные опять ответили жизнью за одного негодяя. Затем осадили Давыда во Владимире. Была послана делегация с требованием выдачи — не Давыда! — исполнителей приговора над Васильком. Но палачи успели разбежаться. Пришлось Давыду, спасая шкуру, ловить их по городам и весям. Поймали двоих из трех. Картинно повесили карателей — тех, кто «только исполнял приказ», затем дружно расстреливали их тела из луков. Наш Вася-Писец, возгордившись своей ролью в этом деле, позволил себе авторитетное мнение: «Не стоило Васильку мстить самому, пусть бы это сделал Бог!»
Тут осмелел Святополк, пошел добивать Давыда. Последний нанял поляков. Поляки набрали денег с двух сторон, наобещали всем помощь, и принялись не спеша пропивать авансы. Пришлось Давыду бежать из Владимира. Опять поцеловавши крест со Святополком.
Святополк разохотился и решил ограбить слепого Василька: зачем ему целый город? Он ни улиц, ни домов не видит. Но слепому терять было нечего. Он выехал на битву во главе войска и поднял крест, который целовал ему Святополк. «Ты что, отнял у меня глаза, хочешь отнять и душу?», — страшным голосом крикнул Василек. Писец сразу застрочил в походный блокнот, нельзя было упускать такой величественной картины: «Многие благочестивые люди увидели, как над головой Василька в небе засиял крест!». Стали биться, рубились страшно. Святополк, увидев, что дело нешуточное, бежал, хлеща под собой бедное животное. Братья, Василек и Володарь, не стали его преследовать: «Довольно нам своей земли!» Но коварный не успокоился и поехал нанимать венгров. Те пришли с двумя епископами, — тогда церковные чины возглавляли католические полки, — чтобы огнем и мечом распространять самую гуманную веру в мире. К полю битвы стали сбираться стервятники: Давыд, недовольный наделом, теперь присоединялся к ослепленному «брату». По дороге Давыд прихватил из степи половцев хана Боняка. Боняк по-своему убедился в беспроигрышности мероприятия: выехал ночью в поле и завыл по-волчьи, ему откликнулись целые стаи волков, выла вся степь. Верняк, — решил Боняк, — раз волки собираются на падаль, то порубаем венгров, сто пудов! В общем, Боняк взял руководство потехой на себя. Расставил войска, окружил венгров, «сбил в мяч», погнал, перетопил в степных речках. Рубил их двое суток непрерывно, убил одного епископа и бояр без счета, чтоб неповадно было лезть в нашу языческую степь со своим католическим рылом.
Потом враждующие племянники разбежались кто куда. Осадили друг друга, бились мелкими группами. Погиб сын Святополка Мстислав. Он был осажден и хотел подглядеть за осаждающими через дырочку от сучка в деревянном забрале на бойнице. Стрела как раз в эту дырочку и попала. Око за око! — все, как завещал прапрадедушка Ярослав Мудрый…
Дальше пошла обычная суета. Путята пошел со Святошей ко Владимиру, стали рубить дружину Давыда. Давыд побежал к Боняку и осадил с ним Святошу в Луцке. Взял Луцк и Владимир. Все. Пока успокоились. Племянника Мстислава в благодарность за подмогу Давыд снарядил пиратствовать на море — «перенимать купцов». Это был 1100 год.
Возник новый виток мирной дипломатии. Собрались на съезд. Стали судить Давыда. Смысл суда был не в нравственной оценке ослепления брата, а как бы мирно выгнать Давыда из богатого Владимира. Скинулись по несколько сотен гривен, добавили несколько захолустных городков, отдали все это Давыду и спровадили его, всенародно порицая. Хотели все-таки ограбить слепого, приглашали его к себе: мы тебя, Вася, кормить будем! Но драный волк не поддался во второй раз. Тогда захотели идти его воевать. Но тут уж Мономах вмешался и устыдил всю съезжую сволочь.
Настали мирные времена! И — о, ужас! Оказалось, жив еще великий полоцкий маг и чародей Всеслав! Никому он ничего плохого по старости не делал, разве что колдовал помаленьку, губил урожай да девок портил заочно. Но князья задрожали. Стали совещаться. Но Всеслав и в этот раз увернулся серым волком — безнаказанно умер в 1101 году. Никто в это, конечно, не верил, пока семеро сыновей Всеслава не задрались за полоцкое наследство. Тогда все облегченно вздохнули.
Природа проводила великого волхва с почестями. 29 января 1102 года на три дня встала «аки пожарная заря» со всех четырех сторон, и было светло три ночи, 5 февраля случилось «знамение в луне», 7 февраля — в солнце: солнце огородилось тремя дугами, еще несколько дуг было повернуто «хребтами» к солнцу. Русские усердно молились.
Потянулось тягостное десятилетие борьбы с неугомонными половцами. Мономах неустанно отвлекал братьев от междоусобицы геройскими призывами постоять за Русь. Тем было неудобно отказываться, и они все время были заняты полезным делом. Писец так радовался, что даже увидел несколько раз во время боя, как из-за спины Мономаха играючи поражал половецкие толпы Ангел Светлый.
— Светлый, как это вино? — подливали мы Писцу белое болгарское.
— Светлее! — уверенно икал он и продолжал описывать нам свои астрономические наблюдения: в 1104 году солнце стояло в круге, посреди круга — крест! За кругом, по бокам — еще по одному солнцу, а сверху — дуга рогом на север!
— Да ты, брат, пьян был, вот у тебя и троилось! — подкалывали мы Писца.
— Да как же пьян, когда три ночи подряд 4, 5 и 6 февраля такое же знамение было в луне!
Но что-то — и не только на небесах — все же предвещало неспокойные времена. 11 февраля (опять февраль!) 1110 года встал от земли до неба огненный столп. Ударила невиданной силы молния, осветила всю землю. Дуплетом скончались обидчики Василька — Давыд (1112) и Святополк (1113). Освобождение киевского престола ознаменовалось солнечным затмением. В страхе зарыдала вся дружина, оплакивая доброго князя. Народ молчал, — тут уж Писец выдержал марку, не стал врать, — будто бы опасаясь наших с Историком упреков. Как потом выяснилось, причина честности была в другом: вороватый Святополк, узнав однажды, что соль на рынке сильно подорожала, ограбил Печерский монастырь и продал его соляные запасы — «святую» соль — втридорога. Тут же этот смелый коммерческий ход попал в проповедь игумена Иоанна. Стали имя князя полоскать на всех углах. Князь рассердился, посадил попа на нары, но опять отступил под давлением Мономаха. Редакторы от церкви зорко наблюдали за Писцом, строго пресекали его красноречие по отношению к противному усопшему.
После смерти Святополка славный витязь Мономах опять завел свою волынку: не пойду в Киев, не хочу кровопролития. Пришлось нам брать дела государственные в свои руки. Народ пожег Святополковых прихвостней и пригласил Мономаха, тонко играя на его человеколюбии: «А не придешь, князь, то знай, что много зла сделается: ограбят уже не один Путятин двор или сотских и жидов, но пойдут на княгиню Святополкову, на бояр, на монастыри, и тогда ты, князь, дашь Богу ответ, если монастыри разграбят…». Всех перечисленных Мономаху было жалко, и он пришел княжить в Киеве.
ВЛАДИМИР МОНОМАХ
Великий князь Киевский Всеволод назвал сына Владимиром в честь своего деда — Красного Солнца. Имя предполагало, что новорожденный, когда подрастет, будет «владеть миром». Церковь при крещении дала младенцу имя Василий, что, опять же, означает «повелитель». Мать, греческая царевна, довершила картину третьим, греческим именем «Мономах» — самодержец, единовластитель. Ей хотелось, чтобы Владимир владел миром в одиночку, а Василий — повелевал без всяких советчиков и подсказчиков. Мономах стал воином. Он все время находился на границе — в боях. Спал на сырой земле, совершил 83 большие путешествия, с голыми руками ходил на тура — брал быка за рога. При этом сохранял непонятную душевную мягкость по отношению к последней ерунде — российскому народу. От Владимира Мономаха мы впервые услышали наставление не как лучше ограбить племянников, не что и почем продать, а как надо беречь русских людей — нас!
«Не давайте отрокам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтоб вас потом не кляли. Куда пойдете, где станете, накормите бедняка; больше всего чтите гостя…: гость по всем землям прославляет человека либо добрым, либо злым», — слеза умиления падала с седых ресниц Писца на седое гусиное перо…
Мономах был настоящим богатырем: диких коней в пущах вязал живыми, олень его бодал, вепрь оторвал ему перевязь с мечом, медведь кусал, волк сваливал вместе с лошадью (вот волки были!). Мономах после охоты или боя диктовал Писцу: «Не бегал я для сохранения живота своего, не щадил головы своей. Дети! Не бойтесь ни рати, ни зверя, делайте мужское дело!». Конечно, можно заподозрить Мономаха в мемуарных преувеличениях. Он и грек был наполовину, и царского рода по матери, и поэтому очень нравился грамотной церковной верхушке: в летописях Мономаха нет-нет да и называли Царем! Но Мономах ни разу не был замечен в подлости. Ни разу не нарушил крестного целования. Состояние журналистики было уже таково, что правда частенько показывалась на свет божий в трудах нашего Писца и его собратьев. А иногда подлость и не скрывали: как ее скрыть от современников, когда всем она уже известна? Тогда придворные лизоблюды начинали диктовать всякие оправдания, придумывать высшие интересы страны, так что наш Писец только покряхтывал. А о Мономахе ничего такого не записано — чист, как стеклышко!
И вот Мономах стал князем Киевским.
Начал он с финансов: собрал братьев, уговорил ограничить проценты по кредиту. «Жиды с позволения Святополка пользовались неумеренными ростами, за что и встал на них народ». Урезонив еврейскую банковскую верхушку и прекратив черносотенные погромы, Владимир установил гражданский мир. Против миротворца воевать как-то не тянуло, и Мономах правил спокойно. Были, конечно, дела семейные. Повадился Ярослав Владимирский бить жену, внучку Мономаха, пришлось идти в поход, брать в осаду и на испуг. Но все это без пролития крови, — дико по тем временам!
Повадки внучатого зятя так и подталкивали к войне — он приводил на Русь то поляков, то венгров. Приходилось садиться в седло. Но настоящей войны и большой крови не было. Ярослав погиб бесславно: его убили ночью на дороге копьем в спину бывшие союзники, поляки.
Мономах спокойно умер в Киеве в 1125 году, после 12 лет честного правления. Писец дал волю перу и чувствам: «Он просветил Русскую землю, как солнце, слава его прошла по всем странам, особенно же был он страшен поганым… Духовенство плакало по нем как по святом и добром князе;… весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери!».
Слова вроде бы знакомые, но верится им на этот раз.
«ТЯЖЕЛА ТЫ, ШАПКА МОНОМАХА!»
После Мономаха осталось пятеро сыновей: Мстислав, Ярополк, Вячеслав, Георгий (Юрий Долгорукий) и Андрей.
Мстислав сел в Киеве и правил шесть лет, в точности повторяя политику отца. Народ подумал, что племя Мономаха — все такое. Братья расселись по городам.
Однако по Руси у них было немало и троюродных братьев — таких же потомков Красного Солнца и Ярослава Мудрого. После смерти Мстислава начались дикие усобицы. Ольговичи, Святославичи Черниговские, сами дети Мономаха, их собственные дети — все сплелись в большой клубок смертельной борьбы за землю Русскую. Столетняя гражданская война совершенно смешала умы россиян. Братоубийство снова вошло в привычку, стало правилом игры. Целые поколения вырастали под бабушкины сказки о страшных ростовчанах, новгородцах, киевлянах и черниговцах. Волки стали исчезать из детских пугалок, Змеи Горынычи и Соловьи Разбойники вывелись вовсе. Даже половцы были не так страшны, как русские князья.
Кстати, половцы оказались не глупы. Они резко изменили тактику: перестали нападать на русские земли. Да и чего им было рисковать, когда каждый день сами русские князья нанимали их грабить и жечь соседние уделы за деньги, за контрибуции, за долю в добыче! На половцев только иногда нападали в отместку за соучастие в набегах.
Это было трудное и противное для нашего Писца время, нудный период для дотошного Историка. Волей-неволей им приходилось терпеливо описывать все эти походы своих на своих. Писец набирал в долбленую чернильницу темный настой чернильного орешка, набирал полную грудь сумрачного воздуха и, щуря близорукие глаза, писал: «…встала усобица меж Святославичей Черниговских…;…присоединили Полоцк к волостям Мономаховичей…;…началась борьба дядей с племянниками…;…изгнали из Киева Игоря Ольговича…;…Изяслав Мстиславич Мономашич княжит в Киеве…;…союз Святослава Ольговича с Юрием Владимировичем…», — и так далее, бесконечной скорописью, без надежды, без выхода, без просвета — длинный, кровавый монолог. Был бы наш Писец волен, так бросил бы это тягостное занятие, оборвал бы на полуфразе хронику убийственного ослепления и немедленно выпил…
Ничего в эти годы не происходило такого, что заставило бы нас проникнуться торжественным или настороженным вниманием — вроде крещения Руси, взятия Царь-града, пришествия Пречистой Девы на худой конец. Мыто с вами знаем, что это было последнее столетие перед татарским нашествием. Нам понятна бессмысленность всех княжеских усилий. Мы даже не спрашиваем, чего это народ терпел и «белых», и «красных», и «черных», чего он не резал сиятельных, чего не уходил в «зеленые» — в родные леса и ковыли? Потому что и это тоже было бы уже бессмысленно…
От дурных предзнаменований, зачастивших на Русь, пересыхало в горле, даже у коней противно дрожали колени: в 1141 году вдруг встали с земли до неба уже три огненных столпа, три солнца засверкали на их вершинах, какая-то чужая, острая дуга лунообразно сияла над этой немыслимой композицией…
Два пустяковых, но примечательных события произошли в это воистину смутное время. Пустяковыми они были по своей сути, по своей мелочности на фоне большой резни. Примечательными они стали по воле, художественному замыслу Писца и Историка. События эти — основание Москвы и поход Игоря Святославича на половцев.
Городков типа Москвы, обнесенных деревянным забором из заостренных бревен, на Руси было не сосчитать сколько сороков. А у этого поселения даже названия не было. Так о нем и не поминали отдельно от названия реки, на которой он стоял. Князь Георгий Владимирович Мономашич (Юрий Долгорукий) пригласил в 1147 году своего брата Андрея на военный совет к себе «на Москву». Поскольку посыльный наверняка сам и показывал дорогу, то в грамоте не указывалось, на каком изгибе и берегу Москва-реки находится ставка Долгорукого. Неизвестно также, сколько лет существовала крепость до 1147 года, что в ней было, кроме острога, складов и казарм. Тем не менее Историк тщательно выделяет первое упоминание о будущей столице нашей Родины. Как же, как же! Империя пойдет отсюда, отсюда «станет быть» и «есть будет». И «есть» она будет не только в прямом смысле столичного бытия, но и в переносном смысле повседневного поедания Руси великой, несытого косяка на остальные страны света Божьего и окраин безбожных, непрестанных потуг стать Третьим Римом, столицей всемирного пролетариата.
С рождением тебя, матушка Москва! Приятного аппетита!
Второе событие по причине внутренних российских дел мы тоже чуть было не проехали. Да Историк ему почти и не уделяет внимания, здесь он четко выдерживает исторические масштабы и пропорции. Какой еще Игорь, когда тут вокруг идет дележ земель и денег! Когда с севера наседают немцы и почему-то называют нас безбожниками. Когда татарское иго на носу, а эти дураки дерутся, вместо того чтобы загодя объединяться и начинать, в конце концов, строить Империю! Так бы и канул Игорь Святославич в Лету, кабы не два обстоятельства. Первое мы уже упоминали: смертельно скучно было Писцу, зря погибал его литературный талант, отточенный сотнями томов придворной ерунды. Хотелось Писцу создать что-нибудь достойное посмертной литературной премии. Вот и взял он простенький сюжет из окружающей жизни.
Почему не написал Писец «Слова о полку Монома-хове»? Или «Слова об убиении Андрея Боголюбского»? Или любого другого Слова о знатных людях и больших делах того времени. Почему остановился он на глупой, мальчишеской выходке третьестепенного князька? А потому, что и правда — это глупость была, и был это порыв души, поход не только за пленными и барахлом, не за городами братьев и дядьев, а за Славой Богатырской!
Весной 1184 года Святослав Киевский разгромил половцев, набрал пленных, военных машин (!), поймал даже одного басурманина, который стрелял «живым огнем» (небось, это был китаец, испытатель первого огнестрельного оружия на простодушных русских). Игорь из-за гололеда не смог присоединиться к триумфу. Вот и собрал он через год свое войско и кликнул «братьев» постоять за землю Русскую. Хотя стоять ни к чему было. И затмение же солнца случилось! А значит, надо было Игорю возвращаться восвояси. Но он пошел на вольный Дон, напал на половецкие становища. Что вышло из этого, мы знаем. Вышла прекрасная поэма! Если бы Писец так же одухотворенно относился и к остальным событиям, какая была бы у нас История!
Вторая половина двенадцатого века и первые два десятилетия тринадцатого прошли в непрерывной междоусобной борьбе. Желание единовластия, стремление к овладению всей землей губило страну. Имя «Мономах», которое юная греческая царевна дала своему сыну, из славной фамилии превратилось в проклятие для всей Руси. Мономашичи рвали к себе каждый лоскут земли, резали и перемалывали каждую краюшку. И перетерли бы Россию в пыль, кабы не татары…
Опускаются руки. Не на чем остановить внимание в этой, почти столетней катавасии. Но попытаемся.
Вот заметен стал непоправимый раскол Руси. Совсем погрязло в войнах и порочных связях с королевствами Восточной Европы старое Киевское княжество. Пройдет немного времени, и оно только по названию останется Русью, а на деле станет придатком Польши и Великого княжества Литовского. Центр Российской государственности переместится в привычные места: в чащобы владимиро-суздальские, в дорогое наше Подмосковье.
Юрий Долгорукий, с большим трудом овладевший Киевом, еще успел скончаться на престоле святого Владимира. 10 мая 1157 года князь крепко выпил у какого-то Петрилы, так что к вечеру полностью отрубился. Утром, вместо обычной похмельной тягости, Юрия охватило глубокое беспамятство. Пять дней медики сражались за его жизнь. Но ни рассол, ни заговоры не помогли. Князь умер без покаяния, и пришлось Писцу описывать неприятные события во время похорон 16 мая. Киевляне взбунтовались против покойного, стали жечь дворы его суздальских дружинников, перебили их по всем киевским городам и весям.
Небо еще раз попыталось запугать или усовестить россиян: в 1161 году опять было показано «знамение в луне, страшно и дивно». Луна по пути с востока до запада меняла свои обличья: сначала уменьшалась и темнела, потом стала кровавой, потом окрасилась пополам в два цвета — желтый и зеленый. На половинках ясно видны были фигурки двух воинов, которые «секушеся мечема». У одного из головы уже текла кровь, другой проливал молоко. Даже такое подробное кино не унимало наших предков. Ведь ясно же было показано, мужики, что воин на желтой половинке — это монгол, на зеленой — наш военный. Не поняли!
Теперь вражда встала не между отдельными князьями, желавшими ухватить кусок на скаку, а между Севером и Югом. Это был уже прогресс имперского строительства. Повоевали еще 11 лет, отвлекаясь только, чтобы поцеловать крест, да тут же и плюнуть в пол. Сын Долгорукого Андрей Боголюбский (столичку свою за худостью Москвы держал он в селе Боголюбове) собрал-таки в 1168 году всех северных князей и впервые в русской истории взял Киев при всеобщем героическом сопротивлении киевлян, без боярского предательства, отдававшего Киев захватчикам в прошлые разы. Что сделали «дети» с матерью городов русских? Взяли ее «на щит»: два дня грабили город и жителей, жгли церкви (вот вам и «Боголюбский»!), жен отнимали у мужей, разлучали с детьми, всех уводили в плен, разрешили половцам подбирать объедки пира победителей. Половцы подожгли Печерскую лавру. В довершение надругательства Андрей побрезговал даже садиться на киевский трон, оставил наместником сына, а тот передал «мать» какому-то мелкому князьку, родство которого объяснить — язык заплетается, а сам поехал к себе, на милый Север.
— С великою честью и славою, — записал было Писец, но потом перекрестился и исправил, — с проклятиями великими!
Гордый завоеватель и поругатель был поражен так же подло. Андрей отправил на заслуженный отдых старых отцовых бояр, а себя окружил молодыми реформаторами. Набирал их без разбору. Раздал должности родне жены. Но спрашивать с бестолковых прихлебателей стал по всей строгости. Пришлось какого-то троюродного деверя и казнить. Переполох среди новоявленных чиновников возник страшный. Каждый стал примерять себя к лобному месту: мурашки по коже! Составился интернациональный заговор: уцелевшие родичи жены Яким и Петр да поднятый из грязи почти в министры экономики азиатский бомж по кличке Анбал, да вездесущий Ефрем Моисеевич решили «промыслить об этом князе!». Заодно и оттереть от кормушки нового фаворита Прокопия. 29 июня 1174 года ночью заговорщики с 20 подручными подошли к Андреевой спальне. Но тут необъяснимый ужас напал на них у дверей. Толкаясь и падая, бежали они по закоулкам терема — в правильном направлении. Оказавшись в подполье и обнаружив, что это винный погреб, выпили по привычке за здоровье князя и теперь уж спокойно пошли наверх. «Пити — веселие Руси», гулко поучал их сквозь тьму веков святой Владимир…
Далее повторилась сцена из популярной сказки «Волк и семеро козлят». Только волков было два десятка, а козлят двое — князь и мальчик-слуга.
— Князь, это я, Прокопий… — стал стучаться в дверь спальни Яким.
— Нет, это не Прокопий, голос не его, — согласились князь и мальчик.
Тогда стали ломать дверь.
Князь вскочил и потянулся за чудотворным мечом. Этот меч когда-то принадлежал святому Борису. Борису, как мы помним, он не помог, а Андрея выручал исправно. Но меча не оказалось. Анбал тут прибирал намедни и меч спрятал. Но Андрей и без меча был силен. Он сбил ударом кулака первого из ворвавшихся, а остальные в потемках прикололи упавшего копьями. В описание дальнейшего кровопролития Писец внес лирическую, нравоучительную ноту. Будто бы, пока два десятка убийц со всех сторон секли Андрея саблями и кололи копьями, он произнес им целую увещевательную речь со ссылками на Бориса и Глеба, адские муки их убийц, проклятие народное во веки веков. Аминь! Тут Андрей наконец упал. Бандиты подобрали своего и пошли по номерам как бы спать. Но Андрей поднялся и стал стонать, потом вышел во двор. Пришлось одному из убийц собирать остальных и божиться, что, истинный крест, видел князя живого! Обыскали весь терем, еле-еле нашли князя, привалившегося к столбу под крыльцом. Убили.
Убили и Прокопия. Честно поделили казну, нагрузили свои доли на коней и развезли по домам. Хотели разбегаться кто куда, да не понадобилось. Народ поднялся весь! Но не мстить и карать, а тоже пограбить маленько. Грабили все, что имело хоть какую-то ценность или полезность в хозяйстве. Из деревень в города суздальские, Владимир, Боголюбов двинулись за добычей крестьянские подводы. Тело князя валялось шесть дней в огороде…
Здесь Писец снова прибег к плагиату и в назидание потомкам скатал сцену погребения князя у евангелистов. Боголюбский у него стал как бы Христос, а какой-то Кузьма Киевлянин блестяще исполнил роль Иосифа Аримафейского. Писец художественно передал длинные уговоры Кузьмой Анбала: «Теперь ты, жид, в бархате стоишь, а пришел к нам в лохмотьях», — и так далее. Тело князя было предназначено на съедение собакам, но совестливый Анбал на «жида» не обиделся, разрешил завернуть князя в ковер и положить в церкви. Потом, когда во всех городах грабежи сошли на нет, тело отнесли во Владимир и похоронили в церкви, в каменном гробу. Все это сопровождалось почти рифмованными причитаниями и воплями. За христианской моралью было Писцу не до хэппи-энда, и о наказании убийц он умолчал. Может, и дал им бог спокойно и в достатке пожить до седин?
Память сердца понуждала россиян к братоубийству. Возня вокруг Владимирского престола переросла в многоходовую партию между Ростовом, Суздалем, Владимиром, Ярославлем, Рязанью и проч. Кровь лилась рекой. В 1203 году снова последовало небесное предупреждение: в пять часов ночи вдруг «потекло» небо, звезды стали срываться со своих мест и небо стало пустым и черным, землю и дома заметал снег…
АЛЕЕТ ВОСТОК
Китайцы первыми изобрели бумагу, стали на ней писать, что попало. Среди прочего описывали и быт беспокойных монгольских племен за Великой Китайской Стеной. Эти племена занимали большие пространства, и проехать мимо них никакому путнику не удавалось. А путники охотно стремились в таинственный Китай. И за проезд приходилось им рассказывать на ночь монгольским ханам и ханшам сказки из европейской жизни. Привирали лукавые клинобородые рассказчики крепко. И решили доверчивые монголы поменять ориентацию. Чем биться лбом о Китайскую Стену, легче было двинуть к последнему морю, к соблазнительному городу Парижу. Да взять по пути город Киев, где наблюдатели отмечали большое количество церковных куполов и колоколов, по виду и звуку целиком вылитых из золота!
Весной 1224 года послал известный нам Чингисхан двух своих полководцев Джебе и Субута (Субедея) на запад. Они проскочили между Уральскими горами и Каспийским морем и навалились на половцев. Изнеженные южно-российскими делами половцы во главе со своим полурусским князем Юрием Кончаковичем выехали биться, да где там! Это было не то, что папа Кончай имел с полком Игоревым. Это было страшно, дико, мощно, организованно. Как у самих половцев во времена Изяслава Киевского.
В Киев и побежали прятаться. Отдали здесь всю скотину, верблюдов, ткани, словом, все имущество — только спасите! Озадаченные южные князья неспешно сели совещаться. Победило мнение, что надо татар перенять подальше от Киева, чтобы не разводили здесь антисанитарии. Татары прислали послов. Дескать, мы первые не начинаем. Пришли на ваших холопов и конюхов — половцев. А вы в наши дела не встревайте. Князья не успокоились. Татарские послы были не по-европейски убиты. Войско вышло к Днепру. Второе татарское посольство выражало возмущение и заявляло о ненападении. Это был, конечно, блеф, но в юридическом плане русские напали на татар первыми!
Посольство было отпущено, Мстислав Удалой с 1 000 человек форсировал Днепр, легко разгромил передовой отряд татар, перебил их всех, воеводу отдал на казнь половцам. Тут уж все переправились через Днепр. Царило шапкозакидательское настроение. Опять напали на передовой отряд. Опять разбили его. Семь дней гнались за татарами почти до самого Дона — до реки Калки. Опять разбили какой-то татарский отряд. Сели лагерем.
Здесь из черепа павшей лошади выползло знакомое нам русское Чувство. Оно снова смертельно ужалило князя — Мстислава Удалого Киевского. Не любил Удалой другого Мстислава — Галицкого. Жалко ему было делиться с остальными князьями славой молодецкой, досадно было пускать их на страницы какого-нибудь нового «Слова о полку…». Воистину, в Начале было Слово. У древней Руси оно было в самом конце…
Удалой тайно вооружил свои полки и сделал вылазку. У многих других оружие осталось на телегах. Утром 16 июня 1224 года началась битва. От дурного командования произошла катастрофа: ненадежные половцы, которых за малой ценностью, как обычно, выставили вперед, как всегда первыми и побежали. В ужасе потоптали они русские полки и станы. Татарам осталось только довершить дело. Случилось почти полное окружение, страшная резня. Писец наш записал, как видно с чужих слов, что такого поражения не бывало от начала Русской земли. Три дня ловили русских по степи, последних с Удалым Мстиславом взяли, как водится, предательством. Какой-то Плоскиня, бывший союзник, уговорил наших сдаваться.
— Ничего не будет, — уверял он. Сдались…
И правда, татары рубить князей не стали, а наоборот, «пригласили на обед»: положили князей под дощатый настил и сели сверху пировать. Пока поели, князья все умерли. Много знатных людей погибло в бегстве. Здесь пал и последний русский витязь Алеша (Александр) Попович, перенесенный потом вольным художником на 250 лет назад, в отряд Трех Богатырей. Теперь нам понятно, о чем так грустит Попович на картине Васнецова…
Часть 3 ИГО (1224–1380)
КАРА
После Калки татары схлынули на целых 12 лет. Они занялись приведением в порядок своего хозяйства по смерти в 1227 году Чингисхана. При дележе наследства контроль над территорией западнее Урала, то есть над всей Европой, достался внуку покойного Чингиза, Батыю. Наши князья снова бездарно потратили отпущенное на мобилизацию время. Уж за 12-то лет можно было смирить гордыню и собрать, да что там! вырастить боеспособную армию! Но они спокойно дрались между собой, наблюдая, как татары поглощают юго-восточные пространства. В 1236 году огромное трехсоттысячное войско Батыя напало на волжскую Болгарию. Татары сожгли всю землю, пленили всех мастеров, убили всех прочих жителей, не успевших убежать в леса. В 1237 году татары подошли к Рязани и потребовали десятины со всего. То есть они соглашались ограничиться спокойным, ласковым налогом в 10 %. Князьям было жаль денег, да и Чувство играло, не переставая. Они ответили татарам гордо, но объединяться не пожелали. Татары сожгли Рязань 21 декабря. Убили всех жителей. Убили князя! Убили его жену! Это было уж совсем не по правилам. Так никогда не поступали ни половцы, ни печенеги. Но это было честно.
Дальше татары взяли Коломну, Москву и везде при сопротивлении в первую очередь беспощадно убивали князей, воевод, детей княжеских. Пошли к столице, Владимиру.
Великий князь Юрий оставил сыновей обороняться. Сам сначала просто сбежал, но потом стал ездить по селам и собирать ополчение. 3 февраля 1238 года татары подошли к Владимиру и после коротких ультимативных переговоров стали строить инженерные осадные сооружения. Между делом сходили к Суздалю и сожгли его.
Во Владимире царила паника. Князь Всеволод Юрьевич и владыка Митрофан, осмотревши татарские стенобитные машины, впали в уныние и объявили, что дело дрянь. 7 февраля татары легко взяли и запалили «новый город» — окраины и предместья. Князья и кто «получше» кинулись прятаться в «старом» городе — центральной крепости. Жуть вошла в мозг и кровь князя и его подручных. Им так хотелось жить! И жизнь у них задавалась такая складная, сытая и интересная. И вот те на! Убивают всех, кто сопротивляется. Но и не сопротивляться же нельзя, приходилось обороняться, хоть для виду. Ведь для этого, — для организации сопротивления, для создания государства и армии, для личного героизма и самопожертвования мы и приглашали Рюриковичей на Русь в далеком 862 году! Для того мы и кормили и холили князей, для того и давали мы им себя казнить и утруждать, чтобы теперь они полегли вместе с нами и во главе нас за землю Русскую, за детей и жен наших. Ошиблись мы. И были наказаны. История не шутка. Гнилой оказалась веревочка, сплетенная из княжеских судеб, изо всех этих Изяславов и Всеволодов, Юриев и Игорей. Удавиться в ней легко, а страну вытащить из кровавого болота никак не получается…
Трясущийся князь Всеволод вышел к Батыю с дарами и мольбой о пощаде. Батый его понял и велел удавить. Спокойно смотрел из седла, как тугая петля из конского волоса скручивает, рвет молодую белую кожу.
Дело оказалось совсем не шуточным. Великая княгиня с дочерью, снохами и внуками, другие княгини со множеством бояр, владыка Митрофан, оробевший выйти на смерть с простым народом, в ужасе забились на полати Богородичной церкви. То ли вспомнили они наконец о Боге, то ли каменная церковь представлялась им надежным убежищем. Татары разбили двери, ограбили церковь. На полати не полезли, завалили церковь хворостом и всех сожгли…
По-человечески жаль этих людей. Жаль их детей, девочек и мальчиков, еще не разобравшихся в жизни. Жаль князей и офицеров, жаль бояр.
По-граждански не жаль их. Гражданская совесть не имеет право на жалость. Они ели и пили. Они одевались и согревались. Они развлекались, пока мы голодали, мерзли и трудились. Они забыли трудиться, не соизволили унять свои застолья, кровавые игрища и блуд. Они очень неохотно выполняли свой первый долг — долг государственного устройства. Они совсем не хотели исполнить своего последнего долга — умереть за нас и вместе с нами, а не после нас…
Татары поняли русских. Они убедились, что воевать по-настоящему здесь не с кем. Они разделились на несколько отрядов и за февраль взяли 14 городов. 4 марта в жестокой сече было разгромлено основное войско русских. Князь Юрий погиб. Далее продолжился скорбный список городов, взятых сходу. Татары запнулись на Козельске. Козельский князь Василий, совсем еще мальчишка, поднял жителей от мала до велика, и они умерли все, уничтожив 4000 (сто сороков!) отборных татарских всадников, а пехотинцев — без счета. Батый расстроился и отступил из русских земель в половецкие степи. Здесь он с досады уничтожил армию хана Котяна, который увел последние 40 тысяч половцев на постоянное жительство в Венгрию. А слово «Козельск» стало в татарском языке самым страшным ругательством в списке коротких трехбуквенных и пятибуквенных слов, которыми татары навеки обогатили великий и могучий русский язык…
В следующем, 1239 году, Батый снова пошел на Северную Русь, ему не давало покоя видение малолетнего князя Васи в проломе козельской стены, — вот ведь тоже какие бывают русские! Но никакого сопротивления хан не встретил: жители по природной привычке бросали города и прятались в лесах. Батый потерял интерес и повернул на юг. Здесь города тоже падали и горели, как картонные. Какой-то князь еще собрался было на помощь брату под Чернигов, но данные разведки его так испугали, что он бросил брата и убежал в Венгрию, вслед за половцами. Чернигов сгорел. Писец, опаленный монастырским пожаром, записал, однако, что жив есмь, и епископ тоже жив, а татары священников уважают, лишь бы оружия в руки не брали. Так им никакого оружия, кроме слова божьего да гусиного пера, и не полагается.
Однажды ранним утром хан Менгу, племянник Батыя, подъехал к Днепру и смотрел из седла через реку на великий город Киев. Что думал этот дикарь, наблюдая золото куполов и ослепительную известь каменных стен? Татары никогда, ни до, ни после нашествия, не жили в городах. Они не разбирались в архитектуре, им было тесно и неуютно в домах и лабиринтах улиц. Из городов они брали только деньги, украшения, коней и рабов. Менгу предложил князю Михаилу сдаться на почетных условиях. Князь в татарские почести не поверил, убил послов, бросил киевлян, бежал в гостеприимную Венгрию.
Далее разыгралась трагикомедия всероссийского масштаба. Итак, Киев пуст. Вернее, люди в нем есть, лавки набиты товарами, закрома — хлебом, «полно алмазов пламенных в лабазах каменных», а князя нет. Татары пасут лошадей Пржевальского на том берегу и заигрывают через речку с киевскими девками новыми, матерными словами. Тянется длинная театральная пауза. Зрители нервничают: так долго оставаться не может…
Что предполагает цивилизованный наблюдатель? Ну, например, вот что.
Князь Михаил в Венгрии собирает христианские полки на татар… Ошибка. Князь Михаил в Венгрии пытается подкатиться к королевской дочке со своим сыном-жени-хом.
Вариант второй. Князь Ярослав на киевской стороне Днепра собирает ополчение: вставай, страна огромная!.. Снова облом. Князь Ярослав захватывает в плен жену беглого Михаила и его бояр, рвет к себе мелкие городки.
Попытка третья. Князь Даниил Галицкий собирает князей и ополчает их на оборону Киева. Нет. Князь Даниил Галицкий вышибает из Киева какого-то Ростислава Мстиславича, легким чертом вскочившего на опустевший престол, но и сам туда не садится, бежит из столицы, поручая оборону тысяцкому Димитрию.
В общем, тут с трех раз не угадать. Татары — под Киевом, их нрав уже известен, а князья переписываются о пустяковых обидах. Наконец и цена Киева в их разборках упала ниже бабьей гривны. Михаил вернулся из Венгрии и Польши, получил от «братьев» Киев, но из-за татар в столицу не пошел, стал побираться по чужим уделам и волостям.
Вялая складывалась игра, но все-таки татарам хотелось Киева.
Батый окружил Киев в декабре 1240 года. Он на него не с неба свалился, а спокойно перешел Днепр по льду. Никто не стоял насмерть на Киевском берегу, никто не уничтожал татарские плацдармы, никто не мчался по русским волостям, сзывая подмогу. Никто не кричал криком при европейских дворах: что ж вы, толстые, сидите! — это ж те самые агаряне и есть, про них же написано в ваших и наших библиях, выходите на бой! Но тиха была украинская ночь, чуден ледяной Днепр при зимней погоде.
Батый «остолпил» Киев: окружил его инженерными сооружениями — рвами, частоколами, заборами, чтобы даже редкая птица не упорхнула на середину Днепра. Батый поставил пороки (стенобитные машины) у Лядских ворот и бил ими день и ночь, пока стены не рухнули…
Не подумайте плохого: «лядские» — по-нашему значит польские, от слова «лях». А если бы ворота назывались Польскими, это означало бы, что они обращены в сторону Поля — заднепровской степи.
Вопреки ожиданиям, киевляне взошли на обломки стен и бились насмерть. Вот какие бывают русские! Еще бы: князя-то над ними не было, приходилось надеяться только на себя. Герой киевской обороны тысяцкий Димитрий был ранен и захвачен в плен, киевляне отброшены к центру города. На следующее утро изумленные татары увидели перед собой прочный деревянный частокол, построенный за ночь. Он был сожжен; и защитники, цепляясь за последнюю надежду, забрались на каменные церкви. Но и бог не помог, церкви под тяжестью распались в прах. 6 декабря Батый овладел Киевом. Раненого Димитрия он пощадил за отвагу и стал возить с собой.
Блудные Рюриковичи, узнав в своих тихих поместьях о падении Киева, ударились врассыпную: Даниил — в Венгрию, Михаил — в Польшу.
Батый с удовольствием захватывал города и веси, отступая от несговорчивых крепостей. Димитрий, видя разорение родной земли, сумел перевести стрелки на сытую Европу. Темными украинскими ночами стал он рассказывать хану о чудесах военной техники немецкой, о несметных сокровищах городов венгерских, о достоинствах баб «лядских». Батый купился на уговоры и весной 1241 года перешел Карпаты. Дипломатические усилия Императора Фридриха Второго по объединению германских сил успеха не имели, и татары последовательно громили мелкие отряды и брали чистенькие европейские городки. В принципе, Батыю была открыта дорога хоть да самого Парижу, но он пресытился победами, томился огромным обозом, тяготился непривычным ландшафтом. Тут его дважды больно ударили чешские рыцари: Ярослав из Штернберга и сам король Вячеслав. Именно на их счет следует записать спасение Европы. Они умели храбро нападать и стойко обороняться. Именно Вячеслав объединил несколько австрийских и немецких князей и преградил большим войском путь Батыю. Батый повернул восвояси. То есть к нам.
Здесь уже не было никакого сопротивления, никаких партизанских отрядов. Здесь была любимая степь! Здесь можно было обживаться, создавать на обширных пространствах Великую Империю, которую так и не создали за 400 лет варяжские князья.
НАШИ НОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ
Татары пришли к нам не военным отрядом и не поповским посольством, не армией и не колонией. Они пришли к нам все! Не вся монгольская нация, конечно, но все племя Батыя и все племена его командиров. Они пришли не на время, как большинство варяжских дружинников Рюрика, они пришли сюда навеки поселиться. Поэтому они ничего не оставили «дома», в Поднебесной империи, они все забрали с собой: и юрты, и кибитки, наполненные имуществом, женами и детьми, и стада овец до последнего ягненка, и всех верблюдов и коней, и хозяйственные мелочи до иголки. А больше у них ничего и не было.
Татары разительно отличались от наших домашних азиатов — половцев, хазар, «лиц кавказской национальности». Однако Писец почему-то не оставил более или менее подробного их описания. На наши укоризненные расспросы он только мелко вздрагивал, обратив затуманенный взор на детали пола. Видно, жутко и тошно ему тогда приходилось, страшной кровавой пеленой застилало глаза, холодело обнаженное сердце поэта: убьют-не убьют? А может быть, просто татары съели всех гусей…
Пришлось Историку собирать фрагменты татарского портрета по заграничным архивам и библиотекам. Он обнаружил в импортных описаниях татар много хорошего и много плохого.
Итак, татары были удивительной внешности: широко расставленные, маленькие раскосые глаза, приплюснутый нос, малый рост. Почти не заметна была растительность на бороде, отсутствовали и рога на голове, вопреки уверениям многих очевидцев.
Жен татарин имел столько, сколько мог содержать. Невесты покупались у родителей очень за дорого. Женились татары на любых женских существах, кроме матери, дочери* и сестры от родной матери. Законными признавались дети от всех жен без разбору. Но наследник назначался один — младший сын самой знатной жены. Тут тебе и улучшение породы и продление рода: старшие сыновья раньше гибли в боях и походах.
Главное богатство татарина — скот.
Бог татарина един, всесилен и вездесущ. Но ему не молятся и его не славят! Жертвы приносятся его «ангелам» — языческим идолам. Вот вам и монотеизм на службе государства без заимствования чужих богов! Татарин боготворит своих умерших ханов, солнце, луну, воду и землю. Считает грехом дотронуться бичом до стрелы, ножом до огня (понимает, что сталь может отпуститься, потерять закалку), переломить кость костью, пролить питье на землю. Молнию татарин считает драконом, оплодотворяющим женщин: чем еще объяснить татарскую многочисленность в грозовых степях? Татары правильно понимают санитарные свойства огня: пленных князей проводят к хану меж двух костров, чтобы отец народов не подхватил иностранную заразу.
Татарин свято чтит своих начальников. Других таких послушных подданных ни у кого не было, нет и уже не будет.
Татарин почти никогда не бранится. Известные нам слова — всего лишь цензурные элементы его речи. Вообще, бранные слова употребляют только татарки, проклиная нелегкую женскую долю.
Татары не дерутся никогда!
И — о, ужас! — татары не воруют!!! Не знают замков, не запирают кибиток.
Татары очень общительны между собой, самоотверженно помогают друг другу.
Татары воздержанны: когда не удается поесть, — поют и веселятся!
«Татарские женщины воистину целомудренны!» — божится монах-путешественник Иоанн Плано-Карпини. Скучно…
— Что вы, сударь, приуныли? — заботливо тронул меня Историк.
— Вспомнил молодость. Все это я уже читал. В нашей парикмахерской висел плакат с призывом соблюдать все эти татарские добродетели. Он назывался «Моральный кодекс строителя коммунизма» — грустно отшутился я…
Но были у замечательного татарского народа и неприятные для чужих качества и привычки.
Татарин непомерно горд с чужими. Приезжает к хану с докладом великий князь Ярослав, а татары ходят мимо, поплевывают. Ни тебе в ножки поклониться, ни «чего изволите, государь?», ни ласкового привета великой княгине с пожеланием молнии под подол. Слугами и наблюдателями приставляли к порфироносным ходокам все какую-то мелочь пузатую.
С чужими татарин из благовоспитанного пуританина превращался в несытую сволочь: легко раздражался, впадал в гнев, становился лжив, коварен, страшно жаден, мелочен, скуп и свиреп. Убить человека ему легко: он всю жизнь овец резал. Так что чужие были татарами очень недовольны, но помалкивали. Было у татар и еще одно противное свойство, не извиняемое национальной обособленностью. Очень уж они были неопрятны. Вечно татарин болтался по стоянке оплеванный, обделанный какой-то, немытый-нечесаный, гигиены не понимал, за всякими нуждами далеко от юрты не отлучался.
Закон татарский, написанный Чингисханом, был строг: высшая мера назначалась за 14 видов гражданских преступлений. Вот самые тяжкие из них.
1. Супружеская измена.
2. Воровство.
3. Убийство человека.
4. Убийство животного не по обычаю.
Великий Чингиз оставил и четкий военный кодекс. Татары строго следовали ему, и строительство их Империи шло успешно.
Итак, что же нужно для всемирно-исторической победы? А вот что. Нужно, чтобы войско было организовано строго, по десятичной системе, еще не очень широко применяемой в Европе. Воины объединялись в десятки. Десятки — в сотни. Сотни — в тысячи. Дальше считать было затруднительно, не хватало татарам монастырского образования, и все соединения с десяти тысяч они называли «тьмою» (Помните: «Эх, ма! Была бы денег тьма!»).
Еще нужно было, чтобы каждый воин помнил свой долг, знал свое место, забыл понятие «пощада» и по отношению к врагу и по отношению к себе самому. Воин должен был иметь лук, колчан стрел, штурмовой топор и веревки для перетаскивания техники. Состоятельный воин обязан был за свой счет вооружиться саблей, добыть шлем, броню себе и коню. За неповиновение, трусость, слабость, любое непослушание, оплошность в бою наказание только одно — смерть. Если с поля боя бежало не все войско, а отдельные воины или десятки, они умерщвлялись. Если один или несколько татар бились храбро, а их десяток прохлаждался, халтурщиков после боя казнили. Если один попадал в плен, а остальные девять его не освобождали, им тоже было не жить.
Стратегия и тактика татар были совершенны. Впереди войска всегда разведка — «караул» (тоже вот татарское слово). Разведка не опустошает местности, не отягощается трофеями, а только уничтожает живую силу противника. При тяжкой стычке сразу отступает, заманывает неприятеля. Большое войско ведет зачистку территории — уничтожает все. Вожди не имеют права идти в бой. Они сидят в седле на возвышенности и по-наполеоновски наблюдают битву. Жены и дети здесь же, чтобы вождю некуда было бежать. Реки татары форсируют на специальных плавсредствах — надувных кожаных мешках. Мешок привязывается к хвосту коня, конь плывет, татарин сидит верхом на мешке. Писец рассказывал, что зрелище татарской переправы лишало православных дара речи. Вперед татары всегда выставляют отряды малоценных покоренных народов, как мы в свое время половцев или печенегов. При осадах используются самые современные стенобитные машины. Тела убитых врагов быстренько перетапливаются на жир. Этот жир забрасывается на крыши осажденного города, следом летят зажигалки с греческим огнем. Все горит!
Татары активно использовали и дипломатию: она резко снижала потери, повышала качество пленных. Так бы все лучшие люди погибли при осаде, а татарам достались только никчемушние князья да бояре. А так, они уговаривали всех сдаваться. Затем сдавшихся выводили в поле, строили, считали, вызывали умельцев, мастеров, художников и ученых. С почестями отводили их в свой лагерь. Затем по надобности разбирали сильных мужиков, женщин и детей. Остальных поголовно уничтожали.
— А как же мы?! — кричали избиваемые князья да бояре.
— А никак, — отвечал татарский начальник, — вас оставлять не велено. Ни в коем случае!
Надо отметить, что все эти действия татары предпринимали не по злобе или жестокости, не из садизма или вселенской ненависти, не по озарению от ангела войны Сульдэ, а по уставу! Все это было раз и навсегда им предписано Чингисханом.
Но вот стихали бои. Мир заключался только с теми народами, которые полностью, безоговорочно капитулировали. Условия, также завещанные Чингизом, были простыми.
1. Перепись населения нового государства, вступающего в союз нерушимый.
2. Каждый десятый молодой человек шел в рабство и услужение при татарской ставке для пополнение людских ресурсов. Остальные становились налогоплательщиками и гражданами Империи.
3. Ставка налога — 10 % с имущества, прибыли, всякой добычи. Сейчас это у нас называется «подоходный налог», только ставки у нас все еще хуже татарских. Тут мы с отменой Ига поторопились.
4. Войско субъекта татарской федерации выступает в поход по первому требованию.
5. Руководитель региона по первому вызову летит на ковер к хану «шизым соколом». Не забывает при этом подарки хану, ханшам, всем номенклатурным работникам ставки.
6. Хан заслушивает доклад руководителя и, если что не так, казнит его без базара.
7. На всякий случай хан держит детей губернатора в своей ставке заложниками и постепенно обучает их правильному государственному руководству.
8. Представители хана, баскаки, живут комиссарами в присоединенных странах и помогают князьям княжить.
Закон татарский в своих секретных статьях предписывал на всякий случай уважать все вероисповедания, служителей всех культов, все относящееся к духовной жизни. Поэтому в семье хана были последователи многих религий. Непослушные чада часто назло папе то совершали обрезание, то капризничали за столом: «Свинину я не ем, вина я не пью, а руки я мою…» А то заказывали пленным ювелирам нательные кресты.
Служители культов освобождались от любых налогов!
Вот на такие нечеловеческие условия согласилась пораженная Русь и потащила татарское Иго через два с половиной века.
И МЫ ПОДУМАЛИ, ЧТО ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Схлынула волна второго татарского похода, и князья стали снова править. Старший из оставшихся Рюриковичей, Ярослав Всеволодович, пришел во Владимир, мы его привычно приняли, даже обрадовались. Он за несколько субботников очистил церкви и улицы от трупов и… занялся милым делом — расстановкой мебели. Стал рассаживать родичей по волостям: Святослава — в Суздаль, Ивана — в Стародуб, Бориса — в Ростов, Глеба — на Бело-озеро.
Все выглядело по-старому, но князь чуял, что все его великокняжеские выходы и подъезды теперь не более, чем дурная игра в погорелом провинциальном театрике при поредевшей публике. Где-то в зале сидел режиссер, который вот-вот мог включить свет, сказать «не верю!» и отправить актеров пасти табуны. Понял Ярослав, что сами Рюриковичи больше Россией не правят. Что надо ему поспешить к царю татарскому, упасть в ножки, задарить весь гарем побрякушками и вымолить, выпросить у свирепого азиата еще несколько лет сладкой власти над этим покорным русским народом.
Получилось.
Батый согласился оставить Ярослава «великим» князем и ханским слугой. По новой службе пришлось Ярославу послать к Батыю еще один наряд с подарками, выслать на просмотр всю свою семью и многих бояр. Сына он отправил и дальше, в Поднебесную — центральную Орду. Там рассердились на второстепенность посла. Пришлось Ярославу самому ползти через всю оккупированную Азию. Наступила дикая маета. Однако дома князь мог снова надуваться, пить, есть и командовать. Удовольствия компенсировали унижения. Цель оправдывала средства.
Стал Ярослав петрушкой при царе. Из Орды не вылазил. Ханша его пригрела, поила и кормила из немытых рук. Потом он надоел ей, и она его отравила. Aqua Tofana — семидневный убойный напиток из Италии. А может, обычный прокисший кумыс. Но князь посинел и стал для бесед не годен. Историк пытался защитить честь покойного и будто бы отыскал свидетельства оговора князя своими же братьями.
На освободившийся русский стол ханша хотела посадить молоденького симпатичного Александра Ярославича. По русским законам ему этого не светило — были у него старшие родственники. Но ханша гнула свое: приезжай, Саша, ко мне, будем тысяче-одной-ночью заниматься, и станешь ты у меня великим князем всея Руси, Владимирским, Суздальским, Рязанским, да и Киевским. А заслужишь — так и моим личным табунщиком. Но Саша пока что к ханше не поехал…
Татары правильно строили Империю. Они не стали долго и нудно обсуждать конституции, уставы, вырабатывать единообразные формы государственного устройства для новых колоний. Они хотели только повиновения и дани. Будь ты хоть вселенским царством или католическим королевством, назовись хоть православной советской республикой или анархическим аморальным Гуляй-Полем, — это дело твое. Но вот, — наступает срок, вот она — сумма, вот мой меч — твоя голова с плеч! Четко, не хлопотно, результативно.
Тут к Писцу как очевидцу следуют вопросы.
А что ж мы, люди русские, так и не поняли, что Рюриковичи — банкроты? Что держать их дальше глупо и противно?
Что контракт 862 года ни в одном пункте они не выполнили, а теперь и свои правила с треском провалили?
Что раз над нами теперь хан (или «царь», как его льстиво, даже в переписке между собой стали называть князья), то зачем нам эта скрипучая битая мебель? Не пора ли нам проводить слуг народа восвояси — на Рижское взморье или на четыре стороны без выходного пособия, а самим разбираться с ханом?
Помолчал Писец. А потом сказал умное слово:
— Да сами-то мы, государи, только приглашать умеем, а провожать и разбираться так пока и не научились…
НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ
А в это время… А вернее, еще раньше на Рижском взморье, с другого боку падшей России происходили перемены. Туда пришли крестоносцы. Эти крепкие, тренированные, идейные парни провели свою молодость в жарких странах. Они воевали в Палестине. Они то захватывали, то теряли Иерусалим и Гроб Господень. Потом фронт освобождения Палестины их оттуда вышиб окончательно. И вот вернулись ветераны домой…
У всех, кто приходит с войны, обостряется чувство справедливости. Они всем существом презирают мафиозную возню тыловых крыс: «Я был батальонный разведчик, а он — писаришка штабной…» Таких честных и справедливых, опаленных и вооруженных в приличном обществе держать опасно. Поэтому крестоносцев на родине, в микроскопических германских княжествах и латинских королевствах, приняли прохладно. Рыцари по-прежнему держались друг друга, сохраняли свои ветеранские организации — ордена, исправно платили взносы, поддерживали боеспособность. Но было им скучно.
Тут подвернулась оказия. Польский король Конрад Мазовецкий очень страдал от набегов северных соседей — пруссов. Они приходили из Прибалтики незванно и вымогали деньги и предметы обихода. Однажды произошел досадный случай. Пруссы пришли требовать одежды: сильно обносились, собирая янтарь. А у Конрада, как назло, ничего не было. Пришлось ему под страхом смерти идти на хитрость. Созвал он бал. Паны и пани пришли в мехах. Верхнюю одежду сдали в гардероб. Гардеробщиком был — вы догадались! — прусский товарищ. Пока протанцевали мазурку, раздевалка опустела… Конрад выжил, но опозорился на всю Речь Посполиту. Чтобы оградить соотечественников и смыть пятно, Конрад обратился к Императору своей Священной Римской Империи с вопросом: а нет ли кого, кто согласился бы поохранять северные границы католических владений от язычников? Правда, с деньгами сейчас…
— Да есть, есть! — не дослушал Император. — Вот безработные ребята, прошли воду Средиземного моря, слышали пение Иерихонских медных труб, да и огонь им не в новинку… Тут Император замялся, потому что кое-где по Европе излишне благородным крестоносцам уже собирались шить дела и жечь бойцов на кострах целыми отрядами.
Все удовлетворенно перекрестились, и крестоносцы быстро заселили полупустую Прибалтику, построили Ригу, другие замки, стали не торопясь разбираться в соседях. А соседями среди прочих оказались и наши новгородцы…
В Новгороде с 1236 года княжил молодой Александр Ярославич. Он успешно отбивал наскоки шведов, всяких лесных народов. Владимиру и Киеву было не до него, а татары по болотам до Новгорода не дошли. Была возможность спокойно пожить и красиво повоевать. А что главное на войне? На войне главное не оружие и не войско, не стратегия и не тактика, и даже не маневры. На войне главное — правильно и красочно описать победу!
Тут наш Писец очнулся от татарского морока и радостно захихикал. Ни один князь до Александра, вообще почти никто из великих и малых, не придавал такого значения работе журналиста. Мы с Историком стали регулярно выслушивать лирические рулады, которые сочинил наш Писец в шатре Александра. Мы прочли среди его строк и прямое признание, что Писец непрерывно был возим в обозе князя, что князь его регулярно приглашал, слушал записанное и лично указывал, где чего подправить, что как подать, что обойти, о чем умолчать.
Эх, не смог Александр возить с собой и кормить с ложечки всех братьев Писца! И они о нем написали! — волосы дыбом встают. Но об этом чуть позже.
А сначала все шло неплохо. 15 июля 1239 года Александр победил в устье Невы шведского ярла Биргера. Биргер шел по команде Римского Папы, чтобы правильно крестить Русь, а Александр его разбил. Вернее, сам Александр сидел в седле на пригорке и присматривал за битвой, а шведов громила команда из шести богатырей (не перевелись-таки на Руси богатыри!).
Сначала Гаврила Олексич погнал Биргера обратно на корабли и хотел даже заехать верхом по трапу, но был сбит в воду, вылез на берег и убил воеводу и епископа шведов.
Потом Сбыслав Якунович с одним топором, в одиночку раз за разом врубался в толпу изумленных варягов.
Яков Полочанин с мечом тоже один кидался на шведские отряды, шведы просто цепенели от такой идиотской тактики.
Четвертый герой, новгородец Миша, добрался до шведских кораблей и три из них «погубил». «Миша рвал борта лодей руками!» — уверял Писец.
Даже отрок княжеский Савва, почти пацан, не усидел, прорвался к шатру Биргера и подрубил центральный столб. Шатер с треском завалился, шведы обезумели.
Шестой — слуга Ратмир, тоже в одиночку прорубился через шведский строй, накрошил пехотинцев в капусту, но был убит, видимо, нечаянно.
Шведы в панике бежали за моря.
Наши потеряли всего 20 человек.
Все эти эпизоды князь Александр лично продиктовал Писцу. На основании вышеизложенного он велел приписать себе новый титул — «Невский».
Был еще один эпизод, достойный пера. Еще перед боем пришел к Александру старец Пелгусий, известный своей набожностью и миссионерской деятельностью среди язычников. Казенной работой старца было присматривать за морем, чтобы шведы не пробрались к берегам нашей родины. Шведов старец проспал, зато при этом было ему такое сновидение. Будто бы идет по морю корабль. На носу стоят святые Борис и Глеб, — как-то старцу сразу стали известны их имена! — и говорят они друг другу:
— А что, поможем князю Александру, брат Глеб?
— А почему бы и не помочь, брат Борис!
Князь Пелгусия выслушал, но велел идти с миром и никому таких рассказов не рассказывать. И в летопись абзац о божественной поддержке Невский диктовать не стал. А к нам эта повесть обиженного Пелгусия дошла через какого-то левого писателя. Скромность князя объясняется просто: не хотелось ему сомнительной мистикой умалять историческое значение своей победы.
А значение это воистину велико было. И не потому, что с треском разгромили горстку шведов, и не потому, что наглумились над ними силой богатырской. А потому, что мелкая эта победа для матери нашей, заступницы слабосильной, церкви православной, очень велика была! Слабо было разбить монгольскую орду, отразить басурман, обратить нехристей в православие, так вот нашлась заслуга — отбились от потешной попытки братьев-христиан заставить нас креститься направо, а не налево…
Победа, почетное звание, народное признание вскружили голову удальцу Невскому. Разругался он с новгородцами и выехал вон.
КАК СТАТЬ СВЯТЫМ
Одним из самых любимых фильмов нашего детства был «Александр Невский». Мы смотрели его много раз, и каждый раз после просмотра наш поселок превращался в поле боя. Все пацаны вооружались деревянными мечами, и начиналась азартная рубка. На самых слабых и безответных напяливали старые ведра — шлемы немецких рыцарей. Сейчас, вспоминая это, я понимаю, что нам всем навесили ржавые ведра на головы или, если угодно, лапшу на уши. Сделали это добрые дяди из Госкино и Священного Синода.
У советских киношников цель была наивной и благородной: шла очередная война с немцами, и надо было заняться чем-то полезным в пыльной, но неопасной ташкентской эвакуации. Вот и сняли в 1941 году поучительный фильм, какие немцы кругом плохие, какие они рогатые, как они кидают в огонь наших младенцев. И, наоборот, какие русские хорошие, сильные и смелые, какой князь у них красивый и благородный, как он простой сеткой ловит рыбку, — ну прямо святой апостол Андрей. Отсюда бесповоротно получалось, что немцев мы просто порвем на части, перетопим, как щенят, а все наше благородное вольется в единый рыбацко-пролетарский котел. Хорошо было снято, своевременно и простительно. Историю, правда, поковеркали изрядно, а так ничего. С тех пор в учебниках писали: Ледовое побоище было на Чудском озере, немцев порубали видимо-невидимо, рыцари все провалились под лед, победа имела большое-пребольшое историческое значение. И даже на ордене Александра Невского, за неимением портрета святого, изобразили народного артиста СССР Николая Черкасова в бороде и шлеме. А все потому, что Невский Писца с собой возил, а живописца возить не догадался.
У церкви мотивы восхваления и канонизации Александра были более приземленными: опять отбита атака католиков, опять патриархи и митрополиты московские сидят на Руси и никому не подчиняются. Кроме Бога. Но с Богом у них свои дела.
А вот как было на самом деле.
Немцев после новгородской отставки Александра привел на Русь обычный русский предатель, князь Ярослав Владимирович. Немцы осадили Псков и договорились с жителями. Те отдали своих детей в заложники. (Сразу успокою милых читательниц: с детьми ничего страшного, кроме беглого изучения основ немецкого языка, не случилось). Править стал немецкий наместник Твердило Иванович, тоже, конечно, из полицаев. Немцы захватили окрестные волости и стали планировать их переустройство. Несогласные с новым порядком бежали в Новгород.
Пришлось новгородцам ценой уступок и унижений выпрашивать себе Александра обратно в вожди. Великий князь Ярослав предлагал им другого сына, Андрея, но новгородцы, наслушавшись и начитавшись произведений нашего Писца, соглашались только на Невского. Им это потом икнется, будут они на него жалобы писать, но сейчас, в 1241 году, — ровно за 700 лет до щелчка мосфильмовской хлопушки с его именем, — Невский вернулся постоять за веру православную. Сначала он разогнал немцев из волостей, пленных отпускал с миром, своих предателей вешал. Нужно было брать Псков, но тут, как на грех, пришлось отлучиться в Орду. Батый осмотрел Александра. Писец быстро записывал слова хана, будто бы понимая по татаро-монгольски: «Нет подобного этому князю!».
Весной 1242 года по возвращении из Орды вдохновленный Александр сходу вышиб немцев из Пскова и разобрался с ними по-татарски, без гнилого европейского либерализма: шесть пленных рыцарей были замучены до смерти. Далее Невский сам вторгся на немецкую территорию, но его передовой отряд был разбит.
Александр остановился на льду Псковского озера, в 20 верстах южнее Чудского. Лед 5 апреля «был еще крепок». Дальше все было, как в кино, — и немцы, наступающие «свиньей», и лютая сеча, и обходной маневр русских. Лед был покрыт кровью, но не треснул нигде, и русские гнали немцев до берега. В фильме этот эпизод изменили, потому что пленка была черно-белая, и разливать по льду красную гуашь смысла не имело.
Итоги битвы в военном плане были смехотворны: убито только 500 немцев, да 50 рыцарей попали в плен. Кровью лед окропили в основном местные жители, чудь и вожане, будущие эстонцы и латыши, уже тогда поддержавшие немцев. Псков встречал победителя крестным ходом. Писец порхал трофейным немецким пером: «О псковичи! Если забудете это и отступите от рода великого князя Александра Ярославича, то похожи будете на жидов, которых господь напитал в пустыне, а они забыли все благодеяния его». Тут мы видим, что талант Писца расцвел: гиперболы и сравнения так и льются на терпеливые страницы. Вот уже Невский досрочно вышел в «великие» князья, вот уж и с Христом сопоставлен! И вот откуда пошла невинная привычка всех подряд называть жидами.
Александр срочно отъехал проводить отца в Орду, поэтому обошлось без казней: немцы прислали письменные извинения, отпустили заложников, получили назад всех пленных. Все тихо, мирно, культурно — на смертельное противостояние с «гнилой фашистской нечистью» не тянет. Конфликт был исчерпан.
Но события развивались стремительно. В этот раз на юге.
Ярослав был отравлен. Права на престол должны были перейти к его брату Святославу, и все Ярославичи оставались не при делах. Сжигаемый ядом Ярослав понимал это и успел прохрипеть Писцу завещание: главенство в роде переходит не к брату, не к старшему сыну Александру, а к среднему — Андрею. Он, дескать, и более умен, и рассудителен, и образован. И просто милее отцу. Окрыленный Андрей и уязвленный Александр срочно поехали к хану. Дорога была дальняя. Пока добирались, Святослав уселся править, но младший брат ходоков Михаил Хоробрит, князь московский, согнал дядю с трона и объявил себя великим князем. Сразу стал хозяйничать и воевать, но нечаянно погиб в бою с литовцами. Это все осталось за кадром, и путешествие продолжалось.
В Орде Андрей предъявил завещание великого князя Ярослава и был утвержден в должности. В традиционных правах Святослава и Александра татарам разбираться было недосуг. Святослав в пустой след ездил в Орду, но зря потратился на подарки и с досады через несколько лет умер. Был еще один старший дядя, но и тут татарам было все равно. Ярославичи дарили лучше, кланялись ниже, улыбались шире. Между собой они в Орде чуть не подрались, Невский хотел задвинуть младшего брата, но Батый принял-таки во внимание волю Ярослава. Александр при дележке получил Киев и Новгород, бывшие главные, а теперь скандальные и бросовые города.
Потянулись годы, неприятные для Невского. Андрей спокойно правил Русью, Александр изнывал в Новгороде. В 1250 году случилась новая беда: Андрей женился на дочери Даниила Галицкого, единственного сильного южнорусского князя. Александр легко мог лишиться Киева, до которого так и не собрался доехать с официальным визитом. К тому же, как известно, от княжеских свадеб с неотвратимостью летней молнии происходят княжата — алчные наследники тронов и корон. Надежда на всероссийскую власть уплывала с волховской волной. Нужно было что-то делать.
Тут как раз разболелся покоритель Руси Батый. Ответственным за Русь стал его сын Сартак, который по молодости завещания Ярослава не помнил. Можно было играть. Невский рванул на Дон в новую ставку Сартака и стал нести на брата околесицу: Андрей, дескать, и благороден и храбр, но вот, изволите рассмотреть, ваше высочество, к управлению государством не удобен. Он и молодежь слушает, и охотой увлекается чрезмерно, и конторские дела запустил.
— А от этого, сами понимаете, падает собираемость налогов, и далее, — правильно, пресветлый хан! — снижается ваша татарская десятина. — Нет, процент остается тот же. Вал уменьшается. Ну, ек манат, по-вашему.
— Как, ек манат? — допер Сартак. — Так что ж ты, холоп, молчишь, не доносишь об измене?
— Так вот, извольте слушать, не молчу, доношу…
Сартак принял полный комплект стандартных решений: Сашку-Каина — в великие князья, на Андрея — карательный отряд хана Неврюя. Все, что надо, — пожечь, Андрея на аркане — сюда. А хоть и на месте удавить!
Андрей осмелился собрать на татар и вероломного брата войско, но был разбит и бежал в Швецию. Александр наблюдал, как татары жгут бывшие владения брата и уводят в плен толпу русских, его подданных. Цель была достигнута, но хотелось соблюсти и приличия. Невский вызвал брата из Швеции, ловко умилостивил хана, посадил Андрея княжить в Суздале.
Три года прошли в приятной, канонической возне. Ходили друг на друга походами, воевали то с Тверью, то с Новгородом, судились и рядились. Все было прекрасно, знакомо с детства по устным преданиям и рукописным собраниям сочинений нашего Писца. Легко было воображать себя то Красным Солнцем, то Мономахом, то Ярославом Мудрым. Играй, да про татар не забывай — плати вовремя! Платили.
В 1255 году дважды осиротела русская земля. Скончался наш надежа-государь — хан Батый. А следом за ним и его верный друг, сын и соратник — Сартак. Править стал брат Батыя, Берге. Стал мести по-новому, наводить порядок, подтягивать разболтавшуюся упряжь. В 1257 году грянула вторая всероссийская перепись населения, другого мелкого и крупного скота. Понаехали татарские счетчики, пересчитали нас, разбили на десятки и сотни, тысячи и так далее, назначили начальников, обложили налогами. Опять не тронули попов. Раввинов еврейских на этот раз поверстали, как простых. Это — змея антисемитизма доползла уже и до Сарая (так забавно для нашего нынешнего уха называлась столица Золотой Орды). Новый, а вернее, старый, но доведенный, наконец, до реализации, порядок был принят без бунта. Почти всеми. Только не взятые татарами новгородцы опять загордились: не будем платить, не любим, чтобы нас считали; от этого снижается урожай, у коров и баб пропадает молоко. Пришлось Александру вызывать карателей, вести их на Новгород меж болот. Новгородцы откупились крупными взятками, татары уехали. Александр оказывался в дураках. Тем более, что смуту новгородскую возглавлял его собственный сын, Василий. Невский погнался за сыном: нужно было отшлепать малыша. Выгнал Василия из Новгорода и Пскова, сослал в Суздаль. Советников его казнил. Новгородцы бунтовали всю зиму, убили посадника Мишу — славного богатыря, героя Невской битвы.
Сильные и гордые легче всех попадаются на подвох. Александр прислал к новгородцам провокатора: «Уже полки татарские в Низовой земле». Намек был, что надо вам платить десятину. Новгородцы испугались и согласились. Зимой Невский лично привел в Новгород татарских мытарей с женами и детьми на постоянную работу и жительство. Но новгородцы бунтовали, многие хотели смерти в бою, и пришлось князю татар защищать. Татары уже решили бежать из страшного города, но Невский и сторонники смирения уговорили новгородцев «дать число» — вытерпеть перепись. Татар догнали и вернули уже из-за ворот. Перепись прошла успешно; непривычно и стыдно стало новгородцам. Новгород оставили в. покое. Но бунты продолжались. Собирали веча, выгоняли татарских чиновников, били, а то и убивали предателей, принявших татарскую веру и угнетавших нас пуще татар. Невский решительно усмирял сограждан. Его именем стали пугать детей, сетовал Историк. Но финансовые результаты правления Невского оставались скудными.
Татары злились. Дела у них не шли. Северные провинции Империи настроить не успели, а южные уже трещали по швам: начались стычки с персами. Александр в четвертый раз поехал в Орду, пытался там сгладить недовольство, дарил подарки, обещал, упрашивал. Но был он уже неугоден и списан со счетов. Поэтому и погиб Невский не в бою, не под крестом и великокняжеским походным знаменем, а в дорожных санях, по пути из Орды, после унизительных разборок. Ходили слухи, что татары отравили князя испытанным средством.
Смерть Невского наступила 14 ноября 1263 года. Осиротевший Писец вложил весь свой талант, все писательское искусство, весь поэтический дар в описание заслуг князя, в записи о его достоинствах, в авторизованные переводы иностранных отзывов о святом Александре. Даже сцена объявления россиянам его смерти построена по законам вселенского эпоса. Вот соборная площадь во Владимире. Она забита горожанами, уже почуявшими дурную весть. На ступеньках собора появляется первосвященник — митрополит Кирилл. «Дети мои милые! — возглашает он к народу. — Знайте, что зашло солнце земли русской!» Не успел митрополит расшифровать иносказание, как массовка дружно завопила в ответ: «Уже погибаем!»
Покровительство литературным талантам никогда не остается без вознаграждения. Трудами нашего Писца великий князь Александр Ярославич Невский вошел в историю как храбрый воин, заступник русских людей, славный и честный, подобный Ахиллесу и прочая, и прочая. Церковь причислила его к лику святых. _Его иконы висят в церквях по сей день. По заслугам и честь. А впрочем, был Невский не более грешен, алчен и подл, чем святые Владимир или Ольга. Так отчего ж и ему не попасть в святцы?
БУДНИ ИГА
Иго — это что-то вроде хомута или ярма, но только для быков. По крайней мере, мне известно лишь одно неметафорическое, редкое в современном русском языке словосочетание — «воловье иго». В переносном смысле также используют единственный вариант — «татаро-монгольское иго». Слова «хомут» и «ярмо» еще применяют для описания прелестей семейной или колхозной жизни, а «иго» — нет. Слишком страшным оно нам кажется.
К сожалению, «просвещенные» князья наши, в отличие от «диких» татар не вели учета вверенного им населения. А то бы мы сейчас быстро оценили динамику рождаемости и смертности и определили, от чего легче тратился русский народ: от татарских набегов и переписи населения или от «мирной» жизни под десницей великокняжеской.
Трагедия двух столетий татарского господства состояла не только в злодействах оккупантов, которые и появлялись-то у нас от случая к случаю. Беда произошла от добавления татарского гнета к нашему родному — российскому, княжескому. Татары увеличили тяготы народные на 10 процентов.
Наше нынешнее восприятие татарского ига замутнено слишком правильным воспитанием последних десятилетий. Нас учили так: вот на Родину обрушилась беда — немцы громят Киев, французы форсируют Неман, англичане бомбардируют Севастополь. Что происходит в ответ? Весь наш советско-российский народ, от генералиссимуса и фельдмаршала до последнего крепостного колхозника, от помещичьей дочери до юного пионера, поднимается на борьбу. Генералиссимус не спит ночами, фельдмаршал лично не слазит с седла, крепостное население строится в ряды, идет в ополчение и в партизаны. Девицы переодеваются в гусар. Пионеры ходят в разведку. Поэтому и война называется Отечественной. Поэтому и победа объявляется всенародной. Крепостных освобождают, колхозников благодарят, покойным пионерам ставят памятники. С девиц снимают военную одежду.
Татарский период нашей истории никак не вписывается в привычную школьную схему. Где всеобщая мобилизация? Нету. Где партизанские отряды, пускающие под откос верблюжьи караваны оккупантов? Не замечены. Где сами оккупанты? Известно где — в Сарае.
Значит, не нужно темными краснодонскими ночами пробираться сквозь комендантский час, расклеивать антитатарские листовки, жечь Москву назло проклятому вражьему гарнизону. Можно спокойно собрать всех своих обкомовских братьев-князей. Попить мед-пиво, послушать Бояна-разведчика, прикинуть стратегию, тактику, ресурсы. Наметить четкий план мобилизации. Даже маневры провести под видом зимних олимпийских игр или Ледового побоища. Нет. Ничего этого не делается 150 лет! А потом делается и получается. И еще 100 лет не делается. Значит, можем, если захотим. А не делаем, — значит, не больно-то и нужно.
Народу это татарское Иго было ненамного тягостней обычной жизни: 10 процентов роли не играют, зато князья под присмотром, уже не так сильно озоруют, походов на Царьград не затевают, обходятся ближними немцами да Литвой. Усобица внутрироссийская уже не столь кровопролитна.
Самим князьям Иго позорно, но и вольно. Любое дело в Орде можно оформить за взятки, без оглядки на законы Ярослава Мудрого, на наставления Мономаха, на тень Рюрика. А позору и раньше хватало.
Церковь тоже не надела рубища, не пошла в пещеры и скиты, не стала самосжигаться. А что? Льгота по налогам, досель небывалая и отсель не будущая, отчетности — никакой, в Орде — почет и уважение, теоретическая и методическая, а то и военная басурманская поддержка в спорах с окаянными братьями во Христе.
Так и стали жить не тужить.
Андрей собрался было в Орду — восстанавливаться после Александра в должности, да за зиму разболелся и весной 1264 года умер. Младший брат-наследник Ярослав Ярославич успешно побывал в Сарае и стал великим князем. Он сменил чиновников Невского на своих, занялся рутинным руководством (война с немцами, война с литвой, тяжбы с магистром, спокойное созерцание стычек псковитян и новгородцев с ливонским Орденом, вызов татарских карателей против Новгорода). Скука. Летом жара, мухи, болота. Зимой холодно, отопление дровяное, дым ест глаза. От такой жизни скончался Ярослав через 8 лет, в 1272 году. В истории болезни его Писцом записана и знакомая причина: занемог на обратном пути из Орды. Слыхали, слыхали мы такое. Aqua Tofana, кумыс…
С 1266 года в Орде уже не было Берге. Новый хан принял ислам. Все смешалось в доме Батыя. Хоть и еще раз пересчитали русских в 1275 году, однако, править не успевали. «Минуло первое, самое жестокое двадцатилетие татарского ига», — резюмировал Историк.
Как? Всего 20 лет? А мы-то думали 250!
Снова князь у нас — из дома Рюрика — Василий Ярославин. Снова борьба за новгородское княжение. А без Новгорода на Руси и вовсе уныло: ни тебе окна в Европу, ни тебе с немцами подраться. Такой жизни выдалось Василию 4 года — один нынешний демократический срок. Скончался он в 1276 году. Совершенно случайно старшим в роду оказался сын Невского, Дмитрий.
Опять Историк заскучал. Хотел было заняться рассмотрением дел на Юго-Западе, в Киеве. Думал, хоть там что-нибудь произойдет поучительное, полезное национальному стержню, народной нравственности. Ан нет. Ни ветерка, ни ряби по днепровской глади. Русалка хвостом не всплеснет, похмельный богатырь не начудит. Везде одно и то же: война с венграми и поляками, которых привел русский князь Ростислав. Победа Даниила и Василька. Богатырские игры и схватки один на один с европейскими витязями.
Но вот — грозный окрик из Орды: кончай играть, отдай Галич! Это означало, что Галич, один из самых богатых городов Западной Украины, должен быть передан под прямое ханское правление. И нужно было отправлять все доходы с этого города в Сарай. Причина татарских требований очевидна: в отличие от князей Северной Руси, южане заигрались и стали пропускать сроки платежей в бюджет. Платить было жаль, но города еще жальче. Даниил загрустил, но, конечно, не ударил в набат, конечно, поехал поклониться «царю». Куда девалась удаль молодецкая?!
Противно было Даниилу исполнять варварские обряды безбородых хозяев. Тошно было ходить вокруг куста, кланяться солнцу и луне, молиться умершим ханским предкам, находящимся, естественно, в аду. Наши русские северяне встретились по дороге Даниилу и очень рекомендовали все прихоти татар исполнять. Хан встретил князя, страшно выпучив глаза. Писец стал записывать его речь: «Данило! Зачем так долго не приходил? Ты уже наш, татарин, пей наше черное молоко, кобылий кумыс!» Пришлось пить. Но гримасу Данило скроил такую мерзкую, что хан велел впредь посылать ему вина. Пришлось поклониться и ханше. В принципе, Даниил добился своего, татары отстали.
Весь интерес этого эпизода — в стонах и кумысной отрыжке, красочно описанных Писцом. Все вернулись по здорову, но «был стон великий в Русской земле! И плачь о его (князя) обиде». То есть, так надо понимать, что русские, оторвавшись от сохи, горько сетовали, что их дорогого руководителя поили кислой дрянью. Знаем мы цену этим «стонам» и «плачам». Была Киевской Руси большая польза от Данииловой тошноты: венгры струсили, противник их вернулся цел, а Писец соловьем разливался, все врал, что ежели чего, так хан сразу присылает Даниле-татарину своих кавалеристов. Поэтому венгры с нашими помирились и переженились.
Тем временем и на Севере все было спокойно. То есть татары не лезли, и сыновья Невского привычно дрались за престол. Пока Дмитрий ссорился с Новгородом, брат его Андрей первым слетал в Орду к новому хану Мирзе-Тимуру и выпросил великокняжеский ярлык. За это он привел большое татарское войско покормиться от нашего стола. Татары пограбили, пожгли окрестности полутора десятков городов почти до самого Новгорода, куда их подталкивал новый великий князь.
Потом Андрей закатил для татарских князей буйный пир и с честью и дарами проводил восвояси. Испуганные новгородцы помирились с князем. Тут снова вернулся Дмитрий, и пока Андрей ездил унижаться перед очередным ханом, столкнулся, но и помирился с другими братьями. Андрей второй раз привел гостей татарских, Дмитрий бежал. Он обнаружил в степи какую-то новую орду — Ногайскую. Как славно оказалось, что Ногайская орда враждовала с Золотой! Вот что сгубило детей Чингиза! — славянское Чувство, страшная зараза, которую подцепили в наших краях дисциплинированные некогда татары. Все-таки, надо было мыть руки перед едой, друзья!
Дмитрий привел «своих» татар тоже покушать. Драка меж гостями — забава для хозяев. Эх, если бы еще посуду не били!
С тех пор татары стали стремительно деградировать политически. Мы помним, что такая же метаморфоза случилась с половцами: они стали наниматься к князьям на легкую службу и перестали рисковать и строить собственную стратегию. Историк стал употреблять странные обороты: «свои татары», «его татары», чуть ли не «наши татары»… Чуть позже так и будет! Когда объединенное восточно-европейское войско разобьет крестоносцев при Грюнвальде, Историк напишет, что в освобождении славян от немецкого владычества приняли участие русские. Мы подхватим эту славную весть в школьные учебники и не будем докапываться, что эти «русские», между прочим, как раз и были «наши татары», битые уже Дмитрием Донским и нанятые киевско-литовскими князьями…
Дмитрий умер в 1294 году. Андрей продолжал воевать с братьями и детьми Дмитрия. Последние исправно умирали, — что ни год, то похороны, — но претендентов все равно хватало. Сам Андрей умер — вот беда-то! — в 1304 году.
ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ
Преувеличение ужасов Ига, кроме всего прочего, объясняется еще одной причиной. Нас было выгодно пугать.
Во-первых, это было выгодно князьям: хватит вам стонать — враг на пороге!
Крупный интерес был у церкви: молитесь больше, грешники, думайте меньше; без церкви вас татары живьем потянут в ад!
В последнюю очередь здесь можно заподозрить нашего Писца. Были резоны и у него. Писатель ищет сюжет. Ему нужно, чтобы что-то происходило, чтобы Ромео подрался на базаре, чтобы негр приревновал белую жену, чтобы колдун на одной свадьбе превратил воду в вино, а потом на другой украл невесту из постели. Красивому сюжету необходим живописный фон. Поэтому к сцене подбирались пестрые итальянские, палестинские и киевские задники.
Теперь представьте себе Сарай. Огромный кусок степи обставлен фигурами идолов. В столице нет ни одного здания. Царский дворец — большая белая юрта. Вокруг — юрты князей по старшинству. Многоязыкие толпы рабов, иностранных легионеров, пленных мастеров, кудесников, художников. Стайки гаремных красавиц всех мастей, разодетых, как для конкурса красоты. «Мисс Орда», «Мисс Иго» или, еще лучше, «Мисс Сарай». В этом котле чего только не варится. Тащат к хану пленных князей, играют свадьбу, и тут же — похороны; обряды всех религий смешиваются с уходами и приходами отрядов, колдовство и шарлатанство творятся беспредельные. Торговля всем, для всего и против всего. Огромное сгущение богатств. Разнообразие эмоций и настроений, величие и низость, подвиг и предательство. Вокруг — варварская красота цветущей степи и высокого неба. Облака в форме верблюдов. Здесь есть о чем рассказывать и писать, чем восхитить до умиления и испугать до икоты.
Но была и еще одна, главная причина, по которой Иго проклинали современники и потомки. Иго мешало русским строить Великую Империю. Татары построили Империю сами, но сделали это интуитивно, непрочно, без учета европейских особенностей присоединенных территорий. Татарская Империя вскорости приказала долго жить. У татар была своя священная шкала ценностей, у русских — своя. Татарин боялся воровать, боялся ослушаться командира, боялся своего бога. Русский боялся, но воровал, молился, но грешил, целовал крест на верность, но сам себе оставался командиром. Татары думали, что страх — лучший связующий имперский материал и инструмент: пугаем редко, но страшно, и Сарай стоит вечно. Русские знали, что страх хорош при его перманентном подогреве: пугать, бить, насиловать, грабить народ нужно непрерывно, «чтобы жизнь медом не казалась», чтобы не мечталось о разных глупостях, «лишь бы не было войны».
Иго ругали правильно. Но его забыли поблагодарить за то, что оно наглядно показало русским: Империя — это здорово. Они знали это по римским и византийским сказаниям, но сами построить Империю уже отчаялись. Татары показали, как это можно сделать. Очень просто. Нужно перестать болтать о священном княжеском братстве. Нужно резать своих еще быстрее и сильнее. До татар мы все делали правильно, но чуть-чуть не дорезали, чуть-чуть, на одну лопату, не докопались до истинного удовольствия.
Теперь все было понятно, и путь открыт — осталось лишь идти вперед.
Здесь случилось великое военно-политическое озарение!
По простоте и гениальности оно намного превосходит все гитлеровские, наполеоновские и македонские штуки. Кто автор эпохального изобретения? Никто! То есть наш народ в лице его передового отряда — князей окаянных. В чем состоит открытие? А вот в чем. Практическим путем было установлено, что прекращать Иго, а потом начинать строительство Империи не нужно. Что Иго прикроет любые эксперименты и маневры, что оно оправдает все жестокости созидательного периода, извинит горы трупов и другого строительного мусора.
Что было бы, пойди мы «правильным» путем? Мы бы долго объединялись, торговались, тратились, но еще неизвестно, сколь успешно и продолжительно воевали. При нашей ловкости — те же 200 лет. Но вот, допустим, Иго сброшено. Пора строить Империю: насиловать народ, казнить лентяев, гнать болтунов на рытье каналов и шахт. Тут же поднимается вселенский вой: «Мы победители! Нас репрессировать нельзя! Мы заслужили свободу и отдых!». Народ бунтует, выходит на Сенатскую площадь, добивается отмены крепостного права, называет генералиссимуса палачом. Так Империю не построишь! А построишь, так не сохранишь: немцы да французы — вот они, так и ждут наших неудач.
И стали мы строить Империю, не мешкая и не отходя от кассы. Прикрываясь Игом. Учась у Орды. Громко стеная со стен и по-бабьи проклиная Орду.
ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!
Для строительства Империи нужно было сделать два дела: найти центр, обозначить наш собственный Сарай и заставить всех этому центру беспрекословно, по-татарски подчиняться. Центры у нас и раньше бывали: Ладога, Новгород, Киев, Владимир. Но подчинения поголовного не получалось. Таким образом, в строительной методике обнаружилось новое ключевое слово: «по-татарски»! Так просто? Да! Значит, если бы Красно Солнышко не рассаживал сыновей по Руси, а отдал все, ну скажем, Ярославу, а тот бы мудро зажал братьев и правил всей страной сам, так это и была бы у нас Империя? Да! Только должен был Мудрый Хромой при этом не только книжки писать, но и жечь и резать непрерывно. Жечь — по-татарски. Непрерывно — по-русски.
Итак, будущей Империи нужна была столица. Опять поумневшие русские князья не стали отвлекаться на ерунду, строить белокаменный город на далеком холме и жестоко биться за него. Они поступили мудро, стали биться за должность, за старшинство, за столичность родного уезда. Непрерывно-татарским способом.
Здесь чуть ли не в первый раз обозначилась дорогая моя столица, золотая моя Москва. 150 лет она провалялась провинциальным городком. Ее руководители почти в насмешку назывались князьями московскими. Никаких географических преимуществ, ну там развитого судоходства, полезных ископаемых, еще чего-то особенного в московской лесной глухомани не было. А вот повезло Москве, что именно ее хозяин одолевать стал в кромешной борьбе.
Новый, целеустремленный виток усобицы начался со смертью князя Андрея Александровича. Насмерть сцепились Михаил Тверской и братья Юрий и Иван Даниловичи — все внуки да правнуки отца Невского по боковым ветвям. В 1305 году Юрий и Михаил наперегонки кинулись в Орду. Там состоялся грязный торг: кто больший процент дани пообещает. Дважды повышались ставки. Победил Михаил. Юрий вернулся к брату в досадливом прозрении: надо рубить по-татарски.
Началась война Москвы с Тверью. Убивали друг у друга бояр, сажали их головы на копья. Осаждали и жгли города. Здесь встречается любопытное сообщение. В 1316 году в Новгороде собственным холопом был убит журналист Данилко Писцов. Этот не в меру грамотный однофамилец нашего персонажа послал с холопом тайную грамоту в Тверь. Видимо, тверские гонорары были выше московских. Слуга проявил пролетарскую бдительность, грамоту прочитал (!) и прикончил писаку.
Тут опять из-за высокой ханской смертности пришлось князьям устраивать ралли Москва — Сарай. Михаил поехал к новому хану Узбеку, а Юрий сделал ложный старт, сам остался и выгнал тверских наместников из Новгорода. Ему пришел грозный вызов в Орду, а Михаил вернулся с татарскими гостями; сироты снова приехали подкормиться. В отсутствие Юрия потянулась кровавая разборка: Михаил наводил свои порядки.
В Орде Юрий все неплохо уладил, вошел в милость, женился на дочери хана Кончаке (славное имя!), перекрестил ее в Агафью, повез показывать Русь. Свадебный кортеж был огромен и сильно вооружен. Разгромили Михаила по всем волостям, осадили в Твери. Но он отбился, захватил Кончаку в плен, приструнил татар какими-то заумными угрозами. Сошлись Михаил и Юрий для большой битвы на Волге. Дело кончилось переговорами и соглашением идти на суд ханский. Пока собирались, дочь хана Агафья-Кончака скончалась в тверском плену. Конечно, стали говорить, что от яда. Можно было снова вести себя решительно. Юрий убил послов Михаила и, ободренный смертью жены, двинулся к папе поплакать.
Михаил с перепугу выслал вперед сына, а сам мешкал в дороге. Сына хотели убить, он едва спасся. Послали москвичи перехватить и убить самого Михаила. Невыгодно было допускать его к хану. Но Михаил все-таки добрался в полевую ставку Узбека на Дону. В «Узбекистане» он жил спокойно, пока не кончились подарки. Его стали судить. Суд происходил на ходу. Орда кочевала от устья Дона до Дербента. Михаил следовал за ханом пешком, с ярмом на шее. Вот, где было иго настоящее! На стоянках над Михаилом глумились, на позор великого князя приходили посмотреть немцы, итальянцы, греки, другие любители утонченных искусств. Писец не успевал записывать душераздирающие сцены. Наконец произошла казнь. Юрий Данилович привел толпу ордынского сброда. Князя забили пятками. Потом какой-то Романец вырезал ему сердце. Вот это было по-нашему, по-татарски!
Юрий вернулся из Орды великим князем и стал править, все свои усилия направляя на строительство центра. Он даже тело убитого Михаила выдал вдове и детям только в обмен на подписание договора о капитуляции. Отовсюду Юрию кланялись и везли деньги.
«Для хана», — стыдливо принимал золото в сундуки Юрий.
Сын убитого, Дмитрий Михайлович, заподозрил русскую хитрость и проскочил в Орду. Объяснил хану, что отца оклеветали, именем хана собирают деньги, но кладут в свой карман. Вот чем хана достали! Сразу вышло решение: ярлык — Дмитрию, ордынских подручных Юрия — казнить-нельзя-помиловать. Дмитрий отнял у Юрия ханскую дань, они долго бились, были вызваны на суд, по дороге Дмитрий перехватил и убил Юрия. Хан неожиданно рассердился и казнил Дмитрия за самосуд. Так плодотворно было потрачено время с 1320 по 1325 год.
Править стал Александр Тверской. Он сразу впал в немилость к хану по мокрому делу. Брат Узбека Шевкал приехал в Тверь отдохнуть. Стал везде ходить, нагло улыбаться, отпускать шуточки: «А вот я обращу вас в ислам! А вот я сам сяду на великокняжеский трон!». Но Тверь — не Одесса, шуток здесь не поняли. Напали на свиту Шевкала, стали гонять татар по городу. Возглавил бесчинство сам князь. Когда испуганные татары прибежали к нему домой: пусти нас, князь, спрятаться, Александр гостей пустил, но тут же велел дом запереть и поджечь. С легкой руки князя татар перебили, перетопили, демонстративно пожгли на кострах. Конечно, Узбек рассердился за брата. Конечно, послал на Тверь 50 000 войска во главе с московским князем Иваном Калитой.
Вот он — Калита! Едет во всей красе освободитель Руси от Твери. Ведет своих родных московских татар на проклятых тверских русских! Вот они жгут и грабят и т. д. и т. п. «Положили пусту всю землю Русскую!» — сетует наш Писец. «Только Москву не тронули», — радуется Историк.
На Александра объявили облаву. Все князья стали уговаривать его ехать к хану на казнь. Александр хотел было ехать, но псковичи, у которых он спасался, сказали, что готовы умереть, объединиться с немцами, но не терпеть позора. Тут всполошилась церковь: как с немцами? — креста на вас нет! Пригрозили Пскову отлучением от церкви. Псковичи испугались, но не отступили. Возникла неприятная для церкви пауза: а вдруг — с немцами, а вдруг — против татар?! Но Александр пожалел Псков и бежал в Литву. Потом, когда все успокоилось, поехал к Узбеку, умело покаялся, вернулся в Тверь.
Но Москва потому и Москва, что никогда ничего своего не упускала, чужого не отдавала, недобитого добивала. Калита в 1339 году поехал к хану и возбудил ненависть к Александру. Тверского князя вызвали в Орду, пока он ехал — осудили, а как доехал, то и назначили ему неприятную процедуру. С утра 29 октября Александр на коне объезжал всех знакомых, побывал и у ханши. Везде ему сочувствовали, уговаривали не волноваться и немножко потерпеть, объясняли необходимость казни. Александр с сыном, бояре, свита причастились, помолились своему слабому богу и стали ждать исполнителей приговора. Никто не кинулся галопом в степь, никто не стал с боями прорываться из Сарая. Палачи пришли, культурно дождались, пока русские вышли из юрты, и разрубили князя с сыном на части.
Калита и его сыновья возвратились в Москву с великой «радостию и веселием» — торжествовал московский Писец. Народ вышел встречать героя: попы с хоругвями, в колокола бьют — победа-то какая! — ну и так далее. Юные москвичи, давясь на Красной площади дармовыми пряниками, смекали: служить хану и Москве — хорошо, выгодно, вкусно. Клеветать и предавать — достойно и правильно. Бороться и искать — глупо. Найти и не сдаваться — опасно для здоровья. Такой вот московский государственный университет.
Калита умер в 1341 году, прихватив почти все, кроме Новгорода. Писец не стал лить слезу по братоубийце, перечислил только пункты его завещания. Опять все князья от мала до велика поехали в Орду, опять хан благодарно отдал всю Русь Москве. Править стал старший сын Калиты — Симеон Гордый. Он командовал всеми князьями. И братьями их называл только из верности литературным традициям. Симеон боролся за Новгород теперь уж только с самими новгородцами, с их наивной любовью к свободе и демократии. Пять раз ходил Симеон в Орду и каждый раз возвращался удачно. Видно, не такой уж он был и Гордый.
По всей стране кипела жизнь: княжества воевали с литвой и немцами, со шведами и поляками. Схватывались между собой. Но Москва лежала в покое и сытости. Это было противоестественно. Поэтому в 1353 году Москву поразила страшная язва — «черная смерть». Она совершенно точно ударила в верхушку: умерли митрополит Феогност, сам Симеон, два его сына, брат Андрей. Править стал Иван Иваныч — увертливый сын Калиты. Ему было еще легче тащить все к Москве, потому что в Орде вспыхнула эпидемия убийств, и ханы менялись чуть не каждый день. Князь перестал ездить к ним знакомиться.
Иоанн, «кроткий, тихий и милостивый князь», умер в 1359 году, оставив малолетних детей и племянника.
— Как малолетка Дмитрий будет хлопотать в Орде? — сокрушался Историк. Великое княжение перешло было в Суздаль. Дмитрия повезли в Орду, но в Сарае был бардак. Убийства ханов случались по три раза на дню, сразу после еды. Сама Орда распалась. Бояре Дмитрия поскакали в степь собирать ее осколки. В одной половинке правил не хан, а темник Мамай. Поехали в другую. Там получили ярлык для Димитрия у хана Мюрида. Мамай обиделся.
Вернувшись в Россию, бояре посадили малолетних Ивановичей на коней и восстановили московский порядок. Мамай прислал Дмитрию свой ярлык. Мюрид — отдал свой другому. Одиннадцати летний Дмитрий прогнал конкурента из Владимира. Моровая язва продолжала косить Европу. Проредила и русские княжества. Значительно уменьшилось количество претендентов на высокие должности. Все это благоприятствовало Москве.
МАЛЕНЬКОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Эпизод первый. Идем мы, значит, по Сараю. Я, Историк и Писец. Наблюдаем достопримечательности. Писец показывает нам то юрту православной церкви, то торговые места, то нору колдуна, то шатер шемаханской царь-девицы. Историк тоже бегло озирается по сторонам, пишет что-то в блокнот. У меня компьютера с собой нету, так я и посвистываю под нос. Походили, поглазели и назад подались. Писец сделал важную запись, что татары веротерпимы, церковь нашу в Орде не утесняют, шемаханской шлюшке ходить на покаяние не препятствуют. Историк тоже не с пустыми руками ушел: подобрал на задворках какой-то мятый клочок с непонятной надписью. Я вернулся усталый. Все у меня чесалось, в носу стоял запах Казанского вокзала. Научных результатов не было. Ответов на вопросы, волнующие человечество, не находилось. Первый из этих вопросов был такой: почему в степи глухой, на антисанитарной свалке, среди равнины темныя так много итальянцев?
Эпизод второй. Читаю я книжку Джованни Бокаччо «Декамерон». Читаю ее во второй раз, теперь уж — как литературный памятник. И вопрос у меня к писателю возникает другой, не такой, как в первый раз. В первый раз мне было 10 лет, и вопрос вставал простой. Теперь вопрос встает более сложный и не такой острый. Вот от чего он встает. Десять молодых людей разных полов — пять на пять — ушли в прекрасную погоду на природу и рассказывают вслух забавные истории. Истории эти хорошо слушать в пионерском лагере на сон грядущий, чтобы не спалось. А тут, после горячительных рассказов, вместо того, чтобы все подружки по парам по кустам разбрелися, эти итальянцы спокойно и поодиночке отправляются спать. Заметим, что конвоя и пионервожатых нет, можно было бы и не торопиться играть отбой. Вопрос: почему утонченные и развращенные итальянцы спят поодиночке?
Ответ — один на два вопроса — вспыхивает степной молнией, поражает ученого немым ожиданием, сбивает с кресла запоздалым ударом грома: дошло наконец!
Ответ такой: похотливые итальянцы в середине 14-го века под Флоренцией спят поодиночке, потому что панически, до баскервильского ужаса боятся друг друга! Вокруг-то, оказывается, чума! И пир — во время чумы, и руки мыть надо, и касаться непроверенного партнера опасно, — с руками и ногами ни в какое предохраняющее устройство не залезешь! Вот и приходится ограничиваться сексом по телефону, потому что от чумы не убежишь.
Но, оказывается, убежишь! Если быстро собраться, прихватить только деньги и оружие, группами пробраться в порт, подкупить стражу или просто понабивать всем морды и захватить парусную посудину, то можно убежать от чумы с попутным ветром. Куда он дует? На восток? Ну, значит, на восток! На востоке просвещенному человеку с мечом и алебардой дело найдется — вот хоть в Сарае послужить чумазому царю. И девушки наши походят в шинелях, найдут себе занятие, — лишь бы не было чумы!
Не зря мы читали классика под одеялом, пока батарейка в фонарике не села. Не зря совершали променад в просвещенной компании по просторам Орды. Теперь мы знаем, что чума во всем виновата. Она погнала наемников в ставку Мамая. Она вырубила наших венценосных упырей, она сплотила оставшихся, пригласила их, бесшабашных, на последний пир!
КОНЕЦ ЧУМЫ
Слишком мал был Дмитрий, чтобы успеть научиться придворным тонкостям, чтобы четко понять: вот хан, вот я грешный, вот князья наши, вот немцы и поляки. А вон там еще народ. Учили Дмитрия няньки, учили неправильно, что вот он — великий наш народ, вон там — Бог, вот ты, наш ясен свет — заступник народа, а вон там вражья сила — тебе, богатырю, по плечо. Поверил Дмитрий нянькам. Стал с народом считаться, делиться и советоваться.
Очередной Михаил Тверской в 1371 году выпрыгнул в Орду, по-быстрому купил ярлык великокняжеский, привел татарские толпы на прокорм. А Дмитрий, — неслыханное дело! — в Орду не побежал. Князь стал ездить по городам и весям и брать присягу с бояр и черных людей (!), чтобы не предавались татарскому наймиту, не пускали его на Русь! Войска Дмитрия и его двоюродного брата Владимира Серпуховского встали стеной. Михаила во Владимир не пустили. Посол татарский Сарыходжа стал звать Дмитрия: «Иди к ярлыку!». То есть, меня не уважаешь, но погоны уважать обязан! Иди сюда, глядишь, и сам станешь великим князем. Дмитрий ответил по-европейски: «К ярлыку не еду, а тебе, послу, путь чист!». Сарыходже стало неуютно, но уезжать без обычных протокольных даров и взяток было еще тоскливей, и он поехал по «чистому пути» в Москву. Ярлык остался Михаилу, но в Москве об этом и забыли! Сарыходжу поили до положения риз, намазывали икрой и медом, отмачивали квасом, поили снова, закутывали в парчу и тащили смотреть кремлевские соборы. Сарыходжа вернулся в Орду такой довольный, такой довольный, что только и рассказывал, какой Дмитрий свой в доску. Узнав от беглых из Орды, какой он хороший, Дмитрий сам поехал к Мамаю и был встречен с восторгом, весь татаро-монгольский народ вышел его встречать с флажками. Тут тоже пили, гуляли, о политике не вспоминали, всем ханшам и ханятам делали плезиры. Когда протрезвели, то оказались уже на середине обратного пути в Москву с великокняжеским ярлыком в кармане, с чесночным поцелуем на щеке. А Михаилу Тверскому был послан беззлобный выговор с пожеланием идти на все четыре стороны татарских слов. Михаил отделался так легко, потому что за его сыном Иваном был в Орде счет с прошлой гулянки на 10 000 рублей народных денежек, а Дмитрий этот должок вернул, заплатил за врага, выкупил Ивана из долговой ямы.
Вот вам еще одно доказательство дипломатической пользы похмелья! Теперь Дмитрий держал банкрота в заложниках и с чистой совестью громил тверские волости. В общем, великий князь окреп, возмужал, поднаторел в пирах и интригах, но и понял, как важно самому вовремя поднять народ и не надеяться, что его тебе по частям поднимут «братья».
Гражданская война тихо продолжалась то с Рязанью, то с Тверью, то с Литвой, но это уже были маневры, малокровная отработка тактики. В 1375 году Дмитрий двинул свои колонны по Волоколамскому шоссе, осадил Тверь. У князя был замах победителя, это было заметно со стороны, поэтому к Дмитрию присоединялись все прочие князья. Михаил Тверской сдался, послал владыку Евфимия и бояр вымаливать прощение и мир. Был подписан договор, провозглашающий верховенство московского князя.
Здесь оказалось, что татары прозевали важный момент. Они со времен Калиты не приходили на Русь, не грабили, как следует, не показывались во всей красе, не пугали по-настоящему! И вот, выросло поколение небитых русских. Эти мальчишки в большинстве своем не прижимались в ужасе к матерям, не нюхали запаха военных пожарищ, не видели обгорелых трупов и даже не вполне восприняли национальную идею, что все князья — кровопийцы и предатели. Вот был же у них великий князь — порядочный человек. Начались стычки с татарскими шайками, которые по обыкновению наезжали на окраинные княжества. Татар стали убивать, и оказалось, что при правильном подходе они убиваются легко и в больших количествах. Надо только ощущать свое превосходство.
Хотелось драки, и тут поступила весть, что какой-то бродячий ордынский князь Арапша кочует к Волге. Большое нижегородское войско в 1377 году пошло в свободный поиск. Подошли к реке Пьяне. Была страшная жара, название реки смущало, и князья, а следом и войско, разделись чуть не догола и стали выпивать. Сначала по маленькой, потом обыкновенно — до бесчувствия. Пока дремали беспробудно, мордва подвела к стоянке войско Арапши. Снова русских побили. Но за пьяным туманом страха отцов своих не вспомнили нижегородцы. Поэтому когда мордва приплыла к Нижнему добивать русских, то сама была побита и потоплена. Зима наступила. Наши пошли в Мордовию и «сотворили ее пусту». Толпы пленных отвели в Нижний и тут устроили народу показательные выступления на льду Волги. Мордовских пленников собаками рвали до смерти, лед покрылся кровью и т. д. Народ воспрял, но тут татары взяли и сожгли Нижний. На воинский дух это повлияло мало: жертв почти не было, русские отсиживались в лесу.
В 1378 году случилась первая настоящая стычка с татарами на уровне регулярных войсковых соединений. Мамай послал князя Бегича наводить порядок на Руси. Дмитрий Московский вышел к нему за Оку. 11 августа началась битва. Русские ударили татар не по правилам: не абы как, а сразу с трех сторон. Да еще сам великий князь рубился впереди на лихом коне, а не отсиживался на горке с биноклем. Татары в ужасе стали топиться в Оке. Полному разгрому помешали темная ночь и утренний туман, в котором растворились татары, зато был обнаружен огромный татарский обоз.
Тем временем в Орде Мамай дорезал наследников Чингисхана и стал править единолично. Он был страшно расстроен неприятностями с Дмитрием и стал собирать войско. Хотелось Мамаю восстановить Империю…
Теперь представим себе невероятную картину, что вся Москва из соображений военной стратегии решила двинуть на врага.
Нет, такое и представить нельзя.
Ну, хорошо. Допустим, снится нам сон. Будто бы вся Москва снялась с места, во сне не поймешь зачем. Все министерства и конторы тащат свои столы, телефоны, пишущие машинки и грузят их на верблюдов. Телеги и арбы набиваются бумагами, детьми, женами начальников. Сами начальники тоже здесь, на кожаных диванах в крытых кибитках, и их секретарши уже сидят верхом. Огромные пешие колонны маршируют, сбиваясь с ноги: студенты и школьники, рабочие и колхозницы, «швейцарская» гвардия и официанты московских ресторанов, простой беспородный и бездельный московский люд, заключенные из Бутырок, Лефортова и Матросской Тишины, скорбные обитатели дурдомов и даже военные — все принимают участие в походе. Шум и гам, крики офицеров и народных дружинников, вопли озадаченных животных, несмолкающий звон уже отключенных телефонов, сдавленный вопль московских колоколов, увлекаемых монастырской братией.
Войско скрывается за поворотом кольцевой дороги, пустеет место вековой стоянки на берегах лесной речки. Трепещи, враг!
Правда, нелепый сон? Москва никогда бы такого не сделала! Ну, разве что вынужденно, когда французы — на Поклонной горе, немцы — на Волоколамском шоссе, поляки — в Тушино. Москва сама добровольно нас не покинет: очень уж, матушка, тяжела на подъем. А татары поднимались легко — долго ли им разобрать Сарай?
Так что с весны 1380 года по приказу Мамая ордынские пастухи стали подправлять табуны и отары на северные окраины столицы и не пускать изголодавшихся животных на южную сторону, хотя и там вылезла из земли очень симпатичная травка. Так за травкой и пошли, переставляя юрты, ночуя в цветущей степи и не разгружая повозки. Выпас скота привел всю Орду на нашу сторону Волги, в устье реки Воронеж.
Все было как в московском сне: и верблюды ревели, и генуэзская пехота маршировала, и черкесская конница гарцевала, и шемаханская девица с флорентийскими рассказчицами радостно стонали на привалах, а то и на ходу. Колдуны, прихлебатели ордынские, попы всех церквей, больные и инвалиды, безумные мечтатели и даже военные — развратные потомки страшной армии великого Чингиза, — все потянулись к Москве (ну, прямо, как сейчас!). Москве стало не до сна.
Татары, не надеясь на собственные силы, заключили союз с будущим победителем крестоносцев Ягайлой Литовским. Договор предусматривал открытие второго фронта и взятие Дмитрия в клещи к 1 сентября. Видно, хотелось неграмотным татарам сорвать учебный год в московских школах.
Великий князь Дмитрий узнал об этом и объявил всеобщую мобилизацию, назначил смотр войск у Коломны на 15 августа.
Вот времена настали! Вот, хоть на малое время нравы исправились! Когда Дмитрий после благословения у Сергия Радонежского подъехал к Коломне, его встречало полностью отмобилизованное, укомплектованное, вооруженное, подготовленное войско невиданных размеров — 150 000 (в скобках прописью: сто пятьдесят тысяч) человек! Наконец-то русских считали не «сороками», а поштучно — по человеку. Пришли все князья, кроме пуганого Олега Рязанского, который был тройным агентом и всю войну слал шифровки и Ягайле, и Мамаю, и Дмитрию.
Возникла формальная дипломатическая переписка с Мамаем. Татары требовали возобновления полной дани, как при Узбеке. Дмитрий соглашался (мы-то надеемся, что понарошку!) платить действующую норму, принятую в Орде на брудершафт.
20 августа 1380 года русское войско неожиданно двинулось из Коломны не на юг, а на запад и остановилось на Оке у Лопасни. Литовские лазутчики, сбитые с толку, слали донесения Ягайле, что Дмитрий идет ему на перехват. Это остановило литовского героя, и он все дальнейшие события созерцал со стороны. У Лопасни к русскому войску присоединились остальные полки московские и серпуховские. Сюда же стал сходиться и благородный российский сброд. Беглые холопы, воры с большой дороги, донские и прочие казаки — все прониклись патриотизмом и желали пролить кровь за родину, выслужить прощение и забвение грехов. И кто-то, конечно, шел из куража.
В ближайшее воскресенье войско начало переправляться через Оку. Последним в понедельник переехал реку князь. Татары и литовцы к 1 сентября выполнить свой план не успели, Дмитрий скорым маршем всю неделю шел на юг и 6 сентября (все это по старому стилю, конечно; а Писец и годы записывал «от сотворения мира») вышел к Дону. Здесь его догнал монах от Сергия Радонежского с окончательным, письменным благословением идти на татар: «Чтоб еси, господине, таки пошел, а поможет ти бог и святая богородица!» Из этой бумаги понятно, что не святой старец раздумывал целую неделю. Были у старца опасения, как бы Дмитрий не поворотил до дому.
После короткого военного совета с оглядкой на Литву, 7 сентября войско вброд и по легким мостам форсировало Дон. 8 сентября в утреннем тумане русские строились в боевые порядки у устья Непрядвы, с запада впадающей в Дон.
Поле боя, называемое местными жителями Куликовым, было выбрано князем из трех соображений.
Сюда, в воронку, образуемую Доном и Непрядвой, по данным разведки стекалось Мамаево кочевье.
Имея справа и слева за спиной две реки, русские обеспечивали себе естественную защиту тыла на случай рейда черкесской конницы или запоздалого литовского марш-броска.
И самим русским отступать было некуда, это очень укрепляло боевой дух.
Многие из нас помнят картины «Бой Пересвета и Челубея» и «На поле Куликовом». Эти картины столь же познавательны, как и «Три богатыря». На первой посланник Сергия монах Пересвет схватился с татарским богатырем. По легенде поединок происходил перед столкновением основных сил и закончился смертью бойцов. На второй картине мы видим центр русского войска. Под черным великокняжеским знаменем с изображением Спаса восседает на огромном коне чернобородый великий князь в кованых латах…
Стоп! А вот и никакой это не великий князь! Если схватка Пересвета с Челубеем то ли была, то ли ее не было, то князя Дмитрия под черным флагом на Куликовом поле не было точно! И это не просто легенда. Это подтвержденный независимыми источниками, писцами и историками научный факт. Сидел под черным знаменем двойник князя, сильно похожий на него фаворит Михаил Андреевич Бренко! А где же сам князь? А нет его на картине. Не попал он под легковесный взгляд живописца. А стоит наш князь в первом ряду московского полка. И знамени, даже красного московского, над ним нету: оно в сторонке полощется. И одета на князе обычная грязноватая полотняная рубаха. И панцыря под ней ни подлым однополчанам, ни насмешливым татарам не видать. А в руках у Дмитрия, пехотинца московского и всея Руси, обычный противопехотный топор серийного производства. Вот как опасно всерьез принимать бабушкины сказки!
Около полудня татарское войско стало скатываться с южных холмов в Куликовскую котловину. Навстречу ему с северных холмов спускались передовые полки русских. Произошло столкновение, и возникла дикая толчея. Наших было тысяч 170, а с ворами и все 200. Татар было как бы не больше. Половина народу ехала верхом, и каждая лошадь занимала место 2–3 пехотинцев. Набиралось от полумиллиона до миллиона условных человек. Эта невиданная масса живых существ, согнанных вместе, потоптала бы друг друга и при добром взаиморасположении. Но здесь сошлись враги. Смертельными врагами были князья и ханы, кавалеристы и пехотинцы, багдадский вор и московский карманник, русский конь-огонь и татарский конек-горбунок, донской овражный волк и болонка флорентийской обозной дамы.
Писец там тоже был. Придумывать ему было некогда, он едва успевал уворачиваться и вписывать в походный свиток литературные штампы: «Кровь лилась рекой на пространстве десяти верст», «лошади не могли ступать по трупам». Историк вторил Писцу: «Русская пешая рать уже лежала, как скошенное сено, и татары начали одолевать». Но тут из-за леса ударили засадной конницей Владимир Серпуховской и московский воевода Дмитрий Боброк. Задержка их атаки, стоившая русским многих тысяч жизней, была вызвана метеоусловиями: ветер гнал пыль от рукопашной свалки в лицо засаде. Поэтому атаковать было бесполезно: не видать ни своих, ни чужих. Так бы и простояли, но ветер, — вспоможением святой богородицы, — переменился. Переменился и ход битвы, татары смешались, побежали. Мамай на своей наблюдательной горке заскучал и поехал, куда подальше.
Наши гнали, рубили, хватали. Захватили, в частности, и весь табор татарский. Попали в сладкий плен и пять декамероновских дев, если, конечно, не их имел в виду Писец, говоря, что с Мамаем спаслись «только пять наиболее близких».
Погоня закончилась. Владимир Серпуховской стал с рогом посреди Куликова поля, стал трубить и скликать живых и легко раненых. Собралось к нему всего ничего. Большинство русских лежало бездыханно. Не было среди живых и великого князя! Все уцелевшее войско стало его искать. Нашли погибшего Михаила Бренка — под знаменем, в княжеском панцире. Нашли еще несколько похожих бородатых мужиков. Писец уж хотел было разразиться обычным плачем: «Встал великий вопль над всей землей…», как тут приволокли с передовой контуженного князя. Он, видите ли, рубил генуэзскую пехоту в первых московских рядах и попал под лошадь.
Писец стал срочно править сцену. Упал, значит, великий и светлый спаситель Отечества на сыру землю как раз под деревом. Едва успела плакучая береза склонить над ним свои девичьи косы, как толстый немецкий хряк, крытый крупповской броней, на полном скаку боднул ее под зад. Дерево от неожиданности сломалось и накрыло кроной великого князя. Так он и пролежал в шалаше до конца битвы. Остался жив обещанным покровительством богородицы: ни одной ссадины на бренном теле не обнаружилось.
Жертвы Куликовской битвы исчисляются в те же 150 000 (сто пятьдесят тысяч!) человек, которые двумя неделями ранее еще горячились под Коломной. В общем от великой армии осталось только несколько потрепанных полков. Итог Куликовской битвы высок и страшен. Никогда еще Русь, и даже вся Европа, не несли такого людского урона в один момент. Но никогда еще Русь не одерживала столь значительной победы. Русские разбили татар. Остальное было житейскими подробностями. Ну, мало теперь осталось мужиков на Руси, нечего делать европейским шлюхам в московском плену, ну и что? Время заполнит досадные пустоты.
Если бы в истории России было побольше таких всенародных событий, как Куликовская битва, так, может, и Россия была бы другой.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Древнерусское государство в середине ХI века
Святослав
Дмитрий Донской
Иван III
Феодальная Русь в XII–XIII веках
Владимир Мономах на совете князей
Воины древнерусского государства
Александр Невский
Иван IV (Грозный)
Ермак Тимофеевич
Часть 4 НОВАЯ КРОВЬ (1380–1547)
НАЧАЛО СТРАННОГО ВЕКА
Мамай в ярости вернулся в свои края и стал срочно собирать по степи разрозненные орды. Войско снова получалось немалым, но еще более сбродным и сволочным, чем прежнее.
Тут грянула беда, откуда не ждали. Пришел в Золотую Орду Тохтамыш, — хоть и запасной, но все-таки наследник Чингисхана. На полном праве погнал Тохтамыш самозванного Мамая, настиг его у той же самой речки Калки и разбил. Мамай бежал в братскую Кафу Генуэзскую, где был, как водится, зарезан из-за денег.
И тут все закрутилось как бы по-старому. Тохтамыш разослал русским князьям циркуляр, что вот он, Тохтамыш — их новый царь. Князья это проглотили, отставили застольные встречи с куликовскими однополчанами, отложили написание мемуаров, и все поголовно послали хану приветствия, уверения в совершенном почтении, дары и проч.
В 1381 году хан направил в Москву небольшое посольство в 700 человек, но вот незадача! Едва посольство доехало до Нижнего, как напал на татар необъяснимый страх перед Москвой, в ужасе бежали они в Орду. Тут уж нужно было Тохтамышу что-то делать, как-то снимать с подданных неприятный психологический комплекс. Он проделал блестящую операцию. Небольшое войско отправил шумно грабить волжскую Болгарию, чтобы больше было дыма, криков, душераздирающих сообщений по почте. А сам с большим, хорошо подготовленным войском, без верблюдиц и баб тайно прошел лесами и неожиданно явился в дальнем Подмосковье!
Нижегородский князь послал за ним погоню, которая попалась в плен: Олег Рязанский, слывущий у татар за своего, уговорил их не трогать рязанской земли и пропустил на Москву.
Дмитрий узнал о беде поздно, кинулся скликать рать, но оказалось, что скликать-то некого! Все пали на поле Куликовом. Пришлось князю рысить по окрестностям и собирать войско по человечку.
В Москве тем временем встала смута. Приличные москвичи хотели бежать в леса, прихватив из добра лишь самое ценное. Подлый народ желал стоять насмерть, как намедни на Дону и Непрядве. Наглецы обнажили оружие, загнали сомневающихся в Кремль, а пойманных эмигрантов стали бить камнями. Даже великую княгиню и владыку Киприана не пускали в эвакуацию. Дескать, и они должны оставаться с народом! Но потом одумались: какой с владыки и княгини толк? — и отпустили. Тут явился литовский князь Остей и — вот странный человек! — заперся с москвичами в новеньком каменном Кремле. Остей возглавил командование и наладил оборону. 23 августа к Кремлю подъехал Тохтамыш, кликнул великого князя, узнал, что его нету, уныло поездил вокруг стен. Город был чист, то есть его не было: москвичи сами спалили все посады и рабочие окраины.
В Кремле обнаружились винные подвалы, так что к началу осады 24 августа русский гарнизон был уже смел до неприличия. Осада, тем не менее, началась. Стрелы сыпались дождем, трезвые защитники падали гроздьями, пьяные качались и создавали затруднение для прицельной стрельбы. Татары приставили лестницы, полезли на стены, сверху на них стали лить что-то расплавленное и кипящее, — все, как в дурном фильме. Впервые в нашей истории спьяну и сгоряча русские вытащили на стены пушки и «тюфяки» и отважились стрелять из них по татарам.
Купец-суконник Адам неосторожно выстрелил из самострела в Тохтамыша и насмерть поразил его любимого придворного. Вот горе-то было! Озлобился Тохтамыш. Взять Кремль у хмельных москвичей не получалось. Пришлось применять классические ходы. Вперед вывели пленных нижегородских послов. Те заголосили по-писаному: «Царь хочет жаловать вас, своих людей и улусников». И пришел Тохтамыш будто бы не на москвичей, а только на Дмитрия Донского. И просит он москвичей отвориться. И ничего ему не нужно, только скромный дар какой-нибудь: хлеб-соль, чернильницу в виде шапки Мономаха. И желает царь совершить пешую экскурсию по Кремлю. Личные вещи согласен сдать в камеру хранения.
— А! Ну, если так, то мы гостям рады! С хлебом-солью у нас туговато, а по Кремлю поводить — пожалуйста. И вот прими, хан-батюшка, чашу зелена вина из княжьих подвалов!
«Лучшие» люди московские с героем Остеем, с крестами и транспарантами вышли за ворота. Татары с честью проводили Остея к хану для встречи без галстуков. И немедля удавили его. Потом мирно подошли к делегации, как бы для братания, и порубили ее, начиная теперь уже с духовенства. Потом вошли в Кремль, поубивали всех встречных и поп лени ли поперечных, пограбили казенное и частное имущество, пожгли огромные запасы вредных книг, спасаемых в Кремле крамольными москвичами. Излишков спиртного не обнаружили. В общем, татары действовали строго по уставу, а русских опять водка подвела!
Далее, поглядывая в устав Чингиза, татары рассеялись по Руси собирать трофеи и дань. Из Твери от князя Михаила, у которого отсиживался и митрополит Кипри-ан, пришло к хану поздравление с победой. Тохтамыш отправил в Тверь великокняжеский ярлык, не велел трогать тверских владений и совсем уж разнежился. Но тут случилось не по старине. Крупный татарский отряд нарвался на армию Владимира Серпуховского-Донского, которого еще называли просто Храбрым. Владимир был с татарами жесток. Случайно уцелевший волонтер, рыцарь печального образа, прискакал в татар-стан с воплями: «Russians come!». Писец, прибитый гвоздями к церковным воротам, злорадно прохрипел Тохтамышу точный перевод: «Дождался, козел? Наши окружили тебя со всех сторон, и горним благоволением пресвятой Троицы несут огнь небесный на твое поганое войско». Разведка подтвердила: Дмитрий Донской с войском спускается от Костромы. Тохтамыш очень быстро собрался и бесславно покинул русские пределы, не успевая толком грабить и жечь по пути.
Дмитрий вернулся в Москву, поплакал и стал выдавать пособие на похороны: по рублю на два сорока трупов. Похоронили 24 000 москвичей, издержались на 300 целковых…
Когда в младших классах средней школы нам говорили, что русские победили на Куликовом поле и это была вселенская победа, мы радовались, как дети. Когда нам также сообщали, что Иго потом продолжалось еще целый век — 100 лет! — мы не понимали, в чем здесь фокус. На это нам тогда отвечали: подрастете, узнаете. Тем не менее, подросший ученик с трудом осознает, какая это ползучая штука — Иго. Только богатый жизненный опыт и ношение на шее сразу нескольких иг просветляет и успокаивает ученого, ставит все на свои места.
Ну, не было больше никаких сил у Дмитрия Донского. Вот и пришлось ему делать вид, что ничего не произошло. Что свершается нормальное административное управление великой Империей, в которой Москва и Русь — всего лишь субъекты федерации. А поле Куликово? А это была товарищеская встреча, рыцарский турнир, спортивное многоборье. Лично брат Тохтамыш не пострадал? Нет, даже мозоли не натер — его на поле и не было. Лично брат Дмитрий не ранен? Так что сын Донского Василий — гость в Орде (невыездной, правда), посол Тохтамыша — «хозяин» в Москве, собирает «дань великую» по полтиннику с деревни. А на полтинник, как мы знаем, можно похоронить целый сорок россиян с московскими почестями. Тяжко!
Всеми этими уступками удалось Донскому задвинуть Тверь обратно. Получить ярлык. Удовлетворить татар грабежом неверной Рязани. Василий Дмитриевич тоже помог отцу. За выездную визу в Орде с него требовали 8000 рублей. Молодой князь куницей бежал до дому и сберег Москве страшное количество погребальных денег.
Потянулись последние. 100 лет Ига. И никак не получалось заняться имперским строительством. Вернее, оно шло, но так же вяло и с накатами-откатами, как нападало и спадало Иго.
Приходилось то воевать, то лобызаться с Олегом Рязанским. Враждовать с Литвой и Тверью. Наскакивать на Новгород, пока он бьется с немцами, потом косить немцев. Нужно было непрерывно проводить розыскную и следственную работу, потому что новгородцы, донские казаки и просто безымянные шайки недолго переживали патриотический порыв и взялись за старое. Есть-то надо!
Но государство возрождалось. Вот уж и случилась первая торжественная казнь по политическому делу. Еще до Куликова наши поймали попа, который нес из Орды от опального московского боярина Ивана Вельяминова набор отравы для террора по Москве. Попа допросили и сослали, папка на Вельяминова пополнилась. Вельяминов неосторожно появился в Москве и оказался очень кстати. Процесс Писцом не стенографировался, а казнь расписана щедро. И поле было оборудовано для большого стечения народа, и преступник торжественно выведен на эшафот, и москвичи сентиментальные прослезились. Понятия «член семьи врага народа» тогда еще не было, поэтому род Вельяминовых остался в чести и у власти. В общем государство обозначало себя все отчетливее.
Великий князь Дмитрий Иоаннович скончался в 1389 году всего 39 лет от роду. Писец оставил нам его портрет: «Бяше крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою ж и власы черн, взором же дивен зело». Грамоты князь не знал, но духовные книги в сердце своем имел — настаивал Писец. Приводит он и историю болезни князя: разболелся, стал прискорбен, потом ему полегчало, но вдруг впал в большую болезнь, к сердцу его подступило стенание, наступили внутренние судороги, и уж душа приблизилась к смерти. Похоже на стенокардию, переходящую в инфаркт, что немудрено при грузном телосложении и нервной жизни.
Писец и Историк еще долго наперебой расписывали великое историческое значение побед и мирных деяний Донского, поглядывая, впрочем, на меня — в неприязненном ожидании. Но я молчал. Горло мне перехватило, в глазах стояло видение Дмитрия в первом ряду московской пехоты с простым топором в царственной руке…
Молчала и церковь православная. Уж у нее святых было — не провернуть, поэтому Дмитрию с его ребятами званий почетных не досталось, ни по горячим следам, ни в 1880 году — на 500-летие Куликовской битвы. Но вот недавно у самой церкви случился праздник — 1 000-летие крещения Руси. Получили правительственные награды, раздали церковные ордена и грамоты, прикинули, что нельзя такую круглую дату миновать без крупной благотворительной акции. И решили принять в святые еще некоторое количество россиян. Уж кого там перебирали от Ваньки Каина до Гришки Распутина, но вот — поди ж ты! — зацепились как-то за фамилию Донского, порадовали куликовских ветеранов! Теперь Дмитрий Иванович Донской числится у нас святым.
Знает ли он об этом? Заметил ли поповскую возню, разъезжая в челе воинства небесного? Кажется, что нет. По праву и леву руку от князя едут еще два ангела-самозванца — Михаил Бренко и Владимир Храбрый. Все трое так увлечены беседой, что не слышат звона с Земли. Им есть о чем поговорить, что вспомнить…
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Василий Дмитриевич стал великим князем. Посол татарский утвердил его в должности, потом Василий съездил в Орду и купил себе ярлык нижегородский. Татары теперь торговали ярлыками, не задумываясь, — только деньги плати! Продавали по два и три билета на одно место, как в старом кинотеатре. От этого происходили войны между русскими. Василий воевал успешно и получал все большее и большее влияние на окрестных князей.
Россия оказалась в той же круговерти, что и при детях Ярослава Мудрого или Всеволода Киевского: походы по кругу, братоубийство, парные и групповые схватки. Только раньше это мешало соединению Руси, потому что целью военных игр было удовлетворение аппетита конкретного князя, — а там, хоть трава не расти! Теперь же, захват власти и подчинение княжеств единому центру имели историческое значение, — собиралась Русь вокруг Москвы, формировалась династия, появлялась наследственная линия от отца к сыну: Василий — Василий — Иоанн — Василий — Иоанн. Деньги постепенно оседали в одной кубышке, боярские дети служили на отцовских должностях, начальников в провинции хорошо было назначать из Москвы. И можно не из князей. Это было уже благо для будущей Империи.
Опять работа Писца стала скучной и однообразной: Тверь, Новгород Великий, Новгород Нижний, Суздаль. Наши татары, чужие татары, разбойники волжские — ушкуйники новгородские.
Тохтамыш потерпел поражение от Тамерлана (Тимура), Золотая Орда на несколько лет почти перестала существовать. Тимур пошел на Русь, взял Елец. Василий стал с войском по берегам Оки. Тимур повернул восвояси, будто бы в день прибытия в войско иконы Владимирской богоматери. За это Тимура на Руси очень полюбили. Во времена позднего романтизма именем людоеда стали даже называть пионерские отряды и детей в ответственных советских семьях.
Орда собралась потихоньку, но была уже не та. Ее войска нападали на окраины Руси, даже осадили как-то раз Москву, но без успеха. Татары Тохтамыша убрались служить литовцам в их приготовлениях к Грюнвальдской битве.
В 1410 году литовский король Витовт, польский король Ягайло (помните его возню в тылу Донского перед Куликовской битвой?), всякие наемники, жмудь, Русь польско-литовская — полки смоленский, полоцкий, витебский, киевский, пинский и прочие и с ними татары всех конфессий собрались покончить с Орденом.
Немцы педантично подсчитали свое войско — 383 тысячи человек. У Витовта с Ягайлой было 163 тысячи. Рыцари ударили мощно и правильно, как по нотам, — свиньей. Но центр интернационала выдержал удар: смоленский полк лег весь, но не отступил. За какую идею бились смоляне в католической армии? Нам не понять. Но дело свое они сделали. Витовт напал со всех сторон, татары вороньем рвали белое мясо, и рыцари понесли страшное поражение: пал Великий Магистр Ульрих фон Юнгинген, 40 000 (тысяча сороков, восемьдесят побед Невского!) немцев погибло, пятнадцать тысяч уведено в плен. Это было уже не прохладное, Ледовое, а настоящее побоище. Орден был раздавлен. Еще несколько десятилетий продолжалась его агония, но дела ему в Восточной Европе уже не оставалось. Все славяне были крещены дважды и трижды.
Потихоньку окраины России Северной успокоились, когда пришла «мирная» напасть. Стал свирепствовать странный, невиданный мор, во время которого 27 февраля 1425 года после успешного тридцатишестилетнего правления умер и сам великий князь Василий Дмитриевич.
Итоги его княжения были таковы, что в воздухе стало ощущаться приближение новых времен. Запахло Империей. Писец стал скрупулезно записывать, какие бояре были старшие, какие под ними, кто в каком бою отличился, кто за Москву назидательно пострадал. Историк тоже был доволен: среди бояр Василия Дмитриевича ему удалось отыскать Федора Андреевича Кошку, посла московского в Орде. От этого дипломата произошло много Кошек и Кошкиных, которые служили князьям верой и правдой и заложили основу будущей династии Романовых, любезной перу Историка.
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ
Василий Васильевич очутился на престоле в 10 лет. — Ничего страшного, — успокаивали мамки и няньки, — вон дедушка Дмитрий тоже в 11 лет остался за старшего, а какой вырос богатырь! Бояре московские встали стеной за малолетнего князя: новая система была им понятна и приятна. Пока на Василия перешивали отцовы и дедовы вещи, бояре воевали под Костромой, Звенигородом и Нижним — наставляли на путь истинный тамошних претендентов.
Церковь была в седле!
— Нету никакой вакансии, господа, — огнем и мечом объяснял боковым Рюриковичам новую правду бытия митрополит Фотий. — Наши святые отцы выбрали верную тактику. Они не лезли в дела престола мирского. Они не пытались управлять князем московским, как епископы европейские — своими королями. Они стали верными и квалифицированными строителями Империи, вольными каменщиками новой кремлевской стены.
Война продолжалась. И опять подтверждалось, что Иго выгодно князьям, что оно необходимо для решения важных задач. Налоги в 10 % были не столь уж тягостной платой за возможность быстро решить проблемы наследства, разрубить неразвязные мотки древнего семейного права. Не рады были Рюриковичи, что их пра-прапрадед Ярослав был такой Мудрый, что каждый великий предок норовил утрудить Писца и оставить потомкам завет, закон, устав. Сейчас, при Орде, можно было делать дела без оглядки на дедушкины сказки.
По старым правилам, после Василия Дмитриевича должен был править его брат Юрий Дмитриевич. А маленький Вася должен был гулять. А вот когда бы дядя Юрий умер, да дядя Андрей умер, вот тогда Вася был бы великий князь — как сын старшего из сыновей Донского. Даже если бы так и произошло, то очень тоскливо стало бы детям Юрия — Василию Косому и Дмитрию Шемяке (видите: в обиход вошли клички, чтобы не запутаться в бесконечных Василиях и Дмитриях; их было столько, что родовая фамилия, ну скажем, Рюриков, проблемы не решала, а потому и не прижилась). Боярам тоже было кисло. Только бояре усидятся в думе, как при перемене княжеской ветви их всех отправляют по деревням или того хуже — на войну. Короче, старый порядок никого не устраивал. Нужно было его ломать. Василий послал бояр в Орду с требованием продать ярлык, как продали его отцу.
— Отцом Василием Дмитриевичем великий хан доволен остался? — Доволен! — Так чего ж вам еще? Сын тоже не подведет.
Татарам такое престолонаследие было понятно с детства, с первой соски кумыса. Поэтому, когда Юрий Дмитриевич начал доказывать свою правоту по архивным документам, хан заскучал и сказал, что по-русски не шибко понимает.
Василий стал великим князем, но Юрий был еще силен. Он и его сыновья дважды и трижды выгоняли Василия из Москвы, но сами усидеть там не могли. И каждый раз они освобождали от себя столицу нашей родины не в результате военного поражения, а из-за очевидности политического расклада.
— Где король бубен? — В Коломне у Василия.
— Где прочие тузья-князья? — А у него же.
— А где самые червовые дамы? — На руках у Василия и его бояр.
В общем, Москва — Москвой, а князь сам по себе. Тут уже просматривалась система, круговая порука, всероссийский сговор. Вот она где вылазила, Империя! И Орда ей, ох как, помогала.
Итак, утверждение наследственности по прямой стало делом техники и некоторого времени. Пока тянулось это время, Иго должно было продолжаться, и Орда могла спать спокойно. Если бы Орда, не дай бог, рассосалась по степям, то пришлось бы русским людям строить на Дону липовый фанерный Сарай, сажать там кого-нибудь безобидного дурачка, кормить его, поить, обувать и одевать в ханские тряпки. И разыгрывать время от времени сцену «Приезд великого князя Владимирского в Орду с дарами и данью» или «Ханский суд, кому на Руси впредь княжить и жить хорошо».
Орда была полезна, но уже слаба. Ярлыки продавала быстро, а чтобы оформить вызов неугодного князя в Сарай и там его принародно казнить, — нет, этого уже не получалось. Поэтому вслед за правом Мудрого и правом богатого на Руси снова стало утверждаться право сильного. Дрались уже не на шутку.
Василий пленил Шемяку. Косой хотел напасть неожиданно, но был встречен, разбит и тоже пленен. Его союзники продолжали воевать и захватили великокняжеского воеводу Александра Брюхатого. Этот толстяк был как бы министром обороны Василия. Князь заплатил за него приличный выкуп, но враги оказались коварны: деньги взяли, — Брюхатого уволокли в дальний плен. Василий рассердился, под руку ему попался Косой: «Ах ты — Косой! Ну, ладно, ладно», — и велел ослепить косого брата. По старинке.
Дедовское средство помогло, и Василий спокойно правил целых 5 лет — с 1440 по 1445 год. В этом году случилась с князем обычная русская неприятность. Пришел на Русь хан Улу-Махмет. 6 июля русское войско в полном облачении вышло на поле под Суздалем, но незванные татарские гости не показывались. Тогда хозяева сели ужинать сами. Начали с сухого, пивка с прицепом, а чем закончили, того Писец дрожащей рукой уж и не записал. Спали допоздна. Встали с тяжкими головами, помолились и собрались, опохмелившись, лечь досыпать, да надоедливые разведчики принесли весть, что какие-то татары форсируют Нерль. Полезли в седла с тяжкой головой, налетели бесшабашно на татар. Татары побежали, но посреди бегства выполнили неуловимый для мутного глаза маневр, развернулись и совершенно разбили русских. Великий князь бился за троих, — татары троились в прицеле, — но был ранен и попал в плен. Шемяка к битве не поспел.
Татары из садизма послали в Москву нательный крестик князя. В Москве, по уверениям Писца, поднялся обычный в таких случаях вселенский вопль и вой. «Рыдание было многое», — привычно божился наш грамотей. А тут еще по причине июльской жары или пьяной шалости с огнем запылала вся столица. Не осталось ни одного дерева, ни единого деревянного дома, да и каменные дворцы и церкви посыпались от жара. Народу погорело более 700 человек, добра списали на пожар немеряно, особенно пострадали беженцы из оккупированных татарами районов, — их рухлядь свалена была в сараях без разбору. Повторилась история времен Тохтамыша. Княгини убежали в Ростов. Богатые стали грузить фуры. Подлая чернь строилась обороняться насмерть. Дезертиров хватали, ковали в железо.
Но татары не спешили на Москву, хотели взять побольше — пострадать поменьше. Они списались с Шемякой, направили к нему посла. Посол был принят с честью и угощением. Пока он потом отлеживался и отпаивался, хан в Орде подумал, что посол убит. Начал тогда хан договариваться с пленным Василием: дескать, отпущу тебя с честью и славой, а ты мне дай выкуп — 200 000 (пять тысяч сороков!) ваших рублей. Пришлось Василию прихватить с собой из Орды целую налоговую команду, чтобы она сама эти деньги добывала. Чтобы народ наш русский на Василия не обижался, а татар возненавидел еще сильнее. Опять подставили Орду!
Финансовый и политический кризис разразился страшный. Шемяка стал распространять сведения о тайных статьях договора Василия с ханом. Будто бы если Василий деньги вовремя не отдаст, то Москва в цельности и сохранности переходит под управление Улу-Махмета. Видать — надменный азиат решил вкусить плоды цивилизации, поспать на койках в теремах, поездить в тройке с бубенцами, ну и так далее. А Василию в этом случае оставлялась Тверь. Вот и загрустили тверские и прочие князья.
Да и народу было кисло. Ведь это с него драли подать на выкуп дорогого князя, не пожелавшего бесплатно помереть за народ.
Расклад стал меняться. Как-то незаметно все крупные карты оказались в колоде Шемяки. Даже московские шестерки тайно сговаривались против батюшки. «А были среди этих шестерок и червовые бояре и трефовые чернецы», — смущенно вздыхал Писец.
12 февраля 1446 года москвичи предали своего князя, сообщили, кому следует, что он поехал к Троице помолиться. О чем молился князь, осталось его интимной тайной, но Бог его не защитил, и с последним всенощным ударом княжеского лба о церковный пол рухнули московские ворота. Ну, не рухнули, конечно. Открыли их спокойно расчетливые москвичи навстречу новой жизни.
Мать и жена Василия сразу попали под стражу. Казну пограбили — на то она и казна. Ощипали верных Василию бояр. Не забыли и простых граждан. Успех был полный. И даже кровь не пролилась. Князь Можайский, козырный друг Шемяки, немедля кинулся в Троицу с войском.
В несчастный день 13 февраля (уж не пятница ли была?) Василий продолжал упражнять поясницу, когда ему сказали, что войска Шемяки окружили его всего.
— Не может быть, чтобы брат пошел на брата, когда я с ним в крестном целовании! — запричитал Василий…
Тут мы с вами, дорогие читатели, имеем полное право заподозрить великого князя в блажной придури или душевном нездоровье. Ну, пусть он не читал книжек нашего Писца. Ну, пусть он в пол-уха слушал бабушкины сказки. Но сам-то он брата Косого лишил света божьего? Так что ж тут обижаться! Во власти братьев нет!
Писец присутствовал при этих событиях и мастерски описал все сцены. Посланец, принесший черную весть, был сам из предателей князя. Поэтому было велено поставить его в воротах в удобную позу и выбить со двора вон. Далее была снаряжена разведка. Разведчики поехали шумно. Шемякин дозор их заметил загодя. Поэтому многочисленные ратники были спрятаны в санях под хворостом. Нестроевые малые изображали возниц. Разведка подъехала к обозу с дурацкими расспросами: откуда дровишки, да, может быть, видали каких-нибудь военных?
— Отчего ж не видать? Видали! Вот они у нас под дровами лежат! Войско встало из саней. Бежать разведке было невозможно, снег вокруг лежал на девять пядей — кому по пояс, а кому и по грудь, — февраль, Россия!
Великий князь увидел свою разведку уже в окружении неприятельской армии. Кинулся к коням, ан нету коней! — все под разведкой. Кинулся к людям своим верным, хотел поднять их на смертный бой, но бубновые молодцы «оторопели от страха». Князь побежал по глубокому снегу в монастырь и заперся в Троицкой церкви.
Тут же в монастырь въехала конница московского боярина Никиты Константиновича. Командир хотел было на плечах неприятеля ворваться в церковь. Но конь страшно заржал, пытался пасть на колени, копытом совершал конвульсивные движения, похожие на крестное знамение. Досадливый Никита соскочил с набожного коня, но споткнулся о камень и расшибся. Поднят он был невменяемый и бледный, как мертвец. Откуда-то противно воняло серой. Подъехал Иван Можайский и стал кричать: «Где князь?» Князь из-за двери храма завел жалобную песнь…
Вот, черт, — не при храме будь помянут! — ну, как же жалко, что не было тогда звукозаписи! Пропало для потомков крупное вокально-инструментальное произведение. Но текст песни, к счастью, был спасен Писцом:
«Братья! Помилуйте меня! Позвольте мне остаться здесь, смотреть на образ божий, пречистой богородицы, всех святых; я не выйду из этого монастыря, постригуся здесь!» — фальцетом ^выводил Василий.
Хор мальчиков-головорезов из охраны Можайского отчеканил припев: «Пострижется, собака, как же!»
Василий взял икону с гроба святого Сергия Радонежского, сам открыл дверь в храм и встретил Ивана новым куплетом:
«Брат! Целовали мы животворящий крест и эту икону в этой самой церкви, у этого гроба чудотворцева, что не мыслить нам друг на друга никакого лиха, а теперь и не знаю, что надо мною делается?»
Архангелы басами отрезали контрапункт: «У-зна-ешь!».
Князь Можайский набрал в богатырскую грудь морозного загорского воздуха и повел свою арию коварным баритоном:
«Государь! Если мы захотим сделать тебе какое зло, то пусть это зло будет над нами; а что теперь делаем, так это мы делаем для христианства, для твоего окупа. Татары, которые с тобою пришли, когда увидят это, облегчат окуп».
На человеческом языке это означало, что ты, князь, родину проторговал, свою шкуру оценил дороже всего госбюджета, помогаешь татарам грабить всех бояр, крестьян и горожан, и нам так дальше терпеть невозможно. Так что, князь, не беспокойся, что надо будет, то мы с тобой и сделаем. Лишь бы поправить положение в экономике.
Опера продолжалась. Под красивый и грустный колокольный перезвон Василий положил икону на место и стал молиться с такими слезами, что из гроба святого Сергия явственно послышалось странное постукивание, а массовка вся прослезилась. Иван Можайский тоже не выдержал и, прикрывая глаза боевой рукавицей, вышел вон. «Возьмите его», — бросил охране.
Василий в полной прострации вышел на воздух и пытался продолжить фарс:
«А где же брат мой, Иван?» — фальшиво стенал он.
Оклемавшийся Никита Константинович рявкнул последнюю ноту: «Да будет воля божья!», и поспешил прекратить безобразие. Василия затолкали в обычные сани и повезли в Москву.
Здесь Шемяка три ночи, 14, 15 и 16 февраля, перечислял ему грехи перед народом и государством. Припомнил и ослепленного Косого. Тут пригодилась и «Русская Правда» с моисеевой заповедью «Око за око». Так что Василия тоже ослепили и сослали в монастырь. С тех пор за князем закрепилась кличка Темный — не по делам его, но по диагнозу окулиста.
Началась новая кадровая канитель. Одних рассаживали по городам, других пристраивали к военным и гражданским ведомствам, третьих ссылали в монастыри и деревни. Самые наглые сопротивлялись и бежали в Литву.
Как и водится, должностей и волостей оказалось меньше, чем людей. Опять возникла оппозиция из бывших своих. Они стали думать, как вернуть Темного и стать при нем в чести. Собралась немалая команда. Если опустить боярские титулы, а оставить только клички: Стрига, Драница, Ощера, Бобер, Русалка, Руно, — то получалась не политическая партия, а воровская малина. Ватага эта никакого дела сделать не успела, но напугала усталого Шемяку, и он засел с митрополитом совещаться, не выпустить ли Василия из плена. Решено было выпустить, но укрепить этот акт проверенным средством — крестным целованием.
Снова был сыгран неплохой акт. На фоне золотой московской осени 1446 года Шемяка с церковной бутафорией торжественно проехал в Углич, где сидел Василий, выпустил его с детьми и присными из заточения, сольно просил прощения и каялся. Слепые склонны к песнопениям, и Василий снова завел безудержное бельканто:
«И не так еще мне надо было пострадать за грехи мои и клятвопреступление перед вами, старшими братьями моими, и перед всем православным христианством, которое изгубил и еще изгубить хотел. Достоин я был и смертной казни, но ты, государь, показал ко мне милосердие, не погубил меня с моими беззакониями, дал мне время покаяться».
Слезы из слепых глаз текли ручьем, все присутствующие, хоть и знали княжьи повадки и ухватки, но умилялись и плакали. На радостях Шемяка закатил для бывших пленников буйный пир. Василий получил на прокорм Вологду, дал «проклятую грамоту», что никогда не полезет больше на великое княжение. В «проклятой грамоте» Василий божился, что если «я хоть подумаю о Москве, хоть вспомню Кремль и Красную площадь, так чтоб меня тут же черти утащили в самый страшный, татарский сектор преисподней!»
Это было очень серьезно. Поэтому, когда к освобожденному Василию набежали старые и новые дружки и стали подбивать его на царство и дележ портфелей, то Василий крепко призадумался. Бог с ним, с крестным целованием, его кроет простой плевок в пол. Бог с ними, покаянными слезами, — это у меня перерезаны слезные протоки. А вот «проклятая грамота» — это страшно.
— Ну, что ты, государь! Какие страхи? — успокоил Темного кирилло-белозерский игумен Трифон. — Проклятую грамоту я снимаю на себя!
— Как «снимаю»? Разве так можно? — засомневался князь.
— Отчего же нельзя? — резонно басил поп. — Теперь я не претендую на княжение, а ты — на мой скромный приход. Мах на мах, не глядя!
— А ведь и вправду не глядя! — обрадовался слепой и поехал нашаривать и наощупь тасовать свою колоду.
По мере продвижения князя к Москве к нему присоединялись многочисленные сторонники. Подоспели и верные татары, очень им хотелось видеть Василия в Кремле и продолжить с ним финансовые расчеты. Шемяка и Можайский вышли навстречу проклятому клятвопреступнику. Но пока их войско было в походе, Москва снова предалась из рук в руки. Боярин Василия Михаил Плещеев с маленьким отрядом подъехал к Кремлю в самую ночь перед Рождеством. Ворота приоткрылись, московские сидельцы подумали, что это ряженые с колядками. Плещеев без шума захватил Кремль.
Шемяка и Можайский были окружены с четырех сторон, люди от них побежали толпами. Начались переговоры. Шемяка каялся, возвращал казну и пленных, просил оставить ему былую вотчину, чтобы все остались при своих, как ни в чем не бывало. Договор был заключен и подтвержден свежими «проклятыми» грамотами. Поэтому очень чесались руки его нарушить, и Шемяка не уставал заводить крамолы, отказывался вносить свою долю в выкуп, все еще собираемый по Руси.
Василий притворно возмущался: что же это за проклятие такое, что его никто не боится! Велел святым отцам самим заняться этим делом. Пять владык стали урезонивать Шемяку. Писец трещал пером без устали, едва поспевая за преосвященным красноречием: «Дьявол вооружил тебя желанием самоначальства, и ты поступил с ним (Василием — С.К.), как поступили древние братоубийцы Каин и Святополк Окаянный…»
Текста было много. И мысли в нем были ценные, они обобщали княжескую мораль — только имена подставляй. Выходило, что «желание самоначальства» — от дьявола, братьев казнить и ослеплять — смертный грех. Так и Шемяка и Темный — оба получались антихристами, а вместе с ними и все прошлые и будущие Рюриковичи и Романовы. Вот к чему приводит неумеренное вдохновение. Перестарались, бородатые!
Шемяка нравоучения не воспринял, снова воевал несколько лет, не останавливаясь даже на Пасху. Снова целовал крест и подписывал проклятья на себя самого, снова садился в седло. А что ему еще оставалось делать? Не землю же пахать, не пшеницу сеять…
И только в 1453 году в Великом Новгороде удалось успокоить Дмитрия Юрьевича Шемяку навеки. Способ вспомнился для этого верный. Московский подьячий уговорил боярина Шемяки Котова на застольное предательство. Котов дал команду повару чуть-чуть освежить меню. В результате кулинарных опытов Шемяка скончался: курица в его тарелке оказалась «напитана ядом». Подьячему присвоили очередное звание — дьяк. Повар раскаялся, постригся в монахи и служил в обители святого старца Пафнутия Боровского. Старец частенько указывал на его скорбную фигуру своим ученикам: «Сей человек, иноческого ради образа, очистился от крови!»
Простые решения понравились Василию. Он начал жестоко преследовать всех подряд удельных князей, а детей их при случае умучивать насмерть, чтобы просторнее было Москве в великокняжеском раскладе. Изгнанников ловили и казнили в Москве, крамолы их записывали в Степенной книге.
Историк удовлетворенно констатировал, что так постепенно. были пресечены внутримосковские усобицы. Москва окрепла, расцвела и похорошела. Оставалось только додушить крупные княжества, покончить с Новгородом, Тверью, рязанями-казанями разными. Работы на Руси было невпроворот. Только воюй, режь и жги. Если бы еще не отвлекаться на подлое земледелие и нелепые ремесла!
Незаметно подошла и круглая дата — 1462 год — шестисотлетие Рюриковой Руси! Вот время летит! Казалось бы, только вчера не знали, что и делать с этой глупой страной, а вот, поди ж ты, сколько уже извели желающих ее иметь.
Прилично было бы отметить великий юбилей. Памятников каких-никаких поставить, мостовые подмостить, бандитов амнистировать, торжественно казнить политических, исполнить колокольную кантату с фейерверком.
Но в самом начале юбилейного года расхворался великий князь. Врачи признали у него сухотную болезнь. Теперь-то мы знаем, что высшие руководители часто страдают такими штуками, сами нескольких наблюдали. Болезнь эта происходит от непрестанных и непосильных трудов во благо Отечества. Начальник как бы отдает свою силу народу, а сам постепенно угасает, затрудняясь уже самостоятельно и бумажку подписать. Светлая ему память!
Но Василий был темен. Подумалось ему, что есть в его болезни какой-то высший знак. Стал он лечиться проверенным способом: к слезной молитве добавлять прижигание отнявшихся членов горящим трутом. У других больных после этого руки начинали пошевеливаться и уже не болтались плетьми на торжественных приемах. А у Василия, напротив, ожоги стали гнить. Лекари и попы поняли, что это срабатывают проклятые грамоты, огонь лечебный на теле князя превращается в огонь адский! Крестясь и заикаясь, отпрянули отцы святые и лекари от умирающего раба божьего, забыли клятву Гиппократа. Василий все понял по их глазам и уцепился за последнюю надежду: стал проситься в монахи. Попы отводили глаза: куда ж такого темного на светлые небеса! Придворные тоже заупрямились. Старый полумертвый князь им был выгодней прихода новой команды. Так и скончался Василий Васильевич — грешный и темный внук святого и светлого Дмитрия Донского. Схоронили его поспешно до неприличия — на другой день после смерти, хоть и было это — воскресенье.
НЕИСПРАВИМЫЙ ГОРБАТЫЙ
Иван Васильевич был провозглашен великим князем еще при жизни отца. Василий Темный знал, что при его грехах и новизне прямого наследования немало найдется претендентов на престол. Поэтому и спешил он оформить дело побыстрее. За глаза Иоанна называли Горбатым. То ли он и правда был сутул или горбат, то ли поведение его в быту и делах было непрямым.
Новый князь сходу потянул упряжку в правильном направлении. Он не стал переосмысливать политику государства. Он с детства знал правила игры и был готов к ней.
Историк с восторгом представил нам нового властителя.
«Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков вступил на московский престол…» — начал он профессорским тоном, притормаживая на запятых, чтобы мы, его ленивые слушатели, успевали записывать. Но Писец увлекся игрой в «балду», которую я подсунул ему как знатоку русского языка. А сам я откровенно скучал.
— Что вам, сударь, не нравится на этот раз? — возмущенно и обиженно прервался Историк.
— Ничего, ничего. Я вспоминаю имена «умных, трудолюбивых и бережливых» предков Горбатого. Их нужно золотыми звездами впечатать в какую-нибудь столичную мостовую, чтобы москвичи помнили, кому обязаны своим счастьем. Да и гости столицы, приезжающие из ободранных и голодных провинций за едой и одеждой, тоже должны иметь место, куда плюнуть с досады.
Историк надулся и продолжал уже нормальным голосом:
«Дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться уже законченным; старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтоб дорушить его».
— Ну, а я тебе что говорил? — толкнул я в бок «обалдевшего» Писца. — Они любили рушить, ломать, а не строить. Все прыжки и пируэты князья совершали вокруг российской землянки, а не вокруг ордынского сарая. Сейчас бы Историку завопить в радостном предчувствии, что пора завалить Сарай, что он уже качается под свежим донским ветром. Ан, нет. Валить им надо не Сарай, а Россию — ту, что наросла диким крестьянским мясом на кривом скелете Рюриковой генеалогии.
Историк упрямо продолжал нести околесицу:
«Отношения всех частей народонаселения ко власти княжеской издавна уже определились в пользу последней: надлежало только воспользоваться преданиями, доставшимися в наследство от Византийской империи, чтобы выказать яснее эти отношения, дать им точнейшее определение».
Мы с Писцом захихикали: нам увиделась красивая сцена.
На просторном склоне кремлевского холма, там, где сейчас Васильевский спуск, собрались толпы праздношатающихся москвичей. Бьют колокола сорока сороков московских церквей. По небу тихо пробираются кружевные облака. Из-за поворота Москва-реки выплывают белокрылые корабли с гостями и дарами из Твери, Новгорода, Европы, а если «выказывание отношения» затянуть лет на сорок — к концу правления Горбатого, — так и из Америки! Крестные ходы от разных епархий наматывают обороты вокруг златоглавых соборов. На Красной площади тоже не продохнуть. На Лобном месте артистично рубят головы государственным преступникам из прошлогодних подвальных запасов. Из Спасских ворот выходит Государь Иван Васильевич с немалой свитой. Писец влазит на бочку и звонким голосом читает сказ собственного сочинения, как православная Русь пошла есть от Византии, да какие в этой Византии бывают чудесные погоды, — ну прямо, как здесь и сейчас!
Постепенно наивные москвичи начинают грезить наяву и видеть, как в Константинополе все ходят в белых одеждах, а императоры Константин и Роман — так и в золотых! И святая Ольга — вот она, живая — внимательно слушает азы христианства, которые Константин нашептывает ей в ухо. И оттуда, из древних святых палестин, вдруг начинает неумолимо надвигаться на Россию православное благочестие. И теперь Москва сама становится центром Вселенной, раз уж Константинополь вырезали турки, а Рим тамошние попы пропили германцам. И, ясное дело, что все это московское величие и благополучие никак невозможно без светлого и великого князя Иван Василича, многие ему лета!
Народ заходится в восторженном крике, трезвые орут: «Слава! Слава!», но большинство перебивает их: «Аминь!»
Писец призывает собравшихся поднатужиться и дать «точнейшее определение» великому князю, «иже с ним». И сразу из толпы на скользкую стенку Лобного места вылазит какая-то странная личность и начинает определять князя татарскими словами. Толпа гудит. Все понимают, что эти слова как раз и дают точнейшее определение князю, его роду и потомству, вдовствующей княгине — его матери, планам князя утопить в крови русскую Тверь, русский Новгород, русскую Рязань и почти русскую Казань — родину оратора.
Присутствующие в толпе активисты, работники каких-то неведомых московских контор, тут же кидаются к болтуну, сбивают сироту казанскую с ног и вне очереди тянут в середку Лобного места, где пыхтит и кряхтит от непомерных усилий потный культурист с говяжьим топором. Подается знак на колокольни прибавить громкость. Звук колоколов взрывается, глушит толпу и даже достигает небес. Там, правда, на него не обращают никакого внимания…
Тут мы с Писцом приходим в себя и долго сидим молча, наблюдая, как почтенный историк зачем-то шевелит губами в кромешной тишине.
Итак, Иван возглавил государство и сразу взял быка за рога, а свой рог оборотил в сторону ненавистного Новгорода. Пора его брать. Все условия к тому были хороши. Иго кончалось, его не отменяли только на всякий случай. Русские княжества замерли в предсмертной немощи. Литва и Польша грызлись между собой.
В самом Новгороде было два приятных обстоятельства. Там служил владыка Иона, волей-неволей подвластный московскому тезке митрополиту Ионе. Его можно было запугать карой небесной и опалой земной. Так что, церковь в Новгороде лила воду на московскую мельницу, — не зря отлынивали старинные новгородцы от пометки крестом!
Вторым приятным фактом было то, что Новгородом правила женщина. Звали ее Марфа. Она была вдовой посадника Исаака Борецкого. Иоанн думал, что сбить эту тряпичную куклу с кипящего новгородского чайника будет легко.
Потянулась череда враждебных действий. Подстрекаемые семейством Марфы-посадницы новгородцы придержали дань, перестали ходить на суд к московскому послу, стали потихоньку возвращать земли и воды, отнятые Темным. Литовская партия уговаривала новгородцев вступить в конфедерацию с западными соседями, оборотиться с дикого Востока на просвещенный Запад. Тут, как на грех, в конце 1470 года умер владыка новгородский Иона. Без его окриков и угроз анафемой новгородцы расслабились и пригласили к себе из литовского Киева князя Михайлу. Вскоре состоялись честные выборы нового владыки. Жребий выпал на представителя московской партии Феофила. Другой претендент, ключник покойного владыки Пимен, воспользовался доступом к кассе, передал деньги Марфе для раздачи взяток. Эти воровские дела и вовсе раскололи Новгород. Народ зашумел, забегал, Пимена схватили, пытали, отняли у него остатки украденных денег да заодно и дограбили церковную казну дочиста.
Дипломатия между Москвой и Новгородом продолжалась до весны 1471 года, когда погода позволила Москве «сесть на коня». Набрали с собой мелких родственников и отряды «служилых татарских царевичей». Писец с честью выполнил нелегкую задачу — в двух словах сформулировал наступательную доктрину, оправдал князя за убийство соотечественников, да и восславил его до небес: «Новгородцы отступили не только от своего государя — и от самого Господа Бога; как прежде прадед его, великий князь Димитрий, вооружился на безбожного Мамая, так и благоверный великий князь Иоанн пошел на этих отступников…» Тут я хотел треснуть наглого писаку в гривастый затылок, да не дотянулся — увертлива оказалась чернильная сволочь! Ну, так я отобрал у него обратно пачку размеченных листков для игры в «балду».
Московская армия вторглась в новгородскую землю с приказом: разойтись веером, жечь, пленить и казнить жителей без милости. 29 июня усталые каратели собрались вокруг князя в Торжке. Армия получилась большая — в несколько десятков тысяч: это напуганные удельные князьки сгоняли народ под московские знамена. Даже Псков, давний побратим и сострадалец Новгорода, на этот раз предал его.
В Новгороде началась поголовная мобилизация. Но войско, собранное из купцов, крестьян, гончаров и плотников, поднималось трудно. Приходилось то и дело ловить дезертиров и бросать их в Волхов. 40 тысяч новгородцы все-таки собрали. Двинули на предательский Псков, но промахнулись. Попали на полк великого князя Иоанна. 14 июля тысяча сороков новгородских схватилась с сотней сороков московских. Москвичи не выдержали, побежали, но тут в тыл новгородцам ударила татарская конница. 12 тысяч новгородцев было убито на месте. Остальные скрылись. Победителей было слишком мало, чтобы организовать погоню.
В те же дни еще одна, двенадцатитысячная, новгородская армия князя Шуйского была разбита другим московским полком — тоже в сто сороков.
Однако в этот раз Новгород еще не был взят Иоанном. Новгородцы подкупили его братьев и бояр, и те упросили князя смилостивиться и обойтись выкупом в 15 000 рублей. Тут же подоспели телеги с деньгами. Иоанн оттаял душой, наблюдая, как проворные подьячие считают монеты золотые да, не считая, взвешивают серебряные. Был заключен мирный договор на прежних московских условиях.
В течение следующих четырех лет Новгород зализывал раны. Но тело его теперь еще быстрее пожирала обычная болезнь. Две партии, Московская и Западная, дрались исподтишка, писали кляузы, судились праведно и неправедно. Осенью 1475 года Иоанн пошел на Новгород «миром», но «со многими людьми» — на всякий случай. Будто бы обыватели сами позвали его остановить беспредел. Прошли показательные суды, много «западников» было схвачено. Но казней не случилось, — новгородцы выкупали осужденных то за тысячу, то за полторы. Не за человека, конечно, — за всю скамью подсудимых. Иоанн быстро вернулся с деньгами и невыкупленными преступниками в Москву. Теперь вообще все судебные тяжбы новгородцы должны были совершать в Москве, как раньше москвичи — в Орде. Обозы с детьми и вдовами, толпы подсудимых крестьян, возы и кареты опальных бояр новгородских потянулись в Москву на суд и расправу.
Писец, скучая без «балды», писал горькую правду о судебных и военных издевательствах Москвы над новгородцами: «Этого не бывало от начала, как земля их стала и как великие князья пошли от Рюрика на Киеве и на Владимире; один только великий князь Иван Васильевич довел их до этого».
Иоанн не успокоился на попрании старины новгородской. Он знал, что демократия — это такая зараза, что чуть зазеваешься, и по всей Руси начнут князей выбирать на вече. И доказывай потом уличной черни, что ты самый способный и умный, трудолюбивый и честный. Нет, с Новгородской республикой надо было кончать. Оставалось только дождаться случая.
31 мая 1477 года в Новгороде «встал мятеж». Захар Овин оговорил Василия Никифорова, что тот в Москве присягнул князю против Великого Новгорода. Собралось вече, злость против Москвы вскипела выше куполов Софии Новгородской. Никифорова порубили на части. Злость не утихла. Порубили доносчика Овина. Злость упала до отметки ручного боя. Побили до полусмерти промосковских бояр. Остальных подозреваемых помиловали, взяли с них формальную присягу. Злость спала, но осталось отчаяние от безвыходности, от слабости и предательства западных покровителей. Подколенной дрожью напоминала о себе страшная далекая Москва. «С этого времени, — вздыхал Писец, — новгородцы взбесновались, как пьяные, всякий толковал свое, и к королю опять захотели». К Иоанну были миром отосланы его наместники. В напутствие новгородцы, как бы извиняясь, говорили, что уж лучше будут жить по старине. Они надеялись, что Москва махнет на них рукой…
Итак, повод был налицо. Иоанн заручился благословением матери, братьев, бояр и митрополита. Стал собирать войско. В Новгороде всполошились, послали за «опасными грамотами» для проезда в Москву своих послов. Но Иоанн выслал в Новгород «складную» грамоту о том, что прошлое крестное целование отменяется потому-то и потому-то. Видите, как просто. Не надо плевать в пол, не надо перекладывать грех на попа-самоубийцу. Просто написал казенный документ — и свободен!
30 сентября московское войско двинулось на Новгород, а 10 октября уже ночевало в Торжке. Тут в ноги князю упали новгородские бояре Клементьевы. Они ехали за опасной грамотой, да не доехали. А теперь просились в службу к Иоанну против Новгорода. Предательство — добрый знак! Новгородцы снова и снова посылали за опасными грамотами. Но «опасчиков» сажали в обоз, в Новгород коварно писали, что «опас» уже дан, не давать же другой! А куда ваши опасчики подевались, то Бог весть!
Иоанн подкрался к Новгороду на 120 верст, потом на 50, потом на 30. По новгородским волостям «ходил меч и огонь». Владыка новгородский Феофил упал в ноги князю, стал упрашивать и умаливать, клясться в верности. Князь молча отвернулся от посла, но велел позвать его обедать. Опять повезли взятки московским боярам. Опять стали соглашаться на неволю. Иоанн молчал, но полки неумолимо придвигал к проклятому городу. Были взяты ближние монастыри и Городище. Прямо на ходу продолжались переговоры с новгородскими послами. В общем, это был пустой базар для отвода глаз. 27 ноября новгородцы увидели своих послов, возвращавшихся ни с чем, а за ними переходило замерзший Волхов московское войско. Началась осада. Московские отряды посменно ходили кормиться по волостям. Новгородцы голодали. Каждые три дня владыка Феофил осмеливался снова просить у государя милости.
— Я не пойму, чего вы просите, — грозно ворчал Иоанн, — я сказал: теперь у вас будет мое государство, как на Низу, в Москве.
— Ой, да мы ж низового государства не знаем и не умеем, — лукавил Феофил.
— Государство наше таково, — милостиво разъяснял Иоанн, — вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство все нам держать, селами нам владеть, как владеем в Низовой земле.
Поняли новгородцы, что свободе их конец. Или конец жизни. Да тут еще слух прошел, что государь всех новгородцев выведет с их заразной земли в свои волости. Шесть дней думали, как быть. Потом согласились остаться без колокола, веча и посадника. Но остаться. Чтобы государь никого в неволю не угонял.
— Ладно, — согласился государь, — не буду. Хотите — верьте, хотите — нет.
Новгородцы обнаглели, стали добавлять мелкие пожелания, требовать с князя крестного целования. Князь гордо отказался. Подходило Рождество. Послы стали проситься домой подумать и попраздновать в кругу семьи. Князь не пустил. 29 декабря послы стали просить хоть какого-нибудь решения. Послов впустили к князю. Он сказал им: «Чего вы просили насчет суда и службы, тем я вас жалую». Послы обнадеженные пошли восвояси. Но скоро их нагнали московские бояре и передали слова Горбатого, что Новгород должен отдать Москве все волости и села. Опять в Новгороде начались совещания, предлагали князю часть волостей, торговались из-за монастырей и дани. Кое-как договорились, и 13 января 1478 года была совершена «присяжная запись». Боярин Иван Патрикеев провел собрание «лучших» новгородцев в закрытой палате. Веча на площади больше не было. После объявления условий компромисса новгородцы были приведены к присяге. По окраинам новгородским поскакали московские дьячки и офицеры, заставляли бояр да «детей боярских» целовать крест на верность Горбатому. Итоговый документ — присяжная грамота — был скреплен 58 печатями. Наместниками Иоанна в Новгороде были назначены братья Оболенские — Ярослав и Иван Стрига. Сам князь в Новгород въезжал только два раза на короткое время, потому что на улицах поверженного города свирепствовал мор.
5 марта Иоанн вернулся в Москву. Он привез с собой пленников — Марфу Борецкую и еще семерых новгородских заводил. В обозе князя звякал накрытый рогожкой священный символ новгородской вольницы — вечевой колокол. Марфу со товарищи отправили в тюрьму, а колокол подвергли высшей мере наказания — казни через повешение. Ранним московским утром 6 марта 1478 года он был вздернут на кремлевскую колокольню — «звонить вместе с другими колоколами».
Тоска новгородская не унималась. Никак не могли понять в Новгороде нового бытия. Дурью казалось новгородцам после 600 лет республики отчитываться по мелочам, черт ее знает, в какую Москву. Их великий город привык вести собственную экономическую и внешнюю политику. В культурном плане Новгород всегда оставался русским. Его хозяйство было обозримым, управляемым, эффективным. Перспективы перед ним открывались европейские. И вот — Москва. Нет, с этим мириться было нельзя.
А Москву продолжали терзать внутренние распри, предавали и подставляли хранимые про запас ордынские ханы. Москва отвлеклась от Новгорода. Новгородцы снова стали пересылаться с Казимиром Литовским. Складывался опасный союз Новгорода с Литвой и частью Золотой Орды. Дело могло закончиться походом объединенных сил на Москву.
Здесь просматривается аналогия с мотивами битвы при Грюнвальде. Москва стала реальной угрозой самостоятельности своих «малых» европейских соседей, она заняла место павшего жандарма — Тевтонского Ордена.
Иоанн снова пошел на Новгород, как бы «миром». Стояла поздняя осень 1478 года — удобное время для провоза артиллерии по льду новгородских рек, озер и болот. Горбатый снова хитрил: ехал сам по себе, в сторонке. Армия спешно собиралась и двигалась на северо-запад под командованием его сына, будто бы на немцев. Новгородцы разгадали маневр и заперлись в городе. Московские приверженцы стали бежать к Горбатому. Архиепископ послал к Иоанну за опасными грамотами для беглецов. «Я сам — опас для невинных и государь ваш», — отвечал князь.
— Откройте ворота, а я уж разберусь, кого пасти, а кого — сами понимаете.
Непрерывная пушечная пальба подтверждала добрые намерения Горбатого. Наконец ворота отворились. Новгородское начальство упало в ноги князю. Иоанн продолжал игру. Благословился у архиепископа, громко, чтобы все слышали, провозгласил прощение и милость Новгороду, поселился в доме новоизбранного посадника, будто бы и не был этот чин запрещен присяжной грамотой и крестным целованием. Пока лилось вино и ощипывались лебеди, пока под рожки и гусли праздновали встречу дорогого гостя, спецназ шуровал по теремам непокорной новгородской верхушки. Владыка Феофил был схвачен и сослан в московский Чудов монастырь с конфискацией имущества, 50 «лучших» людей новгородских подверглись пыткам в ту же ночь застолья. 100 человек были казнены, 100 семей купцов и детей боярских разосланы по низовым городам. Вот кто, оказывается, придумал депортацию народов — Горбатый!
Теперь за Новгородом присматривали зорко и карали неотвратимо. Каждый год раскрывались действительные и мнимые заговоры. Люди под пытками оговаривали друг друга и просили прощения за оговор уже под перекладиной виселицы. Выселение Новгорода продолжалось: 1487 год — 50 семей купцов вывезено во Владимир, 1488 год — семь тысяч заговорщиков вывезено в Москву, часть казнена, часть разослана по городам. На их место по московским путевкам посылались надежные молодые люди.
Кругозор Горбатого не ограничивался Новгородом. Он так же жестоко покорил Вятку, Псков, Казань, Рязань, Тверь, Ярославль, Ростов Великий…
Тут я заметил, что Писец дергает меня за карман и что-то шевелит губами. Выражение лица его при этом было не то радостное, не то тревожное. На мой немой вопрос: «Чего надо?», он подобрался поближе и горячо зашептал чесноком: «Батюшка! Иго кончилось! Кончилось Иго!»
— Какой я тебе батюшка? — не сразу дошло до меня.
— Так нету же Ига! — свистел Писец сдавленным горлом.
Эх, люди! А ведь и правда, миновал же 1480 год! За делами новгородскими да тверскими мы чуть было не прозевали великую дату!
В средней школе нам говорили, что после Поля Куликова Иго терло русскую шею еще ровно 100 лет. Мы думали, что так совпало, и в 1480 году Горбатый разбил полчища какого-нибудь Мамая Второго. Или совершил рейд на Орду, спалил Сарай, да и заложил заодно Волго-Донской канал. Нет. Ничего такого эпохального не произошло. Горбатый продолжал грабить братьев, но, как все наглые и жадные, оказался легок на испуг. Братья, — а это были все двоюродные да троюродные Рюриковичи — написали Ивану, что хан Золотой Орды Ахмат идет на Москву с несметными силами, табунами, чумными да сыпными пехотинцами и совсем уж заразными гаремами. Так что, крышка тебе, государь. А вот, если ты нас приласкаешь да приголубишь, будешь держать в чести и в доле, то мы ополчимся и поможем тебе разбить нечестивых агарян.
«Государь» покривился-поежился, но согласился. Братья не подвели. Когда в ноябре 1480 года войско Иоанна выстроилось на нашем берегу реки Угры, то на подмогу ему с посвистом налетели двоюродные полки и разогнали туман, поднимавшийся с осенней речки. Орды Ахмата под туманом не оказалось. Ушел коварный азиат. Горбатый нехотя раздал помощникам серпуховские, пермские, ростовские и прочие уделы и занялся обычными делами.
Что обидно: никаких торжеств в Москве по случаю окончания Ига не сыграли. Не было ни салюта, ни мыльных казней, ни раздачи московских пряников. Даже колокольной сюиты никакой не исполнили — боялись лишний раз трогать опасный новгородский вечевой колокол, который смиренно покрывался зеленью среди проверенных колоколов кремлевского оркестра…
Что нам теперь делать? Главу мы начинали про Горбатого, при нем закончилось Иго, а часть третья нашего повествования под названием «Иго» осталась далеко позади. Но переименовать ее нельзя. Переименование уже написанного документа в нашей стране может выйти боком. Посовещавшись, мы решили оставить все как есть. То есть, Горбатого кончать своим чередом, про Иго — забыть. Писец подсунул нам образец проклятой грамоты, и я заставил его и Историка подписаться, что впредь они меня не осудят, если конец очередной части не будет попадать в год начала следующей. А я обязался не кривиться и не щуриться при прочтении их цитат. Историк был рад и такому примирению, а Писцу я вернул карточки для «балды» — в благодарность за заслуги перед русской словесностью…
Теперь, значитца, Горбатый. Он без Ига не скучал.
У неспокойных братьев умерла мать, бывшая великая княгиня — вдова Темного. «Она очень умиротворяюще действовала на Иоанна», — уверял Историк.
— Ничего себе — смирительница! — подумал я, но виду не подал: мне пришла мысль, что Историк прав. Старая карга переводила стрелки на Новгород и другие княжества, чтобы Горбатый не загрыз своего младшего брата — ее любимого сына Андрюшу Большого. Теперь маменьки не было, и жизнь родственников стала подвергаться большой опасности. К Андрею Большому прибежал боярин Образец и стал уговаривать Андрея бежать: в коридорах власти о нем говорили как о покойнике. Андрей кинулся к Ивану Патрикееву — крупному думскому авторитету. Патрикеев шарахнулся от призрака, перекрестясь. Тогда Андрей пошел прямо к Горбатому и спросил, что да почему. В ответ услышал речь совсем в духе папы Темного.
— Клянуся небом и землею и Богом сильным, творцом всея твари, что у меня и в мыслях нс бывало ничего такого! — божился честный Иоанн и даже стал разыскивать разносчиков нелепого слуха. Изловили шутника Мунта Татищева, устроили ему торговую казнь, это когда на базаре тебя начинают как бы казнить, кричат, бьют в барабаны, пробуют топор на черном петухе, а потом вдруг из толпы выскакивает зачуханный дьячок и зачитывает помилование: ссылку, конфискацию имущества, отсечение правой руки и прочие нестрашные наказания. Иоанн хотел еще Татищеву язык отрезать, да митрополит зачем-то отговорил его.
Клятву Богом, творцом всея твари, пришлось в муках терпеть целых два года. Но в 1491 году нашелся повод, — Андрей не пошел защищать братский Крым от какой-то мелкой орды. Через полгода Андрей по делам заехал в Москву и был принят очень по-доброму. Выпили, закусили с дорожки. Утром Горбатый позвал Большого брата опохмеляться. Андрей поспешил ударить князю челом за угощение. Брат ждал его в комнате, которую все домочадцы называли «западней». Пока братья лобызались да улыбались, бояр Андрея перехватали и рассадили по одиночкам. К самому Андрею вошла толпа московских бояр с «плачем великим»: «Ох, государь! Пойман ты Богом да государем великим князем Иваном Васильевичем всея Руси, братом твоим старшим». Стал Андрей думать, при чем тут «творец всея твари», а в это время его сыновей ловили в Угличе и в кандалах сажали в Переяславскую тюрьму. Дочерей «не тронули». Хотел я уточнить у Историка, как это: совсем не тронули или не тронули посадить в тюрьму, но постеснялся.
Андрей умер в застенке через три года. Иоанн показательно каялся, плакал, лил слезы. Попам было велено разговаривать с ним строго и какое-то время «не прощать».
На возмущение Историка, с чего это я плету? — пришлось предъявить свидетельство, что сыновья замученного остались в кандалах.
Тут стали подозрительно часто умирать удельные князья, причем как раз в процессе переговоров об обмене, передаче, наследований делов. С перепугу все живые начали величать Горбатого Государем.
Отдельной строкой в Истории наших мрачных времен видна повесть о сватовстве и втором браке Горбатого. Первая, не вполне любимая жена его, Мария, умерла по обычной причине — ни с того, ни с сего. Тело ее за два дня лежания и отпевания распухло в несколько раз, поднялось, как на дрожжах, порвало все покровы. Стали болтать, что тут не без яда. Но следствие обнаружило, что на самом деле виновато колдовство: придворная дама Полуехтова тайком носила пояс покойницы ворожее для каких-то темных наговоров…
Вы уже приготовились захватывать лучшие места у Лобного места? Зря. Кина не будет. Государь по-своему покарал колдунов: «Несколько лет не велю пускать Полуехтову и ее мужа к себе на глаза!» Жесток, но и милостив Горбатый!
Надо было теперь жениться. По-настоящему.
О таких делах князья всегда советовались с церковными начальниками, сверялись, что грешно, а что не грешно. Стал совет держать и Горбатый. И вот как нам увиделся этот марьяжный совет.
В думской палате сидят на лавках бояре, митрополит со своими заместителями, мать жениха — будущая свекровь (она тогда еще жива была). Бояре, набычившись, трудно считают варианты сватовства. Те, у кого есть подходящие дочери, заметно волнуются и суетятся. Но до смотрин дело не доходит, потому что из канцелярии приносят иностранное письмо. Пишет греческий митрополит Виссарион, перебежавший из занятого турками Константинополя в кардиналы при Римском Папе (наши черные хмурятся, подкатывают глаза, делают губы бантиком). Передает Виссарион предложение Папы Павла И: «А не жениться ли великому князю московскому на принцессе Софии?» Эта София — племянница последнего Византийского Императора Константина Палеолога, павшего на стенах священного города. Она — начинают врать Папа и Виссарион — уже отказала двум крупным европейским женихам из-за их католичества. А вам, православным, она будет в самый раз.
В Думе поднимается шум. Бояре кричат, что у этой принцессы приданого — вша на аркане. Попы попроще клянутся, что точно слышали, будто София не вылазит из католических костелов, соборов и что там у них еще. Мама князя согласна на любую невестку, лишь бы девочка была послушная и ласковая, кстати, а пусть-ка пришлют ее портретик.
Митрополит Филипп прекращает базар четкой, продуманной речью. Аргументы у него железные.
1. Ты, государь, грешен. Ой, как грешен, сам знаешь. Но у Бога ни одна тварь не остается без надежды на спасение. Вижу путь спасения и для тебя.
2. Путь этот лежит через женитьбу на царевне греческой, наследнице Императоров Византийских. Девка эта — единственная труба, через которую последняя кровь православных Императоров может потечь дальше.
3. Что она сейчас под католиками — беда не велика. Они думают через нее тут командовать, смущать православных. Обойдутся. Мы тут с ней чего захотим, то и сделаем. В наших-то лесах.
4. Зато теперь твои дети, государь, получатся внуками Императора Византийского. Москва станет Третьим Римом, если Константинополь считать вторым.
5. Это даст нам право быть вселенским центром православия, а поскольку оно — единственно верное учение, то и вообще — центром христианства и новой обителью Бога на Земле.
6. И дальше нам никто не запретит построить великую Империю, новое царство Божье на земле. К счастью, Константинополь — под турками, Иерусалим — под арабами, Рим — под всякой блудной сволочью.
7. И этими богоугодными делами ты, государь, искупишь свои великие грехи, как предок твой, святой равноапостольный князь Владимир, искупил свой блуд и невинную кровь крещением Руси. И тоже, кстати, через женитьбу на дочери Императора.
8. Так что, потомки твои, государь, впредь будут именоваться Царями, а потом — тоже Императорами.
— А мне можно? — наивно спросил Горбатый.
— Можно, — натужно выдавил митрополит, — сначала только Царем.
Тут митрополит заулыбался. Его не поняли, и всем стало радостно.
На самом деле, митрополита молнией пронзила счастливая мысль, что при быстром оформлении дела он, пожалуй, успевает побыть Патриархом. Как бы православным Папой, наместником правильного Бога среди неправильных религий, церквей и сект.
Дело было решено, и в Рим галопом отправился московский итальянец, монетных дел мастер Банька Фрязин. Он околачивался в Москве и принял православие, видать, из-за неточного печатания иностранной валюты. Фрязину велено было ориентироваться на месте, и он стал втирать Папе и кардиналам, что как только София переступит кремлевский порог, так сразу же Русь бестолковая примет покровительство Римского престола.
— А князь ваш ее слушать будет? — спрашивали сваты, подливая в золотые кубки кровь Христову.
— Будет! — уверенно крестился слева направо Иван. — Он у нас недоумок, и кличка у него — Горбатый. Так что, сами понимаете…
В художественных мастерских Италии бушевало позднее кватроченто, поэтому Фрязин быстро вернулся с приличным портретом невесты, потом погнал обратно — изображать жениха при обручении. В июне 1472 года София кружным путем, через Средиземное море, Атлантику и Балтику двинулась в дикие края. К октябрю добралась до Ревеля. По всей русской дороге новгородцам, псковичам и прочим было заранее велено сытить меды, варить пиво и гнать самогон. Вкусно обедая и сладко выпивая, гости заехали в псковскую Троицу. Тут хитрая принцесса вывернулась из рук конвойного кардинала Антония, стала с нашими любезничать, креститься наоборот, а красного католического батюшку силой заставила целовать гадкую православную икону Пречистой Девы. Чуть было Антоний не вернул под иконостас давешнюю выпивку и закуску. Утешала кардинала только острая мысль о предстоящих хлопотах во славу Божью. Нужно было в Москве переоборудовать под венчание какой-нибудь бывший православный храм, научить местных служителей правильно вести службу или хотя бы не мешать. Да нужно еще было принять в свои руки управление наличными церковными активами, кладовыми, сокровищницами, ризницами и т. п. Потом овладеть всей полуязыческой паствой, разрушить до основания, а затем построить заново систему церквей, монастырей, епархий, аббатств; везде расставить своих людей.
Тем временем в Москве шел художественный совет. Князя беспокоила позорная католическая повадка: во все русские города впереди Софии входил кардинал Антоний и вносили резной католический крест, сделанный — не спорим — красиво. Но в Москву, будущую столицу Империи, с таким крестным ходом гостей пускать было нельзя. Сильнее всех уперся митрополит Филипп: если они таким манером — в одни московские ворота, то уж я, государь, — через другие и вон из Москвы. Решено было не церемониться. У Антония просто отобрали возмутительный крест и спрятали его в обозе. 12 ноября, прямо с дороги, Софию доставили под православный венец. На другой только день приняли дары от Папы Римского и послушали всякие заумные высказывания Антония. Головы у всех трещали со свадебного пира. Новая великая княгиня уютно ерзала в кресле у трона государя. Антоний умолк. Ванька Фрязин, как и обещал римским братьям, честно пытался обращать московский двор в католичество. Его осмеяли: «Плохо, Ваня, держишь градус! Иди проспись».
Позже Антоний еще раз пробовал затевать переговоры о соединении церквей. Но грубые русские вызвали его на дискуссию и выставили против кардинала Никиту Поповича, местного книжника, совершенно неизвестного в научном мире. Случился конфуз. Самоучка раз за разом окунал папского легата в библейские цитаты и труды святых теоретиков. В конце концов, Антоний позорно сдался: «Нету книг со мною!» Православие было спасено.
Роль Софьи в строительстве Империи трудно переоценить. Это ее в течение последующих веков «русские патриоты» обвиняли в разрушении «семейных традиций». При воцарении Софьи головы непокорных, неугодных и нельстивых родственников градом посыпались с Лобного места. Не нравилась молодой и кличка мужа.
— Не такой уж ты, Ваня, и горбатый. Руби головы направо и налево, так забудут Горбатого, и будешь ты у нас — Грозный…
Здесь я признался Историку, что, читая его объемный труд в первый раз, заблудился между Иван Васильевичами Грозными. Историк с Писцом радостно захихикали и закивали.
— Все, сударь, путаются поначалу! Горбатый был Иван Васильевич Третий. Кличка Грозный к нему не прижилась. Ее вспомнили и приклеили к его внуку Ивану Васильевичу Четвертому — тот был действительно Грозный: чуть что, варил плохих людей в масле посреди двора…
Софья так была занята вхождением во власть, что первого сына Василия-Гавриила родила Горбатому только через 7 лет после свадьбы. Царственному наследнику, потомку Палеологов, все были страшно рады, но при этом возникала новая головная боль: старшего сына Горбатого от заколдованной Марии нужно было куда-то девать. Поэтому в 1490 году он разболелся «камчюгом», похожим на подагру. Тут же из Венеции вызвали некоего «мистра» Леона, который уверенно объявил Горбатому, что вылечит сына. «А не вылечу, вели меня казнить», — будто бы поклялся венецианский еврей нашему грозному монарху. Стал он что-то давать больному внутрь, обкладывать его стеклянными грелками, так что Иван Иванович (тоже называвшийся великим князем и почитавшийся равным отцу) благополучно скончался 32-х лет от роду. Шарлатана схватили, и как минуло 40 дней с кончины молодого князя, поступили по уговору — «казнили смертию». Концы были спрятаны, разговоры об отравлении Ивана Молодого начали стихать. Но тут обнаружилось, что после него остался сын Дмитрий.
Итак, имелись два старших сына двух великих князей. Вот задачка. Кому наследовать беспокойный русский престол? Вы еще думаете? Конечно, Васе — «отростку царского корня». Но двор и придворные почему-то поворотили в другую сторону — к Дмитрию. Сильно не любили они вертлявую и жестокую Софью. За Василия и Софью остались только мелкие дьячки да незаконнорожденные «дети боярские». Бояре стали давить на Горбатого, приводить дельные резоны, и старый князь начал склоняться к Дмитрию. Безродные поклонники Василия составили заговор: они собирались бежать из Москвы, захватить вологодскую и белозерскую казну, Дмитрия убить. Но заговор был раскрыт, Василий попал под домашний арест. Хуже пришлось его приверженцам: шестерых казнили на Москве-реке. Злобность Иоанна Горбатого-Грозного воплотилась в художественных излишествах в виде постепенного отсечения конечностей казнимых. Многих дворян Василия побросали в тюрьмы. Логично было бы разобраться и с подстрекательницей восставших — собственной женой. Но было страшновато, и государь просто «осерчал» на нее. К тому же была вскрыта целая сеть каких-то придворных девок — ворожей и колдуний, изъято зелье неведомого состава и предназначения. Свеж еще был опыт семейных неурядиц британского коллеги Генриха VIII Тюдора, лихо усмирившего шесть своих жен. Но могли об этих делах за туманностью Альбиона и не знать, поэтому следствие скомкали, ведьм перетопили в речке ночью, показаний против Софьи не собрали. И стал государь «остерегаться жены»…
Тут я начал сомнительно щуриться и беспокойно озираться. Историк дружелюбно повел бровью и сделал вежливую паузу, чтобы я смог вставить реплику. Историк думал, что я выскажу какую-нибудь дерзость о воздержании государя или неудовлетворении Софьи. Но я загнул в другую сторону. Все не давало мне покоя тройное тезоименитство двух Иван Васильевичей Грозных.
— Не кажется ли вам странной такая вереница совпадений? — закинул я удочку Историку и Писцу. — Мало, что князья наши оба:
1. Иваны,
2. Васильевичи,
3. Грозные, — но еще и
4. старшие сыновья-наследники у них — Иван Иванычи,
5. оба убиты не без папиного хотения-веления,
6. потом свет клином сошелся на малолетних наследниках Дмитриях Ивановичах,
7. которые скоропостижно убираются со сцены — один в ссылку ближнюю, другой — в Углич, далее — на тот свет.
— Не слишком ли много совпадений, господа? В жизни так не бывает. Академик Анатолий Фоменко наверняка скажет, что налицо хронологический сдвиг, и оба Иван Васильевича — это один и тот же грозный горбатый садист, оба Иван Иваныча — один и тот же персонаж картины «Иван Грозный убивает сына», оба Дмитрия Ивановича — один и тот же несчастный пацан…
При имени академика Фоменко возник курятник. Писец защебетал: «Свят, свят!» — и нырнул под иконы. Историк окаменел, побагровел, стал мять бант-бабочку и зарядил обличительную тираду, что Фоменко — не — имеет — никаких — действительных — оснований — попирать — основы — исторической — науки — и — оскорблять — целые — поколения — честных — ученых — архивариусов — и — летописцев — дико — отождествляя — Ярослава — Мудрого — Калиту — и — Батыя…
На последних словах Писец довольно крякнул и вылез на свет божий с позолоченной чашей. Он предпочел молча развеять мерзкий дух Фоменко добрым церковным кагором.
Мы с богопротивным математиком отступили до лучших времен.
Тем временем, 11 апреля 1502 года, великий князь положил опалу на внука своего, великого князя Дмитрия, и мать его Елену и велел выкинуть их имена из всех казенных бумажек, поминаний, завещаний, молитв, ектений каких-то и прочая и прочая. А чтоб сами не лезли ко двору, взял их под стражу. Тремя днями позже на великое княжение был посажен Василий, нареченный самодержцем всея Руси. Горбатый, естественно, сохранил реальное самовластие.
Дел у князя было хоть отбавляй. Он трудился. Он не спал ночами, горбился в кресле, разрывался на все четыре стороны: душил Казань, торговался с литовскими и турецкими правителями, чтобы именовали его «государем всея Руси» (а польско-литовской части Руси с Киевом, матерью городов русских, как бы и на свете не было). Оставался и страх перед Диким Полем, перед Ордой, так что при первых дымках на горизонте раз за разом сжигались окраины собственных городов, а люди загонялись в кремли.
Но главное дело было сделано. Россия объединилась, судорожно сжалась в одном кулаке. Эта судорога московская поддерживала в населении беспредельный страх, строила крестьян и горожан в полки по первому звяку кремлевских колоколен. Но пахать и сеять в состоянии судороги было неловко.
Иоанн Васильевич Горбатый (Иван III) скончался 66 лет от роду, на 44-м году княжения 27 октября 1505 года. Его завещание не просто распределяло уделы между пятью сыновьями, не только отдавало 66 главных городов Василию, его строки тянулись ко всем мелочам последующего бытия, добирались до рублей и копеек. Казалось, страшный князь норовил вцепиться в душу каждого русского человека от Края Времен и до Края их.
С княжения Ивана Третьего резко, непомерно увеличились кипы казенных бумаг. Во-первых, потому что они теперь упорядоченно собирались в Москве («Грамоты полные и докладные пишет только ямской дьяк сына моего Василия»). Во-вторых, их реже стали жечь татары. В-третьих, у Писца появились дерзость и легкость необыкновенная эти бумаги писать. В-четвертых, это была объективная реальность и закономерность: рождалась Империя. А бумажка для благополучного Имперского рождения и бытия — первое и последнее, главное дело. Шкафы лопались от дипломатической переписки с турками и Литвой, горы военных и гражданских указов оплывали на приказных столах, версты славянской вязи выведены были трудолюбивым Писцом на личные и семейные темы. Со времен Горбатого и сам Писец стал сутул чуть ли не больше, чем его повелитель. Историк же восторженно принял такой поворот дел и принялся самоотверженно разгребать бумажные завалы. И стал Историк нуден и навязчив. Старался он при каждой возможности усадить нас рядком и назидательно объяснять, какое огромное значение имело замужество дочери Горбатого за литовским князем Александром, какую передышку оно предоставило Государству Российскому для его имперских дел. На прямой вопрос, а как там наш народ русский перебивался при Горбатом? — Историк выворачивал на мелочи быта: что мы носили, да из чего строили избы, да как лютовали разбойники на дорогах.
— Нет, вы скажите, профессор, какова была экономическая модель правительства? Как оно определяло уровень налогообложения, достаточный для развития центра и терпимый для населения? Как оно исправляло общественную нравственность, как стремилось вырастить Нового Человека, в конце концов?!
На эти дурацкие вопросы ни Историк, ни Писец определенно не отвечали. Они жадно читали ветхие рукописи, и в зрачках их полыхал безумный огонь Нового Времени и Новой Крови.
ВАСИЛИЙ ИОАННОВИЧ
Василию достались города русские. Но Русь — это не одни города. Это еще и тяжкая обязанность тащить неподъемный воз отцовских проблем, груз мести царю казанскому, вражды с королем польским, кровавой дружбы с крымской ордой, ненависти обдираемых до мяса и кости десятков малых народов, опасности Ордена…
— Какого еще Ордена? Мы же его разбили под Грюнвальдом 100 лет назад!
— Видите ли, сударь, Орден после Грюнвальда действительно утратил историческое значение, но в смысле военном продолжал представлять опасность своими союзническими отношениями с Литвою, Польшею, мятежными западно-русскими городами и княжествами, — вяло объяснился Историк.
Пришлось Василию пугать магистра мобилизацией, блефовать перед королем, ханами и ханчиками.
В Киевской Руси у Василия завелся союзник, князь Михаил Глинский, славный герой — победитель крымских татар. Он был любимцем покойного зятя Горбатого, Александра Литовского. Чин имел живописный — «маршалок дворный». Был он православным, в католичество не хотел, хотел земель и власти. Новый король Сигизмунд ему пришелся не по вкусу. Глинский стал мутить воду в пользу Москвы. Его поддержали и другие князья, привыкшие креститься налево. Глинский стал уговаривать Москву, что Литва «не в сборе», никого там достойного нету, а бить католиков — одно удовольствие. Тут Глинского обидел Ян Забрезский. Прямо и громко сказал в сейме, что Глинский — предатель. Глинский собрал не шибко православную команду в 700 всадников, окружил имение Забрезского, послал в спальню к говорливому пану немца и турка, которые отрубили голову незадачливому патриоту. Голова была на сабле поднесена Глинскому, проследовала в голове отряда четыре мили и была утоплена в речке. Началась война.
Война эта потянулась через последнее столетие Рюриковичей, то разгораясь, то затухая. Славяне европейские и славяне азиатские решили выяснить, наконец, кто прав и кто виноват в неурядицах средневековой жизни.
Ключевым вопросом в этой войне было привлечение на свою сторону турок, или, по крайней мере, крымских татар. Обе стороны стали отваливать в Крым немалые деньги. Эта многолетняя кормежка совершенно развратила трудолюбивый народ Тавриды.
«Крымская орда начинала обнаруживать вполне свой разбойнический характер», — обижался Историк. Как же было его не обнаруживать, когда деньги сами сыпались через Перекоп, а пахать скалистые склоны Ай-Петри было утомительно. Так что русские русские и украинские русские одинаково виноваты в исторических невзгодах крымско-татарского народа.
Крымцы брали литовские деньги, но на Москву идти не торопились. Затевали переговоры, обменивались делегациями, дарами, приветами — «карашевались». Это ордынское слово почти без изменения дошло и до нас. Когда сначала щербет в рот, а потом — пику в бок, так мы тоже охаем: «Что ж такое? А ведь как корешевались!» Московские князья дошли до абсурда — пытались с татарскими корешами крест целовать. В ответ басурмане посылали воздушные поцелуи в сторону Луны. Пришлось вернуться к привычной практике обмена верительными грамотами умеренной проклятости. Грамоты эти, понятное дело, ни разу не сработали.
Литовцы и поляки по совету мудрого магистра стали ждать, пока Москва сама с кем-нибудь передерется, желательно со своими.
1507 и 1508 годы прошли в бессмысленной возне: ни тебе повоевать, как следует, ни тебе помириться да пожить.
Василий Московский занялся «внутренними» делами. Решил закрепить отцовские завоевания. По доносу своего наместника в Пскове князя Репни-Оболенского, стал Василий давить Псков. Репню в Пскове называли «Найден». Он не был нормально представлен псковичам, не был встречен по обычаю крестным ходом, не сказал народу ласкового слова. Был он найден на постоялом дворе, куда инкогнито, по-хлестаковски, прибыл из Москвы и обретался в сытости и похмелье. «И был этот князь лют до людей».
Василий в конце 1509 года отдыхал в Новгороде. Сюда приходили к нему с жалобами на Репню псковские посадники. В Псков были посланы следователи, которые после банных переговоров с Репней замяли конфликт, сказали, что на месте разобраться никак невозможно. Василий вызвал челобитчиков в Новгород, где они были арестованы и розданы боярам под домашний арест. Никому уже и дела не было до правления Репни, а нужен был повод, придирка к Пскову. Государь объявил псковичам, что надо им отдаться — так отдаться: вечевой колокол — долой, посадников — долой, наместников принять двоих и по волостям еще отдельных наместников кормить. Арестованные челобитчики кабальную грамоту подмахнули, почти не глядя. В Пскове встал вопль. «Гортани их пересохли от печали, уста пересмякли; много раз приходили на них немцы, но такой скорби еще им не бывало». Получалось, что фашистская Германия безответственным псковичам была чуть ли не милее столицы нашей Родины — златоглавой красавицы Москвы, к подножию которой в делах, мыслях и песнях должна была денно и нощно стремиться душа каждого русского человека!
Писец с хоккейной фамилией, присланный огласить приговор псковичам, нагло уселся у храмовых врат, стал выпивать да закусывать. Псковичи попросили у него сутки обдумать ответ.
Вот ведь странное дело: целые сутки развозить базар из-за какого-то колокола. Рыдать всем городом («только младенцы не плакали»)! И все для некоторой мнимой свободы. Странные, непатриотичные сомнения овладели псковичами, какая-то дурацкая, вольная ухватка, недостойная истинно русских людей. Нужна им, видите ли, была свобода! Чуть ли не за немцев хотели они схорониться от родной маменьки Москвы!
«Как зеницы не выпали у них вместе со слезами? Как сердце не оторвалось от корня своего?» — сочувственно икал Писец. Псковичи были на грани нелепого решения: взять да и умереть свободными, вместе с детьми и женами! А ведь и свободы у них оставалось — с гулькин нос: только что позвонить по праздникам в тот самый, специальный, нецерковный колокол да покалякать друг с другом. А в остальном уже давным-давно они были с потрохами запроданы Москве. И грамоты об этом были подписаны еще их отцами — самые распроклятые: «станем жить сами собою без государя, то на нас гнев Божий, голод, огонь, потоп и нашествия поганых».
Прорыдав трое суток, девица согласилась. 13 января 1510 года сами жители некогда вольного Пскова сняли свой вечевой колокол, и наш Писец, дьяк Третьяк, лично и без охраны отвез его государю.
Оставалось сыграть заключительный акт трагифарса. 24 января Василий въезжал в Псков. Крестного хода он не захотел — священники остались по домам. Народ вышел за три версты упасть царю в ножки. Василий милостиво справился о здоровье псковичей. Был в этом вопросе и некий подвох. Царское «по здорову ли?» здесь означало: «А не сделалось ли вам хвори какой от ваших слез и стенаний? Не надорвались ли вы, плачучи о колоколе? А то вот вы не стреляны, не рублены, даже плетей не отведали?!». Псковичи отвечали, что мол, «ты бы, государь наш, князь великий, царь всея Руси, здрав был». Василий въехал в город, послушал про себя молебен, удовлетворенно принял поздравление: «Бог тебя, государь, благословляет взятием Пскова». Тут псковичи опять разрыдались прямо в церкви. Заело государя, не ощутил он вселенской радости. Ни тебе толп народных на площадях, ни тебе флажков государственных, ни тебе радостного младенца на ручках подержать. Затаил батька злобу. Да легко его и понять: жизнь Василия была зажата между жизнями его отца и сына и пылавшего в них безумного святого духа. Два Иван Василича Грозных так давили князя, что и ему ничего другого не оставалось, как давить да карать.
Ну, вот и созвал Василий «лучших» псковичей на званый пир. Все принарядились, пришли. Набились во двор. Вышел на ступеньки Писец и стал зачитывать какой-то отдельный список. По этому списку лучших из «лучших» провожали в царевы палаты и прямо там вязали. Худшим из «лучших» было велено идти по домам, сидеть да помалкивать. Триста семей арестованных, не мешкая, подводами вывезли в Москву и далее — везде. Цифра 300 была взята по памяти — из мемуаров Писца, точно столько же раскулаченных новгородцев развеял по Руси папа-Горбатый. Если бы «лучших» не хватило, добрали бы черни. Времена уже были просвещенные, поэтому князь не стал увеличивать оккупационный гарнизон, а напустил на Псков несытую армию чиновников: 12 городничих, 24 старосты, 15 «добрых людей московских» для устройства таможни. Недоразвитые псковичи и слыхом не слыхивали про такую науку — ни за что ни про что брать деньги с тех, кто тебе же хлебушка привез. Начались дикие поборы. Народ тихо побежал в леса. Глупые стали выискивать правды в государевой грамоте, этих «добрые люди московские» убивали без базара и безвестно топили в болотах. Жизнь в Пскове помаленьку наладилась.
Вроде бы всем было хорошо. Но оказалось — не всем! Князь Михаил Глинский остался без чести и удела!
Который раз так получалось, что один человек поворачивал историю, жертвовал тысячами жизней, спокойствием и пожаробезопасностью десятков городов, чтобы называться маршалком дворным, царем всея Руси, генеральным секретарем и прочая, и прочая. В общем, Мише скучно было отсиживаться в Москве. Здесь всем командовал царь-государь, а ему ничего серьезного не оставалось, как только вовремя к обеду переодеваться. Король польский все просил Василия выдать Глинского. Глинский писал королям немецким и принцам датским, чтобы они не сидели без дела, а шли драть Сигизмунда польского. Сигизмунд обижался. Волынка шла по кругу, пока в 1512 году то ли Михаил, то ли кто-то из его друзей не нашептал царю, что сестру Елену, вдову Александра Литовского, в Польше обижают: слуг отняли, осетрину дают второй свежести, на мазурку не приглашают. Король оправдался, показал послам Елену в целости и сохранности. Опять настал тошнотворный штиль.
Но тут вдруг на Русь стали налетать отряды крымского Менгли-Гирея. В народе была такая примета, что если крымские шакалы наглеют, так, значит, их кто-то науськивает: или султан турецкий, или король польский, или любой кто-нибудь с деньгами. Василий сразу послал Сигизмунду «складные» грамоты, то есть, мы с себя складываем всякую ответственность за нарушение проклятых обязательств, а тебе — гореть в адском огне. Повод для разрыва пакта о ненападении давно был наготове: обида Елены.
Против Сигизмунда ополчились все: и император опереточной венской «Римской империи» Максимилиан, и Тевтонский орден, и Бранденбург, и Ливония. Решено было поделить Польшу по-честному: Венгрию оторвать австриякам, Прибалтику — Ордену, Русскую землю (Киевскую Русь) соответственно присоединить к Москве. Союз получался неплохой и такой верный, что Василий не стал и дожидаться, пока Писец бумажки напишет, да переведет на европейские языки.
19 декабря 1512 года царь лично вскочил в седло. Двинулись на Смоленск. Рассчитывали на торжественную встречу. Вышла сущая нелепица. Смоленск, исконно русский православный город, стонущий под панским игом, вынужденный жить по варварскому магдебургскому праву, дающему гражданам эфемерные свободы, крепко заперся от освободителей. Смоляне не хотели в Россию! Не хотели припасть к коленям матушки Москвы, не спешили влиться в дружную семью городов и народов. Со смоленских стен в лицо государю Василию Иоанновичу страшно ударили пушки немецкого литья. Шесть недель великий князь пребывал в недоумении: если я — всея Руси, то, что тогда Смоленск? Или я — не всея? Решение не приходило.
Были кликнуты псковские пищальники — мощный ударный отряд мелкого калибра, вскормленный и вспоенный в захваченном намедни Пскове. Пищальники потупили очи долу. Пищали у них в сторону Смоленска тоже не поднимались. Царь велел выкатить им три бочки меду (это почти наркомовская водка; градус поменьше, но убойная сила поболе — за счет расширительного действия нектара на сосуды — сам пробовал, и вам советую — С.К.). Народная воля не шла у пищальников с ума, мед не прошибал. Государь велел присовокупить три бочки пива. Смертельный ерш поднял стрельцов в атаку. Обстреливали Смоленск со всех сторон, били даже из-за Днепра. Со стен отвечали пушки и смоленские снайперы. Урон среди похмельных был страшный. Озлобленный и раздосадованный Василий сам не заметил, как оказался в Москве.
Но Москва на то и Москва, что своего не отдает, а чужого не упускает. Летом, по хорошей погоде, отчего ж снова было не сходить к Смоленску? В июне 1513 года Репня-Оболенский, четвертые сутки не слезая с седла, столкнулся с отрядом смолян. В чистом поле у москвичей получалось лучше, и защитники отступили. Снова началась осада. Только теперь москвичи пришли с пушками, а не с пищалями. Пушки били с рассвета до заката. И каждое утро смоленские стены стояли как новенькие. Они и были новенькие — за ночь мастеровые аккуратно закладывали пробоины от каменных московских ядер. Сами эти ядра и укладывали в стены, так что стройматериала все прибывало. В этот раз Василия подвела разница в производительности труда его казенных пушкарей и вольных смоленских каменщиков. По ноябрьским холодам уныло потащился он восвояси.
Однако градус Чувства к ненавистному городу только крепчал. Летом 1514 года началась третья осада. К ней подготовились правильно: наняли иностранных мастеров. Некий Стефан руководил артиллерией. В батарее была гигантская пушка, первый же залп которой оказался на редкость удачным — уничтожил главную батарею смолян. Взорвались пороховые запасы. Тут же Стефан научно прогладил крепость противопехотными бомбами, окованными свинцом. Защитники растерялись и стали в панике бегать по городу. Василий приказал крыть из всех стволов. Смоленское духовенство, приодевшись соответственно случаю, вышло просить пощады и сутки на размышление. Василий привычно поделил крестный ход на лучших и худших, первых загнал в шатры под арест, вторым велел бежать обратно и каяться.
Следом за парламентерами летели ядра и свинцовая картечь. Делать было нечего. Смоленск сдался.
Здесь произошел такой резкий поворот сюжета, какой, пожалуй, мы впервые обнаруживаем в русской Истории.
Представьте себе, дорогие читатели, что вы открыли книгу только с этого места, что ни про какую ненависть царя к трижды оскорбившему его Смоленску не прочли. Так у вас и настроение возникнет особенное, радостное. Вашему взору предстанет сцена въезда государя Василия Иоанновича в русский город Смоленск.
Звонят колокола. Служатся церковные службы-литургии, подносятся дары. Государь милостивы слова говорит всем лучшим людям, каждого называет по отчеству. Правда, руины вокруг. Ах, да! Оказывается, здесь только что шли бои!..
— А что это у нас тут за генерал иноземный?
— А это, батюшка, наместник королевский, Сологуб.
— А не желаешь ли ты, генерал, вступить в московскую службу с повышением в чине, звании, с выдачей денежного, вещевого и кормового довольствия на год вперед? Не желаешь. Ну, будь здоров, пей, гуляй с нами и домой отбыть не забудь.
— А это что за воины в пестрой форме?
— А это, государь, королевские стрельцы — смелый, обученный народ!
— Здравствуйте, товарищи польские стрельцы! Не желаете ли вступить в мою службу с сохранением чинов и званий? Да и с выдачей двух рублей на человека? Не желаете. Ну, так пейте с нами и гуляйте, но рублей получите не по два, а по одному! А протрезвеете, так берите шинели, идите домой.
Такой дичи ни один князь до той поры не допускал. Никто не был казнен в Смоленске. Никто не выслан. Желающим переселиться в Москву выдавались подъемные суммы и немедленно предоставлялась московская прописка. Нежелающим — сохранялись имущество и достоинство, у кого что было. Мирная практика имела успех. Смоляне враз успокоились и московских ужасов бояться перестали. Сологуб, как дурак, вернулся к королю и лишился головы…
Здесь сердце язвительного автора охватила досада на самого себя. Все казалось ему, что горбатого может исправить только могила, а кривая мораль пришлых да ушлых неисправима вовсе. И весь жизненный опыт в один осмысленный «сорок» говорил ему об этом прямо и честно. На этой каверзной мысли сел он и книгу писать. Да вот засбоило! Добрый царь помиловал честных людей, а должен был рвать этих набожных дураков каленым железом. Добрый победитель отпустил военнопленных и пайки им выдал сверх женевской конвенции, а должен был содрать с них иноземную форму вместе с кожей, живьем зарыть в оврагах. А уж Сологуба-голубчика, сами понимаете, торжественно должны были под белы ручки сопроводить к сосновому пенечку, а не домой к королю, жене и детям.
И начал автор сомневаться да кручиниться. Как вдруг мелькнула-таки верная мысль и засияла, очищенная медом и пивом. Не сам государь согрешил милосердной ересью, это его кто-то подучил, сбил с пути истинного! Кто же это такой светлый и умный советовал князю? Посмотреть бы на него! Я хочу видеть этого человека!
Да вот же он, советник ученый! Вельможный пан князь Михайла Батькович Глинский! И советовал он правильно, в соответствии с Чувством. И не было в его советах никакого гнилого либерализма. А был холодный расчет да дальнобойный план. Все три захода на Смоленск гундел Михаил на ухо царю, что нужно Смоленск отдать ему. На прокорм, управление, суд, расправу. Сильно он, Михаил, в этих православно-польских делах понимает! Царь кивал: да, да, получишь, получишь. Глинский на радостях слал гонцов к смолянам, уговаривал да обещал. Иностранных пушкарей из-за бугра выписал. Осадой руководил, переговоры направлял. Гнев царский смирял: жалел своих будущих подданных. И получил шиш с маком. Кинули его. Отправили на границу, подставиться под королевский контрудар.
Озлобился Миша. Сразу сел за письменный стол и прямо королю написал: извиняйте, был неправ, готов обратно. Одного не учел князь. В России неумытой — все наоборот. Тут холопы куда более господ к грамоте способны. Вот он тебе свечку держит, рыло скособочил. А сам бегло рыщет мутным бельмом по строкам твоей латыни. Ты письмо с панычем отправил и спать лег, а он в седло — и к боярину Челяднину да князю Голице с доносом. И вот тебя уже ловят на дороге, облапывают да ощупывают и находят ласковые письма королевские. А там уж ты в железах, в телеге отправляешься в стольный град Москву. А война без тебя разгорается пуще прежнего.
Голица и Челяднин, окрыленные успехом и обласканные государем, получили 80 000 (две тыщи сороков!) московского войска и храбро ринулись на врага. Король смог собрать только 30 000 войска под командой православного князя Константина Острожского (запомните это имя!). Войска сошлись под Оршей. После формальных переговоров начались бои. Польско-литовских русских было меньше, и они побежали. Наши русские отважно пустились вдогонку. Из кустов по ним ударила артиллерия Острожского. Картечь скосила толпы атакующих, добивать их пошла пехота из засадных полков. Закрутилась мясорубка. Наши прыгали в речку, на них прыгали следующие, все калечились и тонули. Острожский сначала атаковал полки Челяднина. Голица беспокойно наблюдал, как рубят его товарищей. А как же ему было не наблюдать, когда Глинского ловил он, а старшим в войско назначили Челяднина? Потом Острожский навалился на Голицу. Теперь отдыхал Челяднин. Его Чувство справедливости тоже не дремало: он был старше и знатнее Голицы, но этого сосунка ему навязали чуть ли не в одну версту!..
Король Сигизмунд писал потом Великому магистру Ливонскому в благодарность за мудрые советы, что москвичи потеряли только убитыми 30 000 человек. Речка Кропивна была запружена телами и вышла из берегов…
— Хорош ли был Константин Острожский для Руси?
— Что за дурацкий вопрос! Конечно, плох! Погубил 30 000 наших, сволочь, фашист!
— А я говорю — хорош!
Тогда вы с ненавистью смотрите на меня, пальцы ваши дрожат на бердыше, вы начинаете орать, обзываться и уже пора нам подраться. Но тут я предлагаю вам выложить на стол вашу масть. И вы гордо бросаете на зеленое библиотечное сукно 30 000 этих невинно убиенных.
А я достаю свою бумажку и бью вас так:
— Пройдет ровно 60 лет, друзья мои, и под Львовом в поместье Константина Константиновича Острожского, сына нашего антигероя, на деньги Острожских, убежавший от московской инквизиции монах Ванька Федоров будет денно и нощно печатать первую воистину русскую книжку — Букварь. Отсюда ее повезут возами по всей православной земле…
Ну, кто более Матери-истории ценен? Наш Букварь или ваши 30 000?
И вы, конечно, поймете, что проспорили.
А пока Острожский-отец двинулся на Смоленск. Мелкие городки сдались ему без боя при первом известии о битве при Орше. Но Смоленск заперся. Новый смоленский наместник Василий Шуйский переловил предателей из городской знати во главе с епископом смоленским за переписку с королем и повесил их на городской стене. Нет, по старому татарскому обычаю епископа-таки пожалели. Остальные красовались на страх Литве в государевых подарках: один в шубе с царского плеча, другой с серебряным ковшом на шее — в довесок к петле. Такое оформление сцены подействовало отрезвляюще, смоляне отважно оборонялись от Острожского. Правда, у него и войск-то было всего 6 000.
Шуйский заслужил царскую похвалу, кличку Шубник и утверждение в должности наместника. Василий удовлетворенно отбыл в Москву.
Небитыми оставались только крымцы. Они долго пугали Василия наглыми посланиями, требованиями прислать всего и побольше, заявляли, что вообще-то хозяева всех городов русских — они. Аргумент был прост. Мы, крымские Гиреи, — Орда. Вы, Москва, — данники Орды, даром что Золотой, а не крымской. Так и платите же, сволочи! И подпись: ваш царь и воитель Такой-то-Гирей. Наши отнекивались да отдаривались. Гордость держали за пазухой. Глупые татары подумали, что, и правда, можно чем-то поживиться, и в 1517 году двинулись на Русь. 20 000 крымских всадников пробирались на Тулу, когда князья Одоевский да Воротынский обходным маневром обложили их в лесу. Убиты были почти все татары. Царь с боярами долго думу думали, разрывать ли с Крымом дипломатические отношения или как? Решили продолжать корешеваться, как ни в чем не бывало. Чтобы Крым совсем уж не попал под Литву.
Антипольская коалиция тем временем распалась, потому что Василий не хотел содержать на свои деньги тевтонское войско и зарплату ему задерживал до начала военных действий, а немцы без денег завоевывать себе Польшу не спешили. Император Максимилиан тоже заговорил о мире. Потянулись трусливые переговоры.
Тем временем Сигизмунд перешел в наступление, был бит и отступил. Это дало повод Василию потребовать новых уступок. Он вдруг во весь голос стал домогаться Киева, Полоцка, Витебска — всей старой Руси. В Европе уже и забыли, чей раньше был Киев, и удивленно таращились на Москву. Австрияки для отговорки попросили на будущее взамен Киева половину каких-то московских северных земель, но поняты не были. Союзные послы уныло разъезжались из Москвы. Хоть для какой-нибудь чести просили они забрать с собой Глинского, но царь и этой малости им не дал. Глинский-де страшный злодей, был уже приговорен к казни, но вдруг запросился к митрополиту с покаяньем, что на самом деле он католик — когда-то в студенческой молодости, в Италии позволил собутыльникам себя неправильно крестить, а теперь просит взять его обратно в православие. И поэтому митрополит Глинского царю не отдает, все допытывается: «А не под страхом ли смерти ты, Миша, волынишь? Может, ты неискренен в своем Чувстве? Так давай, мы лучше тебя казним. Душе твоей от этого будет спокойней…»
Прошли годы борьбы и побед. Много раз били крымцев и казанцев, литовцев и своих — плохих русских в Полоцке, Опочке и пр. Казнили и сдавали в монастыри собственных бояр да дворян. И о себе не забывали.
В 1525 году царь развелся с первой женой, Соломонией, и через год женился на племяннице блудного Михаила — Елене Глинской. Осмотревшись во дворце, Елена через три года (25 августа 1530 г.) родила нам Иоанна (пока не надо вздрагивать, он был вполне безобидным и симпатичным младенцем). Однако с рождением маленького Ивана Васильевича цифра три стала играть какую-то странную роль в жизни царской фамилии. Как пить дать, таким образом покойный Иоанн Третий предостерегал своих потомков, чтоб не очень-то расслаблялись.
Когда будущему Императору, — а я берусь доказать императорство Грозного — минуло три года, отец его Василий заболел. Поехал он в сентябре с любимой женой на любимую охоту, да по дороге на левом «стегне» вскочила у него багровая болячка с булавочную головку. По ходу путешествия царь еще бывал на пирах у местной знати, но выпивалось уже без удовольствия и до бани доходилось «с нуждой». Охота не ладилась, зверь непонятным обычаем ускользал. Сначала царь еще выдерживал пару верст в седле, потом и за столом сидел на подушках, а там и слег вовсе.
Приехал Михаил Глинский с двумя иностранными врачами. Стали они прикладывать к болячке верное средство — пшеничную муку с пресным медом и печеным луком. Болячка стала «рдеть и загниваться». Потянуло царя с охоты обратно. Понесли его «боярские дети и княжата» на руках, донесли до Волока Ламского. Изнемогли, но тащить волоком опасались. Чувствуя, что дело дрянь, царь послал сразу двух Писцов в Москву за духовными грамотами — отцовой и своею. Хотелось ему бросить взгляд на завещания: чего из отцовских наказов он не исполнил и чего сам в здравой памяти потомкам завещал. Писцы сбегали в столицу быстро и тайно. Тайно же грамоты были царю и читаны. От этого чтения ему и вовсе стало плохо, и велел он свою грамоту сжечь. Новую сам царь составить не мог и созвал думу из бояр, оказавшихся с ним на охоте. Пока судили да рядили, пока тужились в непривычном демократическом делопроизводстве, у царя из боку выскочил гнойный стержень и вытекло больше таза гноя. Приложили «обыкновенной мази», и опухоль спала. Царь стал надеяться доехать до Москвы. Соорудили носилки-возилки с постелью («каптану»), Поехали. По дороге в храмах царь слушал службу, лежа на паперти: стоять не мог.
В Москву решили въехать тайно — в столице как раз полно было посольств, и не хотелось, чтобы заграница знала, что царь у нас больной и недееспособный. Царь решил перепрятаться от послов в своей подмосковной даче Воробьево и въехать в Кремль ночью, тайком от зевак и репортеров. Стали строить особый мост через Москву-реку у Новодевичьего монастыря. Строили очень быстро, поэтому при въезде «каптаны» мост обломился. Стража еле успела подхватить «каптану» на руки и обрубить упряжь. У царя не было сил сердиться. Въехал он в Москву на пароме. В Кремле снова засели писать завещание, но царь сбивал с праведного дележа, — «все его мысли были обращены к иночеству».
Настал звездный час Михаила Глинского.
«Ты бы, князь Михайло Глинский, за сына моего Ивана и за жену мою, и за сына моего князя Юрья кровь свою пролил и тело свое на раздробление дал!» — приказывал больной.
«Конечно, дам на раздробление, как не дать!» — кивал бывший государев вор.
Успокоившись, стал царь спрашивать Глинского, чего бы такого в рану пустить, чтобы дурного духу не было на весь Кремль.
— Обычное дело, — отвечал Глинский, — обождавши день-другой, можем пустить в рану водки. В чудодейственность этого русского средства верилось легко, и стал царь допрашивать врачей, а нет ли какого лекарства, чтобы излечиться вовсе? Глинский обиделся: зачем же так! Его иностранная команда сразу отрезала царю: никак невозможно!
Тут уж попы распихали всех, обложили царя «запасными дарами», стали петь, записывать духовное завещание, какому монастырю что причитается. В общем, стали играть свою игру.
Последние часы Василия прошли в усилиях спасти душу: его успели постричь в монахи под именем Варлаама. Скончался он в ночь со среды на четверг 3 декабря 1533 года — уж не в три ли часа по полуночи?
Василий умер, и поп Шигона божился потом, что видел, как изо рта покойного вылетела душа в виде «тонкого облака». Писец, строчивший обычные охи и ахи, что могилу царю вырыли рядом с могилой Горбатого, да что гроб привезли каменный, да что царицу, «упавшую замертво», несли на санях, да что били в большой колокол (а новгородский и псковский при этом злорадно помалкивали!), записал для нас и рассказ Шигоны о душе.
ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ. ПРАВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЕ
Василий умер, но успел оставить распоряжение, что правительницей при младенце Иоанне должна быть вдова Елена. Все было подробно оговорено: как трем приближенным лицам — Михаилу Юрьеву, Глинскому и Шигоне — при Елене быть, как им к ней входить.
«Входить» мы должны понимать как хождение с докладами», — оговаривался деликатный Историк, чтобы мы не подумали чего дурного.
Но надо было и маленького Иоанна короновать. Пропели многия леты по церквям, благословили ребенка на великое княжение, по городам поскакали лейтенанты принимать у народа присягу новому царю. Присягнули Иоанну и дядья, которые от власти будто бы отказались, но вполне превозмочь свои Чувства по обыкновению не могли.
Василий заранее уговаривал братьев не лезть в цари, они кивали, но бес их не оставлял. Начались переезды удельных князей от одного Васильева брата к другому, и Елена заволновалась.
Как черти из бутылки, выскочили и претенденты на заполнение вдовьих пустот. Елена «сблизилась» с князем Иваном Овчиной-Телепневым-Оболенским, который сразу стал мешать Михаилу Глинскому «отдавать свое тело на раздробление». Овчина лучше распоряжался своим телом, и Глинский был посажен в кутузку, где вскоре и умер.
Елена почувствовала вкус к командованию и стала распоряжаться, кого сослать, кого заточить, кого убрать по-тихому. Завертелось чертово колесо интриг, подставок, доносов. Маленький Иоанн только вздрагивал: в отблесках костров на Красной площади ему чудились персонажи бабушкиных сказок, злодеи, горынычи в людском обличье. Вокруг бушевала измена. Казней было мало, потому что «нельзя же было всех перевешать», но ужас повис в воздухе. Бояре, заходя в детскую к Иоанну, поглаживали его по темечку: бедный малютка вот-вот останется без головы! Дикий, параноидальный страх с трех летнего возраста впитался в сны маленького Вани. Все эти взрослые дела были ему непонятны. Но мама все время находилась в состоянии бешеного напряжения, с милого лица ее не сходил кровожадный оскал. Какое тут могло быть благонравное воспитание? Никакого.
Хорошо хоть поляки да литовцы не сидели смирно. Видя Москву без твердой власти, они поднялись в поход, чем урезонили немножко московских баламутов. Но Ване от этого стало еще страшнее: в тереме зашептали о войне.
Литовцы вторглись на Русь, взяли Гомель и Стародуб, набили 13 000 наших душ, безразличных для истории. Почеп наши сожгли сами и построили новый город Себеж. Литва напала на него, но пушки агрессора стали взрываться от дурного литья. Отсюда произошел перелом в войне. Московские удальцы стали прогуливаться по литовским землям, общее настроение повысилось.
Странное дело, при Елене после этого больше не пришлось воевать. Она очень умело вела переговоры, ни на шаг не отступала от завоеваний мужа и свекра, сумела договориться и со Швецией, и с Литвой-Польшей, и с Крымом, и с Казанью. Через четыре года правления этой жестокой и умной женщины не осталось уже и дел важнее, чем ловить фальшивомонетчиков.
Правда, это дело тоже было нешуточное. Жадные до чужого добра люди стали резать монеты — просто откусывать от них половинки и насильно всовывать продавцам «государевы деньги». Можете вы себе представить, чтобы у нас в кабаке вы расплатились бы оторванной половинкой сотни, а на вторую — тут же за углом — еще купили бы закуски? Нет. Это слишком. А на Руси такое бывало сплошь и рядом. Елена перечитала судебные дела покойного мужа и обнаружила, что он очень круто разбирался с какими-то «многими людьми». Как милость — им отсекали руки, а по настоящему — лили расплавленное олово в рот, чтобы неповадно было плавить казенные деньги и добавлять это олово в серебро 50 на 50! Ловкие русские штамповали потом из хитрого сплава некое подобие монет с неопределенным рисунком. А на рисунок никто и не смотрел: деньги принимали весом. Инфляция достигла 100 %. Против серебряной гривны теперь приходилось насыпать на весы 500 московских копеек вместо 250. Елена все это запретила, но печатать монету стала облегченную. Теперь гривна вмещала 300 копеек, чтобы не было большого убытку обманутым вкладчикам.
Елене понравилось приводить в порядок законодательство и финансы, она стала раздавать лицензии на бобровую охоту, допустила в Думу часть второсортных «детей боярских», строила кое-какие города.
Такое благостное правление было обидно и раздражительно. А тут еще Еленин мужик с тройной фамилией стал вести себя вызывающе, демонстративно застегивался и расстегивался у царицыной спальни, власть себе забрал неимоверную. И скинуть наглого фаворита при жизни Елены было никак невозможно. Пришлось Елене умереть 3 апреля 1538 года без видимых причин. «Отравили!» — хором вздохнули Писец и Историк.
ПРАВЛЕНИЕ БОЯРСКОЕ
Восьмилетний Ванюшка остался круглым сиротой. Ему бы в первый класс ходить, изучать Аз — Буки — Веди, но приходилось бросать ученье и идти в люди — трудиться и работать. Царем.
Но и тут было сомнение: долго ли дадут поцарствовать? Или сразу задушат, в ночь после маминых поминок? Все к тому и шло.
Но нет, приличия соблюдались целых семь дней. А уж потом главный воевода Василия Темного Василий Васильевич Шуйский (помните, как он перевешал смоленских партизан в царевых шубах?) позвал своих братьев и переловил всю свиту Елены во главе с Оболенским и сестрой его Аграфеной — мамкой маленького Вани. Последнюю родную душу отняли у пацана.
Здоровяк Оболенский сразу скончался в тюрьме. Было сказано, что от непривычки к тюремной баланде и «тяжести оков». Аграфена отправилась в монашки. Навстречу ей из тюрем выходили политические.
Нечаянно освободили и опасного конкурента Шуйских, кня Бельского. Пока снова сажали его в застенок, пока хватали подручных и родню, пока рубили голову Писцу Мишурину за слишком большой авторитет, сам Василий Шуйский расхворался и помер.
Эта мешкотня спасла жизнь Ване. О нем почти забыли, его отложили на потом. Но в 1540 году, троицкий игумен Иоасаф, перебежав в очередной раз от Шуйских к Бельским, извернулся подсунуть на подпись десятилетнему царю указ об освобождении Ивана Бельского. Сработало! Бельский нагло появился в Думе, стал без доклада ходить к царю, вместе с Иоасафом амнистировать одного за другим врагов Шуйских. Эти люди гораздо нежнее стали относиться к царю Ване, чем прежняя команда.
Тогда Шуйские стали звать Русь к топору. Встал весь Новгород. Собрали большое количество бояр да дворян и 3 января 1542 года ночью вошли в Москву с 3 сотнями дружинников. Неожиданное вторжение небольшого отряда имело успех. Бельских со товарищи перехватали. Ивана Бельского отправили в ссылку, но потом одумались — нельзя же без конца повторять одну и ту же ошибку — и послали вдогонку трех убийц. Убили князя. Иоасаф бежал в спальню к царю. Отсюда его выволокли и увезли в ссылку. Баня в слезах и ужасе дрожал под одеялом. Жуткие ночи боярских разборок одна за другой отпечатывались в сердце ребенка.
Шуйские почти воцарились. Положение маленького великого князя становилось смертельно опасным. Шуйские хватали, избивали, волокли на расправу дворян государя прямо из-за обеденного стола в его присутствии. Послал как-то Иван митрополита заступиться за какого-то избиваемого, так митрополиту наступили на мантию и толкнули: пошел, козел! — мантия треснула сверху донизу. В общем, держали Ивана за предмет мебели, никто не занимался его воспитанием и образованием. А напрасно! Стал Ваня сам читать книжки зарубежных авторов. А в книгах, как мы знаем, одна только ересь да суета!
Когда тебе 13 лет, когда в глаза тебя все называют великим князем, надеждой всего прогрессивного человечества, то ты как-то забываешь о щипках и шлепках, о жутком шепоте в дворцовых переходах и начинаешь задумываться: а в чем оно состоит — твое величество?
Вот дед и отец, хоть и не были венчаны на царство, но назывались царями. А вот — в книге описан быт и нравы византийских царей да римских императоров, так это — цари! Нужно было Ване поразмыслить, как и самому стать настоящим царем, сильным и грозным. И время у него на это — было. Ваня не только читал и наблюдал, он впечатывал в свою память навек всю свою ненависть, весь свой страх, все свое презрение к жизни и достоинству других людей, так часто его обижавших.
«Иоанна оскорбляли вдвойне, — замечает Историк, — оскорбляли как государя, потому что не слушали его приказаний, оскорбляли как человека, потому что не слушали его просьб, в Иоанне развивались два чувства: презрение к рабам-ласкателям и ненависть к врагам, ненависть к строптивым вельможам, беззаконно похитившим его права, и ненависть личная, за личные оскорбления».
Вот запомним, для примера, две фамилии — Шуйский и Тучков. Первый в присутствии Ивана клал ноги на постель его отца, второй топтал ногами и колол спицами вещи покойной матери. Они думали, он это забудет?
Придворные в своей обычной наглости хватили через край. Кто же знал, что малец выживет? Надо было знать! А они себе на беду воспитывали в дурном мальчишке порочные наклонности. На развлечение ему приводили кошек, собак, а потом и арестантов, чтобы он сбрасывал их с кремлевской стены. В 15 лет Ваня с бандой таких же сопляков уже скакал по ночным улицам Москвы, избивал и грабил прохожих.
И вот настал час. Волчонок решил, что пора опробовать зубки. Они уже изрядно подросли, испытали упругость тела, хряск костей и вкус крови.
Иван напал 29 декабря 1543 года, ровно 455 лет назад, день в день от сего дня, когда пишется эта строка. Он велел схватить и отдать псарям первосоветника боярского Андрея Шуйского. Псари убили вельможу, волоча в тюрьму, — а чего ж он сопротивлялся органам и не шел сам, куда следует? В ссылки были разметаны все прихлебатели Шуйских. Какая казнь постигла Тучкова, остается только догадываться, но его не стало.
«А бояре стали от государя страх иметь и послушание», — обрадовался верный Писец.
Тут Афанасий Бутурлин выразился неудачно, может быть, при дамах, и ему 10 сентября 1545 года прилюдно отрезали язык. Круто! Соответственно и кодло Бутурлина быстро последовало в Сибирь. Ох, пардон! Сибири еще у царя не было. Вот когда, небось, он задумал ее присоединение! — ссылать воров в европейскую часть России стало как-то смешно.
Иоанн показал всем, что штурвал государственной посудины находится в крепкой руке 15-летнего капитана. Он казнил и прощал чужих, щелкал по носу своих, чтоб не высовывались.
Выяснилась прелюбопытная особенность юного царя. Он не боялся простого народа. Он его просто не замечал.
Вот на охоте произошла перестрелка между новгородскими пищальниками, принесшими челобитную, и качками из личной охраны царя. Случились жертвы. Вы думаете, Иван велел перевешать новгородцев, как это с удовольствием сделали бы его отец и дед? Нет! Он про них забыл и думать. А послал он своего Писца, дьяка Ваську Захарова, чтобы тот погрелся у костров и узнал, кто подбивал народ на бунт. Потому что «без науки этого случиться не могло!» Васька походил, послушал, и вот, пожалуйста, главари нашлись: князь Кубенский и двое Воронцовых. Тут же — головы долой. Сообщников — в ссылку.
13 декабря 1546 года, как только миновала царя страшная, позорная строчка «дети до 16 не допускаются», он тут же кликнул митрополита и велел себя женить. Не слыхал еще мальчик о сексуальной революции, о превратностях брака, о больших возможностях царского служебного положения.
На другой день митрополит созвал молебен, куда приглашены были даже опальные, но приличные семейства. Вдоволь помолившись, двинулись к царю. И царь сказал им, что сперва хотел он жениться за границей. Но потом передумал. Вспомнились ему покойные папа с мамой, пришла несвязная мысль: а вдруг мы с молодой не уживемся, так куда ж ее девать? И решил царь жениться на своей, русской.
Митрополит и окружающие умилились, заплакали от радости, что Иван такой самостоятельный да смышленый: даже поручил митрополиту и боярам невесту приискать! Все растрогались до обморока.
Только что это там еще говорит наш Ваня? А говорит он таковы слова, что все думские мудрецы, все теоретики-богословы не сразу и понимают их новизну и опасность. Как бы скороговоркой пожелал государь перед венчанием брачным венчаться на царство! Ох, никто до него на это не дерзал! Венчались на великое княжество Киевское, потом Владимирское, потом Московское и всея Руси. А на царство в мировом масштабе — это пока нет.
Венчание на царство означает, что вот ты стоишь в соборе, задравши голову, а вон там — за синей чашей пантократора, размалеванной шипастыми звездами, — твой Бог. Вокруг суетятся какие-то мелкие, смертные людишки. И ты говоришь Богу (а людишки поддакивают), что ты пришел под руку Господню осуществить волю Божью на всей земле. А Бог с твоим приходом соглашается, ну что ж, говорит, Ваня, давай поработаем. И митрополит мажет тебя миром и елеем уже как бы не сам, а будто бы рукой Бога. И становишься ты, сирота, «помазанником божьим».
И теперь ты — Царь в законе, а не на бумаге, и это — великая власть, в принципе, — над всем миром, и это — великая ответственность перед Богом. Если раньше крымские Гиреи получали от твоего отца письмо с подписью «царь», пьяно ржали и в ответном письме обзывали царя «улусником», а он из дипломатических соображений умывался от плевка, то теперь ты, Ваня, отвечаешь за честь царского имени перед Богом. То есть, должен ты немедленно брать Перекоп, сечь башку Гирею и всему его выводку, крестить крымско-татарский народ в севастопольской бухте, открывать Бахчисарайский фонтан для всенародного посещения.
Бояре, да дворяне, да отцы святые в суете при таких делах, поди ж, и не поняли, что кончилось правление боярское, кончилась спокойная жизнь, опять кончилось старое Время.
Часть 5 ИМПЕРИЯ № 1 (1547–1584)
ИМПЕРСКАЯ ТЕОРИЯ. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ
Зачем ученый люд сочиняет теории?
В научных кругах считается, что разработка теорий необходима для развития практики в нужном направлении. «Практика без теории слепа». Это значит, что изобретатель колеса или паруса обязан сначала долго мучиться над бумагой или пергаментом, анализируя свойства разных воображаемых конструкций и моделируя в голове сопротивление среды. А уж потом взять да и вырезать деревянный кружок для тачки, сшить полотняный квадрат для парусной лодки. И сразу ехать под горку, плыть в открытое море.
На самом деле, за исключением нескольких сумасшедших случаев, никто заранее ничего такого умного не рассчитывает. Сначала долго спотыкаются о круглые камни и подставляют плащи попутному ветру, потом вырезают колеса и паруса, а уж потом, путешествуя в карете или на яхте, задают себе праздный вопрос: как зависит тряска от веса колеса, а качка — от формы паруса. Да и тут, в основном, обходятся природной смекалкой или практическим опытом. «Теория без практики мертва». Удачливых любителей препарировать труп, а потом оживлять его, в истории известно немного.
Строительство Империи веема было сугубо практическим, земным делом. Известные Империи создавались конкретными людьми в порядке интуитивного эксперимента, на основании инстинктов и чувств. Это уже потом теоретики стали придумывать разновидности Империи — Коммуны и Утопии. Их модели существовали недолго, создавались, жили и гибли не так, как задумывал беспокойный автор. Сам выдумщик никогда не становился Императором. Всегда из-за спины мудреца выскакивал какой-нибудь юркий параноик с сухой рукой, и дело поворачивалось в правильную, чисто практическую сторону.
Тем не менее, интересно поставить себя на место первобытного социолога и попытаться разработать теорию, идею, методологию имперского строительства.
Вот, лежим мы, значит, на теплом античном песочке и сочиняем вопросы, важные для жизни каждого человека. И сами же на эти вопросы отвечаем. В конце концов, любая теория — это ответы на вопросы: «что делать?», «кто виноват?», «кто такие «Друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «как связаны масса, энергия и скорость света?», «кто крайний?».
Надо заметить, что теоретик Империи не должен опускаться до житейских раздумий над ерундой, сокрушаться о массе тела и скорости света. Его Главный Вопрос звучит так:
«Ну, а дальше-то что?»…
Вот, я смотрю, вы не ощутили сразу величие и глобальность этого вопроса! Этот вопрос — корень, краеугольный камень, соль земли.
Попробуйте в любое мгновение дневной суеты, в любом месте нашей планеты, в любой ситуации задать себе или окружающим какой-нибудь из «научных» вопросов. Вы очень легко можете почувствовать себя идиотом. А как вас еще понимать, если в очереди за колбасой вы вдруг выкрикиваете на весь магазин: «А что, «Е» у вас равно «М», умноженному на «Ц-квадрат»?» Неплохо также в пылу футбольного матча побродить по трибунам стадиона и поприставать к нервным болельщикам с вопросами о «Друзьях народа» или первичности материи и сознания. Как раз схлопочешь флагом под дых!
А наш Главный Вопрос подходит к любой ситуации. В магазине вам на него ответят, что «дальше» очередь просили не занимать, колбаса кончается. На стадионе вам скажут, что «дальше» «Спартак» станет чемпионом, и это неизбежно, как падение подгнившего Ньютонова яблока. Наш Вопрос уместен и в портовом борделе и в королевском философском обществе. И даже если ты сумеешь подняться на тайную горную вершину и в туманном дворце поставишь Вопрос ребром, то и тут получишь уместный и правильный ответ: «А дальше вы все умрете!» Поэтому я надеюсь, что наше маленькое Великое открытие, наш Главный Вопрос вы, дорогие читатели, пронесете с собой через все оставшиеся годы и расстоянья.
Так вот. К строительству Империи, к разработке ее теории способен приступить только тот, кто сумеет повторить наше с вами Великое открытие.
Он не будет коротать жизнь на околосветовых скоростях, не будет заниматься мелкой политической возней в унылом провинциальном городке, он вырвется из повседневной колбасной суеты. Он все время будет держать в подсознании наше «ну, а дальше-то что!». И он не будет мешкать. Не будет знать жалости и эстетских колебаний. Остановившись в своей любознательности у самой последней черты перед мудрым летальным ответом, Творец Империи сформулирует целую вереницу более мелких, тактических вопросов. И сам быстро и правильно ответит на них.
Вопрос 1. Надо ли работать?
Ответ 1. Работать надо!
Работа порождает много прекрасных вещей, вкусную еду, вино, удовольствия. Но работать надо вообще. Всем трудящимся. А конкретно мне работать не надо. Не хочется. Тяжело, вредно для здоровья. Пашешь, пашешь, ну у а дальше-то что? Мозоли, грыжа, остеохондроз, инфаркт, вечная память до сорокового дня. Нет, пусть лучше пашут другие, а мы придумаем, как им поделиться с нами.
Вопрос 2. Сколько мне нужно женщин, рабов, земли, машин, богатства — всего, что есть хорошего?
Ответ 2. Много!
Мне нужны все девки села Берестова, все экспонаты Парижского автосалона, все Южное Приднепровье. Ну, а дальше-mo что? А дальше — вся Восточная Европа, да и Западную приберем. А там и Азия не за горами. Урал — разве ж это горы? Короче, мужик, кончай мелочиться, дальше нам нужен весь мир! Но начнем мы с Южного Приднепровья.
Вопрос 3. А захотят ли люди, божьи твари, народы этих украин, франций и канад под мое крыло? Не тяжко ли им будет строить мою Империю? Не простудятся ли они на возведении пирамид и рытье каналов? Не вывихнут ли ручки-ножки в кавалерийских упражнениях? Не поистратятся ли в освоении сибирских курортов? Не выродятся ли морально в кровопролитии, голоде, оскорблениях и унижениях; не научатся ли чему дурному в своем скотском прозябании ради моей великой цели? Не следует ли их пожалеть, полюбить да поголубить, поучить да полечить?
Ответ 3. Перебьются!
Ну, пожалеешь ты их. Поучишь и полечишь, так они разленятся, разъедятся, разнежатся да расплодятся. В лучшем случае — одном из ста — скажут тебе «спасибо». Ну, а дальше-то что? Дальше все они все равно передохнут. И следа от них не останется. А пирамида будет стоять недостроенной на посмешище археологам. А музеи наполнить будет нечем. И великой страны, Империи имени Твоего Имени, на глобусе не будет!
Вопросы эти задавать можно без числа. Важно только при подборе ответа вовремя проверять его правильность нашей великолепной формулой «ну, а дальше-то что?»!
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИОАННА ГРОЗНОГО
Когда мы учились, нам многократно объясняли роль личности в Истории. Объясняли все время по-разному, но подводили к одному: не личность определяет Историю, а общественная необходимость, мировой процесс, воля народных масс. Ради приличной оценки мы с этим соглашались. Пусть личность не определяет Историю. Пусть она ее только делает.
Мало на Руси найдется персонажей, которые до такой степени «сделали» Историю и народные массы, как Иван Грозный.
16 января 1547 года Иоанн IV Васильевич венчался на царство. Весть о воцарении Иоанна понеслась по стране вдогонку за сватьей грамотой. В той грамоте было сказано: «Когда к вам эта наша грамота придет и у которых будут из вас дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили 6. Кто ж из вас дочь девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собою сами, не задерживая ни часу». Вот так!
Этот, совсем уж сказочный, эпизод полон страсти, надежд, опасений и романтики. Будто ожила на миг Русь Владимира и Мстислава.
На практике все, однако, было не столь занимательно. Потные гонцы мотались по губерниям. Отцы приличных семейств чесали в затылке: что есть «дочь-девка»? Непонятно и страшно было также значение слова «казнь». И совсем уж жуткие сцены представлялись в мужском воображении. Вот к царю приводят целые толпы дочь-девок. Что и как он с ними будет делать?
Но все обошлось местными конкурсами красоты. Во втором туре в Москве победила Анастасия, «девушка из одного из самых знатных и древних боярских родов: дочь умершего окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина». Историк простительно преувеличил древность и знатность рода Анастасии — она была первой «Романовой». Царь тоже полюбил ее с первого взгляда.
3 февраля отгуляли свадьбу. Тут и начались какие-то нелады с Небом.
12 апреля вспыхивает сильный пожар в Москве. 20 апреля — другой. 3 июня падает большой колокол — «Благовестник». Теперь нескоро на Руси услышат благую весть.
21 июня — снова страшный пожар. При сильном ветре море огня несется от очага в церкви Воздвижения на Арбате по крышам домов и поглощает весь западный край столицы до реки Москвы. Тут же вспыхивает маковка Успенского собора в Кремле, пылает и сгорает вся царева, казенная и божья недвижимость: «царский двор», «казенный двор», Благовещенский собор, Оружейная палата со всем оружием, Постельная палата с казною, двор митрополита. В каменных церквях остались только стены; погорело все добро, которое горожане натащили под божью защиту. Только в главном, Успенском, соборе уцелел иконостас. Митрополит Макарий, крупный средневековый писатель, едва остался жив, прижав к груди чудотворную икону Богородицы, лично рисованную праведным митрополитом Петром. Из обложенного огнем Кремля митрополита спускали на веревках к реке, так и веревки оборвались, и Макарий расшибся до бесчувствия. Сгорели все торговые ряды, лавки, посады, все, что окисляется при нагревании. Ну, и народу, конечно, погорело 1 700 душ.
Царь с молодой женой и боярами уехал от такой беды на дачу в Воробьево.
Тут, конечно, что-то было не так. Жара стояла, но это — пустое. Обезумевшие толпы москвичей напомнили Ивану страшные ночи детства, огонь московского пожара смешался в его зрачках с безумным душевным огнем. А тут еще начальники, ответственные за противопожарную безопасность, стали путать след. Стали говорить, что Москва сгорела не просто так.
— А как? — побежали мурашки по спине царя.
— А вот как. Стало нам, государь, доподлинно известно, что некие чародеи вынимали сердца человеческие, мочили их в воде, водой этой кропили по улицам. Как же Москве было не загореться?
В общем, Челяднин, Скопин-Шуйский, протопоп Бармин — сочинители этих сказок — плохо повлияли на процесс душевного умиротворения Иоанна, начатый нежной женитьбой. Взыграли ненависть и подозрительность, вспыхнуло кровавое Чувство! Был учинен «розыск».
26 июня бояре из спецслужб согнали на площади Успенского собора «черных» то ли от сажи, то ли по происхождению людей и стали строго спрашивать, кто запалил город славный. Все дружно и точно отвечали, что это княгиня Анна Глинская с детьми колдовала. Чекисты засомневались. Было ясно, что «черные» ненавидели Глинских и за старые дела, и за продолжающиеся их бесчинства при Иоанне. К тому же, мы помним, что Глинские — это последние близкие родичи царя по матери. Трудно было их не терпеть, еще труднее — обидеть. Но достали!
Дядя царя Юрий Глинский стоял тут же и все это слышал. От греха он решил перепрятаться в Успенском соборе, но бояре и туда запустили чернь. Глинского убили в соборе, труп выволокли на базарную (Красную) площадь, где казнили уголовников. Начался беспредел. Били насмерть всех Глинских, около-Глинских и типа-Глинских. Забили насмерть целую делегацию каких-то Северских бояр, которых просто попутали с Глинскими.
Бунт полыхал, как давешний пожар, и, казалось, потушить его не в силах человеческих. А Бог — ясно и дураку на паперти — палец о палец не ударит. Чем-то царство Иоанново становилось ему не в масть. Толпа черного народа, перебив всех встречных в ярком платье, стала вспоминать, какие еще Глинские бывают.
— Э! Так есть же еще бабка царева, Анна — самая главная колдунья! Она у царя на госдаче прячется! — подсказывали скромно одетые молодые люди без трудовых мозолей.
Толпа рванула на Воробьевы Горы. Стали дерзко кричать на царя, давай сюда бабку, всех Глинских, какие есть, и, вообще, давай всех сюда и будем разбираться, чего ты нам на шею навенчал!
Ответ был мгновенным и взрослым. Сбоку вышли люди с нехорошими лицами, быстро вырубили нескольких крикунов и заводил. Толпа замерла.
— Ну, что, люди добрые, заскучали? Зрелищ хотите? Их есть у меня! Вот, к примеру, посмотрите на казнь воров.
Тут же стали чинно и медленно резать, рубить, вешать главарей. Народ стоял оцепенело и делал вид, что он не при делах, а сюда пришел просто так, поглядеть на представление.
Наступил покой. Глинские были низвергнуты. Но и бояре не восторжествовали. Вот, казалось, им прямая дорога в совет к царю — других-то никого нету. Так не зовет государь своих бояр. Чем-то не любы ему остатки Шуйских, Темкин, Бармин, Челяднин. Иоанн вообще совершает подлинную геральдическую революцию: раз мне бояре подозрительны, а друзья юности нужны, то я и выберу друзей себе сам.
Так во дворце появляются два фаворита — простой, неглавный попик погорелого Благовещенского собора Сильвестр и Алексей Адашев. А это кто? А никто. Адашев получает место ложничего — взбивает перины и ведет с царем душевные беседы на сон грядущий. Эти беседы были царю необходимы. Он ясно осознавал свою греховность и искал спасения души в исполнении тяжкой миссии помазанника божьего. «Нельзя ни описать, ни языком человеческим пересказать всего того, что я сделал дурного по грехам молодости моей», — писал потом Иоанн церковному собору.
Теперь новые друзья уверяли царя, — и он им верил, — что пожар подвел черту под списком непрощенных грехов, и далее все будет хорошо. Сильвестр, Адашев, искупительный пожар московский и медовый месяц подействовали благотворно на царя. Все заметили добрую перемену в его характере. Он стал мягок и озаботился смягчением нравственности масс. Три года Иоанн уговаривал людей жить дружно. Он сам выходил на площади и обращался к толпе с увещеваниями. Иностранные послы доносили о нем, как о «словесной премудрости риторе».
Но народ слушал, да кушал. В двадцать лет Иоанн наконец повзрослел и решил устроить порядок на демократической основе. Был созван съезд изо всех концов страны. Царь обратился к делегатам с Лобного места. Сначала он долго каялся митрополиту и публике, потом воззвал от чистого сердца: «Люди Божии и нам дарованные Богом! Молю вашу веру к Богу и к нам любовь: оставьте друг другу вражды и тягости». Потом царь пообещал лично рассматривать и справедливо решать крупные дела. Съезд разъехался в недоумении.
А царь пожаловал Адашева в окольничии, поручил ему принимать челобитные от бедных и обиженных, не бояться сильных и славных, руководить судом по своему усмотрению. Так был сломан старый порядок. Бояре учились терпеть «подлых» начальников.
Теперь молодому царю нужно было славно повоевать. Сбоку оставалась недобитая Казань, ею и занялись. Царь сам сел в седло, три года — с 1549 по 1552 — глядел на басурманский город через великую Волгу, положил немало войска, но настоящей победы не добился. Пришлось ставить в Казань наместника с согласия правоверных. Получалось какое-то новгородское безобразие.
На всякий случай наместнику Микулинскому придали сторожевой полк. Пока Микулинский добирался до Казани, два татарина из его свиты убежали вперед, взбунтовали страстями всякими мирных жителей и заперли город.
Еще не успокоили своих татар, как неожиданно на Тулу налетели крымские. Царь, оказавшийся поблизости, сильно испугал крымцев, они бежали, бросая коней.
Тут уж всерьез взялись и за Казань. Она была осаждена 150-тысячным войском с большой артиллерией. Царь был во всей красе. Татары с удивлением смотрели со стен, как русские отряды, — каждый в свой черед, а не навалом, как обычно, — бросались на штурм. Иоанн вспомнил прародителя Владимира и стал искать, откуда казанцы воду берут. Источник был найден и взорван «размыслом» — немецким инженером, «искусным в разорении городов». Следом взлетела на воздух и крепостная стена. С устроенной вплотную к городу башни по осажденным били снайперы. Битва была страшной и жестокой. К концу ее в Казани не осталось никого: царь велел пленных с оружием не брать, а ни один казанец оружия не сложил.
2 октября 1552 года Казань была повержена, но народ в лесах по Волге оставался мусульманским. Тут бы надо было его и крестить, но Иван замешкался, и партизанщина продолжалась еще несколько десятилетий. А полумесяц застрял в казанских небесах и до сего дня…
Два года прошли в стычках с Крымом. Иоанн наотрез отказался платить «поминки» — дань крымским разбойникам. Те стали просить пропуск на Литву: надо же что-то кушать! Царь не пропустил их и запер Перекоп. С непривычки без грабежа в Крыму сделался голод.
В 1554 году начались нелады с Ливонией: там протестанты сгоряча вместе с католическими костелами попалили и православные церкви. Переговоры о дани Москве бестолково тянулись 4 года. В январе 1558 года был предпринят удачный рейд. Войско вернулось в Москву, перегруженное добычей. Вскоре была взята Нарва, причем битые жители запросились в союз нерушимый сами. А там взяли и Дерпт.
Страна крепла и расширялась. Не было ни одного прокола в действиях молодого царя. Казалось, благословение Господне осеняет-таки буйну голову. При таком покровительстве начинало Иоанну казаться, что делать нечего — дойти до Парижа и прочих стран. Тем более, что обязанность на нем такая лежала по уставу. Он был глава самого главного православного государства. По определению, он был Человеком № 1 в международном сообществе и просто должен был вознести свою десницу над темными азиатами и заблудшими европейцами. Ведь потом, когда Бог призовет его к себе, — что ж ты, Ваня, просидел на троне мягким задом? — то не отопрешься и не оправдаешься непогодой и недочетом мелких денег.
Официальная Программа получалась такая. Крым — сюда. Прибалтику — тоже, сама просится. Польшу и Литву тоже пора забрать — это святое: они нашей Киевской Русью попользовались, пора и нам краковской колбаски пожевать. Немец у нас уже бит и еще бит будет. Потом турецкий Султан. Это серьезно. Но деваться некуда — Царьград забирать пора. Это было Богу обещано громким шепотом при свидетелях со стороны невесты. Турецкому все время двулично помогают французы: то Генрихи, то Филиппы, то Людовики Надцатые. Но напрямую их мушкетеры против наших дровосеков не потянут.
Ну, а дальше-то что? Теперь гляди на Восток. Отомстить за наших князей, задавленных при Калке, свято? Святее не бывает. Так что — даешь Азию через Камень. И в самом Камне уральском тоже добра захоронено не весть сколько, только спугни Хозяйку Медной Горы.
Вот такая получается диспозиция. На первое время. Потому что уже идут слухи о какой-то совсем уж дальней, заморской, картофельной земле, о теплых краях на юг от Иерусалима. О нескольких Индиях и прочих чудесах.
Такое вот досталось Ивану хозяйство — Империя! Ее надо было собрать и устроить. Следовало судить крещеных и крестить тех, кто не крещен, казнить и миловать их. Работы много, но и вся жизнь впереди — какие наши годы? 26–28 лет! Тициан еще не брался за кисточку! Правда, Лермонтова уже успели пристрелить.
Последовавшие затем неприятности произошли от безразмерности задачи. Возникли споры, с чего начать. Сильвестр резонно советовал оставить христианскую Ливонию на потом, а сейчас добить крымских нехристей. Иоанн уперся. Ему был нужен близкий выход к морю, окно в Европу и т. д. Да и бить мягких, культурных прибалтов было не в пример приятнее, чем тащиться под палящим солнцем в холерную Тавриду.
Сильвестр настаивал на своем и перегнул палку. До сих пор ему удавалось полностью управлять царем. Он даже написал популярную книжку, как и что нужно делать в семье, за столом, на хозяйственном дворе, в спальне. Книжка называлась «Домострой». Она дошла до наших дней, и ее с удовольствием читают незамужние воспитательницы детских садов и учительницы младших классов.
Но Иоанн уже вышел из детского возраста и стал неприятно коситься на Сильвестра страшным глазом. Сильвестр не понял. Он продолжал в духовных беседах с царем настаивать, что все неприятности Иоанна — простуда жены, синяки у детей, ночные страхи самого царя — происходят от непослушания мудрому духовнику. Это было уже смешно. Какой еще — «мудрый духовник», когда сам Бог вел Иоанна, а Сильвестр был приглашен просто так, для сверки текста повседневных молитв!
В 1553 году, 23-х лет от роду, Иоанн опасно заболел после казанского похода.
— Вот! — зашептали во дворце. — Не люба Господу гордыня!
Царя заставили написан» завещание в пользу новорожденного царевича Димитрия. Стал царь требовать с двоюродного брата Владимира и бояр присяги на верность младенцу. История повторилась: бояре переметнулись к претенденту. Владимир восстал. Сильвестр тихо поддержал его. Отец Алексея Адашева, прижившийся при дворе, стал вовсю агитировать за Владимира.
Вот как засветились гады! Вот как отблагодарили государя за поместья и угодья, за выпитые вина и съеденную осетрину, за соболей и московскую прописку, за кабриолеты в 12 лошадиных сил!
Настал момент истины. Стали бояре хамить больному царю в лицо, покрикивать, что Захарьиным-Кошкиным-Романовым, этим грабителям и губителям Руси (как в воду смотрели!), присягать не станут! Что царица Анастасия Романова — такая же змея, какая была византийская императрица Евдокия, губительница Златоуста. Сильвестр при этом приосанивался и надувал щеки — русским Златоустом был, конечно, он.
Владимир при царе прямо и наотрез отказался присягать царевичу Димитрию. Возникли две партии. Слабаки перецеловали крест. Бунтовщики и сами не целовали и стали деньги раздавать другим, «нецелованным»: покупали голоса избирателей.
Глянул Бог на это безобразие и сменил первоначальный план.
От брани, волнений и нервного напряжения организм Иоанна мобилизовался, и царь выздоровел. Вот досада, мать честна! Но ставки были сделаны.
Сначала Иоанн по обету, данному Богу за выздоровление, поехал в дальний Кириллов Белозерский монастырь с женой и новорожденным сыном Димитрием. Был у царя двойной прицел: кроме благодарности Богу, еще хотел он приобщиться к дедовской мудрости, которая ревностно оберегалась учениками Иосифа Волоцкого, духовника деда Ивана III и Софьи Палеолог.
Оппозиция испугалась не на шутку. Церковный диссидент Максим Грек, обиженный белозерской братией, напророчил царю смерть младенца, если Иоанн все-таки решится ехать. Так и случилось. Новорожденный царевич скончался по дороге, царь впал в депрессию.
Но паломничество продолжалось, и в одном из малых лесных монастырей произошло прелюбопытное событие, давшее великий толчок строительству Империи. Проходная беседа царя со старым опальным монахом Вассианом Топорковым заложила мощный фундамент имперской политики, дала точный рецепт кадровой стратегии. А кадры, как потом выяснилось, решают все.
Спросил Иоанн у мудрого Вассиана: «Как мне быть, отец? Как управлять этой алчной сворой, чтобы она меня не загрызла? Как вообще руководить этой немыслимой страной?» Вассиан зашептал на ухо царю. И кто-то ведь услышал! А скорее, царь все сам записал для памяти.
Ответ был прост и велик. Цитируем его дословно и полностью:
«Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех; если так будешь поступать, то будешь тверд на царстве и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе людей умнее себя, то по необходимости будешь послушен им».
Царь был оглушен великой истиной. Он целовал руку святому старцу и умилялся: «Если бы и отец мой был жив, то и он бы такого полезного совета не подал мне!»
Здесь хочется сделать паузу, почтить минутой молчания великое прозрение Императора. Оно достойно того. Судите сами. Вот на Куликовом поле двести тысяч русских рубятся с полумиллионом татар. 150 тысяч голов кладут за Русь православную. Ну, а дальше-то что? А почти ничего. Через несколько месяцев Тохтамыш уже снова берет Москву. Да, конечно, происходит «перелом в общественном самосознании», русские уже не так обморочно боятся татар. Но и терпят их еще 100 лет!
А вот — в келье третьесортного Песношского монастыря…
Тут мой компьютер спотыкается и подчеркивает слово «Песношский» красным: название какое-то дурацкое, нет ли орфографической ошибки? Нет, дружок, все верно. Это самый правильный монастырь в истории нашей Родины, он важнее Ипатьевского и Соловецкого монастырей вместе взятых, главнее для Русского Чувства Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавр. И слова в нем были сказаны самые верные…
В келье этого монастыря происходит вышеупомянутое великое событие, изливается небесный свет, которому суждено озарить все дальнейшее в этой стране. Поразительна мысль: не держи умнее себя, ибо ты — лучше всех. Как верно замечено: умнее — не есть лучше. Этих умных — как собак нерезаных, а толку с них?
Так из сумрачных стен средневековья выползло и окрепло великое имперское кадровое учение. Теперь Иоанн знал, кто виноват и что делать дальше. Умные бояре тоже поняли это по глазам царя и мышиной стаей юркнули под литовскую границу. Бежали Курбский и Ростовский, Лобановы и Приимковы, прочие непоименованные и недостойные чернил нашего Писца.
А личная жизнь царя тем временем все шла наперекосяк. Первые четверо детей — три дочери и упомянутый Дмитрий — умерли, прожив по нескольку месяцев. В живых остались обреченный Иван Иванович да Федор Иванович, «ребенок, отстающий в развитии», как сказали бы сейчас деликатные психопатологи. Что-то новая романовская кровь плохо смешивалась с древней рюриковой!
В ноябре 1559 года царь отправляется с больной Анастасией в очередное путешествие по монастырям, — он временами бежит из страшной для него Москвы. Вскоре Анастасия, первая и горячо любимая жена Иоанна, умирает с подозрением на отравление. Об этом привычно говорят в коридорах.
Виноватыми назначаются Адашев и Сильвестр. Прямых доказательств нет, но царь удаляет их с глаз долой в действующую армию и на Соловки соответственно. За изгнанниками стоит целый сонм прихлебателей царевой казны, и они не сдаются, им надо вернуть своих благодетелей.
Иоанн, видя действительные и мнимые заговоры, впадает в паранойю. Хватают и казнят крещеную польку Марию Магдалину (имя-то какое!) с пятью сыновьями. А нечего было колдовать! Казнят брата бывшего фаворита Данилу Адашева с 12-летним сыном и тестем, казнят троих Сатиных, Ивана Шишкина с женой и детьми.
«А зачем вы разлучили меня с женою? — кричит Иоанн в письме беглому Курбскому. — Если б вы не отняли у меня мою юницу, то Кроновых жертв и не было бы», — наш царь, вишь ты, уже знает, кто такой был Крон!
Вообще, психика царя ломается окончательно, он теперь мгновенно переходит от буйного пира к зверской казни и обратно, как массовик-затейник из нашего студенческого кафе. Тот успевал одновременно обслуживать и свадьбу, и поминки, которые гулялись в соседних залах.
Но продолжим, братья, скорбный список безумных дел великого царя.
Михайла Репнин зарезан у алтаря церкви во время евангельского чтения за то, что на пиру отказался надеть потешную личину и укорял царя.
Молодой князь Оболенский-Овчинин — помните его отца, друга мамы Иоанна? — казнен за то, что открыто обвинил нового царского любимца Федю Басманова в «содомском» служении своему повелителю. Как мы видим, проблема сексуальной ориентации волновала народ и до поветрия СПИДобоязни.
Князя Дмитрия Курлятева с женой и малолетними дочерьми насильно постригли в монастырь, выдержали несколько лет, по прошествии которых исполнили приговор — удавили.
Самые упорные, принципиальные враги государя назло ему стали постригаться в монахи.
Большое количество нестриженых бояр маялось в кандалах или по монастырям, где им приходилось довольствоваться малым. Вот, например, жалуется ссыльный государев вор Михайла Воротынский на недопоставку части обещанной кормежки:
— двух осетров свежих,
— полпуда ягод винных,
— полпуда изюму,
— трех ведер слив,
— ведра романеи, лично жалованной царем,
— ведра рейнского ида (я и не знаю, что это такое — С.К.),
— ведра бастру (?),
— 200 лимонов (!),
ну, и еще множества каких-то мелочей, пряностей, воску, «труб левашных», денег и так далее. Царь велел все дослать.
Это — в ссылке. А что же было в милости?
Тем не менее, от милостей царских продолжали бежать. Царь назначал поручителей за подозреваемых в подготовке побега. Бежали все равно. Поручителей сажали на осетрину и лимоны. Поручители стали бежать с подопечными. Стали назначать поручителей за поручителей. Стали бежать пирамидами по 56 человек! Несладок, видно, рейнский ид! Вкуснее пить его на Рейне.
Такова была настоящая «первая волна» русской эмиграции. В эмигрантских листках стали перечислять бесчинства царя, но он отвечал достойно: «Самодержавства нашего начало от святого Владимира: мы родились на царстве, а не чужое похитили».
Вот это правильно! Все от Владимира Святого у вас и пошло.
Итак, все бежали от больного царя. Но и в голове покидаемого тоже всхлипывала мысль: бежать, бежать!
Бежать в народ из опасной Москвы. Бежать из страны, если народ предаст. Нужно было проводить разведку в народе.
Царь пошел в народ. Он взял с собой семью. Взял бояр да дворян повернее. Велел им быть с семьями. Взял иконы и кресты. Взял всю казну, все драгоценности, всю посуду — на, сами понимаете, сколько персон. Вызвал надежных дворян из провинции. Велел им тоже быть с семьями, секретаршами, заместителями и войском. В общем, «удочку взял, чтобы рыбу ловить».
По первой замерзшей грязи поехали на Тайнинское — к Троице — в Александровскую слободу. По этому маршруту в память о походе государя (и на всякий случай) сейчас проложена линия московской электрички.
Московские деловые застыли в растерянности. Ну, поедь, помолись, но деньги-то зачем забирать? Стало им чудиться нехорошее.
Предчувствия опять не обманули.
3 января 1565 года пришло в столицу «из походу» от государя пренеприятное письмо. Как ушат холодной воды, вылил Иоанн на москвичей такое, что в приличном московском обществе вслух произносить до сих пор не принято, — чистую правду. Виноватыми оказались, прежде всего, попы — от архиепископов до церковного сторожа, потом — бояре, воеводы и всякая чиновная сволочь.
А виноваты эти добрые люди были во всех грехах. И убытки государству они делали. И казну расхищали. И родственников к государеву котлу понатащили изо всех щелей. И «людям его государства» (это народу, что ли?) разорение причиняли. И земли присваивали. И прибытков казне не делали (скрывали доход от налогов). Ну, и службой пренебрегали, ясное дело.
Можно в это поверить? Конечно, нет. Галиматья. Бред больного воображения. Чтобы российский чиновник пользу государства поставил ниже своего — как это у него называется? Не может этого быть!
Так вот, ото всех этих надуманных обид решил сирота Иоанн поехать да и поселиться где-нибудь, «где его Бог наставит». А на простых москвичей он не в обиде.
Грамоту прочли прилюдно. Поднялся вой и плач. Из толпы то и дело вылетали причитания типа: «Увы, горе!», «Согрешили мы перед Богом!», «Как могут быть овцы без пастырей? Увидавши овец без пастыря, волки расхитят их!».
Волки тут же похаживали в козловых сапожках и овечьих шкурах навыворот и поеживались. Им очень хотелось поверить в отставку придурошного самодержца, по-быстрому поделить Москву и государство, да опасались они, нет ли и тут какого подвоха. Поэтому волки до поры спрятали зубы и навострили уши.
А народ, нарыдавшись, решил гнать попов к батюшке с покаянием. Пошли в слободу с мольбой: пусть государь «имеет их на своем государстве, как хочет», лишь бы принял снова правление в свои руки.
— Будет иметь, — кивал головой и повиливал задом из-за спины грешного вдовца голубоглазый Федька Басманов.
Царь согласился иметь государство на своих условиях. И условия эти были сказаны. Хотел он на изменников, воров, чиновников, взяточников, нерадивых царедворцев опалу класть, казнить без разбору дела, имение их брать в казну. Это он и раньше проделывал, но теперь желал получить согласие будущих казнимых на казнь и конфискацию имущества, на экзекуцию «по собственному желанию». Была и совершенная новость в пожеланиях царя.
Собирался он завести Опричнину: «двор и весь свой обиход сделать особый», бояр, весь штат и генералитет, все министерства и ведомства, всех приказных, стряпчих и жильцов назначить по-новому. То есть начать править с чистого листа.
Да, и — чуть не забыл — стрельцов себе назначить тоже особых. Как бы полк королевских мушкетеров. Всю эту параллельную структуру надо было чем-то кормить, с каких-то денег закупать рейнский ид и лимоны. Так и города для налогообложения в пользу особистов были назначены особые. Часть Москвы очищалась от неопричных жителей и отдавалась под квартиры исключительно новым слугам народа.
А старую братию куда ж девать? А никуда! Куда хотите. «Трижды разведены». Отделены от церкви и государства.
Вот так, в один момент, была создана огромная Партия Наших. Передовой отряд государства и народных масс. Вот так Иван Грозный совершил еще одно, самое главное, имперское открытие: стране, народу и вождю нужна Партия. Единая, беззаконная, мобильная, проникающая во все сферы жизни общества, лишенная всяких иллюзий и фантазий. И Партия эта была создана. Мгновенно и точно.
Великий Иоанн понял и основной принцип партийного строительства, который остолопы наших последних времен в муках изобретают сами. Этот принцип прост. В Партию нужно брать только самых темных, грешных, забитых, идиотических особ, которым при нормальной жизни ничего бы не светило. Они будут рвать копытами землю! А зарвутся, — будут безжалостно уничтожены. А чтобы все-таки и дело делалось, нужно снисходительно допускать в Партию считанный процент недорезанных умников, от которых предостерегал Вассиан. И теперь их можно спокойно ставить ниже последнего кавалерийского выскочки, и все будет правильно. Опричнина!
Всех прочих беспартийных, чтобы не расслаблялись, объединил царь в земство — от слова «земля». Земляки должны только служить и работать, играть как бы в государство, иметь своих как бы начальников, заводить свои, беспартийные учреждения. При военных делах им не запрещалось, а даже предписывалось действовать впереди, на лихом коне.
Вся эта программа строительства светлого прошлого была принята единогласно, с овациями и конфискацией имущества. Последовали торжественные казни:
— князя А. Б. Горбатого-Шуйского с сыном и родственниками;
— двоих Ховриных;
— князя Сухого-Кашина;
— князя Шевырева;
— князя Горенского;
— князя Куракина;
— князя Немого.
Им были зачитаны обвинения в измене Родине, умысле на побег, вредительстве и еще в чем-то — скороговоркой.
Масса бывших была сослана (эх, как опять Сибирь бы пригодилась!).
Государь вернулся на какое-то время в Москву. Его никто не узнал. Создание Партии, Великая Опричная Революция дались ему нелегко: «волосы с головы и с бороды его исчезли». Преображение, однако, делу не вредило. Стали быстро возводить новый дворец в опричной столице — Александровской слободе…
Историк наш, дойдя до опричнины, впал в длинные рассуждения о мотивах чрезвычайных действий царя, о невозможности дальнейшего думского влияния на имперского лидера. Тем не менее, в свои логические построения он вынужден был вставлять объективный аргумент. Все-таки царь был душевно болен. Все-таки он страдал манией преследования.
— Шизофрения — основание для импичмента, — ляпнул я. Но Историк с Писцом промолчали: то ли согласились, то ли не поняли.
Опричная Партия, тем временем, стала жить и развиваться. Возникла внутрипартийная этика: все члены Партии, «от большого до малого, считали своею первою обязанностию друг за друга заступаться».
Круговая порука дополнялась идеологическими разработками. Были срочно сформулированы обвинения против старой элиты. А именно: бывшие «крест целуют да изменяют; держа города и волости, от слез и от крови богатеют, ленивеют; в Московском государстве нет правды; люди приближаются к царю вельможеством, а не по воинским заслугам и не по какой другой мудрости, и такие люди суть чародеи и еретики, которых надобно предавать жестоким казням». Завершался этот вопль благим пожеланием, «что государь должен собирать со всего царства доходы в одну свою казну и из казны воинам сердце веселить, к себе их припускать близко и во всем верить…»
Тут Писец с Историком стали на меня снисходительно коситься. От длительного и тесного общения с премудростью шизофреника они и сами начали неадекватно реагировать на лица. Теперь они подозревали, что я не понял величия читанного документа. Пришлось их успокоить.
— Очень своевременная и верная мысль, — серьезно прокартавил я, — у нас бы сказали так:
«Буржуазные спецы ненадежны. Их можно рассматривать только в качестве временных попутчиков»;
«С течением времени классовая борьба не затухает, а разгорается, общество необходимо должно оставаться в состоянии перманентной революции»;
«Нет, и не может быть никакой пощады врагам народа, к ним следует применять единственную, высшую меру пресечения».
Ну, и в Политбюро, конечно, должны быть исключительно свои кореша, госбюджет нужно контролировать сообща, в баню и на охоту в Завидово ездить всем аппаратом…
Историк и Писец успокоились.
Опричнина между тем стала коварна. Вот приезжает к царю из Литвы с почтой от Сигизмунда-Августа некий бывший русский Козлов. Вернувшись к королю, хвастается в польской разведке, что завербовал всех московских бояр.
— Как всех? — удивляются Панове.
— Так и всех, — напирает Козлов, — всех беспартийных земцев.
Козлову верят и посылают боярам пачку именных тайных листов, чтобы переходили в польскую службу. Наша служба тоже не дремлет, берет всю почту, берет всех адресатов. От их имени лично царь пишет матерные ответы, что русский боярин Родины не продаст. Пока почта медленно тащится по грязи, гордых патриотов-изменников, ни ухом, ни духом не ведающих о своем воровстве, тащат на Лобное место.
Отмазаться от «листув паньства польскего» успевают только трое молодых — Бельский, Мстиславский да Воротынский (он, вишь ты, уже на свободе!).
Старик Челяднин, кряхтя, лезет на плаху с женой и сообщниками: Куракиным-Булгаковым, Ряполовским, троими Ростовскими, Щенятьевым, Турунтаем-Пронским, казначеем Тютиным.
А на самом деле оформили Челяднину измену — вы помните? — за ловлю много лет назад любимого царского дяди Миши Глинского, когда тот тоже был предателем и польским шпионом.
Казнили многих, но многих и просто убивали. Исчезали люди, да и все.
ДОСТОЙНЫЙ ПОВОД ВЫПИТЬ
Опричнина налетела так стремительно, что мы чуть было не проехали мимо великого события в жизни нашего Писца. А дело было так.
Ранним утром 1 марта 1564 года Писец наш Федя прибыл натужной иноходью к нам в палату и замер у теплой стеночки — то ли больной, то ли хмельной. Мы с Историком как-то сразу почуяли: случилось страшное. Историк под пенсне подобрел глазами и стал кругами приближаться к Писцу, который морщил в руке какой-то листок.
«Кальтенбруннер женился на еврейке», — вспомнилось мне.
Тем временем, Историк уже гладил Писца по сутулой спине, ласково уговаривал не грустить. Тут и я подошел. Взятый из костяной десницы листок оказался цветным титулом церковной книжки. И был он не писан. А был он печатан! И видно это было даже без пенсне. И почему-то от этого стало в палате жутко.
Историк умно уговаривал Писца, что объективная необходимость в распространении православной литературы как раз и привела в середине 16-го века к возникновению русского книгопечатания. Писец хрипел, взвизгивал горлом и никак не мог проикать запутанную фразу, что «ныне древлее летописное узорочество иныи от лукавого восхищахом».
Тут и я бестактно встрял: «Чтоб ты, Федя, не грустил, потому что все прогрессивное человечество, как раз намедни справило столетний юбилей книгопечатания. Коварный немец Гутенберг из Майнца давным-давно похитил твое древлее девичество, или как там ты говоришь. Так что под Парижской Бога Матерью тамошние квазимоды бойко торгуют своими католическими библиями, апулеевскими Золотыми Ослами и другой порнографией». Писец стал попросту выть в голос.
Нужно было спасать человека.
Пришлось мне отжать деликатного Историка и потащить Федю вниз, на самое дно московской жизни.
Оттуда запомнилось мне сумрачное мартовское солнышко в слюдяном окне шалмана, плавно оказывающееся Луной. Да девка какая-то вполне шемаханского вида все представлялась Шахерезадой и что-то предлагала на брудершафт. И Писца от этого немецкого слова рвало. А хозяин шалмана все подливал нам в глиняные чашки зеленую скользкую дрянь. И становилось Феде все хуже и хуже. И уже не плакал он, а только шептал: «Ты меня уважаешь?» И я понимал, что он сомневается в уважении не к себе лично, потрепанному придворному писателю средних лет, а ко всем тысячам безымянных Писцов, согнувших свой горб за веру, царя и отечество.
— Семьсот лет! — стонал Федя. — Из них пятьсот — по-русски! И получается, зря! Выходит, и не нужно было ничего этого, и теперь не надо!
— Надо, Федя! — одергивал я. — Теперь ты, Федор, будешь писать не просто текст, а Слово! А Федоровы — твои дети — будут его запросто печатать.
И я полез в самый глубокий карман, и там, среди тайных вещей страшного последнего века, нашел маленький линялый томик и, зажав винным пальцем фамилию автора, показал Феде его имя. И Федя, увидав свое имя, умер.
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые, — Его призвали всеблагие, Как собеседника, на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был, И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил!Шемаханская торчала сбоку, кабатчик побежал доложить о крамолах и колдовстве, но Федя оживал помаленьку: уже глаза его блестели.
Нам не дано предугадать, Как Слово наше отзовется, — И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать…Потом мы очутились на ночной улице и весело месили грязь куда-то влево от Кремля среди приземистых черных срубов. А Федя все просил списать слова, и я отговаривался, что писаное печатать можно, а печатное писать нельзя — грех!
— А! Копырыгхт! — вспомнил и тут же отрыгнул еще одно «немецкое» слово Федя.
Тогда мы стали петь современные русские песни, но я плохо понимал слова и запел из другого Федора. Удивленные арбатские собаки дружно подвывали двум патриотам утопающей в грязи столицы:
Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы И посады, и деревни, И палаты, и дворцы! Опоясан лентой пашен, Весь пестреешь ты в садах, Сколько храмов, сколько башен На семи твоих холмах!.. На твоих церквах старинных Вырастают дерева; Глаз не схватит улиц длинных: Это матушка Москва!Мы много раз повторяли последние строки и так орали слово «Москва!», что от налетевшего верхом опричного караула нас спасли только Федин сугубо дворцовый вид да моя красная книжечка с позолоченным двуглавым орлом на обложке.
Утром Историк поил нас квасом, Федя допытывался, что означают слова «Российская Федерация», видать, возомнил о себе бог знает что. А я отмалчивался. Сильно болела голова.
ИМПЕРИЯ № 1
Итак, Империя состоялась. Напомню тем, кто не понял, с чего она взялась, каковы ее основные свойства.
1. Империи должно быть много. Если страна лежит, развалясь от Уэльса до Цейлона, от Калифорнии до Вирджинии, от Прибалтики до Каспия, то ее можно и дальше проверять на империализм. А если у тебя три гектара пашни да сорок сороков побитых молью претендентов на престол, так можешь называться хоть трижды Священной Римской Империей, но под ногами у землевладельцев не путайся.
2. У Империи должен быть Император. Жестокий, желательно сумасшедший малый, скорый на кровь.
3. Этот малый должен быть умен. Его эпилептические припадки, ночи с Клеопатрами, бред величия или тараканьи страхи должны перемежаться холодными рассуждениями о пользе смертной казни, о необходимости диктатуры пролетариата, о неизбежности мировой революции.
4. Император должен возглавлять Партию. Партия должна быть составлена, как указывалось выше, по опричному принципу.
5. Члены Партии должны отвечать сложным требованиям, а партийная пирамида из этих членов должна строиться по особому, динамическому правилу…
Я вижу, вы заскучали? Тем не менее, считаю своим долгом подробно разобрать пункт пятый. А то придет ваше время строить свою Империю и собирать свою Партию, а вы начнете бэкать и мэкать, заниматься дурацкой предвыборной агитацией, раздачей сахара беззубым, уборкой мусора в общественных местах. Опозоритесь вконец, а я отвечай. Итак.
Член Имперской Партии должен обладать хитрым свойством:
Произведение его Интеллекта на Подлость должно точно соответствовать его месту в партийной иерархии:
{КРМ} = I*т,
где {КРМ} — коэффициент партийной морали (Kind of Party Membership — видите, на английский даже как-то не так и переводится); I — уровень интеллекта (intellectual) — уж как вы его будете измерять в вашей Партии, прямо и не знаю; m — подлость, злобное чудачество на букву М (meanness).
Итак, если вы набрали для политбюро матерых подонков, то внимательно проследите, чтобы среди них не завелось какого-нибудь умника. И наоборот: если в «мозговом центре» вашей Партии сидят и пускают слюни университетские уроды, то присматривайте за ними в оба: не дай бог, если кто-то из них обижает животных или ворует из тумбочек. Произведение полярных свойств должно жестко контролироваться.
Теперь о главном. Помните Вассиана Топоркова? Ни один ваш партиец не должен иметь {КРМ} выше, чем у вас, майн фюрер. Тут вы должны постараться. Непрерывно упражняйтесь в таблице умножения и не забывайте периодически резать из-за угла ваших товарищей с высоким {КРМ}.
Самое увлекательное в нашем партийном деле — это расстановка мебели. Нет ничего приятнее, чем сесть прекрасным весенним вечером на дачной веранде и, попивая чай с конфетой «Мишка на Севере», двигать фишки. На фишках должны быть разборчиво указаны имена ваших партийцев и их {КРМ}. Вы уже поняли, что расставлять их нужно свиньей. Или пирамидой. Вы сами — с максимальным {КРМ} — на вершине свиньи… пардон, — пирамиды. Ниже — десяток-другой товарищей с {КРМ} от второго до надцатого уровня. Под ними сотни других слюнтяев и недоумков, и так до самого дна.
Теперь идем дальше. Решаем динамическую задачу. По мере поедания конфет и остывания самовара обнаруживается, что {КРМ} у наших подопытных не стоит на месте. Они глупеют или умнеют, подлеют от жадности или добреют от сытости. Тогда вы их переставляете местами с другими, тихими.
Тут вы замечаете, что некоторые опричники вдруг резко увеличивают {КРМ}. Обычно это происходит от нечаянных командировок за границу, окончания ускоренных кавалерийских курсов, от неумеренного посещения финских бань в женских монастырях. Тут вам не до выяснения причин партийного роста: реальна опасность цепной реакции. Нужно немедленно выхватить горячую фишку из пирамиды. А куда ее девать? Да вот же, на фантике написано: «Мишка на Севере». Чувствуете намек? Нет? Объясняю специально для Вас, Ваше Величество. Товарища Тухачевского зовут Михаил? Мишка. Он предельно жесток. Хорошо. Но и умнеет, бестия, не по дням, а по часам. {КРМ} у него получается великоват. Значит, куда его? Вот же написано — на Се-вер!..
Ах, ты его уже порешил, шлепнул, сварил в масляном котле? Ну и зверь ты, Ваше Величество!
Вот так, в общем-то, Иоанн Васильевич Четвертый, Грозный, Великий и Ужасный и поступал. Потому с полным правом и стал нашим первым Императором. А страна наша, Россия-матушка стала, соответственно, в первый раз — Империей. Пока еще не на бумаге, зато в наших сердцах.
Но казенной бумагой следовало все же обзавестись, и царь засадил Писца сочинять несколько причин, почему ему (царю, конечно, а не Писцу) можно называться Императором. Писец поднял архивы и все красиво обосновал:
Причина первая. На голове у тебя, царь-батюшка, что? Шапка Мономаха, дареная твоему прямому предку византийским Императором. А кто носит шапку Императора? Намекаем по слогам: Им-пе-ра-тор!
Причина вторая. Кто принес христианство на Русь? Отличники кричат: «Ольга Святая!» Неправильно. Тогда хорошисты подтягивают: «Владимир Святой!» Еще хуже. Тогда наш троечник Федя с задней парты наугад: «Апостолы святыя!» И надо бы Феде поставить двоечку-лебедочку, ведь он думает, блаженный, что раз Иисус бессмертен, то и апостолы его тоже бродят до сих пор по свету и разносят христианскую бациллу… пардон! — благодать. Нет, Федя, до сих пор бродит Вечный Жид — Агасфер. А веру христианскую, православную, — это ты здорово придумал, — конечно, занес к нам кто-нибудь из апостолов. И не мелочь какая-нибудь: не Фома-неверующий, не Петр — трижды предавший, не Иуда, сбежавший от партизанской казни на осине, не КГБэшник Павел. А давай, это будет Андрей, чудесный ловец рыбы. Мог он забрести к нам? А куда ж ему, рыбаку, стремиться от генисаретских головастиков? Конечно, — к азовской осетрине! Так что, значит, веру к нам принес святой апостол Андрей Первозванный — первый ученик Христа. Значит, откровение Господне мы получили не далее, как из вторых рук. По научному — Second Hand. Императоры Византийские получали эту веру еще более подержаной, так что наше право на помазанность Божью не хуже ихнего.
Причина третья, запасная. Родство наше с византийскими императорами — вот оно: по принцессе Анне — матери святых убиенных Бориса и Глеба, по матери Мономаха, по матери твоего, государь, отца Василия — Софье Палеолог. Но трижды быть названным по матери — на Руси не в счет. На это у нас и не обижается никто, и гордиться тут нечем. Давай искать по отцу! А по отцу давай запишем так, от самого корня. Рюрик наш откуда был? А черт его знает. С Прибалтики. Софья Палеолог к нам как добиралась? Через Прибалтику. Вот и ответ. Рюрик или его предки попали к нам морским путем: Византия — Рим — Гибралтар — Атлантика — Па-де-Кале — Балтика — Янтарный берег. А документов же нет? А сгорели все бумаги в пожарах лесных библиотек. Точка.
Трижды доказана одна и та же теорема.
Иван Грозный понял и еще одно вторичное имперское правило. Ничто не должно омрачать имперского учения. И если уж ты Император, то и будь Человеком № 1. А значит, не допускай, чтобы тебя поучали, хотя бы и по поповской линии. В Бога ты, конечно, можешь верить. Но культам религиозным спуску не давай. Все великие Императоры делали так.
Одни разрешали все религии сразу (Египет, Афины, Рим старый, Монголы); при этом демократическая свара между конфессиями разъедала их, мешала монополизации национального духа, и он доставался Императору.
Другие запрещали или задвигали на задворки (отделяли от государства) все церкви, секты и приходы (СССР, Великая Германия, Северная Корея и пр.).
В любом из этих двух случаев жажда культа у населения очень быстро реализуется в обожании любимого вождя, и вы становитесь практически богом.
Я хочу предостеречь вас от третьей модели, когда вы вслух объявляете себя сыном божьим, апостолом, пророком, родственником пророка по прямой и, естественно, нагнетаете, в свою пользу религиозную истерию. В долгосрочном плане это не выгодно. Вы все равно остаетесь не первым, а вторым. В подсознании граждан происходит раздвоение, идет скрытая борьба пристрастий, вас любят, но производительность труда падает: слишком много Бога — тоже плохо.
Окиньте взглядом руины царств и королевств. Нигде верховенство церковных начальников не доводило до добра. Вот только вы начертили на карте курс своей эскадры, как входит некий Ришелье, пугает вас Ватиканом, запрещает обижать католических братьев, алчно зацапавших половину Нового Света. И напоследок гадко доносит, что ваша королева спит с английским шпионом. Так вы захватываете Канаду? Нет, вы давитесь бургундским…
Иоанн очень четко понял эти расклады своим покалеченным мозгом.
С приходом опричнины наши попы тоже попытались качнуть права. Стали заступаться за казнимых, рассуждать о нравственности и т. п. Иоанн уперся. Тогда митрополиты стали демонстративно уходить в отставку. За несколько лет с 1563 года их сменилось четверо. Последний, Филипп, даже дал царю расписку: «…в опричнину и царский домовой обиход не вступаться и из-за них митрополии не оставлять». Тут и началось. Казни следовали безостановочно. Люди вопили митрополиту о заступничестве. Царь стал от него прятаться. «Только молчи, молчи, отец святый!» — страшно кричал Иоанн, случайно встречаясь с Филиппом в Кремле. Филипп пер на рожон: «Наше молчание грех на твою душу налагает и смерть наносит!» Царь застывал в ужасе. Товарищам по партии это не нравилось. Они быстро сыскали целую свору епископов, владык, простых попов, свидетельствовавших против Филиппа. Что уж они ему навешали, неизвестно, ну, небось, как обычно: вино, карты, девочки, воровство церковной кружки. Сшили на Филиппа типовое дело. Суда, конечно, не было. Прямо из Успенского собора опричники выволокли митрополита, народ бежал за ним в слезах, но с опаской. Взяться за колья народу было слабо. Филиппа сослали к черту на кулички. Царю от этого было неуютно, и он, идя в поход на Новгород в 1569 году, послал прокурора… ой, нет! — Малюту Скуратова получить у ссыльного благословение на убийство православных. Филипп не дал. Бандит удивился и удавил вредного попа.
Путь был открыт. Убив по-быстрому двоюродного брата Владимира, последнего претендента на престол, Иван напал на Новгород. Такая уж традиция была в его роду. Повод подобрали неплохой: будто бы Новгород хотел «зайти за Сигизмунда-Августа…»
Ну, то есть, как бы сняться с места с волостями и посадами, направить Волхов по новому руслу — в Вислу, здания перебросить в Польшу по воздуху, плодородный слой родной земли вывезти на телегах, самим следовать пешим строем…
О таковых злых намерениях и бумажка соответствующая сыскалась. Так что Новгород казнь заслужил. Но резать православных царь начал загодя, от своего порога, с Тверских земель. Царские войска шли медленно: жгли и грабили, с особым садизмом казнили встречных и поперечных. Чтобы из Новгорода от такого ужаса не ушел ни один человек, заранее послали туда опричную гвардию для осады. Опричники, в основном из ублюдков, «детей боярских», по дороге опечатали все монастырское имущество; всех монахов забрали с собой в Новгород — ровным счетом 500 человек. Там до приезда царя развлекались поркой черноризцев по графику. Новгородцы оторопело смотрели на это. Тут привозные попы стали кончаться. Похватали всех местных и стали нещадно пороть — «править» с них по 20 целковых. Кто-то из умных партийцев догадался, что главные бабки лежат не у попов, а у купцов. Тогда перехватали вообще всех «лучших» новгородцев, рассадили их под стражу, подвалы и лабазы с добром опечатали. Стали ждать государя…
Чувствуете школу? Видите, как четко работает Имперская Теория? Никто ничего за пазуху не кладет. Монастыри и склады без приказа не грабят, а «печатают». Ждут пахана! По двадцатке вышибают на чай и водку? — так это святое, уставом Партии разрешается. Да и не казнь это вовсе, не наказание. А так, щекотка. Но вот 2 января 1570 года приезжает Грозный с сыном Иваном и 1 500 стрельцами. На другой день — первый указ. Этих; которых пороли в шутку, теперь бить палками насмерть, невзирая на чины. Трупы равномерно развозить по монастырям, пусть сами хоронят.
Потом царь-батюшка отправился помолиться к святой Софии. На мосту через Волхов его встретил с крестом владыка Пимен. Иван к кресту подходить не захотел, обозвал владыку волком, хищником, губителем и досадителем. «А теперь, — говорит, — святой отец, иди и служи обедню, а мы послушаем». После обедни пошли к владыке покушать, чинно сели за стол. Стали есть, пить, хозяина славить. Потом, по опричному обычаю, на самом интересном месте обеда, царь вдруг завопил диким голосом. Это был наигранный прикол — еще от святой Ольги. Пьянь опричная сорвалась с мест и кинулась грабить, рвать, хватать и бить все, что попадалось под руки. Ободранного, окровавленного попа посадили в кутузку на две деньги кормовых в сутки.
На другой день занялись главным, из-за чего собственно и ехали. Стали суд судить. Вот сидит Император, вот — сын его Иван, вот — ребята рукава закатывают. Выводят врагов народа. Медленно, дотошно рвут на них мясо, жгут фирменной «составною мудростию огненной» и обыкновенным отечественным «поджаром». Тех, кто признается в измене Родине, приговаривают к смерти. Тех, кто не признается, то есть самых упорных врагов, приговаривают к ней же. Осужденных, то есть всех, партиями привязывают к саням и волокут к реке. Сами эти гады уже и идти не могут. Там их кидают в воду с моста. Членов семей врагов народа вяжут по рукам и ногам и топят следом. Младенцев привязывают к матерям — не разлучать же их — и топят вместе. По реке деловито плавают лодки с опричниками. Эти добрые люди кольями и баграми добивают самых выносливых пловцов. Судебная машина работает, как часы, ровно пять недель. Волхов, едва успевает сплавлять трупы.
Потом гости дорогие поехали отдохнуть по окрестным монастырям. Сожгли их все. Сожгли все зерновые и соломенные запасы, все недвижимое и неподъемное имущество, угнали всю ходячую скотину, вырезали всю, не желавшую идти. Вернулись в Новгород. Стали наводить порядок: жечь все склады, лавки, дома. Приказ главнокомандующего был такой: все сровнять с землей. Не разрешается оставлять невыломанные окна и двери.
Далее летучие отряды эсэсовцев были отправлены по волостям на 250 верст в округе, задача та же. Еще протянули кое-как шесть недель. Потом Иоанн Васильевич устал и 13 февраля велел поставить пред собой, как лист перед травой, лучших новгородцев со всех посадов, концов и улиц. Где их было взять, лучших? Лучшие как раз миновали Ладогу, резво прохлюпали по Неве и проходили траверз Васильевского острова в будущей столице будущей Империи № 2. Спешили выплыть в Балтийское море до полного ледостава…
Да, а почему это в январе-феврале реки не замерзли? — Значит, была теплая зима. По таким вот летописным мелочам наши синоптики и составляют теперь карту многолетних наблюдений за погодой родной страны…
Ну, насобирали лучших из худших, поставили пред царем. Лучшие приготовились умереть. Но сказал государь таковы милостивые слова: «Жители Великого Новгорода, оставшиеся в живых! Молите Господа Бога, пречистую его матерь и всех святых о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих благоверных, царевичах Иване и Федоре, о всем нашем христолюбивом воинстве, чтобы Господь Бог даровал нам победу и одоление на всех видимых и невидимых врагов». Тут царь пустился проклинать владыку Пимена и всех пострадавших, стал валить на них случившийся беспредел. «А вы об этом теперь не скорбите, живите в Новгороде благодарно», — успокоил он великих новгородцев, которые и в огне не горят, и в воде не тонут. Тут же царь и отъехал восвояси. Весь остаток врагов он прихватил с собой и велел приберечь их в Александровой слободе про запас.
Теперь путь беспокойного монарха лежал на Псков. Этот город всегда был с Новгородом в предосудительной близости, «не разъяснить» его было нельзя. Псковичи, зная об участи соседей, решили встретить государя достойно: оделись в белое, помолились, вышли как один с детьми и женами и выстроились каждый перед своим домом. Отцы семейств держали на подносах хлеб-соль. Вот появилась колонна царского войска. Псковичи волной стали валиться в ноги батюшке. Обрадованный примерным поведением псковичей, царь пробыл у них недолго: ограбил только церкви — от казны до нательных крестов и крестильных пеленок, монастыри вычистил до основания, привычно забрал колокола и другую мелочь, имущество псковских граждан всех сословий.
Теперь, действительно, пора было домой.
Сразу по приезде в белокаменную занялись правосудием. В Новгороде и Пскове дело происходило как бы на войне, в походе. А тут уже все оформлялось по закону, велось «сыскное изменное дело». Нужно было обнаружить в новгородском заговоре московский след: в пирамиде тревожно пульсировали красные огоньки горячих фишек.
18 августа 1570 года на кремлевскую площадь вывели более 300 осужденных. Москвичи в ужасе попрятались по домам. Грозный не хотел лишать казнь элемента назидательности и велел опричникам сгонять народ. Успокоив верных москвичей, что их не тронут, царь открыл действие. Приговоры для привозных новгородских злодеев были достаточно милостивы: изменников духовного звания во главе с главным гадом, новгородским владыкой Пименом, разослали по дальним монастырям, 180 человек простили вовсе, чтобы оттенить тяжесть преступлений московских заговорщиков.
А тут уж погуляли вовсю. Царь самолично ездил между подвешенными за ноги преступниками и бил их насквозь своим знаменитым заостренным посохом. Около двух сотен князей, бояр, их придворных сообщников сложили головы на плахе. Особый изюм состоялся вокруг надоевших фаворитов. Для избранных в кремлевских подвалах был устроен торжественный прием. Князя Вяземского медленно запытали до смерти. Царь жадно наблюдал за судорогами любимца. Была у царя и сердечная забота о воспитании сыновей. Поэтому казнь Алексея Басманова — главного из главных — он поручил своему малому сыну Федору. Будущий царь Федор Иоаннович брезгливо ворочал топором…
Что сделали с лупатой подстилкой царевой, Федькой Басмановым, Писец записать постеснялся. Известно только, что Федю сначала попросили активно поучаствовать в казнях: палачей не хватало. Напрасно суетился Басманов у плах и виселиц, напрасно гнал с глаз видение растерзанного отца. Вечером трудного дня 18 августа пришла и его очередь…
Ужас новгородский не прошел даром для национального здоровья. Через год после государева наезда, 25 мая 1571 года, случился в Новгороде Переполох. Вы думаете, переполох бывает только в женских общежитиях, когда «на побывку едет молодой моряк»? Нет. Переполох — это не бабья суета в бигудях и губной помаде, это намного страшнее. Переполох — это дикое, космическое явление, ужаснее полтергейста, красочнее гибели Помпеи, назидательней падения Вавилонской башни. Потому что Переполох происходит не в окружающей среде, а в душах человеческих.
Новгородский Переполох («пополох», как записал Писец) был вторым в истории России. Первый будто бы случился в 1239 году, вскоре после «Батыева погрома». А выглядит Переполох так.
Вот праздник в Новгороде. Воскресенье, прекрасная погода, улицы и церкви забиты гуляющими и молящимися. На торговой стороне, в церкви св. Параскевы заканчивается обедня. Бьет колокол…
И вдруг его привычный звук пронзает всех новгородцев таинственным ужасом с примесью идиотского счастья. Людей охватывает то паника, то нестерпимый страх, то истерический смех. Все кидаются врассыпную, сталкиваются лбами, кричат, рыдают в голос, крушат все на своем пути. Купцы сами ломают свои лавки, разбрасывают и в слезах умиления раздают товары кому попало.
Это, и правда, жутко. Чтобы новгородский купец свою лавку и свои товары расточил собственной рукой? Нет, это апокалипсис какой-то!
Жить, а тем более царствовать в такой стране было безнадежно. В 1572 году Грозный пишет завещание, которое правильнее было бы считать диагнозом: кругом враги, нечистая сила, «тело изнемогло, болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил; ждал я, кто бы со мною поскорбел, — и нет никого, утешающих я не сыскал, воздали мне злом за добро, ненавистию за любовь…»
Однако не следует думать, что обиженный Грозный отказался от строительства Империи. Он просто реально оценивал свои возможности и спешил спланировать дальнейшую тактику для использования ее наследниками. Главной мыслью завещания была-таки борьба с крамолами, то есть перманентная чистка пирамиды потомками Императора:
«Что я учредил опричнину, то на воле детей моих, Ивана и Федора; как им прибыльнее, так пусть и делают, а образец им готов».
Теперь за судьбу страны можно было не опасаться, и Грозный стал вести себя спокойней, занялся любимыми казнями и чудачеством. Одну за другой он пытал и казнил правительственные команды. Десятки самых родовитых и именитых запросто лишались головы. Уже соседством простых опричников чести боярской уязвить было нельзя, так Иоанн вытащил с какой-то азиатской помойки татарина Симеона Бекбулатовича, крестил его и венчал взамен себя на царство. Сам назвался князем Московским и скромно присаживался в Думе на краешек боярской лавки. Дурь продолжалась два года, потом кумысного царя всея Руси выкинули в Тверь.
Казни, впрочем, не прекращались. Стали рубить головы и попам: в 1574 году «казнил царь на Москве у Пречистой, на площади в Кремле многих бояр, архимандрита чудовского, протопопа, и всяких чинов людей много, а головы метали под двор Мстиславского».
Князь Мстиславский возглавлял земство, то есть был крайним за грехи земли русской перед царем. Чуть не каждый год он писал царю покаяния во многих изменах, в наведении на Русь татар, в стихийных бедствиях, в дурных мыслях. Других за такое уже казнили бы по нескольку раз, а Мстиславского до поры не трогали, — работа у него была такая.
Грозный успешно воевал, раздвигая пределы Империи, его люди тоже старались. Бояре Строгановы получили лицензию на шкуру неубитого медведя — Сибирь. Они наняли банду волжских разбойников под предводительством донского атамана Ермака и в 1581—83 годах в несколько раз увеличили территорию всея Руси.
Все соседние государства трещали под ударами Иоанна. Стал он душить и Крым. Татары поняли, что отсидеться не удастся. Весной 1571 года к московским владениям подошло ханское войско в 120 000 человек. Тут же к татарам набежали ссыльные князья, обворованные бояре и просто беглые враги народа. Терять им было нечего, и они подробно доложили о двухлетнем голоде в Москве, о чудовищном геноциде в провинции, об упадке патриотизма. Хан спокойно пошел на Москву.
Донские казаки, доселе исправно доносившие о неприятеле, теперь коварно промолчали. Иоанн в ужасе бежал в леса. 24 мая татары подошли к столице и запалили ее. Огонь при попутном ветре выжег все деревянное. Уцелел только Кремль. Народу и войска погибло 800 000 (не верю, но так у Историка! — С.К.) — пять с лишком куликовских жертв! Причем татары и не рубили-то никого. Большинство сгинуло в трехслойной давке у задних ворот, остальные сгорели заживо и задохнулись в дыму. Москва-река «трупов не пронесла». Трупы потому сбрасывались в реку, что в землю успевали хоронить только родственников, а какие у кого остались родственники? Хорошо, хоть нашлись смелые люди с новгородским опытом: они привычно расталкивали речные заторы баграми.
Татары забрали еще один «куликовский комплект» — 150 000 пленных — и пошли восвояси. Грабить в Москве ничего не стали, боялись огня. С дороги хан Девлет-Гирей написал Грозному высокомерную грамоту, в которой обозвал царя трусом, наградил всякими плохими средневековыми прозвищами, потребовал Астрахани и Казани, брезгливо отказался от московской короны и денег, которые были, как он считал, — в его руках.
Вот вам и 100 лет после Ига! Вести себя нужно скромнее, девочки!
Крымскому хану понравились подмосковные вечера, и ровно через год татарское войско в том же составе и той же численностью снова оказалось под Москвой. Грозный сразу согласился отдать Девлет-Гирею Астрахань, но тот требовал еще и Казань, и дань. Царь задумался. Но тут в дело без спросу влез князь Михаил Иванович Воротынский и в нескольких битвах прогнал татар вон…
Ба! Да это же наш Михайло Воротынский! Я чуть было не проскользил по имени богатыря безразличным взглядом: мало ли еще осталось на Руси недорезанных бояр! Но, слава Богу, зацепило! Это же наш симпатичный Михайло, тот самый, который, сидючи в монастырской ссылке, уверенно требовал у царя законной пайки: романеи, осетрины, иду, лимонов, труб левашных. И теперь, исправившись и отъевшись на лагерных харчах, вдруг оказался героем и спас хлебосольного начальника!
Здесь проявилось великое правило имперского строительства, которое одно могло воздвигнуть нашу Империю! Но проявилось и кануло в небытие. Правило это такое. Старайся не выбрасывать горячие фишки. Есть несколько способов обуздать цепную реакцию {КРМ}. Сделай грозное лицо и ласково отшлепай шалуна. Поставь его в угол. Пройдет время, и он поймет, что 365 лимонов в год, 200 лимонов и ни одного лимона — это три большие разницы! А что он показал тебе зубки, так это ты прости: на псарне из выводка щенков всегда выбирают самого кусачего, тебе ли этого не знать! Пока пацан будет стоять в углу, ума у него не убавится, но подлого М-чудачества убудет, {КРМ} стабилизируется. Так твоя пирамида, государь, воссияет интеллектом. А ты усидишь на ее вершине, потому что от каждого отшлепанного возьмешь-таки долю ума. А М-чудачество твое куда ж денется, разве только затаится под фраком, под галстуком-бабочкой. Вот и останется у тебя самый высокий {КРМ}, и «бесный» святой Вассиан Топорков не заворочается в своем лесном гробу.
Прошли века, и правило Воротынского было подхвачено вертлявыми иностранцами, они испытали и развили его. А мы, увы, остались с законом Топоркова.
Досаду от Крыма хотелось сорвать хоть на ком-нибудь. Иоанн нахамил в дипломатической переписке королю шведскому, напал на крепость Витгенштейн и в конце 1572 года взял ее штурмом. Примерно с этого момента фортуна стала поворачиваться к нему задом. При штурме был убит царев любимец Малюта Скуратов-Бельский. Грозный согнал и связал всех пленных немцев-шведов, сжег их живьем. Черный дым при ясной погоде достиг небес. Там задумались…
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, НЕ ЗАМЕЧЕННОЕ НАШИМ ПИСЦОМ
Сейчас мы с вами, дорогие читатели, совершим крупное историческое открытие. Мы как историки должны время от времени совершать какие-нибудь открытия, а не ограничиваться унылым пересказом скучных текстов нашего Писца.
А открытие наше будет такое. Мы соединим два дела — новгородское и московское — в одно производство. Вы уже поняли? Ну, конечно!
Пожар московский 24–25 мая 1571 года и Переполох новгородский 25 мая 1571 года — это не два события, а одно!
Хочу сразу отмести возможные нелепые домыслы московских патриотов, будто новгородцы переполошились оттого, что их русские сердца проняла боль-тоска от несчастья родной столицы. Вот как выглядит это событие в моем представлении.
Москва, в лице главного москвича Иоанна и всех его предков, а также рядовых пехотинцев московских и тех мирных москвичей, которые просто проедали награбленное, крепко провинилась перед обычной провинциальной Россией. Новгородский геноцид стал кульминацией средневекового периода всех этих рюриковских гнусностей и зверств. Поэтому, когда москвичи 24–25 мая 1571 года принимали кару Господню, то как было новгородцам 25 же мая 1571 года не разрядиться всеобщей истерикой?
Какие небесные силы соединили и взаимно скомпенсировали вину и ненависть, ужас и боль Москвы и Новгорода? Какой телепатический мост светился на сотни верст между гибнущей Москвой и надевшим праздничное платье Новгородом? Какую оду к радости выводил в раскаленном московском воздухе казненный, но вечно живой вечевой новгородский колокол? Нам не дано угадать. Мы с вами ученые, а не волхвы.
Из этого открытия, не в пример другим теориям, можно сделать очень полезный практический вывод, очень важный для москвичей.
Дорогие мои москвичи! Когда у вас на Дмитровке автобус с обывателями проваливается сквозь землю в канализационный кипяток и полсорока как бы невинных душ свариваются вкрутую, не кидайтесь к своему коммунальному князьку, — он тут ни при чем. Быстро бегите к телевизору! Там как раз показывают, как в далеких горах тамошние нехристи расстреливают и сбрасывают в пропасть точно такой же автобус с совсем уж невинными немосковскими душами, посланными убивать и быть убитыми. Это вы их послали…
Тут вы, конечно, начинаете вопить на меня, что лично вы никого никуда не посылали, что дети ваши невинны, как агнцы. Что моя зависть к вашей валютно-сытой жизни низка и аморальна, и прочая, и прочая, и прочая…
Да верю, верю вам, дорогие! Но не я же подогрел для вас водичку в подземных котлах! Поймите и вы меня. Детишки новгородские и чеченские, сироты самарские и ростовские-на-Дону — тоже невинные ягнята. Нижегородские и мурманские менты убиенные ничуть не хуже ваших ошпаренных пенсионеров.
Тут вот в чем фокус: ответственность проживающих в Вавилоне безмерно высока! Вы думаете, прописка московская дается за просто так? Копейки, которые Москва для вас сдирает с сирот всея Руси, ничего не стоят? Нет уж. Любите кататься, так будьте готовы и купаться. Всегда — готовы!
А не хотите такой чести столичной, так сматывайтесь поскорее к нам, на Тамбовщину, да впрягайтесь в соху.
Так тяжелее для печени, но спокойнее — для души. И здоровее — в космической перспективе.
НОКДАУН
Вероятность того, что в ночной электричке наглый, злобный и истеричный хулиган нарвется на сильного и смелого пассажира невелика. Но она существует…
Умер в Польше король Сигизмунд-Август, истощенный командой наложниц и ограбленный колдуньями, призванными для восполнения мужского боезапаса. Наивные поляки стали выбирать (выбирать!) нового короля. Наших Федор Иваныча и Иван Иваныча им подсунуть не удалось (вот бы и не было картины Репина!). Открестились поляки и от самого Грозного. Польстились Панове на парижский шик и выбрали себе королем герцога Генриха Анжуйского, брата короля Франции Карла и возлюбленной нами королевы Марго. Генриху как раз нечего было делать после Варфоломеевской ночи. Но устричные аппетиты короля и французские повадки любви своего нового народа ему (народу) не понравились. Анжуйский тайно убыл восвояси, тем более, что нужно было временно занять французский трон, проклятый казненным магистром тамплиеров.
И тут на нашу голову поляки выбрали себе в короли князя Стефана Батория. С такой богатырской фамилией терпеть параноидальные выскоки с востока новый король не захотел.
Стефан обнаружил, что пока он вежливо переписывается с Грозным, посылает ему опасные грамоты для делегации, приглашенной на коронацию, царь московский втихаря захватывает один за одним литовские городки.
На попытки урезонить нахала посольством последовала хамская отповедь, что мы никакого такого Стефана не знаем, королей, избранных из подлого народа, а не спущенных с небес, не признаем. Вот, если хотите, получите от нас перемирие на три года, пока мы будем осваивать занятые города.
Баторий не захотел. Он уже стремительно договаривался с соседями, всем предоставлял выгодные, человеческие условия мирного сосуществования.
Иоанн рассудил в думе, «как ему, прося у Бога милости, идти на свое государство и земское дело на Немецкую и Литовскую землю», и в июле 1579 года двинул полки на запад. В Новгороде разведка донесла ему, что Баторий идет навстречу, но у него, дескать, и войска мало, и польская шляхта не пошла, и литовская идет не вся, и в раде базар, и самому Баторию сидеть на троне осталось считанные дни. И все это было правдой, за исключением последнего прогноза.
Но и правда была ложью, — бывает и такое. Плевать хотел Баторий на согласие рады и сейма. Дважды плевать он хотел на трусливую шляхетскую кавалерию, и трижды — на литовское ополчение. Был у Батория регулярный венгерский отряд наемников, обученных по последнему европейскому военному слову.
И действовал Баторий по-европейски. Летом 1579 года он объявил Москве войну в письменном виде. Грозный, не подумав, двинулся в Ливонию, туда, где нашкодил. Русские стали привычно грабить и жечь недограбленное и недожженное, Баторий ударил на Полоцк и осадил его. Жители и гарнизон отчаянно оборонялись в горящей бревенчатой крепости. Посланные к ним на подмогу воеводы Шеин и Шереметев струсили, в бой не пошли, ограничились грабежом тыловых обозов короля. Венгерская пехота Батория подожгла Полоцк со всех сторон. Русские, зная о верности королевского слова, вступили в переговоры и сдали город на почетных условиях. Многие ратные люди полоцкие и московские поступили в службу к Баторию.
— Предали!
— Кого? Спасенных ими мирных жителей или кровавого шизофреника?
Баторий пошел дальше, сжег город Сокол, где заперлись Шереметев и Шеин, учинил там бойню. Друг российской словесности, издатель Букваря Константин Константинович Острожский тем временем опустошил Северскую область. На этом кампания затихла до весны. Грозный не унимался в заносчивости. Он продолжал играть Императора. Но Императором он уже был слабым. Сильный Император умеет сплотить Империю и бить неприятеля лоб в лоб. Грозный привык заходить сзади, исподтишка, визгливым наскоком. Империя сама шла в его руки, но попользовался он ею нерасчетливо.
К новой схватке, назначенной Баторием на 14 июня 1580 года, стали готовиться каждый по-своему. Грозный терзал опричными военкоматами ближние и дальние города и веси. Баторий набирал добровольцев: из 20 крестьян — одного на оговоренный срок; после срока боец и все его потомство навсегда освобождались от всех крестьянских повинностей.
Историк отмечает полную растерянность штабистов Грозного перед воистину грозным неприятелем. Войска суматошно перегонялись вдоль гигантской западной границы то к Новгороду, то к Кокенгаузену, то к Смоленску.
Баторий выполнил ложный маневр на Смоленск и ударил на Великие Луки. У него было всего 50 тысяч войска, но в нем — 21 тысяча прекрасной европейской пехоты. Царя охватил патологический страх. Посольство Грозного к Баторию согласилось терпеть пренебрежение к титулу царя, соглашалось отдать Полоцк, Курляндию, 24 города в Ливонии. Но король уже требовал всей Ливонии, Новгорода, Пскова, Смоленска, Великих Лук. Великие Луки, впрочем, он взял сам. Взял Торопец и Невель, Озерище и Заволочье, Холм и Старую Руссу, Ливонию до Нейгаузена. Шведы навалились с севера. Дела военные у наших шли наперекосяк.
Опять была зима, и были переговоры.
Опять Грозный величал себя «князем и царем всея Руси по Божиему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению». Опять хамил и исходил негодованием. Да не на того напал.
Летом 1581 года польские войска пошли на Псков, разбили артиллерией каменную крепость Остров. Но осада Пскова не задалась. Расчеты на месте сразу показали Баторию, что инженерного обеспечения у него не хватает. Отступать было нельзя, сзади злорадно скалилась сеймовая оппозиция. Пришлось идти напролом.
Но наши стояли храбро. Личное мужество князя Ивана Петровича Шуйского и игумена Тихона, который с крестом и мощами какого-то святого обходил позиции, позволило продержаться с сентября до зимы.
Вроде бы полякам на зиму нужно было отступить. Но не тут-то было.
У Батория были неплохие командиры. Воевода Замойский, выпускник Падуанского университета, удержал воинскую дисциплину. Он порол перед строем разболтанных шляхтичей, держал в оковах пьяных королевских дворян, сек проституток, пробиравшихся зачем-то в армейские палатки. Польские войска против обыкновения не ушли на зиму с захваченных территорий.
Пришлось Грозному вступить в длинные переговоры, согласиться на десятилетнее перемирие с уступкой Баторию всех завоеванных им земель. Еще тянулся недостойный торг вокруг царского титула — очень уж не хотели поляки признавать Иоанна Императором, — но кураж был уже не тот.
Первая попытка имперского строительства заканчивалась неопределенным результатом. Основные постулаты имперской Теории были выдержаны не до конца: опять приходилось опираться на наследственное боярство да дворянство, Партия утомилась в пьянстве и разгуле, пирамида государственная качалась. Оно и понятно: все-таки шизофрения — плохой помощник в кропотливом созидании.
Однако бредовые метания оставили немалый опыт, мощную территориальную базу и, самое главное, неизгладимый эмоциональный фон. Народ созрел для полного беспредела. Нужно было только не давать ему расслабляться…
ЗАХОДИТЕ КО МНЕ, ДЕВОЧКИ, НА ВЕЧЕРНИЙ ОГОНЕК!
О моей стороны было бы большим свинством ограничить историю Грозного только его боевыми делами, царскими претензиями, кровавыми репортажами с Лобного места, то есть сделать акцент на чисто мужские читательские интересы. Наши дорогие любительницы «дамского романа» тоже заслуживают удовлетворения своих невинных слабостей.
Всем известно, что личная жизнь царя была многоплановой и многосерийной. Генрих Восьмой Тюдор с его шестью женами выглядит по сравнению с ним просто котенком.
В 43 года Иоанн Васильевич говорил, что уже стар. Таковым он ощущал себя от бурной жизни. А бури «домового обихода», как известно, изматывают не менее военных драм и отваги на пожаре.
Первый раз, как мы помним, Иоанн женился по любви и очень удачно. Анастасия Романова заменила ему мать. Но дети Анастасии умирали один за другим, остались только Иван да Федор. После смерти Анастасии Грозный долго был безутешен. Но как быть? — и он был грешен.
Сначала царь попытался снова жениться честно. В 1561 году, через год после смерти Анастасии, Иоанн венчался с дочерью пятигорского князя Темрюка. Чеченку крестили и нарекли Марией. Говорят, хороша была! Мария умерла в 1569 году. С этого момента у царя стала развиваться идиосинкразия на имя Мария. Идиосинкразия — это такая невинная болезнь, когда определенное имя девицы или молодца вызывает прилив чувств и крови, независимо от внешних и прочих данных объекта.
В 1571 году, выждав приличный срок, царь женился в третий раз, «для нужды телесной». Царицей стала дочь новгородского купца Марфа Собакина. Но то ли Новгород не мог простить царю погрома, то ли невеста больна была, а скончалась Марфа «до разрешения девства». Нужда телесная осталась при царе.
Тут оказалось, что жениться на Руси можно только три раза. Таков церковный обычай. Но нам такие жестокие уставы не указ! Грозный женился в четвертый раз без благословения церкви в начале 1572 года на Анне Колтовской. Жить без благословения было страшновато, и Грозный взмолился к попам. В пространном послании он жаловался на врагов, которые последовательно отравили трех его жен, причем Собакину даже не дали попробовать, то есть, — она как бы не в счет. Церковь смилостивилась: вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно. На царя наложили сложную епитимью: до Пасхи 1572 года в церковь не входить, потом молиться вместе с припадочной чернью, потом год стоять с какими-то «верными». С Пасхи 1573 года можно в церкви быть на полном праве. Если случится война, то церковь епитимью берет на себя: нельзя же в бою без ее благословения. А всем прочим россиянам православным в четвертый раз жениться строго запрещалось под страхом проклятия. Анна Колтовская проспала с царем не более трех лет и оказалась в монастыре.
Церковная исключительность развязала руки царю, и, пообщавшись с идиотами на папертй, он сотворил еще более греховное чудачество. Понравилась ему боярская дочка Мария Ивановна Долгорукая. Она обращала на себя внимание редкой красотой, «вельми бысть добра и красоты юныя колпицы». Имя у нее тоже было приснопамятное. Царь плюнул на все условности и И ноября 1572 года, помолившись напрямую Богу и предупредив его о непреодолимой идиосинкразии и неизбежности святотатства, венчался с Марией Ивановной, не разводясь с Анной Колтовской…
Предлагаю милым читательницам вообразить жаркие объятья 42-летнего лысого царя и юной «колпицы».
Итак, видеокамера летает на дистанционном манипуляторе под сводчатым потолком палаты, возбужденный оператор то и дело берет крупный план, картинка «наезжает» на безразмерную деревянную кровать с точеными ножками. Звучит лирическая мелодия из запасника Союза композиторов. В постели все идет в строгом соответствии со сценарием и жанром. Но вот в мелодию вплетается тревожная нота, как-то нервно ударяют литавры, смычок то и дело прерывает свое возвратно-поступательное движение, вокальный; дуэт задыхается, но кое-как доводит партию до конца. Оператор стирает пот с объектива и неуверенно произносит: «Снято!» Но, оказывается, за всем этим действом наблюдает и некий Режиссер. Он угрюмо щурится с большой золоченой иконы через дрожащий лампадный огонек. «Грех!» — гулко отдается под сводами.
Тут еще раз встает. На этот раз — солнце. Женская часть сюжета сменяется мужским триллером. Хором взревают басы подьячих:
Иже вскручинися царь-государь и великий князь Иоанн Васильевич, занеже в ней не обрете девства!«В ком не обрете?» — повизгивают за кулисами любопытные хористки — ключницы и приживалки.
«В ком, в ком, — обрывает колокольным баритоном постельничий опричник, — в Машке распутной!»
Царь бьется в параноидальной истерике. Его можно понять: и так грешен, как пес, и вот еще раз смертно согрешил ради блудницы! Это идиосинкразия виновата: мерещилось царю, что если — Мария, так обязательно и Приснодева, то есть стерильная, нецелованная и даже непорочно не обласканная. По-научному — Virgo Intacta.
С нашей, женской, точки зрения, мы, конечно, Машу оправдаем. Нужно ведь было ей потратить первую любовь на кого-нибудь хорошенького, а не дожидаться старого облезлого козла.
Но любовь зла. Ревут геликоны, бьют бубны, резкими аккордами тявкают какие-то неведомые электронные инструменты. Режиссер досадливо отворачивается от лампадки. Безумный многоженец хватает красавицу Машу, тащит ее «босу и голу» по крутым деревянным лестницам, бросает в дежурную колымагу, хватает вожжи, кнут и гонит, гонит ярых коней прочь от дворца. Повозка влетает на плотину, перегородившую речку с преисподним названием Сера. Царь резко берет вбок, экипаж падает с плотины в воду. Царь в последний раз обнимает не-деву Марию и, «стисну ю крепце», держит под водой, пока несчастная не перестает биться. Редкие свидетели злодейства спешно расходятся восвояси, и только удрученный длинноносый Писец еще долго стоит на плотине, запоминая бешеный бег тройки, погоняемой безумным правителем.
«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится за тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади: Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа…»
Тело несчастной Маши Долгорукой осталось в пруду. Этот пруд в Александровской слободе был на самом деле кладбищем. В нем топили врагов престола, хоронили казненных, сами тонули по-пьянке. Иностранные послы сообщали своим королям, что в Александровском пруду развелись крупнейшие и жирнейшие карпы да караси. На пирах и дипломатических приемах эти подводные стервятники были самым лакомым, центральным блюдом.
Грозный очень тосковал и горевал по Маше Долгорукой. В столичной слободе стояла церковь «с златополосной главой». В память о любимой утопленнице Грозный велел покрасить эти полосы через одну черным цветом…
Когда Анна Колтовская, четвертая законная жена, упокоилась в монастыре, Грозный еще пару раз женился безо всякого благословения. А чтобы не слишком грешить, брака не регистрировал. Эти две его подколодные жены были Анна Васильчикова и Василиса Мелентьева.
Что случилось с Васильчиковой, неизвестно: или какая-нибудь кошмарная казнь, неподъемная для Писца, или обычная смерть от «домового обихода». Осталась только запись в книге Иосифа Волоцкого монастыря, что царь пожертвовал «по Анне Васильчиковой дачи (подаяния — С.К.) государские 100 рублев».
История Василисы Мелентьевой более живописна. Едва она была отмечена государевым оком, как ее мужа заколол подосланный опричник, и Василиса очутилась на знакомой нам кровати из позапрошлой серии. Но губить свою молодость в объятиях ненормального старика Василиса прекрасная и премудрая не собиралась. Ей не хватило только осмотрительности. Царь заметил «ю зрящу яро на оружничаго Ивана Девтелева». Любовь к оруженосцу была наказуема. Девтелева убили, а Василиса с 1 мая 1577 года оказалась все в том же Новгородском монастыре.
В пятый полузаконный (а на самом деле, в восьмой) раз Грозный женился пятидесяти лет, в 1580 году, на Марии Федоровне Нагой. Не иначе, его пленила фамилия невесты, и он вспоминал другую нагую Марию в темном пруду. Эта Мария родила ему сына. Грозный рискованно назвал его именем умершего младенца Анастасии Димитрием. Что из этого вышло, мы еще увидим. По политическим мотивам, возникшим вскоре, Грозный собирался развестись с Нагой, если бы удалось его сватовство к английской принцессе. Но не удалось.
Все это время любвеобильный государь нес всякие церковные покаяния: то молился, то лишался причастия, то не приобщался святых тайн. Ну, да мало в них нужды, ибо «нужды телесныя» смиряемы были.
Скучным, неблагословенным браком с Нагой и закончилась история любви нашего Императора. Даже если не считать голубых опричных «жен», Иоанн на целых две жены обошел пресловутого Генриха Восьмого Тюдора.
Брачная эпопея завершилась, но «домовой обиход» бурлил. В ноябре 1581 года Грозный вспылил на невестку, жену сына Ивана, за какие-то постельные или обеденные неудобства. Небось обозвал ее сукой, пнул в беременный живот. (Так что картина Репина должна бы называться «Иван Грозный убивает внука и сына»). Князь Иван заступился за жену и получил смертельный удар острием царского посоха, которым Грозный имел обыкновение гарпунить повешенных бояр. Грозный впал в депрессию, стал отрекаться от престола, но бояре, боясь подвоха и новых казней, уговорили его править дальше.
Тут уж Господь понял, что все договора с Грозным пошли прахом. Шизофрению еще можно было терпеть, но остальное ни в какие рамки не лезло, и пора было Грозного увольнять. Ибо никто не смеет быть более грозным, чем Господь наш.
В начале 1584 года, не успев даже вполне насладиться завоеванием Сибири, Грозный заболел. К привычному ночному беспокойству добавились «гниение внутри и опухоли снаружи». Царь разослал по монастырям грамоту, чтобы бородатые денно и нощно молили небеса о прощении царских грехов и об освобождении его от телесной хвори. Как уж там молились, неизвестно, но сам Грозный не каялся, и Историк вынужден был записать, что монарх прелюбодейный не успокаивался до последних дней: «Испорченная природа его до конца не переставала выставлять своих требований».
Иоанн Четвертый Васильевич (Грозный) скончался 18 марта 1584 года, когда, почувствовав облегчение, пытался расставить шахматные фигуры. «Махмиты», как небрежно называл восточную игру неазартный Писец, отнесены были церковью к предосудительным занятиям наравне с картами, зернью, игрой на гуслях, домрах и «смыках». Грозный с трудом уселся за клетчатый столик и стал расставлять белые фигуры себе, а черные — предполагаемому противнику. Но фигуры вели себя странно. Белые не хотели строиться на стороне Ивана, а все время перебегали на противоположную, литовскую сторону.
Стал тогда Иван строить в ряды своих черноризцев, но черный король никак не ставился на белую императорскую клетку, и королева под боком вдруг оказалась не белой и не черной, а нагой. И не точеной безликой и безрукой фигуркой, а долгорукой глазастой красавицей с пухлой грудью и русалочьим хвостом. Грозный потянулся к ней, и тут черные ярые кони, косясь огненными глазами, выдохнули пламя, вдвоем составились в Тройку и так рванули вбок шахматный столик, что слева разверзлась темная водяная глубина.
Туда, навстречу распростертым объятьям нагой долгорукой королевы, упал Иван…
Вот так, милые дамы!
Будьте бдительны. Когда зовут вас в ресторан или на холостяцкую квартирку чайку попить, задумайтесь: а не лежит ли на вашем кавалере какое-нибудь предначертание свыше?
Часть 6 ПЕРЕКРЕСТОК ЧЕТЫРЕХ ДИНАСТИЙ (1584 — 1682)
ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
По смерти Ивана Грозного династия Рюрика оказалась у разбитого корыта. Вдруг обнаружилось, что массовые казни поглотили все прямое и боковое потомство Василия Темного. Убив сына и неродившегося внука, Грозный оказался связанным с будущим только двумя тоненькими ниточками. Едва теплившейся жизнью новорожденного эпилептика Дмитрия и безнадежным, «пребывающим в постоянном младенчестве» бездетным олигофреном Федором.
Конечно, Рюриковичей на Руси было еще полно. Можно было найти скромных потомков Святослава Черниговского и отпрысков Всеволода Суздальского, но Грозный так ограбил, унизил и запугал их, что сидели теперь эти князья и не высовывались. Да к тому же поналезло на Русь множество всяких других князей из Литвы и с кавказских предгорий, из Сибирских руд и европейских пчелиных сот. Они звонко трясли кошельками, где уж тут было старым Рюриковичам выступать с претензиями. Окончательный расклад в стае, обсевшей нового дебильного царя, выглядел так.
Справа скалились Шуйские. Они успели верой и правдой отслужить у Грозного былую ненависть, укрепились и умножились на государевой службе. Их заслуги были очевидны: только Шуйский сумел остановить Ба-тория у стен Пскова.
По центру возвышался и нетерпеливо перебирал лапами матерый волк Борис Годунов, пробравшийся в наш хлев откуда-то с Востока. Сначала он заманил в свое логово дочь всесильного Малюты Скуратова, потом подложил свою сестру Ирину под венценосного простака Федора Иоанновича.
Левый фланг алчного воинства уверенно занимали Романовы-Захарьины-Кошкины. И по праву: Анастасия Романовна уже побывала царицей. Сын ее, Федор, — вот он — как раз пускает царственные слюни на голландского посла.
Так что престол был в безопасности: не подходи, порвут!
С Федором был верняк. Лейб-медицина точно отмеряла ему мало лет до могилы, если не сильно подталкивать. Поэтому спешить было некуда и следовало заняться Нагими. Младенца пока не трогали: он и так мог помереть в любую минуту. Стали травить его родню. Нагих перехватали еще в ночь последнего шахматного поражения Грозного. После грабежа их ближних владений и имений царевича с матерью и дедом сплавили в наследственный удел — Углич.
От неожиданности свалившейся с небес свободы, от предчувствия новой крови стая некоторое время была не в себе. Бояре даже перекусали друг друга, но потом помирились. Короткая свара обошлась полсороком убитых и сотней раненых дворняг.
Передышку использовали для закрепления неустойчивого равновесия. 4 мая 1584 года состоялся собор, на котором Федора Иоанновича всенародно уговаривали венчаться на царство. Мохнатая, ласковая шапка Мономаха с золотыми и стеклянными игрушками с детства нравилась Феде, так он и согласился. 31 мая его венчали. Митрополит Дионисий пространно взывал к новому царю и к небу, уговаривал их быть взаимно вежливыми, беречь князей и княжат, слушать его — митрополита, жаловать бояр и вельмож. Но не было в соборе гулкого эха, никто не отвечал с высоты на корыстные просьбы Дионисия. А царь и не просил ничего — он выдувал радужные бульбы с красивым искрящимся отражением в тысячу свечей.
Теперь грызня начиналась по-серьезному. Стая разделилась на две команды. Первая была командой одного Годунова. Вокруг него собрались мелкие князьки, родственники, домочадцы. Вторая команда была сборной, и в ней оказалось слишком много звезд: Мстиславские, Шуйские, Воротынские, Головины, Колычевы, служилые люди и даже чернь московская. Но Борис перекусал их по одному, рассадил по монастырям и дальним городам, выгнал в Литву. Уцелели только Шуйские. Они держали под собою все московское городское хозяйство, а что у нас есть Москва? — это вся Россия; а остальное что? — а ничто. Вот и помирили попы Шуйских с Годуновым. До поры.
Три года прошли в подозрениях. В 1587 году Годунов, не дождавшись явного повода для драки, организовал донос на Шуйских с обвинениями в обширном заговоре. Шуйских с друзьями переловили, пытали, судили, разослали по монастырям и по прибытии на место передушили. Семерых второстепенных заговорщиков обезглавили принародно, безобидную мелочь разослали по городам и целинным землям. Дионисий пытался заступаться за осужденных перед царем. Федя внимательно слушал ученые речи. Пришел Годунов, шикнул на попа, наплел Феде страшных басен и заставил расписаться в какой-то бумажке. Не успели при дворе и глазом моргнуть, как на митрополии оказался Иов — свой в доску поп. А Дионисий с замом обнаружились в новгородском монастыре.
Годунов начал править. А Федя? И Федя при нем. Вот он сидит в задней горнице; его перед послами сажать нельзя — нечаянно лезет Ирке под сарафан при иностранцах. Так почему ж у нас глава называется «Царь Федор Иоаннович»? Какой же он царь? А в том-то и штука, что за титул царский многим поколениям его предков, ох, как поработать пришлось! А уж получил должность — вот тебе и честь, будь ты хоть каков, сиди на троне до смерти! Вот Федя и сидел. Вот Годунов и работал.
Работать было тяжко. Москва наполнилась ворьем. Каждый день где-нибудь вспыхивал пожар, лихие люди первыми кидались «тушить», выносить гибнущее добро. Куда потом эти вещи девались, установить было невозможно. Целые станицы донских и волжских казаков завелись на Москве. У Годунова голова шла кругом. Как искоренить в стране бандитизм и взятки, боярские интриги и геральдическую неразбериху? Не знал «большой боярин».
Это нам теперь понятно, как надо было действовать, чтобы удержать Империю от падения в темные смутные воды. Мы бы с вами сразу создали новую Партию. Мы бы раздали остатки волостей и бюджета новым опричникам. Мы бы запугали Шуйских и Мстиславских. Испуганных вырезали бы тайной ночью под самый корешок. Мы бы их всенародно оплакали и похоронили с почестями в Кремлевской стене. Мы бы ласкали чернь московскую, раздавали бы ей пироги и водку, дарили сибирские земли и прибалтийские янтарные прииски. Мы бы отправили доверчивых казачков ловить в Сибири птицу Сирин. Мы бы заботливо охраняли царя Федю и лечили царевича Диму. Мы бы устроили ему такие душераздирающие похороны и такие бы пролили слезы, что народ бы нас возлюбил навек. Потом мы бы нашли врагов народа, околдовавших Федю и отравивших Диму, и сожгли бы их по просьбе трудящихся. И кого бы народ пригласил в цари, когда Федя, не дай Бог, бы помер? Когда вокруг одни враги? Когда Рюриковичей никого нету? Конечно, нас!
А Борис начал бороться с воровством и казачеством, взяточничеством и расхитительством. Вы зря смеетесь. Хотя это, конечно, смешно — на Руси не воровать. Но это и страшно! Вон даже Федя перестал смеяться и прогнал любимых карликов, не дал им кончить эротическую пирамиду.
20 декабря 1586 года умер великий Стефан Баторий, и Россия снова опозорилась на весь свет. Стали наши вторично предлагать в польские короли нашего Федю.
Но уже при всех дворах о нем ходили анекдоты, уже послы в лицах представляли, как Федя посреди приема вдруг начинает быстро-быстро водить горбатым носом от скипетра к державе и обратно, как все сильнее дрожат в его руках эти царские игрушки, как заливается он идиотским смехом во время чтения собственного царского титула. Идиот и дурак всея Руси… Так что иностранные сеймы, парламенты, думы и рады подумали и порадовались: царская болезнь оказалась заразной, и вот уже вся Русь ошизела, раз такое предлагает.
В общем, Годунов не сумел подхватить Империю и быстро объявить свои условия игры. Теперь ему приходилось играть по чужим, бумажным правилам. Вот и потянулись годы прозябания в больших боярах. И вот ты уже оказываешься в седле на шведском фронте, куда Федя сам поперся и тебя потащил посмотреть на бой солдатиков. А вот уже главнокомандующими назначены Мстиславский и Хворостинин. А вы с Романовым — в «дворовых ближних» боярах. И вот Мстиславский с Хворостининым бьют шведов и выслушивают аплодисменты, а ты должен им хлопать. И уже на дворе 1590 год.
Опричнины не было, и буйным цветом расцвело местничество. Штука эта страшная. Писец, помимо летописей и хронографов, вынужден был вести еще и «разрядные» да «степенные» книги. В течение нескольких веков в них заносилось, какой боярин в войске был старшим, на какой службе и кто у него был подручным. Бояре — люди гордые — из поколения в поколение следили, как бы нечаянно не оказаться в подчинении потомку более мелкого рода. Это был позор. Об этом сразу делалась разрядная запись, и твои внуки уже не очень-то могли командовать тем, кем ты еще командовал. То и дело бояре сказывались больными, чтобы не служить «невместно». При Федоре Иоанновиче они и вовсе развинтились. Стали прямо отказываться от неподходящих по разряду должностей: «Меньше мне князя Буйносова быть невместно». Возникали проволочки. Пока шли суды да ряды, войска и экспедиции никак не могли тронуться в путь.
Разобраться с боярским снобизмом Феде и Годунову было не по силам, зато они исхитрились-таки внести свою лепту в имперское устройство. В 1597 году последовал указ, чтобы крестьяне больше не бегали от помещика к помещику, а знали свое место. На триста лет без малого народ оказался прикреплен к сохе. Это было очень полезно для учета и контроля. Был придуман и новый подвох. Крепостное право вводилось задним числом — с 1 июня 1586 года. Это было круто, но впоследствии популисты стали вешать всех собак на Годунова и выставлять его главным врагом народа.
Нужно было сделать для населения что-нибудь величественное. И Годунов придумал.
На свете Божьем было четыре патриарха: цареградский, антиохийский, иерусалимский и александрийский. Они сидели под турками и арабами и наведывались в Москву только за «милостыней». В кавычки я беру это слово, чтоб вы не подумали, что патриархи приезжали сидеть Христа ради на паперти Василия Блаженного или канючить в торговых рядах. Бабки им отваливали прямо в Кремле и немалые — по нескольку тысяч рублей золотом из царевой казны и митрополичьих сундуков. Как же было эти деньги не оправдать?
Как раз приехал побираться антиохийский патриарх Иоаким. И таким облезлым он выглядел перед нашим митрополитом, что тут же в Думе прочитали послание царя. Федя будто бы лично писал: «По воле Божией, в наказание наше, восточные патриархи и прочие святители только имя святителей носят, власти же едва ли не всякой лишены; наша же страна, благодатиею Божиею, во многорасширение приходит, и потому я хочу, если Богу угодно и писания божественные не запрещают, устроить в Москве превысочайший престол патриаршеский».
В красноречие Федино никто не поверил, но идея понравилась. Поторговались с четырьмя святителями, отбились от их попытки подсунуть на московскую патриархию кого-нибудь своего (византийский Иеремия даже сам подскочил в Москву и хотел тут остаться). И стали выбирать. Трех кандидатов предложили царю на выбор, и Федя, ободренный Годуновым, в присутствии понятых сразу опознал патриарха в Иове, годуновском дружке. Посвятили его, не мешкая. Случилось это 26 января 1586 года. Так Русь на весь свет воссияла верховным православием. Де-юре.
Нужно было как-то на деле подтверждать благочестие. Подарили на прощанье константинопольскому патриарху рыбьего зуба и мехов, громогласно открестились от обвинений в привораживании Годуновым царя Федора. И стали сами воевать с колдунами.
В Астрахани стая вампиров покусала Крымского царевича Мурат-Гирея, его семью и свиту. Наш человек из Москвы Афанасий Пушкин и местный арап (хм, Пушкин и арап? — Занятно!) расследовали это дело, перехватали вампиров, пытали их, но без толку. Тогда арап подсказал Пушкину, что, подвесивши кровососа на дыбе, надо сечь батогами не его самого, а тень на стене. Вот так просто! Стал Пушкин пороть тени, те и раскололись, что пили кровь пострадавших, но дело исправить можно, если кровь еще не свернулась. Вызвали у вампиров отрыжку. Вампиры уверенно показывали в тазиках, где чья кровь. Кровь царевича и его любимой жены отрыгнулась свернутой, и они вскорости умерли. Остальных помазали каждого своей кровью, и они очухались.
Велел Пушкин арапу сжечь колдунов.
К очистительному огню со всех сторон слетелись несметные вороньи стаи. Солнце красиво отражалось в дельте Волги, воняло горелым мясом, дым от костров смешивался с черными вороньими тучами.
Пушкин мечтательно думал, что вот — арап, а человек неплохой. Лобызаться с ним противно, дочь или внучку, например, замуж за него не отдашь, а работать с ним можно.
Арап тоже принял своей чуткой юго-восточной душой тонкое вечернее настроение. В его голове звучали неведомые стихи, прилетевшие с вороньей стаей откуда-то из далекого будущего:
Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: «Ворон, где нам отобедать? Как бы нам о том проведать?..Тем временем в Москве стали отливать Царь-пушку, делать серебряную раку для мощей Сергия Радонежского — короче, жизнь продолжалась!
И чем дальше продолжалась жизнь царя, тем безнадежнее становилось положение Годунова. Сначала он надеялся, что Ирина родит сына. Тогда Федю — под Архангельский собор, младенца — в цари, себя — в принцы-регенты. Но Ира родила дочь, та сразу померла. Выходило плохо. Сейчас Федя — в ящик, Дмитрий из Углича — в цари, Борис — не в принцы, а в нищие. Это в лучшем случае. Приходилось брать инициативу в свои руки.
Сначала стали Дмитрия травить через кухню. Но яд на него не действовал. Годунов собрал совет приближенных. Его родственник Григорий Годунов отказался участвовать в злодействе и больше не был зван на заседания. Совет предложил избрать исполнителями акции Загряжского и Чепчюгова — эти взяли самоотвод. Борис совсем расстроился. Тогда его друг Клешнин пообещал все устроить. И устроил. Была набрана команда: дьяк Михайла Битяговский, его сын Данила, племянник Никита Качалов и сын мамки приговоренного царевича Осип Волохов. Эта бригада была послана в Углич не просто так, а по специальному документу для устройства городского хозяйства, а то ни тепла, ни света, ни канализации в Угличе еще не было. Царица Марья заподозрила недоброе и стала за царевичем следить. Но в полдень 15 мая 1591 года мамка Волохова какой-то уловкой задержала ее во дворце и вывела царевича во двор, под ножи убийц. Кормилица царевича Ирина Жданова почуяла беду, тащилась за мамкой и со слезами уговаривала не вести мальчика во двор. Осип Волохов встретил Дмитрия на крыльце:
— А это у тебя новое ожерелье на шее?
— Нет, старое, — ответил Дмитрий, задирая подбородок. Осип махнул ножом по его горлу. Но вен не задел. Кормилица упала на царевича всем телом и стала звать на помощь. Ее оттащили в сторону и забили ногами до полусмерти. Потом Данила Битяговский и Качалов спокойно дорезали Дмитрия.
Выбежала мать, подняла вопль, но все попрятались. И только старый пономарь по кличке Огурец, запершись в соборной церкви, бил в набат. Сбежался народ. Убили Битяговских и прочих — всего 12 человек…
Сдается мне, что среди народа были и люди из Москвы, посланные вторым эшелоном. Очень уж удачно получилось для Годунова: никаких злодеев не осталось, чья была «наука» — не дознаться.
Послали грамоту к царю. Гонец попал к Годунову. Тот переписал грамоту, что царевич зарезался сам в эпилептическом припадке по небрежению Нагих. О «падучей» болезни Дмитрия знали все. Федор Иоаннович расплакался, послал в Углич комиссию из четырех человек во главе с Василием Ивановичем Шуйским. Следствие собрало показания и сделало вывод об убийстве по наущению Годунова. Вернувшись в Москву, Шуйский так прямо и заявил: «Царевич Димитрий Иоаннович, брат государя… зарезался сам». Привезли в Москву Нагих. Годунов с Клешниным стали их пытать, как же они, сволочи, царевича не сберегли? Нагие хрипели, что от вас, волков, разве убережешь?
Царицу постригли в монахини и заточили в Выксин-скую пустынь, других Нагих разослали по городам и тюрьмам. Обслугу дворца и подвернувшихся угличан кого казнили, кому отрезали язык. Прочих этапом погнали в Сибирь — пора было осваивать технику ссылки без права переписки. Углич опустел, зато в Сибири появился город Пелым.
Тут пригодился и патриарх. Он составил и произнес речь о том, что смерть царевича «учинилась Божиим судом». Все-таки, приблатненному владыке надо было полегче быть на поворотах. Лживо обвинить Бога в убийстве больного мальчика — это слишком! Слишком, даже для нашего терпеливого Бога. Понятно, что в июне Москва опять загорелась.
Годунов раздавал милостыню погорельцам, уговаривал послов, что город подпалил не он (для удержания Федора от поездки на следствие в Углич), а Нагие. Но народ был охоч на пересуды, и пришлось отрезать по Руси немало языков. Тут у Федора неожиданно родилась дочь. Не прожив года, умерла. Обычное дело, но виноватым опять оказался Годунов. Теперь он всегда будет виноватым. А нечего было на Господа клепать!
Вот и еще одна вина: говорят, не без участия Годунова скончался наш царь Федор Иоаннович в час ночи 7 января 1598 года. Хотя как тут не скончаешься после таких расстройств?
Правление Федора замечательно для нас с вами тем, что он был, но его как бы и не было. Фигура тихого идиота, восседавшего на всероссийском престоле 13 лет, убедительно показывает, что может Русь обходиться и без царя в голове. И обходиться малой кровью.
ЦАРЬ БОРИС ПЕРВЫЙ
Стали думные умники думу думать: кого сажать на царство. Мужиков-рюриковичей не осталось аж до самого Ивана Калиты. Сохранились только вдовые бабы. Но и с ними была проруха. Марфа, дочь казненного двоюродного брата Грозного, Владимира Андреевича, овдовевши в Ливонии, вернулась в Россию, но тут же постриглась в монашки (это Годунов ее постриг!). Подрастала ее дочь Евдокия, но и она вдруг скончалась неестественною смертью (это Годунов ее погубил!). Оставался где-то на задворках законный, венчанный царь нерюрикова племени — потешный Симеон Бекбулатович. Его отыскали, но он неожиданно ослеп. И в этом несчастье злокозненный Писец (прямо в официальном документе!) обвинил Годунова.
Ну, еще была, конечно, законная царица Ирина Федоровна. Ей и велел править умирающий Федор. Но бумаги не оставил, да и цена этой бумаге? — растопка для печи. Поэтому на девятый день Ирина отпросилась-таки у патриарха и постриглась в Новодевичьем монастыре.
Править продолжал Годунов. Но оказалось, что Русь это понимает неправильно. Жалобщики и чиновники стали писать матушке-царице казенные бумажки прямо в монастырь. А та почему-то стала отправлять их с резолюциями патриарху. Борис понял, что легко может оказаться не при делах. Вернее, остаться только в одном деле. Об убиении царевича — обвиняемым.
Это было время короткого, малого междуцарствия. Все озаботились избранием (слово-то какое дикое — избрание!) царя. Дума пыталась захватить власть под себя. Народ не поддержал. Шуйские интриговали себе, но патриарх помнил, кто он и откуда. Анализ общественного мнения показывал, что народ в целом — за Годунова. Он был намного лучше Грозного. При нем было тихо и спокойно. Почти не воевали, почти не казнили, реже горели и почти не голодали. Поэтому патриарх и Годунов объявили о созыве первого всероссийского съезда советов — по десять человек от каждого города, и все сколь-нибудь заметные деятели — тоже приезжай. Развернулась подготовка к съезду. Царица вызывала к себе в келью воинских начальников и по одному уговаривала их голосовать за Бориса. Деньги раздавала от души. Были собраны специальные агитбригады из монахов, вдов и сирот, которые стали ездить по городам и блажить в церквях, что нужно голосовать за Бориса, а то проиграете!
Собор был созван такой: 99 попов — это люди патриарха, а значит, — Годунова; 272 человека бояр и дворян; тут у Годунова была своя партия, но окончательный расклад был неясен; из городов приехало только 33 выборных; еще было 7 военных делегатов, 22 купца, 5 старост гостиных сотен и 16 сотников черных сотен.
17 февраля, в пятницу перед Масленицей, открылся собор. Патриарх объяснил, что Ирина править отказалась, Годунов отказался, и теперь давайте, господа делегаты, ваши предложения. Делегаты сидели в тяжком молчании. Тогда патриарх сказал, что у него, у митрополитов, у архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов, у бояр, дворян, приказных, служилых и у всяких прочих кому жизнь дорога, есть такое мнение, что кроме Бориса Федоровича никого не нужно искать и хотеть. Сразу у всех присутствующих хотение опустилось, и они «как бы одними устами» завопили свое единогласное одобрение единственной кандидатуре. Тут же составили сногсшибательную грамоту, в которой перечислялись все заслуги Годунова и приводились такие свидетельства о его праве на престол, что удивительно стало, чего это мы от такого счастья столько лет прятались, а не задушили Дмитрия в колыбели и Федора не упрятали в дурдом.
Из зала заседаний народные избранники толпой повалили есть казенные блины, пить водку, закусывать икрой и лимонами. В понедельник — день тяжелый — пошли в Новодевичий монастырь, где Борис отсиживался с сестрой в своем предвыборном штабе. Стали первый раз уговаривать его в цари.
Годунов возмущенно отказался:
«Как прежде я говорил, так и теперь говорю: не думайте, чтоб я помыслил на превысочайшую царскую степень такого великого и праведного царя».
Православное христианство доверчиво зарыдало и вместе с Писцом долго «находилось в плаче неутешном». Но некоторые радостно потирали руки.
Тертый патриарх не дал наивным и обрадованным разъехаться по домам, собрал их и объявил о внеочередном празднике Пресвятой Богородицы с пирогами и блинами. Велено было во вторник всем явиться с женами и младенцами: после молебна и угощения пойдем упрашивать Годунова вторично. Желательно, чтобы младенцы были готовы удариться в рев.
Особо приближенных Иов собрал на отдельный сход-няк и объявил дополнительные условия игры. Челом будем бить не столько Годунову, но как бы царице Александре Федоровне…
— Какой еще Александре?
— А это Ирку так перекрестили, когда она в монашки постригалась. Если Годунов согласится, — а это будет клятвопреступлением божбы от первого раза, — то всем хором забирать клятвенный грех на себя. А если запрется во второй раз, то отлучать его от церкви, снимать с себя золоченые и парчевые ризы, одеваться в черную рвань, стенать, пускать изо рта пену, посыпать голову пеплом, в церкви бастовать — не служить никаких служб.
Сценарий поповский был крут. Но и мирские актеры тоже были друзьями Терпсихоры. Поэтому второй акт вышел просто отпадный.
Вот крестный ход всея Руси движется к монастырю. Под крестами и хоругвями несут икону Владимирской богоматери, будто бы прекратившей татарское иго. На полную мощность работают все колокольни, москвичей везде черным-черно, как ворон при казни вампира.
Тут из монастыря выходит встречный крестный ход с иконой своей, Смоленской, богоматери. За иконой виднеется Годунов. Вот он выходит вперед, подходит к встречной богоматери и, обращаясь к ней, поет, как бы не замечая смертной массовки:
«О, милосердная царица! Зачем такой подвиг сотворила, чудотворный свой образ воздвигла с честными крестами и со множеством других образов?
Пречистая богородица, помолись обо мне и помилуй меня!»
Богородице прокатиться на руках дьячков было не в подвиг, так она и промолчала. Тогда Годунов стал валяться и «омочать» землю слезами. Послышалось подвывание из самых дешевых зрительских рядов. Годунов встал, перелобызался с остальными бого-матерями, подошел к патриарху. Очень жалобно спросил его, что ж ты, отче, бого-матерей побеспокоил? Патриарх вступил со своим куплетом:
«Не я этот подвиг сотворил, то пречистая богородица с своим предвечным младенцем и великими чудотворцами возлюбила тебя, изволила прийти и святую волю сына своего на тебе исполнить.
Устыдись пришествия ее, повинись воле божией и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня!
Нам трудно даже вообразить, какой кайф, какой экстаз испытывал в эти минуты Годунов! Вот собрались все наличные богоматери, вытащили ради него своих неодетых предвечных младенцев на февральский холодок. Вот лежит весь русский народ. Вот трясут бородами и оглашают окрестности трагедийным хором парнокопытные певчие. А ты стоишь себе и ломаешься, и держишь паузу. Сейчас сквозь мутные небеса выстрелит тонкий солнечный луч и попадет тебе прямо на темя. Каждый дурак сразу поймет, что это указание свыше, куда девать пустопорожнюю Шапку Мономаха. Вот точно так на голову Цезаря когда-то при свидетелях сел орел!
Но тучи только сгущались, орел никак не мог спикировать, зато вороны астраханские сверху гадили исправно, того и гляди, могли пометить и тебя. Но по этой метке Шапку Мономаха не выдают. Так бы на нее претендовала уж половина москвичей. Годунов расплакался и молча удалился в монастырь. Иов пошел замаливать грехи Бориса: ну, в самом деле! — нельзя же так переигрывать!
Помолившись, попы пошли на приступ Иркиной кельи. Народ заполнил ограду монастыря. В келье в несколько голосов стали уговаривать царицу, чтоб уговаривала брата. По сигналу из окна народ во дворе гупнул на колени и взревел то же самое. Царица долго «была в недоумении». Она как бы не врубалась, чего это столько мужчин покусилось на ее ново-девичий покой? Но потом опомнилась и отвечала:
«Ради Бога, пречистой богородицы и великих чудотворцев,
ради воздвигнутия чудотворных образов, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стенания
даю вам своего единокровного брата, да будет вам государем царем».
Страшно представить, что бы случилось, если б Ирка не «дала»! Во дворе произошел бы групповой инфаркт гробов на сто, попы все расстриглись бы в казаки-разбойники, богоматери и апостолы, тронутые с места, рассохлись бы в щепу, при свете которой наш Писец в чумном одиночестве начал бы писать Повесть Безвременных Лет…
Но, слава Богу, — дала!
Зачем было Годунову затевать этот гнусный фарс? А затем, что он необходим был как продолжение не менее гнусного пролога с дворцовыми интригами, многолетним унижением сестры под дебилом, убийством мальчика, многими казнями и истязаниями, грязной поповской возней, оскорблявшей ту последнюю веру, которая еще теплилась в сердцах наивных россиян.
Итак, с третьего раза Годунов согласился. Привожу дальнейшие разговоры подробно, чтобы читатель мог в полной мере насладиться фантастическим лицемерием, вложенным в каждую фразу, в каждое слово, в каждую глицериновую слезу. Учитесь! — так работают профессионалы!
Годунов (с тяжелым вздохом и слезами):
«Это ли угодно твоему человеколюбию, владыко! И тебе, моей великой государыне, что такое великое бремя на меня возложила, и предаешь меня на такой превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было? Бог свидетель и ты, великая государыня, что в мыслях у меня того никогда не было, я всегда при тебе хочу быть и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть».
Ирина-Александра (поглядывая на себя в самовар):
«Против воли Божией кто может стоять? И ты бы безо всякого прекословия, повинуясь воле Божией, был всему православному христианству государем».
Годунов (потупившись):
«Буди святая твоя воля, Господи…»
Тут все остальные во главе с патриархом упали на пол, возгласили радостную песнь, пошли на воздух, обрадовали москвичей и повалили в церковь благословить нового царя.
Эта сцена вполне доказывает нам отчаянный атеизм всей честной компании. А как иначе объяснить грубую клевету на Бога, приплетание его к своим делам, постоянное лжесвидетельство от имени святого духа? Впрочем, есть одно объяснение. В Бога верили, но желание власти, алчность, криминальные ухватки, духовное разложение были так сильны, что застилали кровавой пеленой и страх Божий, и неизбежность адских мук, и скорое проклятие мирское. Было и оправдание: все так делали от сотворения мира, от рождества Христова, от воздвижения Руси. А тут был полдень 21 февраля 1598 года…
Примечание автора. Когда в первых числах марта 1998 года (в 20-х числах февраля по старому стилю) кто-то стал толкать меня под ребро, побуждая писать эту книгу, я еще не понимал, что это как раз исполнилось 400 лет первой гибели нашей Империи.
Империя погибла не от перебоев с валютой и продовольствием, не от потопа или пожара, не от набега крымских курортников. Она погибла от крушения стержня. В тот раз дежурным стержнем была династия Рюриковичей. Ее гибель свершилась не в час смерти безумного царя, а в тот миг, когда ударил колокол над Новодевичьим кладбищем, и царем был назван совершенно посторонний гражданин, когда умерла зыбкая надежда на воцарение какого-нибудь подпольного Рюриковича. Этот великий юбилей, ничем не отмеченный в государственных кругах, никак не помянутый в газетах и на телевидении, тщетно искал выхода, бился святым духом в слякотные московские окна, потом полетел прочь и нашел приют и понимание только на дальней южной окраине страны — у вашего покорного слуги…
Правильность избрания Годунова нужно было разъяснить народу. Почти полгода Писец оттачивал каждую фразу официального документа. В августе он был готов и разослан для всенародного чтения. Писец, однако, и для себя записал кое-что на клочках бумаги.
Оказывается, при избрании Бориса возникла оппозиционная возня. Шуйские хотели, чтобы Борис согласился на ограничение полномочий — конституционную монархию. Шуйские подбивали съезд плюнуть на Бориса, они видели его игру, понимали, что он провоцирует всенародный вопль, чтобы оставить бояр не у дел.
Сохранилась и грязная бумажка, будто Борис заперся с Федором Романовым и страшно поклялся держать его вместо брата первым помощником в деле государственного управления.
Особенно красочно Писец обрисовал изнанку «всенародного вопля». Оказывается, приставы московские силой сгоняли обывателей в Новодевичий монастырь, нежелающих велено было бить палками, увильнувшие были обложены штрафом: с них выбивали по два рубля в день. В согнанной толпе ходили специальные массовики, которые понуждали людей, «чтоб с великим кричанием вопили и слезы точили…»
«Смеху достойно! — ворчал Писец. — Как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? Вместо слез глаза слюнями мочили…»
Через несколько дней Борис въехал в Кремль, обошел все соборы, долго совещался с патриархом за общие дела и удалился на время поста обратно в Новодевичий.
Был составлен анекдотичный текст присяги новому царю. Бояре, дворяне, попы и народ клялись:
— не подсыпать ему в пищу яд,
— не подсылать к нему колдунов,
— отпечатков царского следа и царской кареты для сглазу не вынимать,
— по ветру в сторону царя «не мечтать»,
— обо всех таких делах и мечтаниях доносить, мечтателей ловить и сдавать, куда следует.
Страшно было Боре. Никто ни до, ни после него такую чушь в присягу не вставлял.
Тянулся пост великий. Но и велико было нетерпение царствовать. 9 марта патриарх собрал свою команду и стал наклонять ее не тянуть с коронацией. Для затравки предложено было объявить день 21 февраля национальным праздником. Это предложение прошло легко. Праздник учредили ежегодный, трехдневный, с непрерывным колокольным звоном. Но венчание на царство отложили до окончания поста.
В конце апреля начали было разбег венчальных мероприятий: торжественные облачения и возложение креста чудотворного на грешную грудь, обход соборов об руку с детьми, обеды и молебны, — как вдруг возникло препятствие. Из Крыма донесли, что на Москву движется очередной-Гирей со всем населением беспокойного полуострова да с регулярной турецкой армией. Агаряне явно были насланы за чьи-то грехи.
С перепугу Борис собрал на Оке полмиллиона войск. Мобилизацию тоже использовали для агитации: пока ждали татар, царь ежедневно задавал пир на 70 000 (!) человек, видать, для всех офицеров и прапорщиков.
Ели, пили поротно и повзводно возглашали армейские тосты за нашего в доску царя. Вот и от диких дивизий тост произносят. Батюшки светы! Да это же татары! Они ж с нами тут с утра бухают! А где орда? Где турки?
— Какие турки? Мы к вам с мирным посольством, с поздравлениями, с дарами: ваша выпивка — наша закуска…
Татарам был устроен парад войск, показательные стрельбы. От вина и огнестрельного страха, от вида бесчисленной и прожорливой российской армии у послов отнялись языки. Их проводили восвояси, крепко выпили напоследок и пошли в Москву.
В Москве театр продолжался. Армию встречали истошными воплями радости, патриарх крапленый загнул такую речь, что все рыдали не слюнями, а настоящими слезами. Патриарх врал, что Борис спас Россию от несметных полчищ людоедов; беспардонно льстил и поминал Бога всуе: «Радуйся и весе лися, Богом избранный и Богом возлюбленный, и Богом почтенный, благочестивый и христолюбивый, пастырь добрый, приводящий стадо свое именитое к начальнику Христу Богу нашему!»
Гражданин начальник, иже еси на небесех, уеживался, но терпел.
А патриарх не унимался. Видно, он решил, что работа его теперь будет только такая — подогревать любовь народа к личности царя. Но новых мыслей не было, и стал Иов еще раз народ приводить к присяге. Народ недоуменно приводился. Потом Писца опять заставили сочинять научное обоснование правильности избрания Бориса. В общем, лошадка все лето бегала по кругу. Карусель остановили только к новому году.
1 сентября (новый год от сотворения мира наступает с первым звонком нового учебного года) Борис венчался на царство. Во время венчания Борис вдруг заскромничал и в своей речи опустил утверждение, что Федор завещал власть Ирине. Получалось, Ирине нечего было Борису «давать».
Тут вмешался патриарх, нагло задрал бороду к небесам и выпалил, что Федор завещал престол не только Ирине, но и Борису. Сверху промолчали. Тогда патриарх велел Писцу прямо записать в соборном постановлении, что Федор вручил престол лично Борису. Без всяких Ирок. Бориса тронула такая верность. Он рванул на груди рубашку и заголосил:
«Отче великий патриарх Иов! Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека! И эту последнюю рубашку разделю со всеми!»
Экономическая реформа в программках не значилась, поэтому московский бомонд насторожил кончики ушей. Ждали: вот сейчас Борис дарует вольности дворянству, пообещает лечь на рельсы через 500 ударных дней, побожится съесть Шапку Мономаха, если реформы не пойдут. Но на этом коронация закончилась. Нужно было работать, то есть воевать.
Но воевать Борис боялся. Над ним висело проклятие самозванства, оно сковывало его по рукам и ногам. Поэтому Годунов занялся делами внутренними: стал искать приличного жениха для дочери Ксении и готовить престолонаследие для сына Федора.
Ксении выписали принца Датского. Принц Иоанн примчался сразу, без сомнений быть или не быть. Годунов встретил его, угостил, разместил в Кремле и убыл помолиться к Троице.
Принц скончался от горячки.
Писец тут же придумал, что Годунов будто бы отравил принца, боясь, что народ захочет его в цари «мимо Федора». Чуть-чуть не хватило Писцу таланта сочинить, что самого Годунова убьют раствором белены в ухо, Ксению утопят в пруду, жену Бориса отравят вином, а наследник Федор и принц Датский уколят друг друга отравленной шпагой…
Стали тогда искать женихов да невест среди солнечных грузин, герцогов немецких, принцев английских. Но не успели. Времени уже не оставалось, шел предвоенный 1604 год…
Годунов, вроде бы, правил хорошо. Государственный механизм крутился без заминок. Осваивалась Сибирь, настраивалась дипломатия, шли переговоры и обмен делегациями с заграницей, наши ездили учиться, — попы только охали. Снижались налоги, повышалось жалованье. В 1601 году случился страшный неурожай от дождливого лета. Голод выкосил 500 000 (!) москвичей и жителей Подмосковья. Борис раздавал помощь направо и налево, но его все равно не любили. Почему? А просто так. По известному русскому кочану.
Империя гибла. Борис строил какое-то другое государство, а старая имперская пирамида под его ногами растрескивалась, рассыпалась, зыбко затягивала вглубь. Тут бы Борису отойти в сторонку и на новом месте заложить новую Империю, конституционное королевство или даже Республику, цыкнуть на стариков, тихо удавить конкурентов. И работать. И мы бы ему многое простили. Но Годунов продолжал топтаться в болоте — там, где он был самозванцем, убийцей, клятвопреступником.
«Годунов пал вследствие негодования чиноначальников Русской Земли», — разумно отметил Историк.
Каких еще чиноначальников? Почему они у тебя, Боря, свободно ходят? Почему ты не строишь их по линейке? Почему ты не перевел их на талонную систему? Чем занимается твоя прокуратура? Кто в хате хозяин?
Вопросов много, ответ один. Большой, красивый, умный, способный царь Борис Первый не потянул быть Императором!
Бессилие всегда выходит в гнев. Стал Борис гневаться. Стал искать, кто виноват. Устроил систему доносов. Холопы стали стучать на своих хозяев за мелкую монету. В государстве возникла нервозность, воровать стало щекотно, и чиновники стали болеть.
Борис озлоблялся все больше и больше. Потянулись этапы в Сибирь и ближние ссылочные места. Сослали всех Романовых. Выжили только Иван Романов да брат его Федор — «первый помощник в делах государственных», постриженный в монастырь под именем Филарета.
Неразбериха в государственных умах, «неправильность» воцарения Годунова вызвали чемоданные настроения. Все чего-то ждали. И дождались.
КАРТИНЫ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
Годунов был самозванцем в законе. То есть все знали, что по-настоящему Борис — не царь. Царский титул предполагал некое божественное право, некое божественное происхождение монарха. А когда тебя приводят под венец чуть ли не с улицы, когда каждый в твоей свите чешет в затылке: «Чем я хуже?», — и начинает мечтать, как бы он плавно выступал в Шапке, то почтения к царскому имени становится меньше. С другой стороны, Годунова публично «уговорили» в цари, его власть была утверждена законным путем и оформлена законными документами. Годунов не стал подгонять свою туманную родословную под какого-нибудь дальнего, забытого Рюриковича, хоть мог бы это сделать легко, ведь подгонялись же Рюриковичи под византийских императоров.
Самозванство Годунова было очевидным, но лигитимным, «честным». Тем не менее, оно вызвало волну самозванства дерзкого, воровского.
С начала Смутного Времени и до наших дней на Руси вошло в привычку зорко высматривать, а нет ли где-нибудь в генеалогии мутного места? В эти рыбные места сразу слетаются несытые ловцы душ человеческих. Минувшие с той поры 400 лет наполнены вариациями на тему: «Царь не настоящий! Я — ваш царь». Эта тема получила развитие вширь и вкось, прокатилась по Руси рублеными головами разиных и пугачевых. Сейчас, в конце последнего века, все еще раздаются резкие вороньи выкрики из каких-то цыганских палестин:
«Я, будучи троюродной внучатой племянницей такого-то побочного сына, такой-то царской подруги, имею законное право на российский престол и объявляю себя главой дома Романовых и Императрицей в изгнании!»
Но это — жалкий лепет. Ибо слабо вдовствующей цирюльнице взломать польскую границу кавалерийским ударом, слабо поднять Дон, слабо выбросить аэромобильных пехотинцев в перекрестие Садового кольца, слабо въехать в Кремль на белом коне. Некуда даже Шапку надеть.
А воровское самозванство того, настоящего Смутного Времени, начиналось дерзко и блестяще! Оно возникло не из заговора сионских мудрецов, не из богатырской личности Самозванца, а из стечения обстоятельств, из «революционной ситуации». И оказалось, что Смута — это как раз то, что мило измученному русскому сердцу. Три четверти тысячелетия нами правили не бог весть кто, а тут приходит черт знает кто. Его-то нам и надо!
Историк сорвал горло в спорах со своими коллегами. Они на все лады анализировали личность Самозванца. Им пришлось в муках опровергать разные гипотезы о его происхождении. Эти гипотезы множились в придворных академиях, как жабы на болоте. Такая научная продуктивность понятна: не может неграмотный монах, подписывающий бумаги странным словом «Inperator», своим умом дойти до вселенской интриги.
Умом не может. Но тут никакого ума и не требовалось. Просто бродячий парень случайно оказался в чистом поле, когда просела и рухнула в тартарары наша имперская пирамида. Всех задавило. Он оказался с краю. Вы, конечно, понимаете, что «просела», «рухнула», «задавило» — это понятия виртуальные. Это как в компьютерной игре. Падают здания, враг откусывает краюшки твоей территории, льется нарисованная кровь неповоротливых человечков. Тебе это надоедает, ты гасишь экран: «Пора пить кофе!» Крушение нашей первой Империи, на легкий взгляд, было незаметным, условным. Вот только кровь полилась не нарисованная, а настоящая.
Гришка Отрепьев, монах Кириллова, а затем Чудова монастыря, около 1601 года написал «похвальное слово» московским чудотворцам. Поэму в прозе прочел сам патриарх и взял Писца Гришку к себе. Насмотревшись на придворные безобразия, решил Григорий поберечь душу и поселиться в захолустном Черниговском монастыре. Московский монах Варлаам отговорил его: там не выжить — мало еды. Тогда Григорий решил идти в Печерскую лавру.
Сердце Писца рвалось к истокам. В низких пещерных кельях киевской святыни еще витал, быть может, дух Нестора. После общения с духом Григорий предполагал двинуть в Иерусалим — к Гробу Господню. И звал Варлаама с собой. В разгар Великого поста 1602 года Гриша, Варлаам и прибившийся к ним Мисаил пошли в сторону Киева. Их мало смущало, что Киев маячил на литовской территории. Стояло перемирие на 22 года, границы были открыты. Можно было потренироваться в переходе государственной границы перед бегством в Израиль.
Киево-Печерское посещение длилось три недели. Потом монахи оказались в Остроге под Львовом у князя Константина Острожского…
Ну что за династия! Опять Константин Острожский! И имя-то какое постоянное! Ну, этот, пожалуй, — уже внук оршанского победителя и сын первопечатника. Но тайный след в российской истории он оставил. Не слабее, чем отец и дед.
Странная перемена произошла в планах монахов после духовных бесед с князем. Варлаам и Мисаил побрели дальше, по православным монастырям литовской Руси, а Гриша задержался у князя. О чем они толковали весенними малороссийскими ночами, никто не знает. И не записано ничего, и не напечатано. Можно только догадываться, что придумали эти два филолога какую-то штуку и, расставаясь, обменялись тревожными улыбками: «Нормально, Григорий! — Отлично, Константин!».
Сразу после этого наш Гриша оказался вдруг в приличном мирском платье. Более того, мы обнаруживаем его среди бурсаков мелкого городка Гощи. Там Гриша прилежно учится латыни и польскому. Вот где он освоил написание опасного факсимиле «Inperator»!
Перезимовавши на школьных харчах, Григорий исчез. Он зачем-то побывал у запорожских казаков и снова всплыл на службе у князя Адама Вишневецкого. Однажды после чтения каких-то писцовых бумаг на вопрос Вишневецкого, в кого ты, Гриша, умный такой? — Отрепьев торжественно расстегнул рубашку и показал дорогой крест в каменьях. Состоялся диалог:
— А кто ж тебя крестил таким крестом?
— Крестный папа.
— А кто твой крестный папа?
— Князь Мстиславский.
— Господи! А кто ж тогда простой папа?
— Ну и не догадлив же ты, князь!..
И Вишневецкий сразу догадался, что вот — перед ним стоит наследник престола всероссийского Дмитрий Иоаннович. Что это его, смиренного раба божьего Адама, осенила небесная десница. Что это он подаст миру благую весть о чудесном спасении царевича!
Вишневецкий организовал круиз Лжедмитрия (давайте уж будем иногда звать его так, как называет Историк) по городам и весям Польши и Литвы. Паны принимали его с царскими почестями.
В городе Самборе у тамошнего воеводы встретился наш Гриша с неизвестным явлением природы. Это была дочь хозяина Марианна (Марина) Мнишек. То ли Гришино мирское платье не отражало женские лучи, то ли царская роль сбила монашка с пути истинного, но вдруг поперло на Гришу такое излучение, такой дух грешный, что потерял наш юноша последние остатки здравого смысла.
А Марина забирала все выше и выше. Ей тесны были бальные залы Речи Посполитой, хотелось чего-нибудь европейского, мирового: стать владычицей морского, ну, или хотя бы царицей, пусть даже и русской. Марина стала показывать Грише устройство воеводских чуланов, сеновалов, спален. Чтобы сделать процесс необратимым, она прикрывала самое уязвимое место католическим крестом и объясняла, что этот крест снимается только таким же крестом. Пришлось Грише креститься в католики. Тогда его впустили, куда хотелось, а потом уж — и в столицу, Краков.
Тут папский нунций полностью задурил ему голову, взял с Григория несколько страшных клятв, потащил к королю. Король как увидел Гришу, чуть в обморок не упал: да это ж царевич Дмитрий Иванович, всея Руси! Да что ж вы, батюшка, без охраны? Мало вам угличского покушения!
Король дал Григорию денег, способствовал в наборе приверженцев, но сам пока сидел в засаде. Всю интригу поручил вести Юрию Мнишеку, папе Марины. Вернулись в Самбор. Гриша попросил руки Марины. Папа согласился на сложных условиях: свадьба — после коронации в Москве; тестю (там же) — миллион злотых; Марине — все серебро и посуду из царских кладовых, Новгород и Псков — на шпильки да булавки. Через месяц пан тесть сказал, что в брачный договор вкралась ошибка: после слов Новгород и Псков следует еще читать: Смоленск и Северское княжество.
Тем временем, собиралась царская гвардия — целых сорок сороков (1 600) человек. Это был такой густопсовый сброд, что пуститься с ним на Москву мог только влюбленный идиот. А Гриша как раз таким и был. И сгорел бы он на первой же российской таможне, но родная земля подала ему руку помощи. В Краков заявились донцы-молодцы, сразу узнали своего царя, отрубили, что 2 000 сабель у них уже наточены.
Когда казачьи 50 сороков стали лейб-гвардией «законного царя», казаки всех станиц воспряли духом, стали хозяевами похаживать по Москве и прямо угрожать испуганному Годунову: ужо идет настоящий царь!
Борис кинулся в розыск: что еще за царь. Оказалось, наш Гришка Отрепьев, сосланный когда-то Борисом в Кириллов монастырь за орфографические ошибки. На допрос был вызван дьяк Смирный, дядька Григория, под надзор которого ссылали грешного монашка.
— Где Гришка? — спросил царь.
— Нету, — смиренно развел руками Смирный.
— Так, может, у тебя и еще. чего-нибудь нету? — окрысился Годунов и назначил Смирному самую страшную казнь, которую и по сей день могут объявить российскому чиновнику. Велел Годунов Смирного «считать». Счетная палата тут же обнаружила на Смирном недостачу множества дворцовой казны. А тогда уж поставили его на правеж и засекли до смерти.
Годунов выписал из монастыря монахиню Марфу — бывшую Нагую Марию, мать царевича Дмитрия. Стали ее всюду возить и заставлять отрекаться от Самозванца. Но какая же мать откажется от самой сумасбродной надежды снова увидеть своего сыночка?!
Марфа говорила: «Нет», а глаза ее светились: «Да!». И мы все это видели. Тогда Марфу потащили в застенок, где Боря и его жена лично пытались объяснить дуре, как важно для нашей родины, чтобы ее сын лежал сейчас спокойненько под плитой Угличского собора, а не шастал с донскими бандитами по украинским степям.
— Ты же видела, понимашь, что он умер? — гневно рокотал Боря.
— Не помню, — шептала Машка Нагая, дура, сволочь стриженая.
Царица кинулась на Марфу со свечой, хотела выпалить эти наглые глаза, чтобы не лупились насмешливо, не мешали так сладко править. Но промахнулась.
Борис велел разослать по всем окраинам разъяснительные письма, что Гришка — Самозванец.
«Значит, нет дыма без огня!» — убедились мы. К Гришке в Польшу стали ездить на поклон, слать письма. Поляки поняли, что Гришка, и вправду, — принц.
В России тоже крепла вера в Григория. Патриарх рассылал грамоты, что идет Самозванец. Народ, зная нрав патриарха, еще больше ждал царевича. Патриарх и Боря врали все время, значит, врут и на сей раз.
Лжедмитрий перешел свой степной Рубикон 15 августа 1604 года. Ему сдались Моравск и Чернигов, Путивль, множество мелких городков. Лавиной хлынуло к Лжедмитрию войско московское. У Бориса остались только старики да больные. Пришлось ему выковыривать пушечное мясо из самых гнилых нор и лесов. Но это войско в 50 000 оказалось малым против 15000 солдат Самозванца. В бою под Новгородом Северским Лжедмитрий разбил армию своего «крестного» Мстиславского.
Поляки сразу потребовали платы за службу, но у Гриши денег не было, да и занят он был, — оплакивал 4 000 русских, павших от его руки. Поляки бросили невыгодную службу и уехали. Их тотчас заменили украинские казаки, их пришло 12 тысяч.
Зимой 1605 года Лжедмитрий был разбит под Севс-ком, — неудачно попал под московскую артиллерию. Он засел в Путивле и заскучал. Но тут к нему пришло еще 4 000 донских казаков. В городах по Руси то там, то сям объявлялись приверженцы молодого претендента, московская армия топталась без толку.
Приближался момент истины. Этой истиной для Годунова было привычное подлое убийство, а не подвиг в бою. Годунов подослал к Григорию попа с ядом. Григорий вычислил попа.
Небесному начальнику тоже надоела резвость его слуг церковных и коронованных. Контрудар последовал незамедлительно. 13 апреля 1605 года царь Борис встал из-за стола, как вдруг изо рта и носа у него хлынула кровь, и он упал. За два часа предсмертных страданий попы успели постричь его в монахи под нелепым именем Боголеп. Бога прямо скривило от такой наглости.
Москва присягнула молодому Федору Борисовичу, его сестре Ксении и матери Марье Григорьевне. Несытой семье надо было бы когти рвать, но старой царице очень хотелось поправить самой. И она погубила и себя, и детей.
7 мая войска Басманова, Голицина, Шереметева, Салтыкова перешли на сторону Лжедмитрия. 19 мая пошли на Орел. Оттуда — на Москву. Впереди войска полетели гонцы с текстом присяги новому царю. Москвичи быстро присягнули по окраинам столицы, а центр решили поднести победителю на блюдечке с голубой каемочкой. Вспыхнул бунт. Стали громить команду Годунова. Сначала вытащили из собора патриарха Иова и — вот суеверный народ! — просто сослали его в захолустный монастырь. Сватьев и братьев Годунова тоже сослали. Задушили только самого свирепого мздоимца Семена Годунова. Как всегда, хуже всех пришлось невинным младенцам. В дом царицы Марьи пришла великолепная семерка из трех стрельцов и четырех князей во главе с Голицыным и Молчановым. Царицу Марью быстро и аккуратно удавили. Долго и мучительно убивали сопротивлявшегося Федора, наконец раздавили ему отличительный признак и добили. Царевну Ксению оставили нетронутой. Народу объявили, что Федор с матерью отравились со. страху. Тело Бориса Годунова вытащили из Архангельского собора и зарыли в простом гробу в бедном Варсонофьевском монастыре на Сретенке.
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ЛЖЕДМИТРИЯ ПЕРВОГО
20 июня 1605 года Лжедмитрий въезжал в Москву.
Под звон всех колоколов народ наш вылез на крыши, высунулся в окна, коленопреклоненно выстелил все улицы. Люди вопили в нечаянном умилении:
«Дай Господи тебе, государь, здоровья! Ты наше солнышко праведное!»
— Того и вам желаю, — ласково отвечал Гриша.
Новый царь переехал реку по «живому» (понтонному) мосту и въехал на Красную площадь. На Лобном месте его ждало терпимое духовенство.
Здесь, у Лобного места, среди ясного, тихого летнего полдня на Гришу вдруг налетел дерзкий вихрь, закружил пыль. Многие подброшенные москвичами шапки упали далеко в сторону и к владельцам не вернулись.
Гриша намека насчет Шапки не понял, подъехал к Василию Блаженному, зашел с попами помолиться.
Выйдя на свежий воздух, окинул Гриша взглядом Кремль, народную массу, проговорил что-то типа, как я рад, как я рад, и прослезился. «Народ, видя слезы царя, принялся также рыдать».
Пока Григорий ходил по кремлевским церквям, на площади начались гуляния. Один за другим на опасное возвышение поднимались ораторы, и, стоя «на крови», проникновенно божились, что царь — настоящий. Богдан Бельский — так тот и крест поцеловал. Поляки, пришедшие с Гришей, били в бубны, дули в дудки, ругались пьяными иностранными словами.
Новый патриарх Игнатий, беглый грек, прибившийся к Тульской епархии и первым благословивший нового царя на подъезде к Москве (за что и должность получил), теперь бурно провозглашал Гришу царем.
И только Василий Шуйский мрачно бродил в толпе. Он упорно отказывался свидетельствовать о гибели царевича, пока Лжедмитрий шел к Москве: хотел свалить Годунова. И вот — получилось. Но теперь Годунова нет, а ему опять приходится кланяться чумазому «царю». И стал Шуйский тихо разоблачать Самозванца. Составился и заговор. Но сообщники разболтали все дело, Шуйского схватили и стали судить. На суде с возмутительным участием подлых народных заседателей (!) в качестве обвинителя выступил сам Григорий. И так ловко он говорил, что все ему поверили и поняли, что Васька врет, чтобы самому воцариться. И единогласно приговорили Шуйского к смерти с конфискацией.
И когда его уже вывели на Лобное место, когда прочитали «сказку», какой он плохой и как ему надо отрубить за это голову, когда он уже попрощался с народом и нагло заявил, что умирает за правое дело, так только тогда выбежал посыльный и зачитал ему помилование и высылку в дальний монастырь. И почти с дороги Василия вернули в Москву и восстановили в боярстве. Вот уж, милостив государь!
18 июля «великий мечник» (титул по польскому образцу) Михайла Скопин-Шуйский вез в Москву мать царевича Дмитрия Иоанновича Марию Нагую. Чувствуете накал момента?! Представьте, какой мог выйти конфуз, если бы Гриша встретил мать-Марию на златом крыльце? Вот бы она при стечении народа завопила безумным рыком: «Куда девали сына, Митеньку? Опять зарезали маленького?!» Надо было сцену готовить. Гриша сел на конька и рванул навстречу к маме. У села Тайнинского, у большой дороги поставили шатер. Там сел Гриша. Туда без свидетелей запустили привезенную Нагую…
Вот бы заглянуть в тот миг в их лица! Вот бы послушать, о чем они говорили!
Но вышли из шатра они, обнявшись и рыдая — каждый о своем.
Народ наш плаксивый тоже зарыдал весь. Но не о своем, а опять о чужом. И как ему было не плакать, когда чуть не всю дорогу до Москвы Гриша шел пешком у колеса маминой кареты.
Поместили Марию-Марфу в Вознесенском монастыре, и царь к ней ездил каждый день. Гриша ее уговаривал быть самозванной матерью и ежедневно проверял градус маминого настроения. И добился-таки Гриша своего. Усыновила его Нагая.
«А что, — небось думала она, — маленького моего все равно не воротишь. А этот парень умный, ласковый, добрый, справедливый. Уж лучше пусть он будет, чем убийцы Годуновы, предатели Шуйские, сволочи московские».
Тут уж на полном праве стал Гриша венчаться на царство.
Оставим его на минутку поговорить с Богом, и поговорим меж собой…
Вот, допустим, наблюдаем мы с вами, дорогие читатели, коронацию какого-нибудь другого царя. Что мы там видим? А вот что.
Здоровый, чернобородый дядька клянется Богу в смирении и кротости. Но внизу кадра выскакивают субтитры: это он убил мальчика невинного, казнил и искалечил толпы людей. Мы сразу с отвращением переключаемся на другой канал.
Там венчают тихого идиота. Титры бегут по-мексикански, но мы чувствуем, что идиот нам тоже чем-то неприятен.
На третьем канале кругломордый жлоб уже и Бога не поминает.
На четвертом кавказский попик-расстрига страшно улыбается, с трудом подбирая русские слова.
Дальше — совсем плохо: визгливый коротышка плюется словом «расстрелять» и объявляет о подозрительности интеллигенции и Писца в особенности.
Ну, мы выключаем наш старый ущербный телевизор и смотрим через дырочку в церковной занавеске. Там стоит наш Гриша. Молодой, красивый, умытый, достаточно ученый и не злой.
Конечно, мы начинаем его любить, хвалить и хотеть. И хотеть даже на царство.
После венчания Григорий стал править. Сослал, куда подальше, 74 семейства годуновских сотрапезников, осыпал милостями первых его узнавших, вернул в столицу слепого царя Симеона Бекбулатовича: пусть себе царствует понарошку, ведь тоже перед Богом венчан.
И еще начал Гриша править по-настоящему. Вдруг стал ходить он в Думу. Придет, сядет в кресло, слушает, чего там думские фракции обсуждают. Думцы сначала Гришу держали за дурачка, вели старую игру. Это когда на повестку дня выносится уже решенный и оплаченный вопрос или когда выносится вопрос, оплаченный, чтобы не было решения. И все понимают, кто взял бабки, сколько и у кого. А Гриша слушал, слушал, да и сломал эту лавочку. Стал он одергивать воров чиновных и в пять минут решать такие дела, которые и по сей день в государственной думе честного и скорого решения иметь не могут. Думские только охали. На косноязычные возражения карьерных крыс, что так батюшка, решать негоже, Гриша выдавал такие складные речи, такие проводил греко-римские аналогии, так красиво излагал, что бояре только потели.
Не получилось у «чиноначальников», сожравших могучего Годунова, запутать беспородного пацана. Он смотрел на них светлыми умными глазами, он видел их насквозь, и они видели, что он видит! Да еще Гриша ласково укорял свое малое стадо, что невежественно оно, мохнато, нелюбознательно и алчно. Грозился всех отправить на учебу за бугор. А уж это было страшнее Сибири!
Сломал батюшка Лжедмитрий и воровские кормушки: объявил приемные дни — по средам и субботам, — в которые сам не ленился принимать подлый народ с челобитными. И было объявлено, чтобы мзду предлагать не смели!
Плохо стало русским начальникам: хоть плачь, хоть караул кричи! Стали чиновники кручиниться. Польские придворные Гриши почуяли тонким шляхетским нюхом гнилые настроения и стали царю прямо говорить: «Жги их, государь, каленым железом! Они любовь без боли не понимают. Им надо, чтобы поострее, поглубже, погорячее да с поворотом!»
Но наш Гриша уже дал Богу обет не проливать христианской крови, признал долги лжепапы Грозного, удвоил жалованье служилым, подтвердил все льготы духовенству.
И еще Гриша объявил недействительными кабальные грамоты, — нельзя стало человека за долги забрать в рабство.
Целые народы по окраинам московского царства Гриша освободил от дани прожорливой столице. А что? Пусть себе люди живут, обустраивают свою Россию. А «ясак» — налог в госбюджет — пусть сами собирают и привозят, сколько не жалко и по силам…
И всем стало ясно, что царь Лжедмитрий Иванович Первый — не жилец. Та есть Гришка наш — просто покойник.
После коронации царь отпустил войско польское восвояси с обещанным немалым жалованьем. Но Панове домой не спешили. Охота им было с командировочными деньгами погулять по московским девкам, а не отвозить получку в семью. Стали они одеваться и украшаться, пить и закусывать. Слуг держали по десятку. Все было складно, только вдруг, по непонятным причинам, деньги у панов закончились. Пошли они к царю за новым жалованьем; казалось им, что царь полу польский должен деньги давать. Царь погнал гуляк в шею. Возникла свара, посреди которой на польские постоялые дворы вдруг оказались наведенными московские пушки. Пришлось славному белому воинству драпать за Днепр, поминая матку боску и соответствующую собачью кровь. Впрочем, немало трезвых и образованных польских советников при царе осталось.
В целом жизнь московская не задалась. Все москвичам стало как-то противно. Особенно коробило их от нововведений. Царь стал обедать под музыку и пение — это раз. Не молился перед обедом и не мыл руки после еды — это два и три. Допускал в меню телятину, в баньке не парился, после обеда не спал, а считал в это время деньги и осматривал мастерские — не украдено ли чего (вот сволочь!). К тому же, уходил и приходил неожиданно, без свиты, не спросясь. Сам Григорий ввязывался в потешные бои с медведями, сам испытывал новые пушки опасного московского литья (чтоб тебя разорвало!) и стрелял из них очень метко.
Где-то мы с вами такое уже видели! А! — это будет позже, в одной из следующих частей нашего повествования, с другим нашим царем, хоть и не родственником нынешнему.
А Гриша тем временем уже шел в рукопашную свалку на маневрах лично обучаемого войска, бывал сбит с ног и нещадно луплен палками. Как отметил Историк, поведение молодого царя сильно оскорбляло московскую нравственность.
Но будь Григорий для москвичей просто моральным уродом, это было бы еще полбеды. А он стал предателем родины, врагом народа, лютым ненавистником всего, что есть святого на Руси. С чего я это беру? Ни с чего. Я, наоборот, Гришу очень люблю. А врагом его объявила Москва поповская да боярская, и вот почему.
Остался Гриша католиком. Как крестила его под себя Марина Мнишек, так он обратно и не перекрещивался. Казалось ему безразличным, в какую сторону креститься.
Что есть крестное знамение? Это когда ты как бы примеряешь к себе распятие Христово. А не все ли равно Христу, в какую руку ему первый гвоздь забили, а в какую — второй? И так, и так — одинаково больно и противно.
А еще была у Гриши завиральная идея, не соразмерная его мелкому происхождению, но созвучная его высокому замаху и полету. Хотел Григорий объединить всех христиан, Сигизмунда Польского, Папу Римского, всяких чертей европейских против басурман, ругателей и мучителей Христа.
Вот, посудите сами, что больше весит на весах истины? — пустяковые теоретические разногласия между христианскими конфессиями и сектами или глобальное, непримиримое, кровавое противостояние христиан и мусульман? «Пока мы тут спорим да деремся, — думал Гриша, — лукавые агаряне вырезают наших братьев, размножаются, как тараканы, расползаются по всему свету. А что будет лет через четыреста, если их не пресечь?» Так правильно думал Гриша, и у попов наших от таких его мыслей и слов обморочно темнело в глазах.
Еще хотелось Грише поскорее жениться на Марине, — он ее любил. Но папа (не Римский, а обычный — старый Мнишек) по научению ксендзов Марину в Москву не пускал, пока в Москве не построят хоть какого-нибудь костела, чтобы было, где замаливать девичьи грехи. Наши попы, конечно, стали дурно блажить и упираться, но Григорий «пользовался сильной народною привязанностию» и поддержкой, — вынужден был признать Историк.
Европа относилась к Григорию подозрительно, побаивались, что такой шустрый государь может и их побеспокоить. Но деваться было некуда, приходилось с ним считаться. 10 ноября 1605 года в Кракове состоялось обручение Марины с царем московским и всея Руси Дмитрием Иоанновичем. Гришу представлял в лицах наш боярин Власьев. Причем он буквально понимал этот обряд и, подвыпив, стал выполнять кое-какие телодвижения, ну, прямо как настоящий жених. Панове хохотали до упаду. Минутами на Власьева находило отрезвление, и тогда он отказывался брать руку Марины иначе, как через платок, и внимательно следил, чтобы его холопское платье не соприкасалось с платьем будущей царицы. Паны уже не могли дышать от смеха, синели, давились закуской.
Волынка продолжалась больше месяца, сваты польские мелочно придирались к русским сватам. Потребовали, чтобы в Москве удалили от престола красивую принцессу Ксению Годунову, которой не оставалось другого пути, как попробовать подкатиться под Гришу. Ксюшу постригли в монастырь, — в целом она легко отделалась. Через месяц просьб и уговоров Власьеву удалось сдвинуть Марину в Москву. За ней увязалась вся польская родня до седьмого колена вбок.
Паны думали, что купили Григория с потрохами, как вдруг он стал в переписке с королями шведскими, английскими и даже с благодетелем польским прописывать полный царский титул, столь ненавистный просвещенной Европе! Уж как его уговаривали отстать от дурной привычки! Но нет, уперся Григорий насмерть! — «Inреrator!»
2 мая 1606 года Марина Мнишек въехала в Москву. Роскошь этого въезда была необыкновенная, Григорий спалил на ее наряды четыре миллиона тогдашних серебряных рублей! Марина остановилась в Вознесенском монастыре.
8 мая, в запретный для брака Николин день, состоялась свадьба и коронация Марины. На свадьбе возник скандал: послы польские подали приветственную грамоту, в которой царь не именовался ни императором, ни великим князем. Григорий выкинул грамоту вон. Послы стали принародно выговаривать ему от лица Польской республики и польского народа. Пришлось Григорию отрезать:
«Нам нет равного в полночных краях касательно власти: кроме Бога и нас, здесь никто не повелевает».
Любовь к женщине была удовлетворена, но политическая мечта не сбылась. Папа Римский виновато написал, что объединить поляков и немцев против турок не в его силах (читай, не в силах Бога!).
Тут надо было бы Грише идти в монастырь под вымышленным именем, писать стихи и мемуары. Но колесо уже несло его. Все вниз и вниз.
Был ли у Григория шанс?
У Григория, каким мы его помним и любим, не было ни единого шанса. Таких идеалистов, противников смертной казни и регулярного налогообложения, таких религиозных плюралистов у нас на Руси принято душить еще в колыбели.
Шанс был у Лжедмитрия Первого. Великолепный шанс. Имя этому шансу — народная диктатура. Не плюрализм, а популизм. Не нужно было только Лжедмитрию путать эти созвучные латинские слова. А нужно было ему сделать то, до чего не додумался Годунов: совершить полную и окончательную антибюрократическую революцию. Ведь революция на Руси только такой и может быть. И ни разу ее до сих пор не случилось. Все, что у нас происходило под этим названием, на самом деле было простой сменой одной шайки бюрократов-подельников на другую.
Должен был Лжедмитрий воспользоваться народной любовью, заручиться поддержкой передового отряда стрельцов и делать все, как начинал безумный лжепапа Грозный. Только уничтожив все разрядные записи, доведя боярство и дворянство до мещанского звания и обихода, до Лобного места и непрерывной кадровой ротации, до смертельной угрозы за копеечную взятку, можно было начинать строить Империю и воспитывать народ в духе татаро-монгольских заповедей. И еще нужно было давать народу жить за счет спасенных от казны денег.
Но Гриша этого не потянул и оказался не гож в цари. Активов у него почти не осталось. Благодарный русский народ отвлекся от приятного царя своим обычным делом — скотским трудом до беспамятства.
Пассивы же были таковы.
1. Церковь затаила смертельную ненависть.
2. Сброд придворный и чиновный точил ножи.
3. Ухватка московская не находила кровавого выхода и накачивала ненависть среднего класса в гнойный нарыв.
4. Поляки дулись и тоже интриговали против.
А тут еще казаки закрутили карусель по-новой. Одни казаки — запорожские и донские — вполне наелись на разбое при войске Лжедмитрия. Но другие казаки, терские, — самые злые от соседства с Чечней — только скалились да облизывались.
Надоумил их кто-то из московских, что игра в убиенные царевичи еще не кончена. Триста казаков атамана Федора Бодырина объявили, что царица Ирина родила в 4592 году законного наследника престола, Петра, которого проклятый дядя Годунов подменил девочкой Феодосией, да и ту потом сжил со свету. Так что царевич законный есть. И скрывается он, естественно, на Тереке. Подобрали двух актеров — Дмитрия да Илью Муромца (правда, из Мурома, — такое забавное совпадение). Муромец пять лет до этого ошивался в Москве, кричал, будто знает, что как. Остановились на нем.
Узнавши о царевиче Петре, Гриша стал беззлобно звать племянника в Москву. Но казакам сначала это было не в масть. Они двинули 4 000 сабель на Астрахань, города не взяли и тогда уж приняли приглашение царя. Пока они шли на Москву, там завертелась последняя интрига.
Прощенные и пожалованные царем Шуйский и Мстиславский, Голицын и Куракин составили заговор против доверчивого Григория. Народным возмущением Гришу было не взять: при любых нападках на царя, при обвинениях в самозванстве, народ, стрельцы, черная сотня в прямом смысле рвали шептунов на куски. Решили зайти сзади. Заговорщики постановили сначала убить Григория, а уж потом разбираться с народом и меж собой, кому быть царем.
Были завербованы 18 тысяч псковичей и новгородцев, стоявших под Москвой лагерем и назначенных в крымский поход. В ночь с 16 на 17 мая 1606 года это войско вошло в Москву, заняло все 12 ворот, никого не впускало в Кремль и не выпускало оттуда. Немецкая гвардия царя была распущена ложным приказом. Остались только 30 алебардщиков. В четыре часа утра ударил колокол на Ильинке, набат немедленно подхватили все прочие колокола. Толпы московского сброда, возглавляемые уголовниками, освобожденными в эту страшную ночь, хлынули к Кремлю. На Красной площади сидели верхом 200 бояр в броне и при полном вооружении.
Сбегавшимся сонным обывателям объясняли, что поляки бьют бояр и хотят убить царя Дмитрия Иваныча, нашего Митеньку. Василий Шуйский с крестом в одной руке и с мечом в другой въехал через Спасские ворота в Кремль. Перекрестившись на Успенский собор, крикнул: «Во имя божие идите на злого еретика!» — вот ведь шел по канату!
Такого революционного блефа не припомнить, не сыскать. Народ всегда более-менее информирован, на кого нападает. А тут огромные толпы стояли вокруг Кремля, чтобы защитить родную петушиную власть, а те, кто поднял бучу, мягкой лисьей походкой проходили в курятник и уговаривали людей подождать за забором, чтобы не наследить на ковры. Итак, вокруг Кремлевских стен, на Красной площади толпились десятки и сотни тысяч Гришиных друзей, а внутри Кремля его дворец окружали сотни или тысячи врагов, — зэков, бояр, доверчивых военных. Связи между дворцом и Красной площадью не было.
Лжедмитрий проснулся от шума. Его фаворит Басманов сбегал посмотреть и в ужасе закричал: «Ты сам виноват, государь: все не верил. Вся Москва собралась на тебя!»
В палату ворвался кто-то из заговорщиков и стал орать: «Ну что, царь безвременный, проспался ли ты?» Ну, и так далее, типа «кончилось ваше время!» Басманов зарубил крикуна.
Григорий взял меч, вышел на крыльцо и крикнул: «Я вам не Годунов!» Но по нему ударили из пищали. Пришлось спрятаться.
Вошли бояре. Басманов стал уговаривать их не выдавать царя. Спасенный Басмановым из ссылки Татищев зарубил своего благодетеля. Труп придворного сбросили в толпу, которая сразу охмелела от крови, рванулась во дворец. Григорий кинулся к жене, велел ей прятаться, сам побежал в каменный дворец по крышам навесов, построенных к свадьбе. Сорвался с высоты 15 сажен (!), вывихнул ногу, разбил грудь…
Толпа искала во дворце Марину. Но миниатюрная царица спряталась под колокольной юбкой своей гофмейстерины и пересидела там до прихода бояр, которые прекратили беспредел и проводили царицу в спальню.
Григория нашли стрельцы, отлили водой, внесли во дворец. Он пообещал им за верность имение и жен бунтовщиков. Это понравилось. Тогда бояре стали кричать: «Пойдем в стрелецкие слободы, убьем стрелецких жен и детей!» Стрельцы засомневались: «Давайте сюда старую царицу, пусть она нам скажет, что это ее прямой сын, тогда мы умрем за него!» Бояре согласились.
К Марфе в монастырь сходил Голицын, выкрикнул в толпу, что истинный царевич Дмитрий покоится в Угличе, еще добавил, что Григорий винится перед народом во лжи и самозванстве. Все завопили: «Бей его, руби его!» Сын боярский Валуев выстрелил в царя. Другие дорубили несчастного и сбросили труп его на труп Басманова. Чернь потащила голые тела через Спасские ворота на Красную площадь, оттуда — в Вознесенский монастырь. «Ну, что, твой это сын?» — спрашивали цареубийцы у показавшейся в окне царицы-матери. «Теперь он уже, разумеется, не мой», — грустно и двусмысленно отвечала Марфа.
Праздник продолжался. Были убиты польские музыканты, потом еще какие-то мелкие поляки. Послов, свиту Марины и ее семейство не тронули: войны с Польшей не хотелось. Всего погибло по полторы — две тысячи поляков и русских, — ерунда по нашим понятиям.
Три дня тела Григория и Басманова лежали на лавках на Красной площади. Гриша был в маске, с дудкой и волынкой. Театральная Москва прощалась с великим своим актером.
Тело Лжедмитрия погребли во дворе богадельни за Серпуховскими воротами, но тут ударили морозы, небывалые в конце мая. Тогда труп царя-колдуна вырыли, сожгли в котле, пепел смешали с порохом и выстрелили этой адской смесью из пушки в ту сторону, откуда пришел в Москву наш незадачливый «Inperator».
ЦАРЬ ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ
19 мая 1606 года народ толпился на Красной площади. Нужно было выбрать правильного патриарха, чтобы он возглавил временное правительство, а потом уж земским собором, или как Бог даст, хотелось выбрать и царя.
Василий Шуйский поеживался на самозванном морозце: а ну, как выберут какого-нибудь левого патриарха, вот и отвечай тогда за все. Идею о первичности избрания преосвященства явно подбрасывали попы, и куда они потом поворотят, было неизвестно.
Пришлось Шуйскому мобилизовать резервы. Тут уж кто-то из толпы стал выкрикивать, что патриарха епископы наши могут выбрать сами, хоть и опосля, а нам сейчас без царя быть нельзя, и царем мы хотим Василь Иваныча Шуйского, славного продолжателя дела покойного Дмитрия Иваныча или как там его. Толпа охотно подхватила майский призыв. В Кремле противиться не посмели. У всех в глазах стояло видение голого Гриши с поломанными ребрами и в дурацкой маске.
«Шуйский не был избран, он был «выкрикнут» царем», — смущался Историк. Писец подсунул ему какую-то обгрызенную грамоту, они вместе стали разбирать ее каракули, а я углубился в решение баллистической задачи. Что-то у меня не сходилось в сообщении Писца о падении Григория с 15-саженной высоты.
Посудите сами: одна казенная сажень — это 2,1336 метра. Помноженное на 15 — получается 32 метра. Поделенное по 3 метра стандартного хрущевского этажа — получается 10, 6 этажа. Итак, Григорий падал с крыши 10-этажки. Что бы от него осталось? И зачем было на такой высоте строить халабуды для укрытия свадебных гостей от майского дождичка? И где это в Кремле вообще такие здания тогда были?..
Писец всегда волновался, видя мою возню с калькулятором, поэтому стал меня подталкивать, чтоб я внимательней слушал Историка. А Историк заливался соловьем (не зря он был однофамильцем певчей птицы):
«Божиего милостию мы, великий государь, царь и великий князь Василий Иванович всея Руси, щедротами и человеколюбием славимого Бога и за молением всего освященного собора, по челобитью и прошению всего православного христианства учинились на отчине прародителей наших, на Российском государстве царем и великим князем».
Тут у меня возникли две мысли. Первая о том, что Шуйский сходу стал примазываться к столбовым Рюриковичам, а значит, собирался продолжать скотскую линию управления народом и Гришиным реформам — конец. Вторая — о том, что Шуйский сильно завидовал Годунову, его звездному воцарению меж двух бого-матерей на февральском снегу во дворе Новодевичьего монастыря. Самого-то Шуйского никакие богоматери не упрашивали на царство.
От этих пустяковых соображений меня отвлекло геометрическое открытие, что Гриша мог падать с крыши не в 15 стандартных саженей, а в 15 маховых или даже косых. Собственно, открытие состояло не в том, что «маленькая» маховая сажень (1,76 метра) оставляла надежду на мягкую посадку с высоты 26,4 метра (восемь с половиной хрущевско-феллиниевских этажей), — а косая (2,48 15 = 37,2 метра =12 этажей + крыша) — четко обеспечивала летальный исход. Открытие состояло в том, что сумма квадратов двух маховых саженей (катетов) в точности равнялась квадрату косой сажени (гипотенузы)! Значит, древние русские с полным правом могли претендовать на соавторство в доказательстве теоремы Пифагора!
Ну, они сразу и начали претендовать:
«Государство это даровал Бог прародителю нашему Рюрику, бывшему от римского кесаря, и потом, в продолжение многих лет, до самого прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского, на сем Российском государстве были прародители мои, а потом удалились на суздальский удел, не отнятием или неволею, но по родству, как обыкли большие братья на больших местах садиться».
Историк продолжал читать, и по глазам его было видно, что сказки Большого Брата ему нравятся, вся последовательность лживых обещаний ощипанного Рюриковича ему понятна, привычна и уместна. А врал нам далее Шуйский так:
1. Править он собирается в тишине, покое и благоденствии. Никого казнить, грабить, забирать и отдавать в рабство (без причины) не будет.
2. От конфискации имущества семей казненных по экономическим делам (без явной их вины) воздержится.
3. Доносов просто так на веру принимать не хочет, а проверять их будет очными ставками и пыткой.
4. А уж клеветников казнить станет пропорционально клевете.
Писец добавил, что Шуйский после громкого чтения этой грамоты пошел прямо к Богу — в Успенский собор — и стал нести такое, «чего искони веков в Московском государстве не важивалось».
Что никому ничего не будет делать дурного, что дети за отцов и отцы за детей не отвечают, что мстить за свои неприятности при царе Борисе никому не будет.
«Бояре и всякие люди ему говорили, чтоб он на том креста не целовал, потому что в Московском государстве того не повелось, но он никого не послушал и целовал крест».
Историк тоже сделал свое маленькое открытие: он определил, что большая часть этих благих обещаний была списана Шуйским у нашего, светлой памяти, покойного Гриши. Разница обнаруживалась только в том, что Гриша свои обещания выполнял.
В провинцию были посланы грамоты:
1. О воцарении Шуйского.
2. О самозванстве Григория Отрепьева.
3. О злодейской программе Григория, выясненной по найденным у него документам и выбитым свидетельским показаниям. Он будто бы хотел всех бояр перебить, все управление страной отдать немцам, полякам и прочим умникам, ввести католицизм, интегрироваться с Европой, обижать лиц кавказской, крымской и турецкой национальности, мыть сапоги в Индийском океане.
— Неужели и правда, хотел? — с надеждой подумалось мне.
— Нет, — угадал мои мысли Историк, — эти показания опровергнуты современными данными исторической науки.
— А, ну если науки — тогда что ж, тогда ничего…
Писец помалкивал, — его засадили писать длинное наставление с поучительным названием: «Повесть како отомсти всевидящее око Христос Борису Годунову пролитие неповинные крови новаго своего страстотерпца благовернаго царевича Дмитрея Углечскаго». Работа была срочная, велено было подвести теоретические основы под воцарение Василия Ивановича, указать на порочность смены династии при Годунове. Но материал был сырой и гнилой, Писец провозился до середины июня.
А 1 июня 1606 года Василий Шуйский венчался на царство. Он был маленький старичок, разменявший шестой десяток, очень проигрывавший во внешности и Грише, и Годунову. Был он очень хитер и умен, начитан, а потому подслеповат, очень скуп, склонен к доносчикам и анонимщикам и «сильно верил чародейству». Такой букет достоинств был поднесен Богу под купол Успенского собора и благосклонно принят.
«Подле нового царя немедленно явилось и второе лицо по нем в государстве». Это, как черт из табакерки, выскочил на свет божий новый патриарх Гермоген, ортодокс и фундаменталист, готовый и сам непрерывно креститься и нас всех распять за иной порядок вбивания гвоздей в тело Христово. Патриарх был злобен, некрасив, склонен к доносам и анонимкам, легковерен. Почти копия Шуйского. Патриарх легко поверил в наветы на самого царя, проникся подозрением к нему, но насмерть был готов загрызть врагов престола. Так они и стали править.
Да не тут-то было! Еще не кончилась игра в Самозванца, только пристрастились люди к опасному развлечению, так уж и кончать?
Михайла Молчанов, удавивший Федора Годунова, бежал на Запад и стал божиться, что царь Дмитрий жив. Убили кого-то другого и выставили — в маске! — на обозрение. Кто ж верит маске!
Тут перебежал за границу и князь Григорий Шаховской. Он стянул во время переворота большую цареву печать и теперь страсть как хотел ею чего-нибудь припечатать. Шаховской, конечно, тоже уверял, что Дмитрий жив, и звал Молчанова на главную роль. Но Молчанов сам играть царя опасался. Он только подогревал Марину к распространению слухов, что она не вдова, а царица-мужнина-жена, и искал подходящего парня. Вдвоем с Шаховским они отыскали Ваньку Болотникова…
В школе мы проходили революционную борьбу трудового народа против помещиков и капиталистов. Образы народных героев-революционеров один за другим вставали перед нами в гордом ореоле славы и мученичества. Но на всю нашу большую страну героев не хватало. Историки-революционеры подбирали то, что плохо лежит, и перекрашивали это в подходящий цвет. Поэтому Ванька Болотников никак у нас не связан с именем Лжедмитрия Второго. Он у нас благополучно числится в категории «вождь крестьянского восстания».
Истинная история Болотникова такова. Он был холопом князя Телятевского. Но любовь к свободе приобрел не в ненавистном крепостном отечестве, а в вольнодумной Европе. Еще мальчишкой попал Ванька в плен к туркам, горбил на галере по гомеровским местам, бежал, оказался в Венеции.
Чувствуете перепад температур? Только что ты тянул многопудовое весло и покрывался от солнца плетью надсмотрщика, а вот ты уже на гондоле под мандолину осматриваешь балконных обитательниц града святого Марка. Как тут не подвинуться рассудком?
И, стойкий к соблазнам цивилизации, Иван сделал непростительную ошибку: стал тосковать по родине. И пошел на Русь крепостную через Польшу панскую. Там его и повязали. Но вот же, Бог опять пометил шельму: поставили Ваню перед Молчановым. Осмотрел Михайло парня — то, что надо! Как раз нужная смесь русского молодецкого нахальства и поверхностного интуризма. Стали меж собой считать Ивана за Григория, вернее, за Дмитрия.
Интрига приобрела лихой разворот: новый претендент не отвергал первого Самозванца, он хотел быть им. Раньше самозванские легенды выглядели так:
— Дмитрий не убит в Угличе, я — Дмитрий.
Или: «Наследник Петя, сын Ирины, жив, это — я!»
Теперь получалось сложнее: царевич Дмитрий не убит в Угличе, его подменили другой жертвой; потом Дмитрий воцарился; потом его не убили в Москве, опять подменили трупом в маске; а настоящий царь все еще жив, и это, как вы догадались, — я!
Болотникова не спешили объявлять царем. Молчанов послал его к Шаховскому в войско с письмом, в котором Болотников назывался личным посланником Дмитрия Иоанновича.
Здесь в заговор вплетается тонкая виртуальная нота, достойная скрипки Маккиавелли: оказывается, царя-са-мозванца в наличии иметь не обязательно! Главное, уверенно о нем говорить. Вот на Гришку показывали, что он царь, и все верили. А видели его десятки, ну сотни. А «узнали» — и вовсе единицы. Но убили они Гришку — конкретно. Так что ж мы будем ради этих единиц шею подставлять?!
Итак, на вопрос, где истинный царь, — шайка Молчанова и Шаховского уверенно заявляла, что Дмитрий жил, Дмитрий жив, Дмитрий будет жить! И Писец писал об этом очередной «собственноручный» царский указ. А Шаховской ляпал на него подлинную цареву печать. А Ванька эти указы читал в войске. При этом Шаховской делал хитрое лицо: вот вы, лопухи, думаете, это Ванька, посланец царский? — ну, ну, как бы вам, холопы, не обознаться! Народ растерянно кланялся Болотникову в ножки.
Шуйский в Москве совсем запсиховал. Бояре его не почитали: каждый был не хуже и тоже хотел в цари. На Шуйского обрушилась метель подметных писем, чтобы он валил с трона, ужо идет на него батюшка Дмитрий Иваныч. Шуйский перехватал всех Писцов и прочих грамотных и устроил всероссийский конкурс чистописания, переходящий в повальную графологическую экспертизу.
Поймать писателя не удалось, все Писцы старательно заваливали буквы вбок.
Тем временем Ванька разбил вчетверо большее войско Трубецкого. Воеводы царские бежали: Брошенное войско тоже стало разбегаться по домам. Тогда весь Юг — до Тулы — восстал под водительством мелких атаманчиков, собиравших пирамиду под Болотникова. Все видели в Иване царя или его воплощение для повседневных дел. Вся Россия бунтовала. От Астрахани до Смоленска народ продолжал хотеть Лжедмитрия. Никто будто бы и не заметил его 15-саженного полета.
Народный вождь Болотников подошел к Москве, стал лагерем. Тут его подвели венецианские воспоминания. Стал он раньше времени посылать в Москву письма к народу, чтоб резали бояр да дворян. Половина войска Болотникова — рязанская армия под командой боярина Захара Ляпунова — тотчас перебежала к Шуйскому. Подыхать по социальному признаку никому не хотелось — даже во имя пролетарской революции.
Дело Болотникова пошло насмарку. Сам он царем сказаться не посмел, тут же из Польши пришли сведения, что «царь» находится там, и тогда все мещане и кулацкая верхушка крестьянства стали на защиту Шуйского. Не самого Василия Ивановича, конечно, но его престола.
Василий из кожи лез, чтобы понравиться народу. Сначала он перезахоронил настоящего царевича Дмитрия: лично встретил гроб из Углича, подставил царское плечо и нес сей тяжкий крест через всю Москву до Архангельского собора. Потом он разрешил перезахоронить Годуновых в Троице, потом вытащил из ссылки первого патриарха Иова и организовал действо прощения двумя патриархами грешного народа.
20 февраля было согнано в Кремль немало приличного народу. Оба патриарха красовались в Успенском соборе и ждали покаяния. Из толпы вышли некие «гости» и подали Иову грамоту, которую тут же зачитал с амвона специальный дьяк-декламатор. Народ гторил великим и неутешным воплем:
«О пастырь предобрый! Прости нас, словесных овец бывшего твоего стада: ты всегда хотел, чтобы мы паслись на злаконосных полях словесного твоего любомудрия и напоялись от сладкого источника книгородных божественных догматов, ты крепко берег нас от похищения лукавым змеем и пагубным волком; но мы, окаянные, отбежали от тебя, предивного пастуха, и заблудились в дебре греховной, и сами себя дали в снедь зло лютому зверю, всегда готовому губить наши души…»
«Предивный пастух» слушал этот бред и беспокоился о себе: как бы не встал от радости змеиный чешуйчатый хвост с кованым серебряным наконечником, да не задрал край ризы, а там бы не стали явны словесным овцам когтистые волчьи лапы.
Писец тоже внимательно слушал свой опус и очень волновался, чтобы самодеятельные чтецы не запутались в сложных подчинениях и ударениях. Но пронесло, и теперь уже читали челобитную:
«Народ христианский от твоего здравого учения отторгнулся и на льстивую злохитрость лукавого вепря уклонился, но Бог твоею молитвою преславно освободил нас от руки зломышленного волка, подал нам вместо нечестия благочестие, вместо лукавой злохитрости благую истину и вместо хищника щедрого подателя, государя царя Василья Ивановича».
От чтения в святом месте этой грешной поэмы следующей темной ночью случилось знамение. Сторожа, караулившие на паперти Архангельского собора, услышали, как в соборе, среди августейших надгробий, вдруг раздались голоса, потом разговоры, потом смех и плач. Собор осветился изнутри и один <толстый» голос беспрестанно возглашал за упокой.
Нужно было Шуйском}’ спешить. Он послал немца Фидлера в Калугу отравить Болотникова. Нравственность этого поступка была очевидна, поэтому для истории клятву Фидлера запечатлели на бумаге: «Во имя пресвятой и преславной Троицы я даю сию клятву в том, что хочу изгубить ядом Ивана Болотникова; если же обману моего государя, то да лишит меня Господь навсегда участия в небесном блаженстве». Далее шли многие другие пожелания самому себе, если благое дело не удастся. Получив лошадь и 100 рублей, обещание 100 крепостных душ и 300 рублей в год, верный Фидлер поехал в Калугу, явился к Болотникову и покаялся, пренебрегая Троицей, Господом и участием в небесном блаженстве.
Заговорщики насторожились. Нужно было выступать жестче, а они никак не могли даже царя народу предъявить. Опять Шаховской звал в цари Молчанова, но тот уперся. Болотников теперь и вовсе боялся. Вспомнили «царевича Петра» (Илью Муромца), стали звать его. Муромец воспрял. Убив несколько воевод Шуйского и обесчестив дочь убитого князя Бахтеярова, былинный герой с запорожцами двинулся к Туле. Тут он соединился с Болотниковым.
В царской армии началась паника, пришлось Василь Иванычу самому лететь на врага на лихом коне. Собравши 100 000 человек, 21 мая 1607 года Шуйский выступил в поход. Дружина Ильи Муромца была разбита и осаждена в Туле. Отсюда Лжепетр, Болотников, Шаховской писали в Польшу, чтобы им выслали хоть какого-нибудь Лжедмитрия. Такие просьбы не бывают безответными. Лжедмитрий Второй явился. Кто он был? А вот кто:
1. Матвей Веревкин, попов сын;
2. Дмитрий, попович из Москвы;
3. сын князя Курбского;
4. царский дьяк;
5. Иван, школьный учитель из Сокола;
6. сын стародубского служилого человека;
7. учитель из Шклова;
8. просто жид.
Такие версии ходили в народе. Но Историк наш их просеял, отмел антисемитские и княжеские глупости, и вот что он нарыл.
Лжедмитрий Второй, он же Тушинский Вор, впервые показался на людях в белорусском местечке Пропойске, где был сразу посажен в тюрьму как польский шпион. Чтобы открутиться от приговора военного времени, заключенный назвался Андреем Андреевичем Нагим, родственником убитого в Москве царя Дмитрия. Фокус прошел удачно. Оказавшись на свободе, зарвавшийся малый стал рассылать по Украине слухи, что Дмитрий жив и находится в Стародубе. Мещане послали к претенденту своих лучших людей. Лучшие стали подступать к самозванцу с угрозами: «Ты Нагой или не Нагой?» Самозванец долго отпирался, но когда к нему приступили с угрозой пытки, схватил дубину, назвал неверующих известным женским выражением на букву «Б» и крикнул: «Вы меня еще не знаете: я — государь!» Все, конечно, сразу упали в ноги.
Самозванец послал в Польшу призыв к добровольцам идти на Москву, обещал им много добра. Но войска собралось мало, и остальные заговорщики, осажденные в Туле, помощи не получили. К тому же некий Кравков взялся помочь Шуйскому взять Тулу голыми руками. Он велел каждому воину принести мешок земли, завалил речку Упу, вода поднялась, охватила город, вошла внутрь, залила подвалы, припасы и прочее. Шуйский одолел Тулу водой, как святой Владимир — Корсунем, только наоборот.
Болотников запросился сдаваться на почетных условиях: дескать, я служил царю, а какому, не ведаю, теперь буду служить тебе, Василь Иваныч, сам вижу, что ты — настоящий. Болотников картинно положил себе на шею саблю — руби, царь, мою голову, если виноват. Царь выполнил обещание, не стал сечь повинную голову. Ваньку сослали в Каргополь, а там уж утопили в монастырском пруду. Лжепетра — Илью Муромца — повесили, у Шаховского отняли печать и сослали его «как всей крови заводчика» в пустынь. Шуйский буйно радовался, триумфально возвратился в Москву, но Лжедмит-рий Второй у него остался бродить на свободе.
Сначала Самозванец взял Козельск. К нему стали сходиться литовские воеводы, каждый имел команду по 1 000 человек. Пришли Тышкевич, Валавский, Вишневецкий, Лисовский. Эти войска осадили Брянск. Осада не удалась, зазимовали в Орле. Сюда стали собираться другие искатели приключений. За зиму их набралось тысяч до десяти. От безделия разгорелись интриги, какому пану быть при царе первым. Чуть было Лжедмитрия не убили. Но тут пришло подкрепление — 3 000 запорожцев и 5 000 донцов Заруцкого.
Промедление пагубно для лихого дела. Пока стояли лагерем в Орле, в степях стали объявляться, а то и прибывать «ко двору» новые претенденты. Писец радостно читал их список:
— еще один царевич Петр, сын Ирины и Федора;
— князь Иван, сын Грозного и Колтовской;
— царевич Лаврентий, внук Грозного, спасшийся после дедушкиного удара в мамин живот;
— царевичи: Федор Федорович, Клементий Федорович, Савелий Федорович, Семен Федорович, Василий Федорович, Гаврилка Федорович, Брошка Федорович, Мартынка Федорович и…
— Паша Эмильевич, — не удержался я.
— Нет, — заволновался Писец, — какой Паша? — царевич Август!
Вся богадельня по последнему пункту претендовала на происхождение от дебильного государя Федора Иоанновича.
Получалось, Борис Годунов только и беспокоился, чтобы вовремя топить в ушате новорожденных племянников, но каждый раз бывал пьян, и ему подсовывали на утопление кого-то из крепостных младенцев. Поведение Годунова в этой версии объяснимо: нельзя же допускать такого размножения олигофреничных мечтателей о Шапке!
Слухи о серьезной психической болезни, охватившей провинции нашей Родины, взволновали Москву. К тому же случилось нашей столице видение небесное. Некий духовный муж уверил свое начальство, что видел сон, будто в Успенский собор заявился Иисус Христос собственной персоной, кричал на москвичей, плевался, выражался нецензурно, грозил любимым нашим москвичам страшной казнью, мелочно перечислял грехи столичного населения:
— Лукавыми своими делами москвичи будто бы позорят Христа;
— ничего мы его не позорим, нам за делами нашими обычно не до Христа бывает.
— Уподобились новому Израилю;
— неправда, не все мы евреи.
— Приняли мерзкие обычаи: стригут бороды;
— скажи спасибо, что пока еще совсем их не сбриваем.
— Творят суд неправедный;
— ну, этого у нас никогда не водилось.
— Все сплошь поражены содомией;
— мы, папаша, даже не знаем, с какого боку к этому подходить.
— Насилуют всех подряд;
— так мужиков мы у тебя насилуем или баб?
— Грабят чужие имения;
— на это мы согласны, без этого нам нельзя — свое берем!
— Нет истины ни в царе, ни в патриархе, ни в целом народе московском(!);
— но что есть истина, старик?
Этот поп, который видел такой страшный сон, все подробно записал и подал анонимно патриарху. Патриарх, царь, епископы, верхушка думская рассудили за лучшее зачитать это послание всему народу московскому, чтобы он как-нибудь по легче делал свои дела. А то, черт знает, чем эти голубчики на самом деле занимаются по своим углам и норам. Угроза Христова была громогласно читана в Успенском соборе, сразу был назначен и очистительный пост: посчитали, что всю эту дрянь можно искупить за 5 дней — с 14 по 19 ноября.
Рождество прошло спокойно, и Василий решил жениться на княжне Марье Буйносовой-Ростовской, что и было сделано 17 января 1608 года. Лжедмитрий дал царю спокойно отскрипеть медовый месяц и весной разбил царское войско под Волховом. 5 000 московских героев попало в плен. Битое войско кинулось в столицу и стало распространять страхи, что у Лжедмитрия людей — не счесть. Началась паника, Самозванец ускоренным маршем шел на Москву. Но у самой столицы 5 000 пленных ему изменили, перебежали домой и стали хвастать, что бояться нечего. Тогда Лжедмитрий выпустил декреты о земле и воле: разрешил населению брать себе боярские земли, жениться на боярских дочерях, называться господами. Кто был никем, тот стал всем и рванул на Москву, чтобы успеть к самому жирному навару…
А что же у нас поделывает государыня наша Марина Первая? Где отдыхает она, законно венчанная московским венцом, потершаяся правой щечкой о нашу Шапку? А тут она, никуда не делась. Задержали ее в заложницах в Ярославле на свою голову. Теперь Марина по утрам выходит на крылечко и долго смотрит в светлые подмосковные дали: не едет ли ясный сокол Митенька, царь-государь Дмитрий Иоаннович. Стосковалась голубка по жарким объятиям молодецким, да и без власти сидеть на Руси Марине тошно и скудно. Тут уж вокруг нее вились бояре, чтобы не признавала нового Самозванца старым Лжедмитрием.
— А это мы посмотрим, — подмигивала Марина, — хорош ли будет собой.
1 июня 1608 года Лжедмитрий Второй подошел к Москве, несколько дней переходил с одного места на другое и наконец стал лагерем в Тушине. Потянулось противостояние. Время играло на Тушинского Вора, как теперь важно величали враги нового претендента. В Тушинский лагерь потянулось казачество, польские отряды, сброд российский, изменники и перебежчики. Все хотели нового воцарения и новой дележки.
Тут Василий Иваныч совершил большую глупость. Перо не поворачивается описать его дурацкий ход. Вроде бы Шуйский был не туп. Знал придворную и международную интригу как точные науки. Мы не стали его предупреждать: не делай, Вася, этого, козленочком станешь! В теорию имперскую тоже не стали мы вписывать лишнее правило, думали, — оно очевидно. Ан, нет! Вляпался царь в детский мат. Приходится нам теперь срочно формулировать это банальное правило, известное со времен Гаруна-аль-Рашида и старика Хоттабыча:
«Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляй в живых или на свободе любых законных претендентов на твое место!»
Ты можешь терпеть сколько угодно Исидоров Яковлевичей и царевичей Брошек, можешь кормить и поить при дворе Илью Муромца, Соловья Разбойника, Симеона Бекбулатовича, но не жалей яду и заклинаний на любого прямого, кривого или бокового наследника того, чем завладел сам! Особенно, если его права подтверждены писцовым протоколом.
А царь Василий прозевал момент, пренебрег золотой восточной мудростью, проспал у себя под боком законную государыню российскую. Кем была де-юре Марина Мнишек? Царицей нашей. С каких таких прав? А с таких, что Марина была просватана, вызвана в Москву государем всея Руси. Вышла за него замуж, короновалась в Успенском соборе. А что на самом деле ее муж был Григорий, а не Дмитрий, то кто об этом знал? Все процедуры были выполнены правильно. Теперь Марина могла настаивать, что она — вдовствующая императрица, жена царя Дмитрия или Григория, это вы уж сами разбирайтесь, как его называть. Ей было все равно, к какой из четырех династий относиться: Рюриковых, Годуновых, Отрепьевых или Романовых, главное, что все было записано по закону.
Таким образом, Марина представляла собой страшную угрозу для Шуйского. Она могла в любой момент объявить себя беременной законным наследником или тайно усыновить какого-нибудь подходящего младенца.
Василию нужно было:
— кончить Марину по-тихому, во время пожара или на охоте;
— казнить ее за колдовство, не боясь воевать потом с Литвой и Польшей;
— жениться на Марине.
Но Василий решил выполнить договор с поляками и как раз в дни сооружения Тушинского лагеря отпустил царицу Марину с домочадцами восвояси, в Польшу.
Обоз Марины медленно потащился на Запад мимо Тушинского табора. В Тушино сидел человек, известный половине России как Дмитрий Иоаннович, царь и государь всея Руси, любящий муж Марины. Другая половина России подозревала, что это не Дмитрий, а Матюха Веревкин, но настоящей уверенности и у нее не было.
Должна была Марина заехать к мужу? Хотела повидать молодца? Хотела проверить его право на вход к ней в спальню без доклада? Мы отвечаем уверенно: «Хотела!»
Последовала многоходовая интрига. Часть поляков не желала Марины, они притворились, что не могут разогнать ее охрану из I 000 московских пехотинцев. Другие хотели Марину и спугнули этот отряд. Сама Марина не поехала сразу к Лжедмитрию, двинулась к гетману Сапеге, который околачивался тут же. По дороге стало известно, что тушинская команда скачет на перехват. Чтобы не томить погоню, стали подолгу топтаться на каждой остановке и наконец попали в плен. Как бы неволей поехали в Тушино. По дороге к Марине пристал какой-то наивный шляхтич и начал говорить глупости: «Марина Юрьевна, ты зря поешь и смеешься, в Тушине не твой муж, а другой человек!»
— Да ты что?! Да как же так?! Да разве такое может быть?! — пришлось рыдать и убиваться нашей царице. Она будто бы уже не помнила, как Гриша валялся на лавке посреди Красной площади с разрубленной головой и вмятой грудью.
Лжедмитрий Второй расстроился. Он понял, что Марина намерена торговаться за каждый злотый. Предчувствия его не обманули. Папа Мнишек умело подсчитывал, что просить, а что уступить. Торги закончились документом на выдачу Мнишеку 300 000 рублей золотом сразу по приезде в Москву и назначением в удел Северского княжества с 14 городами. Итак, решено было снова дурить москвичей и прочих русских.
А Бог? Ложиться в постель к мужику невенчанной — это грех. 5 сентября 1608 года состоялось тайное венчание по иезуитскому канону. Обратного пути не было: Марина или становилась самозванкой, выйдя за пришельца, или — смертной грешницей, вторично повенчанной со своим же мужем.
Поляки, обрадованные таким ходом истории, написали пожелания своему русскому царю:
раздавать должности нужно не по происхождению, а за доблесть;
гнать в шею бояр и русское духовенство — пусть сидят по домам и без вызова по делу не являются;
царь должен быть в безопасности, поэтому нужно ему иметь отряд телохранителей, наемников разных наций;
русских нужно тоже поощрять и привлекать ко двору, но заставлять их учиться;
поставить дело политического сыска на профессиональную основу;
тщательно работать с бумагами. Бумага — основа власти, поэтому должен быть создан профессиональный секретариат, работающий, как машина;
делопроизводство нужно вести на туземном языке (это наш великий и могучий русский — С.К.), но и учиться латыни, в конце-то концов(!);
права царицы Марины должны подтверждаться целой системой бумаг на нескольких языках, со многими печатями;
столицу следует перенести из проклятого места немедленно. Ибо:
— в Москве будут продолжаться покушения на государя;
— Москва далека от Европы и новых союзников;
— отсюда трудно убежать с казной;
— Москва уважает государя в отъезде (это они Грозного вспомнили);
— пьянки при дворе в новой столице прекратятся;
— удобнее будет переговариваться о соединении религий;
— легче учиться, ездить за рубеж, вообще дышать
— где-нибудь подальше от Москвы.
Далее шли еще пункты о перемене религии, о правилах престолонаследия, о царском титуле и т. п.
Страшно подумать, что было бы с нашей страной, успей поляки ввести и распространить все эти ереси…
За окошком тем временем повалил мягкий русский снежок. Он укрывал тушинские палатки белым саваном. Зимней спячкой оказались охвачены:
1. Царь Лжедмитрий Второй и жена его Марина Юрьевна;
2. 18 000 польских кавалеристов;
3. 2 000 пехотинцев;
4. 13 000 запорожцев;
5. 15 000 казаков войска донского;
6. до 3 000 польских купцов из тылового обеспечения;
7. и совсем малое, неподсчитанное количество неорганизованных русских.
Сначала рыли землянки, потом стали строить домики из ветвей, но ветер завывал серым волком, и поросятам… пардон, полякам стало холодно, и они решили: гулять, так гулять. Разделили окрестность на сектора, реквизировали у населения излишки — на каждую роту пришлось до тысячи возов еды, — привезли из деревень срубы, вырыли под ними погреба для деликатных напитков, поставили рубленые дворцы для Марины с царем и папы Мнишека, да и запировали на просторе!
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ
О этих дней на Руси стало как бы два царства. Одно — обыкновенное, у царя Василия Шуйского, второе — польское. В нем царил Дмитрий Иоаннович, он же — Лжедмитрий Второй и Тушинский Вор, Столицы этих государств — Москва и Тушино — находились рядом, а земли были общие. Таким образом, земля Русская между двумя нашими царствами разделена была примерно поровну, но губернии все время бегали от одного царя к другому и обратно.
Повысит царь Василий какого-нибудь начальника, а его заместителю обидно. Он и едет с заявлением в Тушино. Там царь Дмитрий это заявление внимательно прочитает, да и назначит просителя на ту же должность. Приезжают оба чиновника с царскими указами в свою волость, читают эти указы народу, а там уж как народ решит. Демократия! Чья сторона побеждает, в ту сторону и отчетность потом посылают, и налоги, и припасы, и войско.
Царство Лжедмитрия, как уже было сказано, было по преимуществу польским. Сборная армия из поляков, литвы и лиц без гражданства под командованием гетмана Сапеги стояла в Тушине крепким гарнизоном. На ее штыках очень уютно чувствовал себя весь лжедмитриевский двор. После сытой зимовки царство польское решило устроиться повсеместно. Сначала осадили десятитысячным войском главный рассадник вражеской идеологии — Троицкий монастырь. Но братия насмерть сидела за церковную кружку на обильных подвальных запасах, поэтому поляки, у которых бог был послабее нашего, затянули осаду, но навалились на мирские города.
Взяли Суздаль. Владимир поддался Иван Иванычу Годунову, страшному врагу Лжедмитрия Первого, но верному слуге Первого-Второго. Сапега взял Переяславль и завозился у Ростова Великого. Здесь Филарет Романов, с которым еще Годунов обещал поровну делиться властью, решил-таки получить свою половину. Но Ростов был занят, и Филарет попал в плен. И привезли Филарета в Тушино.
Настоящему царевичу Дмитрию Филарет приходился сводным двоюродным братом, потому что чисто двоюродным братом он был царю Федору Иоанновичу. В Тушино царствующий двоюродный лжебрат назначил будущего основателя династии Романовых патриархом Московским и всея Руси. Как бы против воли. Новый русско-польский патриарх стал рассылать по всей стране деловые письма: где какую церковь освятить, как настраивать церковный обиход в новом православно-католическом государстве. Все шло хорошо, но недолго.
Закачалось царство польское из-за избытка вольности. Каждый пан хотел быть в новом государстве первым и строил собственную кадровую пирамидку. Начались свары и стычки между панами, полетели головы. В окрестностях Тушина сформировалось несколько отдельных армий. Эти армии стали сами себе служить. Царь Лжедмитрий оказался не у дел: с ним не советовались, к его попыткам заступиться за объедаемую и избиваемую Россию никто не прислушивался. Начались восстания против Лжедмитрия. Против Шуйского восстаний почти не было. Шуйский потирал руки…
Новая власть, сколь бы параноидальной она ни была, всегда имеет некий стартовый запас привлекательности. Как новый автомобиль или новая женщина. Главное в этом деле — как можно дольше интриговать население, не раздражать его, обещать — правдоподобно, выполнять — по возможности, резко не жать на газ и другие части нового предмета.
Поляки растратили шарм Самозванца бездарно. Им нужно было поскромнее питаться и веселиться, побольше упражняться в сценическом мастерстве: держать паузу после слов «…за Русь великую мы не пощадим…», а потом со слезой в голосе говорить — кого.
Но они только склочничали, грабили и хамили. Вели себя, как оккупанты, а не слуги народа. Мудрый урок Рюрика — самого мягкого, и потому самого страшного оккупанта нашей страны — впрок этим полякам не пошел. Дело их, казалось, было обречено, и остается только скоротать время до фатального дня.
Тем временем в Москве спокойно прошли две попытки свержения Шуйского. В первом случае заговорщики хотели запугать бояр, но не преуспели и бежали в Тушино. Во втором случае Шуйского хотели убить, да не вышло. Заговорщики были казнены. Тут бы тушинским сидельцам насторожиться, проанализировать ситуацию, предпринять какие-нибудь сильные ходы. Но они все судились да рядились меж собой.
На Троицу 1609 года случилась нечаянная большая битва двух государств. Тушинский отряд забрел к Москве и задрался с заставой. Московские пограничники бежали, к тушинцам подошла подмога, москвичи снова были разбиты. Царь Василий бросил на Самозванца все резервы. Здесь впервые в нашей истории в бой пошли танки!..
Не спешите смеяться. Что есть танк? Подвижная огневая точка, почти неуязвимая для современных стрелковых средств противника. Первые русские танки как раз такими и были. Они назывались «гуляй-городами» и представляли собой деревянные срубы с бойницами, из которых велся пищальный огонь. В качестве ходовой части использовалось стандартное тележное шасси. Двигатель — в несколько натуральных лошадиных сил.
Такая система имела массу преимуществ. Судите сами. Попадает снаряд из ПТР в двигатель какого-нибудь нашего танка — бензиновый «Тигр» вспыхивает, как свечка; дизельный «Клим Ворошилов» глохнет и лениво дымится. А вот польский залп попадает в гуляй-город — мощность двигателя просто снижается на оДну-две лошадиные силы, успевай только постромки перерубать! Прогресс в военной технике был налицо. Не сообразили только называть гуляй-города собственными именами. А было бы здорово: «Иоанн Грозный», «Василь Иваныч», «Анка Глинская», «Месть Господня за убиение царевича Дмитрея Иоанновича в Угличе злосердною волею и наущением Бориса Годунова…» Последнее название можно было продлить еще, но тогда у танка пришлось бы нарастить борта…
Поляки, однако, выдержали танковую атаку, захватили гуляй-города и совсем уж ворвались в Москву, но тут произошел у них какой-то непонятный сбой в управлении войсками. Наши тотчас же отбили гуляй-города и на плечах неприятеля чуть было не вошли в Тушино. Взяли в плен очень много поляков. Их потом меняли потихоньку на наших пленных.
В это время царский племянник князь Скопин-Шуйский очень выгодно договорился с королем Швеции о помощи. Шведы обещали дать нам во временное пользование целых два полка пехоты в обмен на вечную уступку Ливонии. Скопин со шведами двинулся через Псков, Новгород, Тверь на Москву. Везде ему приходилось вести тяжкие бои. Население городов и волостей делилось при этом на две части. «Лучшие люди» были за Шуйского и Скопина, то есть, за свои старые чины и звания. «Меньшие люди» уже вовсю делали карьеру под крылом царства польского и сопротивлялись, что было сил. Скопин входил в Подмосковье, когда шведы вдруг засобирались домой. Они жаловались на двухмесячную задержку зарплаты и еще какие-то пустяки. На самом деле они почуяли запах нешуточной битвы.
К этому времени король польский Сигизмунд понял, что в России появляется реальная возможность перемен. До сих пор то, что мы называли царством польским, было сбродным сообществом из литовских и польских отрядов, не имеющих никакого юридического отношения к Речи Посполитой. Теперь на овладение Москвой двинулись регулярные войска. Сапега вспомнил, что вообще-то он не атаман авантюрных ватаг, а гетман коронный.
Поляки осадили Смоленск 3 тысячами пехоты и кавалерии, но осада не удалась.
Тушинцы под Москвой забеспокоились: они оставались со своим Дмитрием как бы сами по себе. Ясно было, что Сапега и Сигизмунд хотят забрать Россию себе. Тушинцы под командой гетмана Рожинского стали бунтовать против Польши и сплотились вокруг Лжедмитрия, впрочем, обращаясь с ним, как с Петрушкой. Когда Лжедмитрий спросил у Рожинского, о чем идут переговоры с королевскими послами, то получил правильный ответ: «А тебе что за дело?.. Черт знает, кто ты таков».
Самозванец почуял тоску смертную и в ту же ночь, переодевшись в крестьянское платье, бежал в навозных санях с шутом своим любимым. Тушинские русские оказались в дурацком положении. Царя у них теперь не было, воевать за польского короля выходило подло. Но потом, при святейшем благословении патриарха Филарета, лучшие тушинцы поехали в ставку Сигизмунда и целовали-таки польскую казенную печать, чтобы не целовать мерзкого католического креста. Отдать королю Родину-мать наши патриоты соглашались на 18 условиях, из которых только одно было серьезным: чтобы не притеснялась православная вера. Остальные соглашения, типа: «чтобы жидам был запрещен въезд в царство Московское» или чтобы пограничников содержать сообща, были риторическими. Поляки на все это легко согласились, тем более, что царем всея Руси должен был стать сын их короля — Владислав.
В Тушино царил разброд. На поиски Лжедмитрия звала только Марина. Но делала она это артистично. Царица ходила распатланная и зареванная по казачьим палаткам и умоляла воров постоять за честь истинного государя.
Хотя Лжедмитрий Второй, в отличие от Первого, лупил Марину часто, а любил редко, она все-таки не прекращала интригу.
Лжедмитрий вынырнул в Калуге и стал резко выступать против Польши. К поумневшему царю устремились те, кому при поляках ничего не светило. Марина тоже бежала из Тушина. Она ускакала ночью, верхом, в гусарском платье. Остающимся она написала пространное послание. В этой гусарской балладе Марина объявляла о своем долге сопровождать мужа. На самом деле Марина оказалась у Сапеги, она больше надеялась на королевские войска, чем на донских казачков Самозванца. Однако ей не понравилось уныние, царившее в польских войсках: как-то Марине пришлось даже личным примером поднимать солдат в атаку. Тогда она снова переоделась и ускакала в Калугу к мужу.
В первых числах марта 1610 года тушинский табор был оставлен его обитателями и загорелся. Теперь в противостоянии реально участвовали только русские Шуйского и поляки Сигизмунда.
12 марта в Москву вошли войска Делагарди и Скопина-Шуйского. Наивный народ приветствовал молодого князя царским титулом. Бездетному царю Василию это было не обидно: племянник устраивал его в роли наследника. Но брат Шуйского Дмитрий заволновался. Вскоре на крестинах у Ивана Михайловича Воротынского Скопин неосторожно выпил вина, поднесенного женой Дмитрия. То ли это был прокисший от старости рейнский ид Михайлы Воротынского, то ли в чашу намешали чего особого, но у Скопина пошла носом кровь, и через пару недель он скончался. Россия потеряла храброго полководца. И тут оказалось, что Скопина — последнего приличного Рюриковича — народ и вправду хотел в цари. По смерти героя Василий Иванович обнаружил вокруг душную могильную пустоту.
Начался разброд. Боярин Ляпунов взвыл против царя. Он и раньше уговаривал Скопина выгнать Шуйского, а теперь прямо пошел с Голицыным ловить царя по кремлевским палатам. Царь перепрятался. Ляпунов разослал мятежные грамоты по губерниям, поднял мятеж в Рязани, стал пересылаться с калужским «цариком» Лжедмитрием. Стало царю тошно, остался он один, войско ушло против поляков.
Дмитрий Шуйский, — отравитель Скопина, — командир был лихой. Прежде всего, он замылил деньги, предназначенные «немцам» (так наши называли всех западных, которые «были немы» по-русски, в данном случае ими оказались все те же шведы Делагарди). Потом сей «воевода сердца нехраброго, обложенный женствующими вещами, любящий красоту и пищу», уклонился от активных действий. Поляки повели себя дерзко. Они понимали, что главное — спугнуть шведов. Они стали грозно подъезжать к стоянкам некормленых наемников и пугать их птичьей пугалкой: «Кыш, кыш, проклятые!» Как тут было не испугаться? Шведы сдались все. Их с миром отпустили домой.
После потери главной ударной силы русские бежали в Москву. И как им было не бежать, ведь после ухода 8 тысяч шведов их осталось только 32 тысячи. Поляки с новым командующим пошли на Москву…
Здесь я хочу выразить личное восхищение польскому гетману пану Жолкевскому. Если бы мог, я направил бы ему приветственный адрес. И вот что я бы ему написал:
«Вельможный пан Станислав! Господин гетман коронный! С чувством глубокого удовлетворения исследовал я Ваши планы перед походом на Москву летом 1610 года.
Как никто другой Вы, ясный пан, поняли, как нужно захватывать новые страны, как нужно вести себя в поверженном государстве. Увы, последующие века не дали нам подобных примеров мягкой оккупации. Сколько великих империй, так и не состоявшись, пали жертвой неразумности, алчности, шовинизма, религиозного идиотизма, садизма их руководителей. А Вы, дорогой гетман, ласково уговорили множество верных российских градоначальников поддаться королевичу Владиславу на вполне достойных, человеческих, европейских, можно сказать, условиях.
Вы поняли, что овладеть Москвой сможете только «не допуская ни малейшего намека на унижение Московского государства перед Польшею».
Вам без боя сдались Смоленск, Можайск и Борисов, Боровск, Ржев — города, костью застрявшие в горле Наполеона, Гитлера, других серьезных людей. Вам гостеприимно открыл ворота даже Иосифов монастырь, эта твердыня твердолобого православия!..»
Жолкевский был умен и хорош, но дело происходило в России, события разворачивались стремительно, и, как всегда, чисто по-русски.
Самозванец, увидев такое дело, — снова можно воевать, — собрал остатки войска Сапеги, пошел на Москву, изменой взял Пафнутиев монастырь, Серпухов, Коломну, Каширу. Сходу миновал затворившийся от него Зарайск.
Зря не задержался: там засел герой будущей скульптурной группы «Минин и Пожарский» — князь Дмитрий. Не стоило оставлять Пожарского у себя в тылу, ох, не стоило.
Итак, кто брал Москву?
Жолкевский — от Смоленска, Лжедмитрий — от Коломны, Сапега — из тушинских окрестностей. Ну, и Захар Ляпунов, — зайдя от винного погреба непосредственно в Кремле.
Надо заметить, что главная опасность православному государству частенько таится именно в кремлевских коридорах. 17 июля 1610 года Ляпунов вошел с друзьями к царю и по-человечески попросил его уйти в отставку. Шуйский схватился за нож и стал материться. Ляпунов — здоровенный мужик — хотел его заломать. Вот был бы цирк. Но демократы испортили представление. Хомутов и Салтыков закричали что-то вроде «Не трожь дерьма, Захар, пойдем к народу, объясним ему расклады».
Народу на Красной площади, и вправду, собралось много, возникла даже опасность давки: надеялись увидеть какую-нибудь казнь. Бояре пригласили любопытных москвичей проследовать за речку, на простор. Там было решено гнать Василия в шею, но не казнить. Пошли к царю, объявили ему народную волю, пообещали Нижний Новгород на прокорм, тихо проводили в московское подворье.
Увы, дорогие друзья! Уж кто вкусил горькую полынную настойку верховной власти, кто согрел глубокомысленную плешь мехом нашей Шапки, кто пропотел под ней за любимый русский народ, кто испытал жгучее волнение от прикосновения к опасному содержимому казначейских кладовых, тот уж до гроба не пощадит живота своего за Русь и за нас с вами.
Вот и царь Василий Иванович продолжал скорбеть о Шапке. На деньги, сбереженные из скудного царского жалованья, стал он нанимать всяких москвичей на лихие дела не по уговору. Тогда пришли к нему Ляпунов со товарищи и сказали, что надо тебе, Вася, подумать о душе, так что давай-ка постригайся в монахи, а то вишь, как ты зарос! Шуйский почесал лысину и завопил, что стричь ему нечего. Схватили бедолагу, и хоть он вырывался, постригли то ли с затылка, то ли с подмышки, то ли еще откуда.
Патриарх при этом тоже сомневался и морщился, твердил, что схима — дело добровольное, но кто ж его слушал! Засунули бывшего царя в какой-то мышинотараканий монастырь.
Так совсем уж закончились на русском престоле Рюриковичи.
МЕЖДУЦАРСТВИЕ
И вот, «все люди били челом князю Мстиславскому со товарищи, чтобы пожаловали, приняли Московское государство, пока нам Бог даст государя». Такую присягу принимали эти «люди» первому нашему Временному правительству после изгнания Шуйского. Боярская Дума, конечно, с удовольствием «приняла» Московское государство. Мстиславский — мнимый крестный отец первого Лжедмитрия, пересидевший во главе земства и опричнину, и смуту, и польские наскоки, теперь, небось, желал на себе убедиться, что нет ничего более постоянного, чем временное.
В присяге обещалось также Василию Шуйскому не кланяться, «а буде выскочит» — гнать в шею. Пока смирно сидит, то ни его, ни Дмитрия Шуйского — отравителя «великого мечника» Скопина — не казнить. А им в Думу не заглядывать и на боярскую лавку не моститься.
Завершалась присяга второстепенными уверениями и оправданиями, что Василия обязательно нужно было проводить с престола из-за малого авторитета. От этого, дескать, поляки Жолкевского теперь в Можайске, Вор — в Коломенском, ворье с малой буквы — по всей стране. Давайте ополчаться, но не столько из-за неправильного польского управления или бесчинств оккупантов, как из-за того, «чтобы наша православная христианская вера не разорилась и матери наши, жены и дети в латинской вере не были».
На том и поклялись Господу.
И тут же оборотились скользким двуглавым змием. Первая голова, управляемая Ляпуновым, потянулась к Лжедмитрию, вторая, боярская, стала косить в сторону Жолкевского, вражеского гетмана, но цивилизованного, черт возьми, человека. Не хотелось боярам допускать к Шапке «шпыней» коломенских. Лжедмитрий II, поговаривали, уже пораздал своим все крупные титулы и места. Так что на место каждого природного боярина в потешном дворе Самозванца уже скалилось по нескольку боярчиков.
По настоятельному зову земли русской в единственном лице ее двуличного начальника Мстиславского, гетман Жолкевский 20 июля 1610 года (в самый день рассылки текста антипольской присяги по городам) двинул из Можайска «защищать столицу от вора», о чем известил москвичей встречной грамотой. Ниже по тексту Жолкевский обещал все делать хорошо и не делать плохо, расписывал европейские преимущества, уговаривал отстать от обычного российского скотства в политике.
Но в Москве зашелся истеричными воплями патриарх, которому уже мерещилось понижение в чине: в кардиналы какие-нибудь, в епископы, а то и в мальчики при церковной кружке. В жалобную песнь включился и левый полукатолический патриарх Филарет Романов, ныне честный ростовский митрополит. Он залез на Лобное место и стал, срывая горло, оглашать окрестности повестью о том, какие злохитрости католические замышляют поляки против веры православной. Филарету можно было бы и поверить, кабы все не знали, что эти злохитрости он же сам в жизнь и проводил. Так что москвичи плюнули на это дело и разошлись по домам.
24 июля Жолкевский уже кормил коней на травке Хорошевских лугов в 7 верстах от Кремля, а Лжедмитрий штурмовал окраины столицы с противоположной стороны. Жолкевский все хотел действовать по-доброму, чтобы бояре сами вынесли ему подушечку «с ключами старого Кремля», чтобы, не дай Бог, кого-нибудь из москвичей нечаянно не поранить. Возник длинный торг. Патриарх кричал, что пусть королевич Владислав крестится по-нашему, а тогда правит. Соответствующее предложение послали к королю в ставку под Смоленск.
Параллельно к Жолкевскому подъехали хлопцы Лжедмитрия с конкретной бумажкой: обещал Дмитрий Иоаннович, как воцарится обратно, завалить короля бабками; всех гетманов, генералов, офицеров и простых фраеров посполитых башлять 10 лет; в бюджет республиканский ежегодно наливать по 300 000 злотых, королевичу — по 100 000 отступных — тоже ежегодно; Ливонию для Республики завоевать начисто, а против шведов давать по 15 000 войска по первому требованию и по мере траты.
Спорные территории отдать полякам — хрен с ними (территориями). Жолкевский такому счастью не поверил и пропустил удивительных послов туда же, к королю под Смоленск.
Торг продолжался до 2 августа, покуда Лжедмитрий не проник вглубь московских окраин. Тогда был составлен так называемый Салтыковский договор (по фамилии автора проекта Ивана Салтыкова, командовавшего русской командой в войске Жолкевского). В этом договоре было написано много туманных положений о необходимости волчьей сытости и овечьей целости. Но цель договора — протянуть время до окончательной отдачи — была достигнута.
27 августа на полдороги между Москвой и польской ставкой произошла присяга московского боярства королевичу Владиславу. В шатрах, среди переносной церковной бутафории, 10 000 благородных резво присягнули иностранному претенденту. На другой день процедура продолжалась уже в Успенском соборе. Тут патриарх грозно порыкивал на присягавших, чтобы смотрели, сукины дети, не ополячивались и не облатинивались, его, батьку во Христе, не забывали и т. п. Благославивши всех честных бояр и выгнавши в шею из церкви Михайлу Молчанова — Лжедмитриевского антрепренера и году новского оскопите ля, патриарх пошел на честной пир. Там возглашали тосты за нового царя, да спьяну и составили грамотку в провинцию. Дескать, жаль, что вас не было с нами, так мы тут за вас приняли в цари королевича Владислава, который, гадом буду, покрестится в греческую веру, как доедет до Москвы.
Русь не поверила и правильно сделала, потому что через два дня прискакал гонец от короля с грамотой. Хотел король сам получить такое большое и славное царство. А то получалось, что сын его становился больше и славнее отца.
Жолкевский и весь его генштаб рассмотрели на месте это дело и решили, что нечего его величеству завираться. Обстановка была такой, что с новыми глупостями к России подступать не приходилось, а от звука «Сигизмунд» ее тошнило еще с позапрошлого раза. Так что королю ничего не написали, а сами стали выполнять Салтыковский договор. Жолкевский соединился с Мстиславским и жестко приступил к войску бродячего гетмана Сапеги, чтобы тот отстал от Самозванца.
Сапега был не прочь. Лжедмитрия почти уговорили убраться на кормление в удел тестя Самбор. Но тут восстала Марина. Слов не хватает выразить ее возмущение. И мы ее понимаем. Столько перетерпеть и нагрешить, чтобы остаться при своих сеновалах, да еще с придурком на шее?! Так лучше уж погибнуть прямо здесь, среди унылых прудов и приземистых красных стен Угрешского монастыря, где Марина и Самозванец отсиживались до поры.
Далее мы наблюдаем сцену рыцарского промысла в стиле Жолкевского: этот пан все-таки не перестает удивлять нас странным поведением. Жолкевский сообщает москвичам свой тайный план. Ночью, стремительным марш-броском войско польское пройдет от Хорошева через центр Москвы, кланяясь Кремлю в потемках, выйдет за реку, двинет туда, где сейчас Люберцы, найдет место, где сейчас среди горелых гаражей миноборонпромовского городка Дзержинска захламлен Угрешский монастырь. Окружит все это.
Посомневались, но согласились. И так все и было: и ночной марш-бросок, и нетронутые арбатские обыватели, и соединение с войском Мстиславского у калужской заставы, и потное спотыкание по холмам будущей кольцевой дороги, и осада монастыря до петушиного крика. Да вот только сволота московская штабом учтена не была.
Пока войска исполняли полонез на незнакомой местности, по этой же местности, очень хорошо знакомой, проскакал некто в лаптях или козловых сапожках. Спасать царя становилось русской привычкой. Лжедмитрий и Марина умотали в Калугу. Расстроенный Жолкевский вернулся в Хорошево.
Тут его догнали русские, отставшие от Лжедмитрия. Стали они проситься к его высокоблагородию в службу, если он им оставит титулы, жалованные Лже-царем. Жолкевский стал было соглашаться, но бояре столбовые взвыли трубно. Тогда алчные желатели титулов побежали обратно в Калугу, а желатели шкуру сохранить поджали хвосты и согласились командовать, кто ротой, а кто и взводом.
Теперь можно было урегулировать проблему русского престола, чтобы на одном златом крыльце не сидели царь, царевич, король, королевич…
Жолкевский поступил тонко. Кто у нас самый умный и сильный претендент на престол от русских? Князь Василий Голицын. Кто тут больше всех воду мутит? Митрополит Филарет Романов. Ну, так извольте, Панове, поехать с великим посольством к королю, — сделаете главное европейское дело, послужите успокоению России.
Купил! Поехали. Конечно, хорошо было бы их по дороге прихлопнуть, но Жолкевский был честен и светел, а в посольство увязалось 1 246 человек — любителей загранкомандировок. И все с оружием и валютой.
Дипломатическая проблема состояла в быстром крещении налево королевича Владислава. Дело пошло неплохо, стали уже готовить распорядок мирной жизни нерушимого союза республик свободных. Но гладко было на бумаге, а о шведах забыли, о половине Лже-России забыли, о внутримосковской оппозиции запамятовали. Поэтому кругом начались бои. Бояре московские в ужасе стали зазывать Жолкевского в Москву. Он было пошел, так патриоты ударили в набат. Он остановился. Бояре большой толпой продолжали уговаривать гетмана. Он сказал, что есть у него нескромное предложение, которое можно высказать только в интимном кругу. Тогда к нему в палатку зашли боярские делегаты. Жолкевский, стесняясь, объявил им о готовности войти в Москву, но опасении входить в Кремль. Осквернять, так сказать, католическим жупаном обитель православных ряс. В Кремле у нас любой чувствует себя осажденным Москвой, поэтому Жолкевский предложил стать по окраинам столицы и мирно осаждать саму Москву, заодно заслоняя ее от ватаг Самозванца.
Поляки Зборовского проголосовали против, потому что не получалось добраться до сокровищ Грановитой палаты. Пан Мархоцкий тоже укорял Жолкевского, что он уже три года топчется у московского порога, как стеснительный жених. Паны ушли в обиде. Жолкевский, тем не менее, послал письмо в Москву боярам и попросился на постой в Новодевичий монастырь и окраинные слободы. Бояре дали добро. Патриарх, у которого свое было на уме, уперся: нельзя пускать к монахиням таких усталых кавалеров.
На самом деле, патриарха беспокоил не Новодевичий риск, а ускользающая возможность сыграть свою игру. Тут вот что получалось. Царя нет. Наследников нет. Верховная власть у Думы, то есть ни у кого конкретно. Такая власть — мы с вами знаем это и через 400 лет — на самом деле не власть, а один позор и свинство. Эта власть просто валяется посреди Кремля визгливой бездомной побирушкой. И чем больше дней проходит, тем больше вероятности, что кто-нибудь сильный и наглый эту власть подберет, обогреет, умоет и приоденет. И это может быть кто угодно. А власть наша, в натуре, должна принадлежать главному человеку в стране. А кто у нас сейчас главный? Мать моя непорочная! Да это же я, патриарх Гермоген! Я у Бога крайний, я самый перед Богом ответственный работник. Так что другие ответработники должны отвечать передо мной! Вот и народ меня поддерживает.
Действительно, вокруг Гермогена уже сновало множество розовых существ с чуткими рыльцами и торопливыми глазками — «народ»! И стал Гермоген делать важное лицо, стал вызывать бояр к себе. Бояре отговаривались государственными делами и не шли. Тогда Гермоген пригрозил прийти к боярам «со всем народом». Бояре испугались и явились.
Состоялась жестокая схватка за власть.
Гермоген резко говорил против поляков, против Жолкевского, против «правого» крестного знамения. Но конструктивных предложений у него не было.
Думцы, напротив, говорили четко: «Оглянись, святой отец, по сторонам: банды обложили город! Обидишь Жолкевского, — он уйдет хоть сегодня. И ты будешь виноват перед народом, и своим, и нашим. И придется нам всем драпать вслед за Жолкевским — единственным порядочным человеком восточнее Кракова. А в эмиграции накрестишься вдоволь, хоть направо, хоть налево. Так что в политику не лезь, присматривай за церковью, за сохранностью монастырских кладовых, за превращением старых баб в новых дев».
Тут наш Историк не выдержал и взвизгнул, как они посмели обижать почти святого, «будто бы предание государства иноверцам не касалось церкви!» Едва мы его дотащили до графина… Отдышавшись, Историк скорбно заключил: «Как бы то ни было, патриарх уступил боярам, уступил и народ». Теперь все стало на свои места. «Лучшие» русские люди сами зазвали к себе поляков. Чернь московская согласилась с этим, хоть ей и понравилось ставить под успенский купол своего царя. Поэтому не будем больше называть ясновельможных оккупантами.
В ночь с 20 на 21 сентября 1610 года Жолкевский тихо вошел в Москву. Расставил войско польское в Кремле, Китай-городе, Белом городе, Новодевичьем монастыре и по дороге домой — в Можайске, Борисове, Верее.
Был установлен невиданный доселе порядок. Образовались суды из равного количества католических и православных заседателей. И стали эти суды судить бесплатно и честно до дикости. Вот, например, подвыпивший польский легионер, возмущенный безразличием какой-то местной бабы, стреляет ей прямо в кислую рожу. А в похмелье оказывается, что это не баба, а дева. Да еще — Мария. Да еще — нарисованная на православной дощатой иконе. Ну, и что вы думаете объявляет товарищеский суд хулигану? Пятнадцать суток на канале Москва-Волга? Фигушки! — Отсечение рук и сожжение живьем! Стали тогда жолнержи с деревянными девками полегче. Но и с живыми получалось опасно: ты ее честно уволакиваешь в теплое и сытое место, ласкаешь и тешишь, а тебя секут прилюдно по тем же местам до беспамятства. C’est l'amour!
Дальше — хуже. Вот уже стрелецкие полки — славная российская гвардия — соглашаются быть под командой пана Гонсевского. Вот они уже учат его пить по-русски, а он их — похмеляться по-европейски. Вот они уже приходят к своему в доску командиру и спрашивают: «Не пора ли, пан генерал, выявить какую-нибудь измену нашему польскому буржуинству?» И еще дальше — вы не поверите! — сам патриарх Гермоген начинает ходить к Гонсевскому пить чай, вести светские беседы о приятности осенних погод, о желательности скорейшего устройства царства божьего на земле и о целесообразности распространения этого царства от Москвы и Кракова — до Акапулько и Биробиджана. А наместника божьего в этом царстве неплохо бы избирать прямым, равным и тайным голосованием в переносных исповедальнях.
Тут вы, дорогие читатели, уж точно теряете из виду ту полупрозрачную грань между исторической достоверностью и авторскими аллегориями, которая до сих пор легко распознавалась невооруженным органом Чувств…
Итак, гетман Жолкевский достиг полного триумфа. Но после логического анализа успехов стало нашему пану очень страшно. Судите сами. Армия у него малая, нежная и добрая. Вокруг — медведи, испуганные бояре, враждебная и коварная церковь, уголовный элемент в государственных масштабах, забитый народ, испорченная нравственность. Так что, выходило, — опасность исходит отовсюду и ото всех. Кроме медведей. И все эти заряды неблагополучия готовы рвануть в любую секунду, и что тогда оставалось от победы Жолкевского, третьего покорителя Руси после Рюрика и Батыя и единственного достойного ее завоевателя за всю историю? Ни-че-го!
И запросился Жолкевский домой. Хотел вовремя выйти из игры.
И уехал пан Жолкевский. И бояре пешком провожали его по можайской дороге. И простой народ бежал следом, и, забегая перед каретой, рыдал и говорил ласковые слова, и просил остаться…
Жолкевский забрал с собой бывшего царя Ваську с братом-уголовником и еще несколькими Шуйскими, чтобы добавить их к Филарету и Голицыну, отдыхающим в королевском лагере под Смоленском. Хотел-таки обезопасить дело рук своих от новой смуты.
А под Смоленском шли суды да ряды:
— посылать ли юного королевича править Русью?
— кого ему приставить в дядьки?
— не испортит ли юношу московская мораль?
— не вспыхнет ли бунт невесть от чего?
Еще вспоминали времена Грозного, Годунова и Шуйского. Пытались понять логику принятия русскими политических решений. И ничего понять не могли.
«Послы» московские — Шуйские, Голицын, Романов — еще больше запутывали дело возражениями о вере. Один за другим прошло 5 русско-польских «съездов». Тут подъехал Жолкевский, которому все обрадовались, особенно русские. Они наперебой называли его Станиславом Станиславичем и держали за родного. Следом из России стали приходить вести о шведском наступлении, бегстве 300 бояр к Самозванцу, шатаниях в народе.
Решению всех дипломатических проблем мешал еще не взятый поляками Смоленск, торчавший под боком у лагеря. Из-за упорства Филарета договориться по-мир-ному не удалось, и 21 ноября начался штурм, превратившийся в долгую осаду на фоне переговоров.
В Москве Гонсевский добрался до казны, начался нормальный бардак, обиженные при дележке разбитых золотых икон побежали к Лжедмитрию. Казань и Вятка официально перешли под его крыло. Назревало новое столкновение, но нарыв лопнул из-за бытовой случайности.
Памятной ночью бегства царя из Угрешского монастыря в Калугу отстал от него и перекинулся к полякам касимовский царик. Потом этот старик отпросился у гетмана съездить в Калугу за сыном. Поехал, как ни в чем не бывало, воссоединить семью. В Калуге наглого ренегата схватили и показательно утопили в пруду. И пришла беда. Оказалось, что личная охрана Дмитрия Ивановича Лже-второго сплошь состояла из сикхов… пардон, из татар. Коварные азиаты поклялись отомстить за соотечественника.
11 декабря 1610 года они зазвали господина за город поохотиться по насту на зайцев. Убили нашего очередного царя, как зайца, ускакали в свои степи.
Заячья охота продолжилась в Калуге. Здесь беременная Марина, узнавши от уцелевшего царского шута о своем вторичном вдовстве, стала бегать по городу и взывать к мести. Казаки подняли местных татар в гон. Набили сотни две косых, пожгли и пограбили их дворы. От этих сует Марина по-быстрому родила сына, которого назвали в честь «дедушки» Иваном и провозгласили царем. И Калуга тут же присягнула… королевичу Владиславу.
Но потом зазвучал обратный мотив. Раз нашего царя нет, так и вашего королевича — не хотим! Все сразу стали объединяться, прилежно креститься налево, ругать поляков и дурацкую королевскую Республику, желать нового, настоящего царя.
Объявились истинные патриоты. Прокофий Ляпунов, воевавший за короля, теперь гордо встал за Русь православную, начал переписываться с братом Захаром, находившимся в посольстве под Смоленском. Народ восстал по окраинам за родную столицу. Нижегородцы послали ходоков в Кремль к Гермогену: благослови, батяня, восстать против гнилой папской нечисти. Патриарх благословил героев — на словах. Документ выдать уклонился за отсутствием Писца. А сам носитель благодати писать как бы и не умел.
По городам пошла самиздатовская нижегородская присяга: поляков бить и гнать, католиков ненавидеть, королевича, впрочем, согласны принять и правильно крестить, нельзя же без царя!
Началось обычное при таком развороте мифотворчество. Наивные ярославцы писали казанским «зайцам», что «свершилось нечаемое: святейший патриарх Гермоген стал за православную веру неизменно!» Воистину — нечаемое!
Опять все складывалось по-старому: вы бейте абстрактного врага христова, а мы уж с вами управимся. Но возмутился Ляпунов: пора же наконец повыбить падаль с небес, прогнать кремлевскую сволочь, предателей и нахлебников московских!
Задело! Ляпунова приняли в вожди. Он собрал «тушинских» бояр, приголубил Заруцкого, спавшего с Мариной, пообещал короновать самозванного младенца Ивана. А под такой аванс и Лев Сапега на целый месяц перебежал обратно от короля к Ляпунову! Дело Дмитрия Иваныча оставалось жить в веках.
Пока Сигизмунд под Смоленском унизительно торговался с осажденными, Россия загуляла вовсю! Началась неразбериха. Бывшие «воровские» города по смерти Вора присягнули королевичу, но бродячий польский отряд Запройского напал на них и выжег союзников. Запорожцы Гонсевского осадили Ляпунова в Пронске, но его выручил Пожарский. Потом Исак Сумбулов осадил Пожарского, но был бит. Уже никто не понимал, кто за кого и против кого.
Всех манила пустая Москва. Туда, как в водяную воронку, устремились полки со всей страны. Видя гибель государственного устройства, бояре во главе с Салтыковым явились к патриарху и стали требовать, чтобы он вернул вспять всех, кого накликал на Москву своими устными призывами. Но патриарх надулся, обозвал Салтыкова изменником, сообщил о непрерывной тошноте при звуках латинских песнопений, мерещившихся ему в Кремле. Патриарх, таким образом, тонко почувствовал тот неуловимый момент, когда воровской бунт, пьяный разгул, бандитский «гоп-стоп» превращаются в порыв революционных масс, народное воодушевление и справедливое возмездие соответственно. Теперь патриарх готов был даже умеренно пострадать. Его и посадили под домашний арест.
Великого Жолкевского не было, и в городе началась истерика.
Полякам стало страшно многочисленности русских и малочисленности своих. Они на всякий случай стали отнимать у прохожих оружие. Дошло до изъятия топоров и ножей в скобяных лавках. Последовал запрет на ввоз непиленных дров — длинные жерди годились на пики. От страха стали паны выпивать. Суды не действовали, — по женскому следу можно было скакать смелее. Но любовь русских хозяев и польских гостей сменилась подозрительностью и ненавистью. Поляки заперлись в Кремле и монастырях, святотатственно потащили на стены пушки. Ляпунов подходил к городу, и бояре пытались спровоцировать польских друзей на упреждающий удар.
17 марта, в Вербное воскресенье, патриарха собирались выпустить на время — для исполнения роли Христа, въезжающего в Иерусалим. Гермоген должен был прокатиться на ишаке вокруг Кремля и въехать на соборную площадь. Москвичи при этом, за неимением пальмовых ветвей, размахивали бы веточками вербы. Распространился слух, что святейшего кто-нибудь обязательно убьет. Верующие, то есть все, не пошли «за вербой». Но лавки открылись, базар на Красной площади зашумел. Тут некий Козаковский из хозяйственных служб стал заставлять базарных извозчиков помогать полякам затаскивать пушки на башни, очень уж это было высоко и неудобно. Возникла склока и крик. Восьмитысячный отряд немецких наемников из кремлевской комендатуры недопонял, чего кричат по-русски. Подумали, что началось. Ну, и началось! Немцы стали рубить всех подряд. Туда же влезли и поляки. Убили 7 000 мирных обывателей, убили старого князя Голицина, сидевшего под стражей. В Белом городе русские успели подняться в ружье. Ударили в набат, стали строить баррикады. А тут, откуда ни возьмись, на Сретенке оказался Пожарский. Он загнал поляков и немцев в Кремль и Китай-город, окружил их заставами.
Поляки — вот Европа несмышленая! — решили «выкурить русских из Москвы». То есть, вы представляете: наши везде вокруг, а немцы с панами — в Кремле и начинают жечь хату через прутья мышеловки. Агенты несколько раз палят отдельные деревянные здания, Салтыков сам зажигает свой немалый терем. Сначала горит плохо: март! Но потом вдруг загорается. Поднимается страшный ветер, занимается вся Москва за исключением Кремля и Китая: ветер дует с реки. В общем, можно подумать, что это обитатели дурдома по-своему сыграли в пожар Московский при Наполеоне.
Теперь, следуя той же логике, нужно было выкуривать москвичей из Замоскворечья. Запалили. Потом напали на блок-посты Пожарского, сильно поранили нашего героя, и его повезли помирать поближе к Богу — в Троицу. Тут ударил страшный мороз. Погорелые обезумевшие москвичи вышли в чисто поле: в городе больше негде было жить. Москвичи запросили пощады у Гонсевского. Он простил их и велел прощенным для пометки подпоясаться белыми полотенцами.
Пасху встретили спокойно. Но в понедельник к городу подошло наконец стотысячное ополчение Ляпунова, усиленное «бронетанковыми» ударными частями — гуляй-городками. Осада Китай-города началась б апреля. За два месяца осажденные изголодались, обносились, да и всего их осталось меньше 3 000. Решили они тогда взять русских на испуг. Распространили слух, что помощь на подходе, и 21 мая стали салютовать, как бы приветствуя гетмана литовского Ходкевича. Настрелявшись, легли спать. Ночью начался русский штурм, и за день все было благополучно кончено.
В Смоленске канцлер Сапега решил обмануть пленных «послов». Он сказал им, что русские в Москве восстали, были все перебиты, столица сожжена, остатки москвичей разбрелись бунтовать по всей стране, и нельзя ли их как-нибудь успокоить? Послы закручинились и отвечали, что единственное верное средство — это чтобы король шел себе в Польшу. Сапега стал соглашаться, но только если русские уступят самую малость: впустят королевское войско в Смоленск погреться. Послы уперлись. Их ограбили до нитки и повезли в Польшу на речной посудине под стражей и без почестей.
Тогда уж стали поляки штурмовать Смоленск. Как водится, предатель Дедешин указал им слабое место стены, туда ударили пушки. Ночью 3 июня поляки вошли в пролом. Воевода Шеин встретил их с саблей на раскате и гордо заявил, что умрет за родину и православную веру, что будет биться до последней капли крови, но не сдастся никому… из рядовых пехотинцев. Пришлось пану Якову Потоцкому лезть на раскат, царапая сапожки обломками стены, и брать в плен гордого полководца.
Защитники Смоленска, видя гордость начальника, решились поддержать его. Их оставалось по причине голода и цынги всего 8 000 из 80 тысяч. Они сдались еще более уверенно.
А жалкая горстка мирных обывателей, зачумленных проповедями о греховности правого креста, заперлась в церкви Богородицы, запалила скрытый там пороховой погреб и взлетела к Отцу небесному.
Поляки так обрадовались взятию проклятого Смоленска, что не выдержали и вместо продолжения кампании впали в торжества. 29 октября 1611 года был изображен триумфальный въезд гетмана Жолкевского в Краков. В карете везли «царя» Василия Шуйского с братьями. Василий был одет в мантию и копию Шапки Мономаха. Жолкевский произнес торжественную речь, в продолжение которой Шуйские не уставали кланяться в ножки, целовать польскую землю и проливать горькие слезы в соответствии с текстом Жолкевского. Пан гетман, впрочем, был верен себе. В конце речи он попросил короля быть милостивым к пленным властителям России.
Бояре польско-московские прислали королю поздравление, горько посетовали на упорство Шеина и смолян, поплакались, что новгородцы посадили на кол Ивана Салтыкова за польскую службу его отца, в общем, справедливо жаловались на свой непонятный народ.
От такого представления у панов и вовсе вскружилась голова. Они думали, что все у них хорошо и королевская Республика теперь необъятно раскинется от миллиметровых германских границ до немеряных сибирских лесов на полглобуса.
А в Москве ополченцы настраивали новый быт. 30 июня 1611 года состоялся земский съезд, который избрал правительство — революционную тройку из двух «тушинских» бояр Трубецкого и Заруцкого и настоящего думного дворянина Прокофия Ляпунова. Народный «приговор» новым начальникам содержал пункты о необходимости все, ранее реквизированное, отнять и поделить по-честному. Чего успела церковь нахватать, того не трогать. Был быстро и в общем-то неплохо составлен распорядок жизни без царя, объявлена амнистия боярам да дворянам Шуйского и Самозванца.
Новый триумвират сразу вспыхнул взаимной ненавистью. Не будем разбирать, кто кого и за что не полюбил. Мотив понятен. Каждый хотел быть царем, чтобы не советоваться, а покрикивать, не утверждать казенные расходы, а «иметь» казну и ходить в Шапке.
Ляпунов написал «приговор» против уголовных ухваток казачества. Казачьи «бояре» Трубецкой и Заруцкий решили его убить. Гонсевский с кое-каким войском спокойно находился в Москве и ускорил дело. Он написал грамоту от имени Ляпунова с приказом «где поймают козака — бить и топить», умело подделал подпись и подсунул фальшивку казакам. Собрался сход, Ляпунова вытащили в круг и, несмотря на оправдания, зарубили. Партия трижды покойного Дмитрия Иоанновича снова торжествовала.
Вскоре из Казани привезли чудотворную копию не менее чудотворной иконы Божьей матери. Сейчас считается, что она прекратила «польское нашествие», но в 1611 году на глазах у Приснодевы пролилась немалая кровь. Дворяне да бояре приоделись встретить гостью, людей посмотреть — себя показать. Лжедмитриевская черная сотня возмутилась, чего это они выпендриваются, как при старом прижиме? Началась резня. Дева Казанская не успевала водить деревянными глазами за бегающими туда-сюда и дерущимися насмерть православными. Хороша встреча!
Уцелевшее боярство да дворянство из ляпуновской партии разбежалось по стране. Самые находчивые купили у Заруцкого места губернаторов и умотали в провинцию «наверстывать заплаченные деньги».
Тем временем шведы взяли Великий Новгород. Наш знакомый Делагарди стоял под городом и торговался с послами московскими, на каких условиях дать им в цари шведского королевича. Новгородцы от скуки запили, стали вылазить на стены, ругать шведов по-русски. Один храбрец по фамилии Шваль даже упал в плен. Когда протрезвел, поступил в соответствии с фамилией: в ночь на 18 июля ввел шведов в город через забытую дырку в заборе. Войско московского посла Бутурлина поспешно отступило из города, ограбив новгородцев, «чтоб не оставлять добра врагу». Местные под водительством протопопа Аммоса, бывшего как раз под церковным «запретом», геройски сопротивлялись, но погибли в огне. Митрополит Исидор, наблюдая подвиг Аммоса, посмертно простил героя и принялся за переговоры с Делагарди о шведском королевиче.
В Москве поляки осмелели, получили подкрепление, — Сапега пришел к ним с продовольственным обозом. Потом подошел-таки Ходкевич с 2 000 пехоты и захватил Белый город. Москва была почти взята, но Сапега разболелся и 14 сентября умер в Кремле. Потоцкий и Ходкевич заспорили, кому считаться покорителем Москвы, погода испортилась, русские наконец сосчитали, что поляков совсем мало. Ходкевич отступил под Ржеву. Оставшимся полякам Гонсевский стал начислять большие деньги за стойкость. Самих денег пока не было, но он положил залог из кремлевских сокровищниц. Среди заложенного имущества было седло Лжедмитрия I — все в алмазах, две короны — Годунова и Самозванца, посох царский единороговый с каменьями, несколько заготовленных впрок рогов и копыт чудесного зверя единорога, «которые тогда ценились очень дорого», а сейчас из-за дурной экологии перевелись вовсе…
Надо сказать, что единорог в Европе считался явлением мистическим, вроде эльфа, феи, гнома. Встреча с единорогом была столь же редким явлением, как, например, с архангелом Гавриилом. Последствия от встречи — столь же существенными и удивительными. Иметь единорога в придворном зверинце было высшим кайфом. Для достижения этого кайфа обычно использовалась чистенькая белая лошадка, на голову которой придворный колдун умудрялся прикрепить чей-нибудь рог, естественно, позолоченный…
В Кремле еще оставалось немало «настоящих» бояр. Они не уставали писать жалобные призывы королю Сигизмунду III, чтобы он пришел и правил.
Из Троицкой лавры братия распространяла по Руси призывы восстать за Москву. Уместнее было бы благословлять народ патриарху, но Гермоген сидел в Кремле под арестом, Игнатий — патриарх Лжедмитрия Первого — сбежал в Польшу. Поэтому писали архимандрит троицкий Дионисий и келарь Аврамий Палицын.
Восстание на этот раз началось в Нижнем. Темой восстания было: установить на Руси русский порядок любой ценой. Самым незапятнанным и праведным среди нижегородской верхушки оказался мясник Кузьма Минин Сухорукий. Фамилия героя на нашем памятнике у храма Покрова указана неправильно. Звали спасителя — Кузьма, это факт. Уменьшительное отчество его было Минин. Правильное отчество, скорее всего, Дмитриевич. Но был он человек полуподлый, отца его кликали Минькой. А настоящая фамилия Минина была Сухорукий.
Когда «лучшие» нижегородцы узким кругом слушали чтение троицкой грамоты, Минин встрял со своим рассказом. Хоть и был он честен, но поперед заворовавшихся и трижды изменивших князей да стряпчих ему вылазить не приходилось. Поэтому выразился он иносказательно: «Святой Сергий явился мне во сне и приказал возбудить уснувших; прочтите грамоты Дионисиевы в соборе, а там что будет угодно Богу». Стряпчий Биркин, успевший послужить Шуйскому — Тушинскому Вору — Шуйскому — Ляпунову, хотел перехватить инициативу и стал отговаривать от собирания толпы и публичного чтения: как бы чего не вышло. Минин принародно назвал его «сосудом сатаны», и на другой день грамота была читана всем нижегородцам. Минин выступил с пламенной речью в чисто русском стиле: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, дворы продавать, жен и детей закладывать и бить челом — кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». Случился коллективный энтузиазм. Все стали отдавать по две трети имущества неведомому начальнику, треть — оставлять себе, чтоб не сдохнуть. Конечно, некоторые не хотели вступать в колхоз добровольно, — у этих все отняли силой. Оставалось найти хорошего человека, чтобы он народные денежки потратил с умом. Неподалеку долечивался от боевых ран выживший под сенью святой Троицы князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Минин с ним списался, договорился. Послы нижегородские приехали Пожарского официально пригласить. Пожарский поставил свое условие: чтобы при нем был кто-нибудь из гражданских для присмотра за казной. Наивные нижегородцы намека не поняли и отвечали, что нету, дескать, во всем Нижнем Новгороде такого ученого человека». Как, нету? — настаивал князь. — Есть у вас Кузьма Минин… ему это дело за обычай».
Вернувшись, послы стали уговаривать Минина. Он поломался «для укрепления», затребовал письменного обещания повиноваться и неустанно собирать деньги на войско. Еще Минин вписал в «приговор» свои любимые слова о необходимости закладывать жен и детей и отправил ценный документ на хранение Пожарскому, так как боялся оставлять эту бумагу у себя.
В других городах желание восстать против безвластия тоже присутствовало, но вождей недоставало. Поэтому в Нижний пошли письма и поскакали гонцы с просьбой принять пополнение под княжескую длань.
Навстречу понеслись нижегородские грамоты обычного содержания, подписанные Пожарским, Биркиным и кем угодно, кроме Минина.
Стали собираться войска. Первыми пришли полки из Коломны под командой бывшего королевского наместника Сукина с его таким же сыном. Потом пришли рязанцы и прочие. Потом часть откололась с дьяком Шульгиным и тем же Биркиным, желавшими старшинства.
Появились наконец и новые Дмитрии Иванычи — во Пскове и Астрахани, где подобрал кого-то, внешне похожего, убийца второго Самозванца татарский князь Петр Урусов. Псковского безымянного вора казаки притащили в подмосковный стан и быстро ему присягнули.
Бояре московские стали уговаривать Русь спасаться от бандитов, не бунтовать и идти под королевича Владислава. Но нижегородскую мобилизацию уже остановить было нельзя. Пожарский взял Кострому и Ярославль в начале апреля 1612 года. Весь поход Пожарского проходил на фоне усиленного обмена грамотами с губерниями провинциальной России. Под грамотами ставили свои подписи начальники похода строго по чину: сначала боярин Морозов, потом боярин Долгорукий и т. д. Десятым подписывался главнокомандующий князь Пожарский. И только на пятнадцатом месте «в Козьмино место Минина князь Пожарский руку приложил». За Мининым шли бывшие предатели, перебежчики, раскаявшиеся князья да бояре, всего 34 человека.
По сути, войны никакой не было, а был огромный весенний снежный ком, который то ли докатится до первопрестольной, то ли растает по дороге.
20 мая вконец запуганные сторонники третьего Вора повязали своего кандидата и 1 июля повезли его в Москву. Заспешил туда и Пожарский, он получал вести, что казаки добивают в Подмосковье последних дворян да бояр. 14 августа Пожарский ночевал под Троицей и сильно сомневался, идти ли дальше. Его не пугали поляки в Москве и войско Ходкевича в Рогачеве. Он боялся казаков. Гражданская война могла вспыхнуть не на шутку.
18 августа войско выступило при чудесном знамении. В лицо колонне, подходящей под благословение архимандрита, ударил ураганный ветер. Настроение у бойцов упало, но когда все перецеловали золотой крест Дионисия и окропились святой водичкой, ветер переменился и погнал войско на Москву, так что нельзя было даже оборотиться на златоглавую святыню. Опять, как на Куликовом поле, Богоматерь умело управлялась с погодой.
Вечером того же дня Пожарский стал лагерем под Москвой. Рядом располагался табор казаков Трубецкого. На призыв братишек пристать к их ватагам Пожарский ответил лозунгом: «Отнюдь нам с козаками вместе не стаивать!» Простояли раздельно, но мирно три дня. 21 августа на Поклонной горе появились войска Ходкевича, опять идущего на подмогу малочисленному кремлевскому гарнизону. 22 августа Ходкевич переправился через Москву-реку и напал на Пожарского. Дело оборачивалось в пользу гетмана, но казаки плюнули на распри и классовую неприязнь и переправились на помощь ополчению. Ходкевич отступил. Ночью 400 возов еды и 600 человек польского конвоя с проводником-преда-телем Гришкой Орловым почти проехали в Кремль, но были захвачены ополченцами. 23 и 24 августа все стычки с польскими отрядами были Пожарским проиграны.
Поляки на радостях вывесили свои пестрые знамена на церковных куполах св. Климента. Казакам это не понравилось, они напали на польский острог, захватили его, но заметив, что бояре Пожарского спокойно наблюдают за боем, плюнули с досады и пошли к себе в лагерь. «Дикари!» — проворчал Историк.
Без казаков ничего не получалось. Тогда наш славный Писец, троицкий келарь Палицын, стал ходить по станам и уговаривать станичников бросить азартные игры, пьянство и разврат и постоять, в конце концов, за истинную веру.
— А чего? Мы и постоим, — отвечали Аврамию шаткие бойцы. Сначала один отряд, потом другой, а за ними и все таборы казачьи поднялись в бой. Минину стало неудобно, он выпросил у Пожарского три дворянские сотни перебежчика Хмелевского, переправился через реку там, где сейчас Крымский мост, напал на гетманский стан и в жестоком бою перебил 500 человек из малочисленного гетманского войска. Гетман отступил на Воробьевы горы. К утру он уже бодро маршировал на Можайск.
В осажденном центре Москвы было голодно, самые небрезгливые «люди литовские» уже варили в полевых кухнях и поджаривали на кострах части тел, ненужные павшим сослуживцам.
Трубецкой и Пожарский надолго заспорили, кому ездить с докладом, а кому важно восседать на месте. Пока Дионисий их уговаривал и мирил, в Кремле стало совсем худо. 22 октября казаки пошли на приступ и взяли Китай-город. Кремлевские бояре взмолились к Пожарскому, чтобы «пожаловал, принял их жен без позору». Пожарский лично у ворот встретил княгинь да боярынь и отвел их под присмотр и на кормление к Минину. Казаки чуть не задохнулись от такой наглости. Одни, значит, годами без баб белую кровь проливают, а другие сидят на народных деньгах, в бою их не видать, спят в теремах и не в одиночку, так еще законной добычи не дают! А ну-ка, мы этого Пожарского убьем! Но покричали, погорячились и успокоились.
Кремль решил сдаться. Сперва под гарантию жизни выпустили «русских людей» — бояр Мстиславских, Воротынских и прочих. Казаки хотели их порубать. Ополчение Пожарского встало стеной за родную власть. Бояре были уведены в хорошие места «с большою честию» (!). Потом сдались поляки. Их пришлось поделить. Наши казачки свою долю военнопленных, конечно, поубивали да пограбили. А те, кому повезло попасть к союзникам, были обласканы, напоены и накормлены. Пытали только казначея Андронова, куда девал кремлевские сокровища? Недолго мучился Андронов и выдал шапки царские, кое-какие камушки, всякую мелочь. Куда подевались рога и копыта волшебного зверя, в «пы-тошном» листе не сказано.
Надо было праздновать победу. С двух разных концов Москвы двинулись в Кремлю два крестных хода. Один с Пожарским и ополченцами, другой — с казаками Трубецкого. Из Кремля им навстречу вышел третий, чисто поповский, крестный ход с известной нам Владимирской богоматерью. Москвичи все взвыли от радости и попадали на колени. Они уж и не чаяли увидеть вновь прекрасный лик. Тут бы Пожарскому подойти к Матери и сыграть сцену в стиле Годунова — «Зачем ты, Дева, меня, недостойного, тащишь в цари?…» Ну, нет, конечно, не посмел. Скромен и политически недалек был наш Дмитрий Михалыч.
Вошли в Кремль, брезгливо перешагивая через коричневые пирамидки, оставленные оккупантами. В церквях стояли чаны с недоваренной человечиной, поэтому все слова с намеком на еду вызывали у победителей немедленную рвоту. Но «обедню» все-таки отслужили.
Упустивши шанс, Пожарский поселился теперь на Арбате в окуджавской меланхолии и ездил в кремлевский дворец Годунова — к Трубецкому с докладом. От сих пор карьера Пожарского тихо угасала и окончилась, как началась: в компании мясника Минина-Сухорукого под Кремлевской стеной. Да и то, когда нужно было строить действующую модель египетской пирамиды, князя со товарищи попросили подвинуться. «Куда?» — удивленным хором спросили бронзовые от негодования Минин и Пожарский. «К богу!» — заржали лихие людишки очередного самозванца, задвигая памятник вплотную к храму Василия Блаженного.
О Русь! Блаженна еси!
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ И ОТЕЦ ЕГО ФИЛАРЕТ
Казаки постепенно рассеялись по стране для грабежа, бывали биты и стали как бы не опасны. Польский король Сигизмунд III, напротив, был грубо вытолкан Республикой на Москву, — нечего, пан король, нежиться! Русь замерла. С королем никто из панства не пошел, но странный монарх добрался-таки с парой тысяч немцев до Волоколамска. И отсюда уже честно бежал восвояси. Русь ликовала. И можно было выбирать царя.
Готового решения на этот раз не имелось, и поэтому съехавшийся земский собор угостили для начала трехдневным постом. Потом началась нормальная коллективная работа. Сначала был поставлен вопрос, чьих у нас будет царь? На волне патриотизма решительно высказались против польских, шведских и прочих немецких королевичей с малейшим акцентом негреческой веры. Четко обозначили отказ Маринке и ее подкидышу, буде они еще объявятся. Стали выбирать из чисто русских. Конечно, возникла дикая свара, как на лесной лужайке в злопамятном 862 году — вот уж ровно 750 лет назад. «Всякий хотел по своей мысли делать, всякий хотел своего, некоторые хотели и сами престола, подкупали и засылали». Чувство никак не притуплялось.
Собор шел в отсутствие многих матерых бояр, — Мстиславского и прочих, — они не успели еще добраться по грязи и снегам из своих поместий и укрытий. Нужно было пошевеливаться, пока не налетела главная сволочь и не поворотила все по-своему. Нужен был тихий кандидат. Поэтому некий представитель города Галича выступил вперед и заявил, что ближе всех к царскому роду находится юный Михаил Федорович Романов…
Отцом выдвинутого малого был Федор Романов, он же — племянник царицы Анастасии, он же — двоюродный брат настоящего царевича Дмитрия и двинутого царя Федора Иоанновича, он же — митрополит Филарет, подельник Годунова на 50 % доле, он же — униатский лже-патриарх Московский и всея Руси от Лжедмитрия Второго и гетмана Сапеги, он же — смиренный чернец, митрополит Ростовский, сидящий в польском плену, которому теперь за монашеством ни половины власти не светило, ни фигушечки. Вот и посчитали Филарета неопасным…
Итак, незнакомец из Галича уверенно предлагает мальчишку в цари. В делегациях ропот недоумения. Но многие справедливо полагают, что тут не без подвоха, и помалкивают. Тут вступает как бы оппозиция. Некий донской атаман торжественно подает в президиум грамоту. «Что это ты подал, атаман?» — с подходцем спрашивает князь Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», — чеканит станичник. Тут же несколько делегатов наперебой кричат, что раз уж волки и овцы единогласны, так значит здесь — истина! Собор быстро голосует буквально, не карточками или партбилетами, а криком. Сразу оформляется протокол. Немедленно скачут гонцы во все края. И когда забрызганный санный «поезд» Милославского въезжает-таки в Кремль, его обгоняют эти же гонцы, летящие обратно с единодушным одобрением правильного решения всей необъятной страной. Четко!
21 февраля 1613 года, в первое воскресенье Великого поста, состоялся последний собор, на котором были собраны письменные мнения делегатов — все единогласно за Михаила.
Тогда рязанский архиепископ Феодорит, знакомый наш Писец Аврамий Палицын, Новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Морозов поднялись на Лобное место и квартетом спросили у народа, кого он хочет в цари.
«Михаила Федоровича Романова!» — дружно закричал понятливый наш народ.
Тут выяснилось, что «никто не знал подлинно, где находился в это время Михаил». Тогда определили общее направление на Ярославль и послали в розыск шумную команду во главе с давешними лобными ораторами. Были подготовлены грамоты и разыграны варианты. Если Михаил и мать его Мария (в монашестве — Марфа) упрутся с первого раза, то умолять по годуновскому сценарию, а если смекнут, что воцарение Михаила — это верные кранты пленному папаше Филарету, то успокоить заверением, что уже собран целый кукан знатных литовских карасей. И всех их, а также всех простых пленных, отдадут немедля за одного Филарета. И что предложение меняться королю уже послано.
И понеслась! 25 февраля 1613 года была разослана по городам грамота об избрании Михаила. 2 марта разведчики отправились в свободный поиск. 4 марта в Москву посыпались доклады от воевод и градоначальников о поголовном признании Михаила на местах и свершенной массовой присяге. 13 марта команда Палицына уже была в Костроме и точно знала, что Михаил с матерью сидят в Ипатьевском монастыре. На другой день был составлен крестный ход, и все двинулись в монастырь. Увидав такое чудо, Михаил с матерью и монахами вышли поглазеть на шествие. Они будто бы не знали, от чего сыр-бор. А как узнали, так стали четко играть по Годунову. Михаил «с великим гневом и плачем» стал отпираться. Мать его Марфа кричала, что не благословляет и проч.
Я застыдился было настаивать, что мать Марфа-Мария кривила душой. Ведь только что другая Марфа-Мария три раза подряд похоронила сына Дмитрия. Новая Марфа сама едва успела упокоиться во Христе и остыть от беспокойного мужа, как в Москве людей стали есть поедом в прямом смысле и без соли. И теперь отдать своего мальчика в Москву? Хоть и в цари? Нет, это получалось страшнее, чем сейчас в армию.
Наши делегаты почти силой заставили монахиню с сыном пойти за ними в церковь под неусыпное око господне. Ну, хоть послушать, чего и как. В церкви были читаны грамоты. Тут Марфа так точно стала следовать тексту пьесы, что я успокоился. Все нормально!
Марфа напирала на измену бояр Годунову, которого они вот точно так же «уговаривали», потом — Шуйскому, которого они предали, потом — Лжедмитрию, которого они же убили. Потом Марфа углубилась в экономику и пошла-поехала: государство разорено, деньги разворованы, границы дырявые, госслужащие без зарплаты который месяц. Как же тут царствовать?
Понятно, мать хотела сыну новенького, чистенького царства, сверкающего, как пасхальное яичко Фаберже. Эх, мать! Ты ж еще не Знаешь, что сперли рога!
Бояре продолжали гнуть свое: и Годунова они взаправду не звали, — это все была игра; и Лжедмитрий был царь не настоящий, а настоящего Дмитрия — как, вы не слыхали? — Годунов убил собственной рукой; а черта лысого Ваську народ выбрал в цари спьяну и «малым числом». Но ваш Миша будет, как раз наоборот, — всенародный, законный, хороший царь. Звучало неубедительно, но утомительно — с 3 пополудни до 9 вечера.
Тут настало время вечерней сказки. И попы да бояре рассказали Мише, как один гадкий мальчик в одной балованой стране не слушался старших и отказывался мыть руки, кушать кашку и быть царем. И добрый боженька «взыскал на нем конечное разорение» той блудливой страны, сделал мальчика горбатым уродом, а маму, дурно воспитавшую сына, лишил родительских прав и превратил в жабу! «А папу?» — не успел спросить Миша… «А что папу? — страшно хрюкнул розовый сказочник. — Папу рогатые Панове извлекли из холодного и голодного плена и утащили в жаркую преисподнюю принудительно кормить расплавленной серой через кружку Эсмарха. Все! Конец сказки, малыш. Тебе уже шестнадцать? Теперь будет взрослое кино!»
Тут Михаил согласился, принял благословение мамы, получил у архиепископа посох, допустил всех поцеловать ручку, пообещал приехать в Москву. Скоро.
И сразу ударил гимн России. Вернее, увертюра композитора Михаила Глинки к опере «Жизнь за царя».
И с первыми утробными басами и сопрано на лопоухого слушателя полились ушаты художественного вымысла. Примерно вот такие. Будто бы народный герой Иван-не-знаем-как-по-батьке-Сусанин был вызван из села Домнина к польским полицаям и спрошен о месте нахождения царя. А о царе Михаиле извергам будто бы стало известно уж не иначе, как от предателя в партизанском отряде. Или Кремле. И тогда Сусанин устроил гадам проверку на дорогах. Повел он их в буреломы костромские, куда потом и дед Мазай зайцев не гонял. А эти остолопы все шли и шли за ним. А потом он сказал им, что привет вам, Панове, извольте на мазурку! А они его стали пугать страшными пытками. А он им сказал, ну что ж, пытайте, фашисты, ничего вы не узнаете, и дороги я вам не покажу! Тогда паны стали спрашивать, с чего это в русском народе такая крепость и сила, что последний деревенский, неграмотный мужик готов положить жизнь за царя, а пути к нему не указать? «А с того, господа оккупанты, что я и сам заблудился!» — хотел сказать Сусанин, но гордо промолчал. Так и убили поляки Ивана Сусанина, а потом и сами замерзли. И их замерзающих, но еще живых, жрали наши родные православные волки! Кода.
Но все это невская ложь.
Первоначальные слова оперы — по-научному либретто — были такие.
Поляков в костромской глухомани уж давным-давно не водилось. А были там казаки-разбойники, которые после взятия загаженной Москвы и облома с боярскими дочками ушли на север грабить, жрать, пить, удовлетворять на просторе другие уставные надобности. И узнали эти добрые люди от своих людей в преисподней… пардон, в первопрестольной, что выбрали в цари пацана. И пацан этот где-то тут, под Костромой. И стали бандиты у всех спрашивать, как бы этого царя взять в заложники, а потом сменять хоть на лимон баксов. И все хором сказали, что никто не знает, а знает только Ванька Сусанин, но никому не говорит. Тогда казаки потащили Ваньку в круг, сначала для протокола спросили по-хорошему, потом стали жечь и рвать его: где царь, мужик?
— Не знаю, — честно отвечал Сусанин. Тогда они его убили. Вот теперь — кода!
А как же поляки? А куда делся скаутский рейд по сугробам? А где же народный хор с бубенцами? Увы, не было.
Поляков подставили вместо казаков за то, что, когда Глинка все это писал, казаки как раз строились в лейб-гвардейский конвой вокруг действовавшего тогда царя — потомка Миши, не дорезанного их предками. Вот вам и опера.
Так что ж тут удивляться, что нынешний гимн России — без слов?
А Сусанин-то все равно герой? Герой! Так по делам и слава. Берем оперу «Жизнь за царя» и переименовываем ее в одноименную оперу «Иван Сусанин» на целых 80 лет.
19 марта 1613 года, как раз в мой день рождения, но по старому стилю, выехал Михаил из Костромы. 21-го прибыл в Ярославль, тут стали пить да гулять, неторопливо пересылаясь с земским собором уверениями в совершенном почтении, и чтоб вы, дорогие москвичи и прочие, крепко держались крестного целования, холопы. Собор уверенно отвечал, что все настраивается.
На самом деле еда кончалась — все съедал земский съезд, — а до нового урожая нужно было еще дожить. Да и доносы приходили поминутно, что литовские отряды бродят по окраинам, оргпреступность цветет буйным весенним цветом и т. п. Поэтому Михаил дальше поехал очень медленно. Голодные ярославцы времен переименованной оперы, высаженные из «колбасного» поезда Рыбинск — Москва за безбилетность, и то добрались бы по шпалам до ГУМа и ЦУМа куда резвее. С веселого праздника 1 апреля до 16-го пережидали ледоход, 17-го добрались до Ростова Великого, 19-го двинулись дальше, большинство пешком. 25-го в селе Любимове сели дожидаться больных и отставших. Потом нашли верную причину: 28-го апреля гневно писали в Москву, что, оказывается, в стране никак не снижается уровень преступности, жалобы опять идут со всех сторон. Потом заскандалили, в каких хоромах поселиться, да чтобы к нашему приезду отремонтировать все палаты в Кремле. Бояре из управления делами горько отвечали, что валюты нет, золота нет, лесу сухого нет. Тогда народный избранник велел что-нибудь разобрать на запчасти и из этого построить, что велено.
Тут весна стала красна, царский поезд пошел живее. На Первомай были уже в Тайнинском, 2-го въехали в Москву. Весь народ встречал Михаила на подходах радостной демонстрацией, всем и правда было хорошо.
Нет, честно, бывают же на Руси и хорошие погоды, и хорошее настроение, и пять минут до новогоднего шампанского, и белой акации гроздья душистые. А тогда еще были осетрина, икра, вера в светлое будущее.
Радовались больше месяца. Только 11 июля Михаил собрался венчаться на царство и пожаловал в бояре нашего Дмитрия Михалыча Пожарского. А свидетелем при «сказке» нового чина должен был присутствовать Гаврила Пушкин. Но гордый предок великого поэта уперся, что ему «стоять у сказки и быть меньше Пожарского невместно». Сценарий прочитали дальше. Мстиславский, значит, будет осыпать царя остатками золотых монетных запасов, Иван Никитич Романов — держать над царем Шапку, Трубецкой — скипетр, Пожарский — яблоко золотое… Тут Трубецкой взвыл, что и ему быть меньше Романова «невместно».
Пришлось царю объявлять всех временно «без мест», а Трубецкого ткнуть носом, что теперь ты, брат, привыкай быть меньше царского дядьки. Минина пожаловали в думные дворяне.
Прилично было бы и народ чем-нибудь угостить, ан ничего не было. Тогда царь написал Строгановым, управляющим Сибирью, чтобы они заплатили все недоимки по налогам в госбюджет за этот год и прежние лета, а также дали в долг под запись, сколько можно, хоть и в ущерб для дела из оборотных средств. Банковской гарантией было параллельное письмо с клятвами архимандрита и прочих, что царь — истинный крест! — отдаст. О процентах речь не шла. Обязательство было усилено всякими мистическими угрозами: что будет, если Строгановы все-таки упрутся. Такие же грамоты были посланы и в другие, менее сытые места.
Эпоха Романовых началась длинными войнами с остатками диких казаков, с ногайцами, с Заруцким, не пожелавшим присягать. Заруцкий был неприятен своей устойчивой связью с Мариной. Она так и таскалась с ним по таборам и станицам. Маленький царевич Ваня тоже был с ними. Несчастная семья своей воли не имела, их держал под собой казачий атаман Ус. Выбитые из Астрахани, бунтовщики двинулись на Яик. 25 июня осажденные в степном городке казаки сдались, целовали крест Михаилу и выдали князю Одоевскому Марину, Ваню и Заруцкого…
О трагических судьбах семей царских, генсековских, президентских, лишенных власти и спецраспределителя, можно было бы написать отдельное романтическое эссе. Но лучше — сляпать математическую диссертацию, потому что судьбы эти просчитываются мгновенно и до десятого знака после запятой. Сильного Заруцкого отправили в Москву с конвоем в 250 человек. Слабую, но страшную по природе Марину с ребенком, повезли отдельно под конвоем из 600 человек. Пакет, который чекисты должны были вскрыть в случае ее нечаянного шага вправо-влево, содержал — вы догадались, дорогие, я уверен! — приказ стрелять без предупреждения, колоть насмерть…
Четыре абзаца назад мы с вами, опытные мои читатели, недоумевали, чего это Михаил тянет с коронацией с майских праздников аж до 11 июля? Властный нетерпеж таких вольностей не позволяет, это вам не скорбь в животе претерпеть! А тут такое смирение без поста и епитимьи! Ну, может быть, ждали денег от Строгановых на выпивку и закуску? Нет. Кредит стали оформлять позже. А! Вот в чем дело. Пока на воле гуляла законная царица Марина, помазанная Богом, с сыном помазанного не поймешь чем покойного царя, небось неуютно было самому короноваться?
Но дело исправилось. Пленников привезли в Москву. Заруцкого картинно посадили на кол. Длинным летним вечером москвичи прогуливались мимо пронзаемого бывшего триумвира и наблюдали, как человек медленно превращается в шашлык.
Малыша Ваню нежно повесили…
Вы представляете себе, как двухлетнему ребенку принародно затягивают на шее петлю вместо слюнявчика? А я плохо представляю. У меня что-то клинит внутри, и я все эти кровавые бульбы воображать отказываюсь. Мой прапрадед Логвин от созерцания базарной казни вполне взрослого вора и то умер. Так что это — наследственное. Тем не менее, приходится писать дальше.
Ну, вот. Марину посадили в тюрьму. Пауза.
Дальше все прозрачно, ибо царица внезапно скончалась от несоблюдения распорядка исправительного учреждения и собственного дурного характера. Поляки завопили, что на самом деле Марину сначала долго душили, потом утопили в мешке, но мы-то с вами знаем, — это бред. Поляки попутали наш «домовый обиход» с жалкой судьбой женщин Востока, где, по проверенным данным, — если Пушкин нам не врет, — прекрасных полек из бахчисарайского гарема топят в море, как собак.
Итак, бытие дома Романова началось в божьем доме Ипатьевском, продолжилось зверским убийством невинного агнца-царевича, бывшей царицы…
Стоп. Это что-то у нас с перемоткой ленты случилось. Нужно подмотать чуть-чуть вбок. Ага! Вот.
Бытие дома Романовых закончилось в доме Ипатьевском зверским убийством невинного агнца-царевича, бывшей царицы…
Ладно, это заело надолго, на 300 лет. Выключаем. Пишем вручную: «Что посеешь, то и пожнешь», «Garbage in — garbage out», ну и так далее, на остальных языках. Короче, пишем завещание первых Романовых — последним, чтобы те, когда поведут их в ипатьевский подвал «фотографироваться», ругали не нашу совдеповскую власть, а своих родоначальников…
Да, Федора Андронова тоже казнили: а куда он рога подевал?
И других дел было навалом, они свились в тугой узел.
Шведы, первые из «немцев» овладевшие Новгородом, получили от новгородцев подтверждение присяги. Новгород так и остался бы «в Европе», но налетели наши, 4 года переговаривались и выкупили великий город за 20 000 серебряных, «безобманных», новгородских монет.
Поляки никак не отпускали отца Филарета домой. Они собирались снова взять Москву, короновать Владислава, Филарета восстановить на униатской патриархии, Михаила задвинуть в бояре.
Волынка тянулась как бы по-старому. Но чувствовался уже европейский сквознячок. Англичане некие стали заезжать, персы писали витые послания с цитатами из Хомейни и слали восточные сладости без яда, поляки разговаривали еще с обидой, но уже куртуазно. Римский цезарь Матвей присылал приветы, хоть и без царского величания. Вот так изо дня в день и стали править в ущерб личной жизни.
Война с Польшей тянулась до 1618 года, когда начались вялые переговоры. Наши выставляли в счет награбленное поляками в Москве по «пытошному» списку Андронова, хотели также освобождения царского отца. Легко соглашались в обмен уступить Смоленск и еще 15 городов с волостями, потому что в Москве в это время взбунтовались казаки, оголодавшие «без грабежу». Переговоры протянулись еще полтора года. Наконец 1 июня 1619 года на мосту через речку Поляновку состоялся классический детективный размен пленными и разъезд. На радостях подарили тем, кто в плену был с Филаретом ласков, 17 сороков лучших соболей с половинной убавкой цены. «Это, — писали в Москву бывшие пленники, — для того, чего мы тут сами знаем».
Вы поняли? Тогдашние москвичи бы не поняли, так им и не стали объяснять. А теперешние москвичи понимают слету: в цивилизованной Польше с полученных подарков уже тогда нужно было платить налог. Вот в накладных и поставили липовую цену.
Филарета встречали на Ходынке всем миром, но без давки. Сын поклонился ему в ножки. Место патриарха было свободно, и Филарет «после обычных отрицаний» согласился его занять. Покрыл свое грешное католическое патриаршество праведным православным.
Возникло Двоевластие. Умный, хитрый, битый жизнью отец и недалекий, но спокойный и вполне управляемый сын правили вместе, бок о бок. Вместе сидели на троне, вместе принимали послов, решали всякие дела и подписывали указы. Это было удобно, надежно, быстро. Никаких споров. Никаких проблем между церковью и миром, никаких денежных счетов между церковной кубышкой и кремлевским сундуком. Это как единое партийно-хозяйственное правление на российском закате.
Причем даже и рядом не всегда находились. Переписка по одному и тому же вопросу никогда не содержала более двух писем. Папа пишет сыну: как, государь, прикажешь? А то я думаю так-то. А сын отвечает: правильно думаешь, государь, так и повелеваю. Дела устроились, можно было и жениться. Не патриарху, конечно. Мишке.
Еще в 1616 году ему приготовили невесту Марью Хлопову. Ее взяли ко двору, стали звать царицей, поменяли имя на Настасью в честь первой коронованной женщины романовской породы. Но потом Михаилу нашептали, что Настя-Мария неизлечимо больна какой-то дурной болезнью: заметили у нее токсикоз неизвестного происхождения. Царь сослал невесту в Тобольск с родными. Когда вернулся Филарет и разогнал мишкиных наушников, Марья начала по-пластунски подбираться к Москве: в 1619 она была в Верхотурье, в 1620 — в Нижнем.
Филарет пробовал женить сына на настоящей иностранной принцессе. Вот как разлагающе действует пребывание во вражеском плену.
Послали сватов в Данию. Король сказался больным.
Послали в Швецию. Король не стал принуждать племянницу креститься по-новой.
Тут обнаружилось, что законная невеста пребывает в Нижнем в полном здравии. На всякий случай снарядили выездной консилиум. Диагноз: здорова, годна к строевой. Такие чудесные излечения на Руси были еще в новинку, поэтому назначили следствие. Были получены показания:
1. Интриганы Салтыковы отравили невесту из-за ссоры с ее дядькой Гаврилой. Тот, дескать, хвастал, что русские мастеровые могут сделать точь-в-точь такую саблю, как турецкий экспонат Грановитой палаты.
2. Рвота случилась у невесты от непривычного дворцового меню.
3. Невеста считает, что ее былой недуг — «от супостату».
4. Гаврила Хлопов считает, что от неумеренности в сладких блюдах.
5. Отец невесты сам видел, как Салтыковы дали Марье водки из дворцовой аптеки — «для аппетиту».
Салтыковых сослали по деревням, но и Хлопову оставили в Нижнем, правда, на двойном «корме», как желудочно-пострадавшую.
Царя женили на Марье Владимировне Долгорукой. Идиосинкразия рюриковская проникла и в романовский дом.
Снова Маша Долгорукая, ну-ну…
Вот-те и ну: Маша снова скончалась. Конечно, не в брачную ночь от ревности на воде, но в тот же год — от порчи. И женили царя снова. На Евдокии Стрешневой. Родился наследник — Алексей, Алешенька, сынок.
Теперь дела пошли еще лучше. Войны не было. Дипломатия процветала. Послы от шведского и датского королей, от голландских Штатов и Людовика XIII, от шаха Аббаса и австрийского императора прибывали один за другим. И мы воевали только с крымцами.
В 1632 году умер наконец польский король Сигизмунд III. В Польше началось межвластие, ссоры, предвыборная кампания, и наши сразу объявили всеобщую мобилизацию. Нужно было возвращать свое.
«Война началась счастливо!», — зарокотал Историк. Он перечислил нам несметное количество микроскопических «городов», которые с наскоку были захвачены воеводами Шеиным и Прозоровским. Потом 8 месяцев топтались под Смоленском, который от голода уж хотел сдаваться, но случилась беда. В Польше «устроились дела». То есть кончились дрязги вокруг Сигизмундова наследства, и Белый Орел снова превратился из сентиментальной курицы в боевую птицу. Королевич Владислав стал королем, навалился на Смоленск, а польские дипломаты науськали на Русь крымских голодающих. Канцлер Радзивил писал в ставших уже модными мемуарах: «Не спорю, как это по-богословски, хорошо ли поганцев напускать на христиан, но по земной политике вышло это очень хорошо».
Конечно, «хорошо вышло», пан. Крымцы налетели на окраинные поместья русского дворянства. Дворяне сразу — штык в землю и порысили спасать свои закрома. «Немецкие» наемники Маттисона частью перебежали к королю.
Шеин перешел к обороне. Получил указ царя: засесть и не высовываться. Русские ушли в «табор», запалив шнуры к зарядам в заминированных пушках. Тут же прошел осенний дождичек — дело было в сентябре 4633 года, — фитили погасли, и пушки достались молодому королю. Он их сам лично и осмотрел.
Поляки заняли все дороги, захватили в Дорогобуже все армейские склады, стиснули кольцо окружения. Наши выскочили было подраться, но потеряли 2 000 человек. Становилось совсем худо. С окрестных холмов била польская артиллерия, еда закончилась, настал декабрь с холодами. Наши 500 человек пошли в лес по дрова, и все были вырублены под корень. «Немцы» наемные распсиховались, стали обвинять друг друга в измене. Лесли пристрелил Сандерсона прямо на глазах у главкома Шеина. Короче, дисциплина упала до нуля. И начались переговоры. 19 февраля 4634 года русская армия сдалась.
Кампания эта так не задалась еще и потому, что 1 октября 4633 года у нас умер Филарет. Четко скомандовать было некому, и армия князей Черкасского и Пожарского медлила под Можайском. Теперь «неустройства» снова грозили нам самим.
Из-под Смоленска вернулся Шеин, — как раз поспел к собственной казни. Ему прочитали обвинение в военной бестолковости, потом — в корыстных делах, потом — в строгости к солдатам, которым он мешал грабить местное население, чем подрывал боеспособность армии. Припомнили Шеину и прежний плен, и «гордость при отпуске» в поход, и столько всякого-разного, что отрубленная его голова не успела ничего запомнить.
Остальным воеводам тоже не поздоровилось. Измайлова казнили за болтовню при сообщении о смерти Филарета, других перепороли и сослали в Сибирь за неудачную кампанию. Вернее, за компанию.
Писец определенно отметил, что дело Шеина вышло политическим, что покойный Филарет ввел небывальщину — «немецкое» командование русскими войсками, а Шеин перед иноземцами возгордился, вот они его и оклеветали.
Переговоры с поляками закончились 4 июня 1634 года договором «о вечном мире» и почти дружбе, поляки предлагали даже завести «одинакие деньги». В знак доброй воли король выдал русским послам тела бывшего царя Василия, его брата Дмитрия и братниной жены, скончавшихся в придворном плену. Наши имели полномочия выкупить эти тела за 10 тысяч, но Владислав отдал их бесплатно, в шикарных гробах. За это получил ответную любезность — 10 сороков соболей на 3 674 рубля, — по 9 с копейками за шкурку. Шуйского доставили в Москву и с честью похоронили среди царей в Архангельском соборе. Он и сейчас там лежит, можете зайти и посмотреть.
А Михаил «Филаретович», как его с подколкой называли поляки, остался править нами один одинешенек.
Так в буднях и празниках, казнях и проказах родилась вторая наша великая династия — Романовская. И дальше уже она потащила Россию цугом своих царей и цариц, погоняя нашу колымагу плетьми, кнутами да батогами через последние 300 лет великой Империи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В детстве я как-то спросил отца, что было бы, если бы Троцкий победил в дискуссии. Какой бы это был кошмар!
— Никакого кошмара, — отвечал отец, — мы точно так же шли бы к победе коммунизма под знаменем Ленина-Троцкого, уничтожали левых и правых сталинистов-морганистов, поднимались в штыки «За Родину, за Троцкого!» Потом разоблачили бы культ личности Троцкого и шлепнули в подвале Берию, который все равно бы извернулся быть министром безопасности.
Голова у меня закружилась. И я спросил страшное.
— А если бы Великой Октябрьской социалистической революции не произошло?!
— Ну, сейчас наши точно так же добивали бы шведов (дело было не под Полтавой, а у телевизора — ближе к концу 3-го периода). Только на рубашках у них были бы золотые двуглавые орлы…
Сегодня, наблюдая вялую возню ребят с золотыми орлами, я вздрагиваю: а если бы Мамай не влез в мышеловку между Доном и Непрядвой? А если бы беременная Елена не нагрубила грозному свекру? А если бы Жолкевский не уехал из Москвы помыться и отдохнуть? А если бы Мюрат ударил обходным рейдом на Москву мимо Бородина, а Гудериан — мимо Подольска? Что за ужасы произошли бы?!
Никаких ужасов, ребята!
Ничего более ужасного, чем смерть всех и каждого в свой черед.
Ничего более смертельного, чем унизительный труд от получки до получки.
Ничего более унизительного, чем многолетнее вращение в необъятном ржавом механизме нашей великой страны, которая на всем белом свете одна такова.
И мы с вами остались бы такими же, какие мы есть и какими родила нас наша милая лесная мама в далеком году, задолго до позорного 862 года. Мы точно так же оправдали бы и 1380-й год, — если бы в нем случился позор, а не подвиг, — и 1571-й и 1613-й и 1812-й, 1917-й и 1941-й, как сейчас оправдываем 862-й и 986-й, 1917-й и все прочие русские годы…
ИСТОЧНИКИ
1. Завещание Ярослава Мудрого, 1054.
2. Повесть об ослеплении Василька Требовльского. Поп Василий, 1097.
3. Повесть временных лет. Монах Нестор, игумен Сильвестр, 1113–1116.
4. Поучение Владимира Мономаха, 1117.
5. Съказание и страсть и похвала святюю мученику Бориса и Глеба. Неизв. автор, И век.
6. Слово похвалное на перенесение святых страстотерпец Бориса и Глеба, да и прочий не враждуют на братию свою. Проповедь неизвестного духовного лица 2 мая 1175 года.
7. Слово о пълку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова. Неизвестный автор, 1187.
8. Слово Даниила Заточника, еже написа своему князю Ярославу Володимеровичю, 1182–1199.
9. Третье Слово святого преподобнаго Сирапиона. Серапион, архиепископ Владимирский, 1275.
10. О побоищи, иже на Дону, и о том, князь великий како бился с ордою. Неизвестный автор, после 1380.
11. Послание архиепископа Ростовского Вассиана к великому князю Ивану Василиевичю всея Русии само-держьцу на Югру о храбръском подвизе противу безбожных татар за православное христнаньство богом дарованныа ему державы Русскаго царствия, 1480.
12. Во времена сицево сказуется притча о Вавилоне граде. Неизвестный автор, Византия, до середины 15 века.
13. Сказание о князех Владимирских. Неизвестный автор, конец 15 века.
14. Наказания митрополита Даниила, около 1547.
15. Сказания Ивана Пересветова, 1549.
16. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Курбский: 1564, 1564, 1579; Иоанн: 1564, 1577.
17. От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии Василью Грязному Ильину, послание 1573 года.
18. Домострой. Протопоп Сильвестр, середина 16 века.
19. Повесть како отомсти всевидящее око Христос Борису Годунову пролитие неповинные крови новаго своего страстотерпца благовернаго царевича Дмитрея Углечскаго. Неизвестный автор, май-июнь 1606.
20. Повесть сия о некоей брани, надлежащей на благочестивую Росию грех ради наших, и о видении некоего знамения в нынешнем последнем роде нашем, о нем же преди слова беседа изъявит. Дьяк Евстратий, около 1610.
21. История в память сущим предъидущим родом, да не забвена будут благодеяния, еже показа нам мати слова Божия, всегда от всея твари благословенная приснодевая Мария, и како соверши обещание к преподобному Сергию, яко неотступно буду от обители твоея. Авраамий Палицын, около 1627 года.
22. Восстание в Москве 1682 года. Сборник документов АН СССР, 1976.
23. История государства Российского. Николай Карамзин, 1815.
24. Руслан и Людмила. Александр Пушкин, 1817.
25. Борис Годунов. Александр Пушкин.
26. Ворон. Александр Пушкин, 1828.
27. Мертвые души. Николай Гоголь, 1842.
28. Стихи Федора Тютчева, 1830–1866.
29. Москва. Федор Глинка, 1840.
30. История России с древнейших времен. Сергей Соловьев, 1871–1877.
31. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Николай Костомаров, 1873.
32. Русская история. Курс лекций Василия Ключевского, 1904–1910.


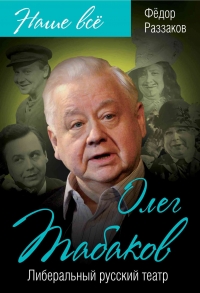






Комментарии к книге «Князья и Цари», Сергей Иванович Кравченко
Всего 0 комментариев