Хуан Мартин Гевара, Армель Венсан Мой брат – Че
Juan Martin Guevara
Armelle Vincent
MON FRÈRE, LE CHE
Copyright © Calmann-Lévy, 2016
© Сергей Нечаев, пер. на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016
* * *
Ущелье Кебрада-дель-Юро
Я сорок семь лет ждал возможности оказаться на месте смерти моего брата Эрнесто Гевары. Все знают, что он был убит трусливым выстрелом, совершенным 9 октября 1967 года в жалкой классной комнате деревенской школы Ла-Игеры, деревушки, затерянной в южной части Боливии. Он был захвачен накануне, в глубине ущелья Кебрада-дель-Юро, где окопался после того, как понял, что малочисленный отряд партизан, ослабленных голодом и жаждой, полностью окружен правительственными войсками. Говорят, что он погиб с достоинством и что его последние слова звучали так: «Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre» (Успокойтесь и цельтесь лучше. Вы сейчас убьете человека). Марио Теран Салазар, несчастный солдат, которому была поручена эта грязная работа, дрожал. Че, конечно же, вот уже одиннадцать месяцев считался врагом номер один для боливийской армии, а возможно – даже для всего американского континента, но это был легендарный противник, мифический персонаж, окруженный ореолом славы, известный своим чувством справедливости и страстью к равенству, а также выдающейся храбростью. А что, если Че, смотревший на него не мигая и совсем не делая вид, что осуждает его, действительно друг и защитник униженных, а вовсе не тот чертов революционер, каким его изображает начальство? А что, если его последователи, про которых говорили, что они очень преданы ему, решат прийти и отомстить за его смерть?
Марио Терану Салазару захотелось выпить, чтобы найти в себе мужество нажать на спусковой крючок. Увидев Че, сидящего и спокойно ждущего свершения того, что казалось неизбежным, он выбежал из классной комнаты весь покрытый потом. Но начальники заставили его вернуться.
Мой брат принял смерть стоя. Они хотели, чтобы это произошло сидя, чтобы унизить его. Он отказался и выиграл эту свою последнюю битву. Помимо прочих его многочисленных качеств и талантов, он владел искусством убеждения.
* * *
Я купил пару новых кроссовок, чтобы спуститься в ущелье Кебрада-дель-Юро. Это глубокое ущелье отвесно уходит вниз сразу за Ла-Игерой. Находиться здесь для меня очень трудно, очень болезненно. Болезненно, но необходимо. Идею этого паломничества я носил в себе в течение многих лет. Было практически невозможно прибыть сюда раньше. Сначала я был слишком молод, не совсем подготовлен психологически. Затем в Аргентине установился фашистский режим, начались репрессии, и я томился в течение почти девяти лет в застенках военной хунты, пришедшей к власти в результате переворота в марте 1976 года. Мне пришлось залечь на дно: в политическом климате моей страны быть связанным с Че Геварой стало очень опасно.
Только мой брат Роберто приехал в это место в октябре 1967 года – это семья отправила его из Буэнос-Айреса, чтобы он попытался опознать тело Эрнесто после объявления о его смерти. Он вернулся глубоко потрясенным и смущенным: при его появлении в Боливии останки нашего брата исчезли. Боливийские военные возили Роберто на лодке, отправляли его из одного города в другой и каждый раз рассказывали какую-то новую историю.
У моего отца и моих сестер Селии и Анны-Марии никогда не нашлось бы сил для такого путешествия. Рак унес жизнь моей матери двумя годами ранее. Если бы она уже не покоилась в могиле, убийство Эрнесто точно отправило бы ее туда. Она его обожала.
Я приехал в Буэнос-Айрес на машине с друзьями, проделав путь в 2600 километров. В 1967 году мы не знали, где находился Эрнесто. Он покинул Кубу в величайшей тайне. Лишь немногие люди, в том числе и Фидель Кастро, были в курсе, что он борется за освобождение боливийского народа. Моя семья терялась в догадках, представляя, что он где-то в другой части света, возможно, в Африке. На самом же деле он был всего в тридцати часах езды от Буэнос-Айреса, в котором мы жили. Лишь много лет спустя мы узнали, что он сначала оказался в Бельгийском Конго[1] с дюжиной черных кубинцев, чтобы поддержать повстанцев Симба.
На гребне оврага ко мне подошел проводник. Он не знал, кто я такой, а я не хотел раскрывать себя. Он назвал мне сумму, которую нужно заплатить, чтобы он отвел меня к месту захвата Че, а это первый признак того, что смерть моего брата превратилась в коммерцию. Я был возмущен. Че представлял собой прямую противоположность любой грязной выгоде. Я рассердился, а друг, сопровождавший меня, не смог удержаться от того, чтобы не сказать, кто я. И как этот тип только посмел требовать деньги с брата Че, когда тот в первый раз приехал на место его гибели? Проводник отпрянул с благоговением и уставился на меня. Можно было подумать, будто перед ним возникло видение. Он рассыпался в извинениях, которые я даже не стал слушать. Я привык. Быть братом Че – вещь нетривиальная. Когда люди это узнавали, они удивлялись. Христос ведь не мог иметь братьев и сестер. А Че был немного Христом. В Ла-Игере и в Валлегранде, куда его тело было перевезено 9 октября, чтобы быть выставленным на всеобщее обозрение, прежде чем окончательно исчезнуть, он стал Святым Эрнесто Ла-Игерским. Жители молились перед его изображениями. Я вообще-то всегда уважал религиозные убеждения, но это меня страшно беспокоило. В семье, начиная с моей бабушки по отцовской линии Анны Линч-Ортис, мы не верили в Бога. Моя мать никогда не водила нас в церковь. Эрнесто был просто человеком. И надо было спустить его с этого пьедестала, вернуть жизнь в эту бронзовую статую, чтобы увековечить его идеи. Че точно возненавидел бы подобный статус идола.
* * *
Я начал спуск в сторону рокового места с тяжелым сердцем. Меня удивила растительная скудость оврага. Я ожидал найти там густую зелень. На самом деле, за исключением некоторых сухих и густых кустарников, природа здесь была почти пустынной. Зато я лучше мог понять, как Эрнесто в конечном итоге оказался в ловушке, словно какая-то крыса. Тут было практически невозможно скрыться от солдат, которые окружили Кебраду накануне.
Я прибыл к месту, где он был ранен одним выстрелом в левое бедро, а другим – в правое предплечье. Я был потрясен. Перед жалким деревцем, на которое он опирался 8 октября, в сухой земле находилась звезда, отлитая из бетона. Она отмечала точное место, где он сидел, когда его обнаружили. Глубокая тревога охватила меня. Меня начали одолевать сомнения. Я чувствовал его присутствие. Мне было жаль его. И я спрашивал себя, что он тут делал, совсем один. Почему меня не оказалось рядом? Я, конечно же, должен был быть с ним. Я всегда был таким же воинственным. Он был для меня не только братом, но и товарищем по борьбе, образцом для подражания. Мне едва исполнилось двадцать три года, но это не могло служить оправданием: в Сьерра-Маэстре на Кубе, в горах, где началась вооруженная борьба, в ходе которой Фидель Кастро назвал его «Команданте», и где он отличился, встречались бойцы, которым было всего пятнадцать! Я не знал, что он находился в Боливии, но я должен был это знать! Я должен был остаться на Кубе с ним в феврале 1959 года, несмотря на запрет отца.
Я присел или, точнее, рухнул на то место, где он сидел. Я снова увидел его прекрасное лицо, его гипнотический и любознательный взгляд, его озорную улыбку. Я услышал его заразительный смех, его голос, его необычную речевую особенность: за годы, проведенные в Мексике, а затем на Кубе, его испанский стал необычной смесью трех акцентов. Чувствовал ли он себя одиноким, побежденным?
Некоторые из вопросов, которые я задавал себе, были весьма конкретными. Другие же – чисто сентиментальными. Че не был одинок, его поддерживали шесть бойцов, которых схватили вместе с ним. Мог ли я помочь ему бежать? В тот же день пять других товарищей, в том числе и Гидо «Инти» Передо, все-таки умудрились выбраться из засады[2]. Почему не он? Я попытался восстановить последовательность событий, приведших моего брата к смерти. Че предали? Если да, то кто? Имеется несколько гипотез, но так как это всего лишь предположения, я предпочитаю на них не останавливаться. Эрнесто воевал под именем Рамон Бенитес. Говорят, что он выбрал имя Рамон в честь героя одного из рассказов Хулио Кортасара, повествовавшего о приключениях группы революционеров в горах Сьерра-Маэстра. Его присутствие было окутано тайной. Работая на базе информации, предоставленной ЦРУ, нагло расположившегося в президентском дворце Рене Барриентоса в Ла-Пасе, боливийское правительство предполагало, что Эрнесто Гевара командует отрядом в районе Ньянкауасу, но оно не имело тому доказательств. До того момента, когда аргентинец Чиро Бустос, арестованный после того, как он получил разрешение Че отойти от повстанческой борьбы, помог составить его фоторобот – под угрозой, что проведет остаток своих дней в тюрьме.
* * *
Подойдя к оврагу, я почувствовал себя опустошенным, совершенно уничтоженным. Неприятный сюрприз ждал меня в Ла-Игере. Как только я вошел в селение, чтобы найти школу, где был убит Эрнесто, одна женщина отделилась от группы японских туристов и бросилась на меня. Она только что узнала от своей подруги-журналистки о том, что я – брат Че. Она плакала, бормоча: «Брат Че, брат Че». Она очень вежливо попросила меня попозировать для фото рядом с ней. Мне оставалось лишь слушать и утешать ее. Эта японка, по-видимому, посчитала меня реинкарнацией Че. Я был одновременно взволнован и встревожен. Почти через пятьдесят лет после смерти мой брат больше, чем когда-либо, присутствовал в коллективной памяти. Я, конечно, не Эрнесто, но я мог, и я должен был стать каналом для распространения его мыслей и идеалов. Пятеро детей мало его знали. Моя сестра Селия и брат Роберто категорически отказывались говорить на эту тему. Моя сестра Анна-Мария умерла от рака, как и наша мать. Мне же было уже 72 года. И я не имел права терять время.
Школа, где Эрнесто провел свою последнюю ночь, претерпела кое-какие изменения. Стена, разделявшая две классные комнаты, была разрушена. Остальные стены покрывали рисунки и плакаты, изображающие последние часы Че. Стул, на котором он сидел, когда Марио Теран Салазар пришел убивать его, все еще находился на своем месте. Я представил себе, как мой брат сидит на нем, ожидая смерти. Это было очень трудно.
На деревенской площади высился большой белый бюст, созданный кубинским художником по знаменитой фотографии Альберто Корда «Героический партизан». Этот бюст, за которым был виден белый крест, также имел весьма бурную историю. Его установили в начале 1987 года, но вскоре его быстро демонтировали коммандос боливийской армии, а потом заменили мемориальной доской в память о жертвах партизанской войны. Бюст же восстановили на своем месте через двадцать лет, плюс была поставлена скульптура высотой в четыре метра, которая находилась теперь у входа в деревню. На протяжении многих лет жители Ла-Игеры и Валлегранде жили в страхе. Никто не осмеливался заговорить о Че: чтобы уничтожить все следы этого «подрывного элемента»[3], боливийский режим запретил любое упоминание его имени. Ответом на навязанное молчание стали легенды. Когда его схватили, крестьяне общины Аймара, населявшие округу, не имели никакой информации о важности этого пленника. Они никогда не видели чужих людей и едва говорили на испанском языке. После смерти Че орды журналистов налетели на их деревню. До 9 октября 1967 года никто никогда не слышал о Ла-Игере. А уже десятого числа тридцать шесть самолетов выстроились на импровизированной взлетно-посадочной полосе в Валлегранде, в шестидесяти километрах. И местные жители начали понимать, что произошло какое-то значительное событие и что их пленник был не просто пленником.
* * *
Тело Эрнесто эвакуировали в Валлегранде на носилках, установленных на шасси вертолета. Боливийские военные выставили его в назидание другим в прачечной, в саду маленькой местной больницы, на семнадцать часов. Надо было показать, что все «подрывные элементы» будут уничтожены точно так же, как и этот Эрнесто Че Гевара. Че мертв, мертв и еще раз мертв! И пусть его жалкий конец послужит уроком для всего народа. Пусть он не ввязывается в плачевные авантюры, неизбежно обреченные на провал.
Его полуголое тело поместили на цементную стяжку. Он был бос и лежал с открытыми глазами. Говорят, что священник все же закрыл ему их в Ла-Игере… Некоторые сравнивали образ моего замученного брата с холстом «Оплакивание Христа» итальянского художника эпохи Возрождения Андреа Мантенья. Сходство было очень волнующим, но ничего не давало. Некоторые свидетели утверждали, что глаза Че следили за ними, когда они находились около его тела. Врач – тайный поклонник, – отвечавший за омовение тела, захотел его забальзамировать, но из-за нехватки времени он лишь изъял его сердце, чтобы сохранить его в банке. Он же снял две маски с его лица: первую – из воска, а вторую – из гипса. Медсестра была удивлена вполне мирным выражением лица Эрнесто, что странным образом контрастировало с другими убитыми партизанами, лица которых были отмечены следами страданий и мучений. Я не верю в эту чепуху. Все это имело лишь одну цель: сделать из Че миф. Кстати, именно с этим мифом я и намерен бороться и постараюсь вернуть моему брату человеческое лицо.
После 9 октября пятнадцать солдат оставались в Ла-Игере в течение года. Они объясняли крестьянам, что они якобы нужны, чтобы защитить людей от пособников Че, которые неизбежно придут отомстить за его смерть и пожелают всех убить. Ведь это именно они, эти крестьяне, не правда ли, предали Че.
Так родился настоящий культ, сопровождаемый перешептываниями и страхом.
* * *
Постыдная торговля, которая развивалась вокруг имени Че, ужаснула меня. Эрнесто бы опроверг все эти нелепые легенды, граничащие с мистикой. В Ла-Игере и Валлегранде на Че был заточен целый туристический бизнес. Проводились экскурсии вокруг «дороги Че», в ходе которых экскурсантам пытались продать бог знает что. Это так отвратительно. На выходе из школы я увидел целый развал всевозможных предметов, футболок и флагов. Я посчитал это невероятной низостью. Эрнесто боролся за освобождение американского континента, и появились типы, эксплуатировавшие его имидж, чтобы заработать деньги. Люди молились святому Че, приписывали ему чудеса, связанные с их коровами или не знаю еще с чем! Че же хотел давать, а не брать. Он верил в человека – хозяина своей судьбы, а не в зависимого от какой-то высшей силы, которая могла даровать что-то, а могла и не делать этого. Он верил в борьбу. Это был великий гуманист.
Я два раза побывал в Ла-Игере, и я, конечно же, никогда не вернусь туда больше. Это уже не жалкая деревушка из четырех домов, а целый магазин под открытым небом, где из тебя безостановочно пытаются вытянуть деньги. Все это не имеет ничего общего с моим братом, абсолютно ничего.
* * *
Тело Эрнесто таинственным образом исчезло утром 11 октября 1967 года. Монахиня, дежурившая в больнице, позже рассказала немцу-францисканцу, брату Анастасио, что слышала звуки шагов в коридорах больницы в ту ночь, примерно через час после полуночи. Тут же, конечно, начали ходить всевозможные слухи.
Правда стала известна двадцать лет спустя.
Гавана, январь 1959 года
Телефон зазвонил поздним утром в нашем доме на улице Араос в Буэнос-Айресе. Моя мать аж подпрыгнула. А что, если это он? Она вскочила, оттолкнув стол, на котором раскладывала пасьянс. Вот уже два года как она жила в глубокой депрессии и почти постоянной тревоге, находя некоторое утешение в этой карточной забаве и покуривая темные сигареты без фильтра. Она страшно беспокоилась за моего старшего брата Эрнесто. Он сражался во главе Колонны № 8 имени Сиро Редондо ejercito rebelde[4] молодого революционного лидера Фиделя Кастро и его «Движения 26 июля», и их целью было свержение кубинского диктатора Фульхенсио Батисты, свирепость которого наводила страх на людей. Много раз международная пресса сообщала о смерти «аргентинского врача Эрнесто Че Гевары», погружая нашу семью в отчаяние и неопределенность. Но это каждый раз оказывалось лишь слухами, распространяемыми режимом угнетателей, чтобы запутать кубинский народ и убедить его в том, что нужно прекратить помогать революционерам. И одно за другим эти роковые сообщения опровергались – к нашему огромному облегчению.
Новости от Эрнесто приходили редко. Мы знали, что он сражается где-то на Кубе, что революционная армия выиграла решающие сражения, что она пользуется поддержкой населения и движется в сторону столицы. Мы жили в 6500 километрах от острова, что казалось нам множеством световых лет. Мы цеплялись за любую информацию с театра военных действий, находившегося в то время в Сьерра-Маэстре, малогостеприимных горах на юго-востоке острова, где растительность была совершенно непроходимой, а температуры были такие, что можно было вмиг оказаться посреди настоящей зимы.
Каждое очередное объявление о смерти Эрнесто становилось все более и более сомнительным, внушая все меньше и меньше доверия. Тем не менее мы жили, словно на острие бритвы, в постоянной тревоге. Мои родители упрекали себя в том, что не смогли убедить своего безрассудного и неукротимого сына остаться дома, хотя, по сути, они никогда и не пытались его удержать: они воспитывали нас в обстановке полной свободы, побуждая к путешествиям, к открытиям, к приключениям, к политике и даже к бунту. Но это? Эта революция в чужой стране, где он каждый день рисковал своей шкурой? Им было трудно понять его, трудно выносить все это. Этот любимый сын, которого они обожали побаловать и у постели которого они провели столько мучительных часов, пытаясь облегчить его приступы астмы, лишавшие последних сил и не дававшие нормально дышать, теперь рисковал жизнью ради каких-то идеалов. А ведь ему не было и тридцати! Тем не менее они вынуждены были признать, что и этому они сами научили его. Они учили нас так, но они переборщили. Эрнесто был вскормлен их уроками. А мне было всего пятнадцать. Я видел, что мои родители страдают от его постоянного отсутствия, но я неверно оценивал опасность. Я восхищался своим братом, великим бойцом, отправившимся в одиночку и практически без гроша в кармане в 4500-километровую поездку на мопеде в двадцать один год, а потом, год спустя – на мотоцикле, в многомесячное путешествие вместе со своим другом Альберто «Миалем» Гранадо, а потом – в еще более длительную экспедицию, где он повстречал группу кубинских революционеров, с которыми с оружием в руках пошел переделывать мир на далеком экзотическом острове. Ни один из моих друзей не мог похвастаться тем, что у него есть такой брат.
– Алло? – сказала моя мать, схватив трубку.
– Привет, vieja[5], это твой сын Эрнестито.
Моя мать никогда не отличалась показушничеством. Но она не смогла подавить крик. За шесть долгих лет она слышала голос Эрнесто лишь однажды, когда он на минуту позвонил ей из полевого лагеря в горах Сьерра-Маэстра. С момента его окончательного отъезда из Буэнос-Айреса, 8 июля 1953 года, каждый из членов нашей семьи – мой отец Эрнесто Гевара Линч, моя мать Селия де ла Серна, мой брат Роберто, мои сестры Селия и Анна-Мария и я – вели регулярную переписку с ним, по крайней мере, до его полного погружения в подпольную деятельность. Семейные связи всегда поддерживались через переписку, а не по телефону.
Моя мать вся лучилась от радости. «Это Эрнестито!» – закричала она. Она была так счастлива. Новости пришли отличные. Эрнесто рассказал ей, что ejercito rebelde победила, что она триумфально вступила в Гавану, а Фульхенсио Батиста бежал из страны. Но он звонил в Буэнос-Айрес не для того, чтобы говорить о своих подвигах, уточнил он. Это не «Команданте» звонит, а ваш сын и брат. И он хочет услышать материнский голос, которого ему так не хватает. Он и vieja испытывали друг к другу большую любовь и глубокое уважение. Именно она, прежде всего, сформировала Эрнесто. Она занялась политикой и начала протестовать задолго до его рождения. Она привила ему любовь к чтению, научила его французскому, на котором сама свободно говорила. Считалось, что Эрнесто – ее любимчик. Это было связано с болезнью, которой он страдал в детстве: острая астма помешала получению нормального школьного образования и заставила мою мать обучать его дома, пока ему не исполнилось девять лет.
Я никогда не страдал от близости их отношений: я был младшим – соответственно на пятнадцать и одиннадцать лет моложе Эрнесто и Роберто. И я сам занимал достаточно привилегированное место в семье. К тому же на следующий день после звонка Эрнесто, когда весь мир узнал про победу Фиделя Кастро, моя мать сделала следующее заявление репортеру Ангелине Муньос из газеты «Женщина»: «Из моих пятерых детей Эрнестито – самый известный, но они все прекрасны»[6], а потом она добавила: «Не знаю, кого я найду в Гаване. Последние шесть лет были жизненно важны и очень насыщенны для моего сына. Он должен был измениться. И я немного волнуюсь. Я никогда не хотела мешать его свободе. Хоть мы с мужем и сделали его, но у нас никогда не было таких отношений, какие мы имеем сегодня – товарищеских отношений. Мой сын никогда не нуждался в близости своей семьи, а мы всегда старались понять его и разделить его боль».
Вечером, после этого дарованного Провидением звонка, мы все собрались дома, пребывая в эйфории, но при этом и совершенно растерянные. Мы задавали себе один и тот же вопрос: узнаем ли мы Эрнесто? Кто этот взлохмаченный бородач в берете, этот «Команданте», который так возбудил международную прессу? Есть ли у него что-нибудь общего с нашим Эрнесто?
В Буэнос-Айресе на улицах царил праздник. Народ тоже узнал про победу своего героического соотечественника. Все газеты писали о триумфе кубинской революции. Родственники, которые всегда были наиболее невосприимчивыми к идеям Эрнесто, тоже ликовали. Кланы Гевара и Серна, похоже, произвели на свет великого человека, и они в связи с этим готовы были лопнуть от гордости. По крайней мере, на данный момент. Некоторые из них потом, когда все изменится в Аргентине, будут стараться от этого дистанцироваться.
* * *
Через два дня после телефонного звонка, 6 января 1959 года, мой отец, моя мать, моя сестра Селия и я оставили дом на улице Араос и отправились в Международный аэропорт Эсейса, чтобы лететь на Кубу. Роберто и Анна-Мария, к сожалению, не смогли нас сопровождать. У Роберто это было связано с какими-то профессиональными обязанностями, уже не помню с какими, а Анна-Мария только что родила. На мне была одежда, которую по этому случаю мне купили родители, мой первый костюм. Я наконец-то встречусь с моим старшим братом, хохмачом, который познакомил меня с приключенческими романами Эмилио Салгари и Жюля Верна. И не важно, что он стал «El Comandante» или просто Че. Я, конечно же, испытывал смутную гордость – в конце концов, его физиономия красовалась на страницах всех наших газет, – но все это пока оставалось для меня чем-то абстрактным.
Мы находились в приподнятом настроении. Фидель Кастро решил пригласить нас в Гавану, чтобы отпраздновать победу, не переговорив об этом с Эрнесто. Мой брат наверняка отверг бы подобную идею, чтобы не тратить деньги нового революционного кубинского государства. В течение двух лет, что они сражались бок о бок, Эрнесто и Фиделя скрепили узы большой мужской дружбы, о которой кубинский интеллектуал Альфредо Гевара позднее так сказал в интервью испанской газете «Эль Паис»: «Фидель встречал слишком много зеркал в своей жизни; Че же не был зеркалом, он был образованным и имел своё собственное мнение. Он говорил с ним, как с равным, да он и был равным, пожалуй, единственный из нас. Он знал, что Фидель – лидер, а Фидель слушал и уважал Че; они идеально дополняли друг друга»[7].
Фидель знал о привязанности друга к своей семье. Эрнесто рисковал жизнью ради освобождения чужой для себя страны. И Фидель считал несправедливым то, что он – единственный «сирота» на этом празднике. Он поручил другому своему команданте, Камило Сьенфуэгосу, проводить нас в аэропорт со всеми нашими чемоданами. Мы должны были сесть на самолет «Кубана Авиасьон», специально зафрахтованный для возвращения на родину кубинских политических беженцев не только из Аргентины, но и из Чили, Мексики и Эквадора. Перелет обещал быть очень интересным…
Первые изгнанники приземлились в Эсейсе, нагруженные, словно мулы. Один из них, в частности, тащил на себе не меньше сотни книг, сложенных в несколько сумок. Мой отец разволновался и пожаловался пилоту на излишек веса. Мы должны были лететь над Андами, чтобы сначала приземлиться в Сантьяго-де-Чили, где нас ждали другие эмигранты, потом в Гуаякиле и, наконец, в Мехико. Пилот успокоил моего отца, и мы поднялись в воздух в самой праздничной атмосфере.
В Гуаякиле самолет начал описывать большие круги вместо того, чтобы идти прямо на посадку. Это длилось около часа. Шасси отказывались выдвигаться. Из-за этого возникла сильная напряженность. Но потом все закончилось благополучно, они разблокировались, и мы наконец-то коснулись земли. Не хватало еще нам всем разбиться, так и не увидевшись с Эрнесто!
Путешествие оказалось очень продолжительным. В каждом аэропорту нас штурмовали репортеры, желавшие взять интервью у родителей Че. А мы-то думали, что наше присутствие в самолете изгнанников останется в тайне! Мой отец любезно уступал их требованиям: его бродяга-сын, без сомнения, стал международным героем!
* * *
В небе над Гаваной мы испугались во второй раз, что разобьемся из-за шасси, с которыми, несмотря на ремонт, произведенный в Гуаякиле, повторилась та же история. Но мы все же мягко приземлились на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хосе Марти в Гаване. Все были измотаны, но мысль о том, что мы увидим Эрнесто, наполняла нас радостью.
При выходе из самолета мой отец встал на колени и поцеловал кубинскую землю.
Бородатые и вооруженные партизаны уже ждали, готовые сопровождать нас к Эрнесто. По соображениям безопасности он остался внутри терминала. В то утро Камило предложил ему поехать в аэропорт, «где его ожидает сюрприз». И у него даже не было времени, чтобы рассердиться и объяснить, что он решительно отказывается от каких-либо преференций для себя самого и для своей семьи. Но, в конце концов, Фидель же еще не прибыл в Гавану. Победа была одержана только что. И ему ничего не оставалось, как радоваться и наконец-то пообщаться со своей семьей.
Увидев Эрнесто, моя мать бросилась к нему, запутавшись ногами в паутине телевизионных кабелей, валявшихся на земле. Потом последовало бесконечно длинное объятие, это был момент необычайной силы и яркости. Моя мать рыдала в объятиях Эрнесто, а тот нежно поглаживал ее. Мы с отцом и Селией наблюдали за этим, глубоко тронутые. Шесть лет моя мать мечтала об этом. Как же много раз она думала, что ее сына уже нет в живых!
Что же касается моего отца, то у него все обстояло иначе. Он тоже обожал своего старшего сына, но в их отношениях имелись определенные проблемы. В семье мы все были ненормальными, но с точки зрения безумия мой отец явно держал пальму первенства. Скажем так, его постоянные чудачества раздражали наших родственников. Кроме того, он позднее свыкся с идеями Эрнесто, а тогда, в январе 1959 года, он не разделял ни его политических убеждений, ни его неизменной уверенности в своей правоте. Относительно Эрнесто у него имелись совсем другие планы. Он собирался использовать эту поездку в Гавану, чтобы навязать ему свои взгляды и убедить его вернуться в Буэнос-Айрес, чтобы продолжить карьеру врача-аллерголога. Скоро мы увидим, что планы Эрнесто заключались совсем в ином. А мой отец, похоже, не понимал, что для его сына эта революция значила гораздо больше, чем просто подходящее к концу приключение, готовое уступить место вещам более серьезным. «Моя медицинская карьера? – в первый же день заявил ему Эрнесто. – Могу тебя заверить, что я отказался от нее уже давным-давно. Теперь я боец, который будет работать над созданием правительства. Кем я стану? Кто знает? Я даже не представляю, в какой стране я брошу свои кости». А потом со свойственным ему чувством юмора он добавил: «Тем не менее, viejo, так как тебя тоже зовут Эрнесто Гевара, ты можешь повесить на стену в своем архитектурном бюро и мой врачебный диплом тоже, а затем, ничем не рискуя, начать гробить пациентов». Следует отметить, что мой отец представлялся архитектором и даже занимался архитектурной практикой, хоть никогда ничего не заканчивал…
Мой брат не имел ничего общего с тем врачом, который прощался 8 июля 1953 года на вокзале Эль Ретиро в Буэнос-Айресе, теперь он стал Че[8]. Он изменился, повзрослел, но остался все таким же прекрасным. Человек, говоривший быстро, глотая слова, которые, казалось, летели, стараясь догнать несущиеся мысли, вдруг стал солидным. Отец был удивлен, заметив, что теперь он словно медитировал и взвешивал каждое слово, прежде чем его произнести. Он покинул Буэнос-Айрес безбородым; с вернулся с бородой, тонкой и редкой, но это в любом случае была борода. Ему нравились короткие волосы, чтобы не причесываться, а сейчас отрастил трудноуправляемую гриву. Он похудел. Раньше его аппетит всегда отличался изменчивостью, он переходил от прожорливости к полному воздержанию в зависимости от приступов астмы. На нем была оливково-зеленая униформа, широкий пояс цвета хаки и черный берет с красной звездой «команданте», которые будут теперь сопровождать его всегда. Он прибавил в уверенности, в представительности, в харизме и авторитетности, если такое вообще возможно, ибо Эрнесто всегда был человеком сильного характера, природной легкости и с душой лидера. Уже ребенком он считался главарем, никогда никому ничего не навязывая – просто потому, что он внушал доверие. Рядом с ним даже более старшие ребята чувствовали себя защищенными. Его дружба отличалась стойкостью, непоколебимостью и верностью.
Я отметил то уважение, что он внушал своим людям. Передо мной стоял брат, и он ласково улыбался мне, щекотал меня, как когда-то в прошлом, но это был совершенно изменившийся человек. И я поспешил открыть для себя этого брата, того, кто с такой отвагой отличился в бою, кто во главе трех тысяч товарищей одолел хорошо обученную пятидесятитысячную армию, поддерживаемую крупнейшей мировой державой, Соединенными Штатами. И самое важное для меня заключалось в том, чтобы вновь найти ту общность, что связывала нас в детстве.
* * *
Нас на джипе отвезли в отель «Хилтон», где мы должны были жить в течение пока еще неопределенного времени. На улицах Гаваны царила атмосфера страны, наконец-то освободившейся от длительного ига. Во всех кварталах звучала музыка, и люди танцевали, празднуя победу молодых революционеров, которым они были обязаны обретенной свободой. Кругом стоял головокружительный гомон. Партизаны из Сьерра-Маэстры, едва владевшие грамотой, которые никогда не покидали своих деревень или гор и у которых никогда не хватало времени, чтобы побывать в городе, теперь любовались роскошью столицы, небоскребами, автомобилями, отелями.
В «Хилтоне» все выглядело сюрреалистично и необузданно экзотично для молодого аргентинца, каковым был я. Здоровенный негр и карлик в ливреях стояли перед входными дверями, это были охранники из какой-то другой вселенной. Американский актер Эррол Флинн бродил по вестибюлю: прибытие колонны Че в Гавану застало его во время отпуска. Роскошный зал в стиле барокко был наполнен партизанами, развалившимися на диванах, и туристами, изумленными тем, что они вдруг превратились в случайных очевидцев свершившейся революции. И те, и другие выглядели ошеломленными: у них даже не осталось времени «переварить» такой поворот событий. Пока мы наблюдали за всем этим, тоже совершенно ошеломленные, прибыл команданте Камило Сьенфуэгос со своим отрядом. Партизаны вскочили – все, как один. Камило был красив и импозантен с его бородой, длинными волосами, в бежевой ковбойской шляпе и с пистолетом-пулеметом Томпсона на плече. Он разразился громовым хохотом. Он тоже стал легендой. Эрнесто направился к нему, обнял, а потом представил нам. Они стали добрыми друзьями. Сотрудники «Хилтона» вообще ничего не понимали. Ведь все произошло так быстро! В самом деле, это было невероятное зрелище, и я смаковал каждую его секунду. Столы были завалены огнестрельным оружием, и там не оставалось места для тарелок и даже для чашек. Солдаты выглядели оборванными и неопрятными. Они два года находились в подполье. Их форма стала грязной и выцветшей от времени, солнца и капризов погоды, и они сбрасывали ее прямо на пол вместе с армейскими жетонами; сапоги были изношены и все в дырах. Я поразился, увидев молодых людей моего возраста, которые уже были офицерами революционной армии. Но самым удивительным был Эрнесто. Моя семья всегда отличалась маргинальностью, упрямством и полной невосприимчивостью к любой власти. Так что вид моего брата, того самого, кто был освобожден от службы в аргентинской армии по причине астмы, а теперь ставшего «команданте», реально ошеломлял.
* * *
Нас поместили в номере «люкс» на 16-м этаже отеля «Хилтон». Моя мать вышла на балкон и остановилась, пораженная: район Ведадо, Ла Рампа, Малекон, Кастильо-дель-Морро, море… Она упивалась всем этим блаженством. Ее программа заключалась в следующем: максимально пообщаться с сыном и повстречаться с этим самым Фиделем, о котором она так много читала в письмах Эрнесто и в прессе, плюс узнать все, что можно, о революции и ее целях – политических, философских, экономических и практических. Планы моего отца выглядели куда более приземленными. Помимо всего прочего, он хотел завязать связи, которые могли бы – кто знает? – послужить ему в будущем.
Перелет оказался изнурительным, и мы все повалились спать, несмотря на шум с улицы, счастливые, что находимся под одним небом с Эрнесто.
На следующий день, когда он приехал, чтобы пообедать с нами, он удивился, увидев моего отца за фотографированием с дядей и кузиной Фиделя, Гонсало и Анной Кастро Аргис. Гордость за своих уважаемых родственников сблизила их. А вот Эрнесто был раздражен. Он предпочел бы, чтобы его отец вел себя поскромнее, считая, что это больше соответствовало бы торжественности момента. Но как можно, например, просить кинозвезду стать невидимой во время Каннского кинофестиваля! Мой отец был человеком ярким, и происходившие события обеспечивали ему идеальную возможность выйти на сцену. Результат: раздражение Эрнесто (и мое, кстати, тоже) росло в течение последующих нескольких дней при каждой новой оплошности нашего отца. Он действительно совершил ряд непростительных бестактностей и тем самым ускорил свой отъезд.
Одно из самых прекрасных качеств моего брата – это его честность, его врожденное и постоянно присутствующее чувство справедливости. Прямота же на грани жесткости, унаследованная от нашей матери, вечно сталкивалась у него с фантазией и тягой к «достижению успеха» нашего отца. Последний чувствовал себя в «Хилтоне» на седьмом небе. Ему очень нравилась роскошь, она его даже очаровывала, особенно потому, что он не очень-то к такому привык. Более того, даже у наших богатых родственников мы никогда не видели такого рода современных удобств, которые казались типично американскими. Скажем, наша ванная комната была оборудована огромной ванной-джакузи. У холодильника имелась кнопка для производства льда! Для подростка, каким был я, который никогда не путешествовал и прибыл из полуразрушенного дома, подобная роскошь казалась невероятной и немного тревожила. Для моей матери, которая все же была воспитана в шелках и привилегиях, это тоже выглядело шокирующе и невыносимо в контексте революции. Через два дня после прибытия она потребовала, чтобы нас перевели в менее роскошный отель. И мы оказались в «Комодоро», на границе с пляжем, в номере с огромной круглой кроватью, на которой в свое время спала мексиканская актриса Мария Феликс. Наше окно выходило на пристань, где были пришвартованы яхты. На крыше отеля имелась вертолетная площадка. Эрнесто появлялся там несколько раз с неожиданными визитами. «Комодоро» едва ли сильно уступал по роскоши «Хилтону», но свободные места оказались только там. Поэтому нам пришлось адаптироваться!
* * *
Фидель Кастро прибыл из Сантьяго-де-Куба в Гавану через два дня после нас, и его встречали как героя. Он выступил с речью и поселился на 23-м этаже «Хилтона». Эрнесто находился в отношениях с Алейдой Марч, молодой кубинской революционеркой, с которой он повстречался в Сьерра-Маэстре и которая вынуждена была искать убежище у партизан, чтобы избежать ареста и пыток. Тем не менее он жил в монашеской комнате крепости Сан-Карлос-де-ла-Каванья[9], где уже проходил судебный процесс по делу членов свергнутого режима, руководить которым ему поручил Фидель. Его руководство потом вызвало много упреков из-за многочисленных смертных приговоров, о которых он как-то сказал в одном из интервью: «Мое положение весьма сложное. Я несу полную ответственность за приговоры. В этих условиях я не могу находиться в контакте с обвиняемыми. Я не знаю ни одного из заключенных Каваньи. Я ограничиваю себя функцией главы Верховного трибунала и холодным анализом фактов. И я исхожу из принципа, что революционная справедливость – это истинная справедливость». Алейда позже расскажет в автобиографии[10], что этот процесс, который Че никогда не посещал за исключением нескольких случаев по специальному требованию, был очень трудным и неприятным для него, особенно когда семьи обвиняемых уговаривали его и молили о помиловании.
Эрнесто обвиняли в жестокости. Нет ничего более ложного. Будучи партизаном, он гуманно обращался с пленными врагами. Когда они были ранены, он вновь становился врачом, чтобы лечить их. В боливийских лесах он отпускал их на свободу. Заключенные Каваньи – это вам не детский хор: это был настоящий букет из самых страшных мучителей и сторонников кубинской диктатуры. Все эти типы запугивали, убивали и мучили людей. Эрнесто объяснил нам, что судебное разбирательство было задумано революционными лидерами, чтобы избежать грубого насилия на улице, что стало бы чем-то еще более уродливым. Потому что люди, как правило, склонны линчевать палачей, заставлявших их пережить самые страшные ужасы.
Эрнесто категорически запретил мне доступ в Каванью. Но я все равно присутствовал при процедуре: на третий день нахождения в Гаване я направился к баскетбольному стадиону, который находится на дороге Бойерос. Именно там состоялся первый судебный процесс (единственный, который объявили публичным) над полковником Соса Бланко, известным жестокостью форменного садиста. Я сохранил об этом отвратительные воспоминания. На баскетбольной площадке, где его судили, стояла тошнотворная атмосфера футбольного матча. Люди были перевозбуждены и кричали: «Убийца!» Хоть обвиняемый и был виновен в бесчеловечных действиях, спектакль от этого не становился менее тягостным. Эрнесто предупредил меня, что подобные зрелища не приносят никакого удовольствия. Он оказался прав. Я больше никогда не стремился попасть в Каванью.
Для того чтобы развеяться, Эрнесто иногда прибывал в «Комодоро». И мы тогда ждали, пока его окружение покинет комнату, чтобы забыть о революции и говорить об Аргентине, о старых добрых временах. Он задавал бесчисленные вопросы о семье, расспрашивая обо всех, особенно о Роберто и Анне-Марии, оставшихся дома. Я долго находился с ним наедине. Когда представлялась такая возможность, я снимал с него берет и говорил: «Ты, возможно, и команданте для других, но не для меня!» Тогда он начинал меня провоцировать, дразнить. Это был его способ развлечения, чтобы снять накопившееся напряжение. Кроме того, похоже, ему были необходимы подобные интимные моменты, которые позволяли ему забыть про свои обязанности, чтобы просто побыть братом. Ведь были вещи, которые принадлежали только нам, и он не мог разделить это с окружавшими его людьми. А потом нас ему так не хватало в течение шести лет.
Однажды, когда мы остались одни в его кабинете, он задумал побоксировать. Он сбросил шарф, который носил, чтобы поддерживать вывихнутое плечо, и нанес мне удар. Я ответил и попал ему по локтю. Сделав вид, что мучительно страдает, он сложился пополам. Когда я бросился к нему, чтобы помочь, он вдруг нанес мне еще один удар, отбросивший меня назад. Я был в ярости, и я его оскорбил. Он громко рассмеялся. Он попросил меня сесть и сказал: «Пусть это будет тебе уроком, hermanito[11]. Никогда не теряй бдительность в присутствии врага».
Остальное время он призывал меня продолжить высшее образование. «Нужно учиться», – повторял он. Я был единственным из братьев и сестер, кто отказался проходить какие-либо университетские курсы. Эрнесто стал врачом, Роберто – адвокатом, а Селия и Анна-Мария – архитекторами. Я хотел как можно быстрее начать работать и стать пролетарием. Однажды, когда он снова начал настаивать на своем, я заткнул ему рот раз и навсегда, сказав: «Если не ошибаюсь, у тебя имеется медицинское образование, не так ли? И что с того? В каком кабинете ты работаешь?» – «Но образование не заключается только в этом! – ответил он. – Оно необходимо». Мои аргументы служили мне защитой. Я не хотел учиться, и точка. Моя мать слишком устала подталкивать меня, а мой отец был слишком занят своей собственной жизнью вне семейного гнезда. С другой стороны, я читал запоем. И это позволяло нам вести интересные беседы. Эрнесто был чрезвычайно ярким и культурным человеком. Он был почитателем Маркса, Энгельса и Фрейда, но также и Джека Лондона, Хорхе Борхеса, Бодлера, Леона Фелипе, Сервантеса и Виктора Гюго. Он обладал обширными познаниями в произведениях Мерло-Понти и Жан-Поля Сартра. Когда он встречался с ним в Гаване (с ним и Симоной де Бовуар) после нашего отъезда, Сартр был очень удивлен, обнаружив в партизане умного и образованного человека.
Эрнесто проглатывал в среднем одну книгу в день, используя любую свободную минуту, чтобы углубиться в чтение. Он имел особое пристрастие к «Дон Кихоту», которого он прочитал шесть раз, а также к «Капиталу» Карла Маркса, который он считал подлинным символом человеческого знания. Он помнил наизусть стихи Пабло Неруды, и у него была привычка читать их во время наступления. С детства он нашел для себя в стихах и прозе убежище, необходимое в самые трудные времена. Стихи и мате, этот горький, типично аргентинский напиток, похожий на чай, который пьют с помощью bombilla, своего рода металлической трубочки с крошечными отверстиями на конце. А потом, он и сам писал божественно. Хоть он никогда и не считал себя сочинителем, он оставил произведений на три тысячи страниц, состоявших из газетных статей, писем, речей и военных пособий. Настолько, что кубинский писатель Хулио Льянес посвятил целую книгу Че-писателю[12].
* * *
Для того чтобы спокойно передвигаться по Гаване и ее окрестностям, мой отец вызвал машину и водителя Эрнесто, стремясь извлечь выгоду из своего положения и реализовать свои преференции. Он игнорировал тот факт, что его сын в его новом положении больше, чем когда-либо, восставал против даже самых простых привилегий – в том числе, и особенно, для членов своей семьи! Эрнесто настоял на том, что будет получать скудное жалованье простого солдата, или 125 долларов в месяц. Он отказывался получать больше, чем его люди, даже при том, что другие «сановники» режима имели по 700 долларов в месяц. Он также злился на молочника, который оставлял превышавшую норму порцию молока у его двери. Это раздражало моего отца. Он находил подобные действия неуместными и смешными по сравнению с жертвами, принесенными Эрнесто во имя революции. По тем же причинам он считал нормальным, если родители Че вдруг воспользуются некоторыми привилегиями. В конце концов, они же «одолжили» Кубе своего любимого сына, свою зеницу ока, и глубоко от этого страдали. Но, хоть мой отец и регулярно ругался с Эрнесто, постоянно требуя, чтобы он объяснил свои решения и идеологические мотивы, он испытывал к нему самые нежные чувства. Но сын продолжал вводить его в замешательство. Он не понимал, почему Эрнесто согласился на такое низкое жалованье. До него не доходили такие понятия, как совестливость. Как и то, что Эрнесто отказывался давать автографы, заявляя: «Я не кинозвезда».
Тем не менее по просьбе наших родителей и чтобы мы могли спокойно перемещаться по всему острову, Эрнесто согласился предоставить в наше распоряжение автомобиль, однако при условии, что мой отец сам будет отвечать за оплату бензина. Но, как обычно, Эрнесто-padre[13] оказался без гроша. И он пытался аргументировать это так: «Сынок, мы – словно тощие коровы». На что Эрнесто отвечал: «Кубинцы – тоже! Выкручивайся сам, coño[14]!»
Мой отец сделал вид, что послушался. Но за спиной Эрнесто он продолжил свои уловки, чтобы получить то, что ему было нужно, внушая всем, что Че дал на это согласие. Когда Эрнесто узнал об этом, он пришел в ярость. Отец должен был сделать выводы, но ничто не могло его остановить! Он всегда делал так, как ему было угодно. И я никогда не знал, что у него в голове: понять моего отца было невозможно. Это как бродить вслепую по лабиринту.
С момента нашего прибытия отец решительно лишился рассудительности или дисциплины, или того и другого одновременно. Он, казалось, так и не понял, кем стал его сын и до какой степени революция сделала его неподкупность еще более суровой, чем в юности. Эрнесто теперь считал, что самое простое его действие имеет характер некоей миссии. Если Че хотел подать пример «нового человека», строящего общество, основанное на равенстве, то и его собственное поведение должно было быть безукоризненным. И наше тоже. А каков этот «новый человек» согласно Эрнесто? «Молодой коммунист обязан быть по сути человеком, организатором, уметь вести за собой людей. Человек лучше очищается трудом, учебой, исполняя солидарный долг с народом и со всеми народами мира. Он должен максимально развивать чувство сопереживания с теми, кому в этот момент в любом уголке мира очень плохо, чувствовать себя великолепно, когда в каком-то месте мира поднимается новый флаг свободы», – заявил он в своей речи в октябре 1962 года.
* * *
Мой отец, похоже, ничего не понимал. По крайней мере, он вел себя как страус и старался не замечать препятствий, чинимых Эрнесто, вместо того чтобы держаться верного революционного пути, на котором следовало быть примером. По приглашению моего отца три аргентинских профсоюзных лидера полетели с нами из Буэнос-Айреса, и это нам показалось странным, даже неуместным, но, как я уже говорил ранее, мы уже давно отказались от любых попыток понять мотивы нашего отца. Я просто представил себе, что он намерен делать какие-то дела с профсоюзниками. Но какие? Я не знал. Мой отец пытался стрелять по всем мишеням одновременно, но он с треском проваливался во всех своих начинаниях, несмотря на незаурядный ум. Он был мечтателем и артистом, но, конечно же, не бизнесменом, несмотря на многочисленные попытки им стать.
Я не поверил, когда он объявил мне утром о встрече с руководителем компании «Бакарди», производящей спиртные напитки. Он попросил меня сопровождать его. Естественно, он ничего не сказал об этом Эрнесто. Мы направились в штаб-квартиру «Бакарди», внушительное строение на авеню Бельжик, что в старом городе. Нас принял в своем великолепном кабинете сам Хосе «Пепин» Бош. Там мне подали дайкири в стакане, на дне которого лежал драгоценный камень. Я не верил своим глазам! Мой отец спокойно что-то обсуждал с Бошем. И он чувствовал себя вполне в своей тарелке. Как и моя мать, он происходил из известной семьи высокопоставленной аргентинской буржуазии. Я не особенно следил за их разговором, я был восхищен окружавшей меня роскошью. В момент прощания отец заговорил о возможности ведения бизнеса с «Бакарди» в Аргентине.
На следующий день мы нанесли визит генеральному директору банка Педросо, самого большого на Кубе. Вот так революционер! Когда Эрнесто узнал об этом, он сильно рассердился. «Ты не должен так поступать! – попытался он объяснить моему отцу. – Мы только что совершили революцию, che! Ты не можешь компрометировать себя, встречаясь со всеми генеральными директорами острова. Ты лишишь меня доверия. Если ты действительно хочешь встретиться с сановниками, пойди к президенту республики. Я организую вам встречу». Так мы встретились с Мануэлем Уррутиа.
Я нервничал. А мой отец находился в каком-то бессознательном состоянии, совершал ошибку за ошибкой и, похоже, не понимал степень серьезности происходящих событий. Куба готовилась выдержать новые нападения величайшей мировой державы. Тот факт, что мой отец разговаривал с президентом крупнейшего банка, был совершенно неприемлемым. Хоть я и не был Команданте, я предлагал ему уехать. Безусловно, это уже был перебор. Полагаю, Эрнесто думал примерно так же. Во всяком случае, мы посадили отца на самолет в Буэнос-Айрес. И после этого он еще рассказывал, что это бизнес заставил его вернуться в Аргентину. Какой еще бизнес? Мы этого не знали, и, честно говоря, нас это мало заботило. Мы научились не обращать на это никакого внимания. Авторитет моего отца выдержал расставание – крайне неоднозначное – моих родителей. В то время они уже больше не жили вместе.
Мы с облегчением вздохнули после отъезда отца, избавив себя от его промахов, действовавших нам на нервы. Эрнесто был перегружен. Он неустанно работал по шестнадцать часов в день и отдавался душой и телом делу революции, будучи убежден в том, что Соединенные Штаты не замедлят продемонстрировать свое недовольство. У него оставалось очень мало времени для нас. Его подруга Алейда Марч тоже не слишком часто общалась с ним наедине. Но она продолжала работать его помощником, как в Сьерра-Маэстре, и она буквально вырывала у него моменты для личных встреч. Тем не менее он иногда освобождался и неожиданно появлялся в «Комодоро» – иногда на джипе, иногда на вертолете. Моя мать и моя сестра Селия жили ради этих внезапных визитов, они их ждали каждый день. Они были при этом весьма активны: они посещали и изучали все, что только было можно. Это от моей матери Эрнесто унаследовал любопытство и интеллектуальную остроту. Он ценил ее советы. Она была из тех немногих людей, кто говорил ему всю правду без прикрас. И в его нынешнем положении он больше чем когда-либо нуждался в ее откровенности. Что же касается Селии, то она больше всех нас походила на Эрнесто. В целом у них были схожие характеры, близкий образ мышления, они читали одинаковые книги. Однажды Эрнесто нашел время отвезти нас в Санта-Клару. Нам так хотелось увидеть место решающей победы Сиро Редондо[15]. На самом деле именно в Санта-Кларе несколько недель назад Эрнесто пришла идея пустить под откос бронированный поезд, который перевозил оружие и боеприпасы для солдат режима. Это ускорило взятие города и падение Фульхенсио Батисты. Именно в Санта-Кларе жила семья Марч, с которой Эрнесто хотел нас познакомить: Алейде предстояло стать его женой и матерью четверых детей – Алейды, Камило, Селии и Эрнесто. У моего брата уже была дочь, Ильда-Беатрис – от его первого брака с перуанкой Ильдой Гадеа. И мы провели несколько часов с родителями Алейды, очаровательными крестьянами, простыми тружениками. К несчастью для нас, Эрнесто и Алейду срочно вызвали в Гавану. Они вынуждены были нас покинуть. Мои родители, Селия, ее муж Луис и я отправились в Эскамбрай.
По возвращении в Гавану я стал исследовать город, часто в сопровождении Гарри «Помбо» Вильегаса или Леонардо «Урбано» Тамайо, двух партизан из Сьерра-Маэстры, которые потом отправились с Эрнесто в Боливию и участвовали в боях в районе Ньянкауасу. Помбо и Урбано воевали с ним, так что я воспользовался этим, чтобы задать им множество вопросов. Вся их информация была для меня захватывающей, ибо я не знал ничего из рассказанного ими. А они поведали мне о подвигах моего брата, его героизме, его умении дружить и его глубокой человечности. Тем не менее этот исключительный человек, об отваге и подвигах которого мне рассказывали, продолжал оставаться просто моим братом. И, несмотря на все эти истории, я пока не осознавал значимость Че. Я был простым подростком. Два с половиной года спустя, когда мы в последний раз виделись с ним в Пунта-дель-Эсте, в Уругвае, на Межамериканской экономической и социальной конференции, я наконец-то начал осознавать его место в Истории. Сегодня я жалею, что был не в состоянии оценить масштаб событий, которые мне довелось пережить. Для меня все это было лишь каким-то пьянящим водоворотом. Я также очень жалею, что не смог познакомиться в то время с Фиделем. Но несколько месяцев спустя он сам нанес нам незабываемый визит в Буэнос-Айресе.
* * *
9 февраля, за два дня до нашего отъезда, указом премьер-министра Фиделя Кастро Эрнесто был провозглашен «кубинским гражданином со всеми вытекающими правами и обязанностями». Моя мать преисполнилась гордостью. Она была убеждена в том, что кубинская революция является делом хорошим и справедливым. Она видела в Че плоды того, что сама посеяла. Что же касается Эрнесто, то он считал мою мать архитектором, позволившим ему подняться на верхние этажи. Он был ей благодарен за то, что она оказалась женщиной, способной отказаться от роли матери, роли в стиле «я забочусь о тебе, я дала тебе жизнь», ради роли товарища. Как всегда, они нашли почву для взаимопонимания.
Они расставались, будучи ближе друг к другу, чем когда-либо. Моя мать страдала от необходимости уезжать, но у нее имелись обязательства в Аргентине: мой брат Роберто и сестра Анна-Мария стали родителями, а она воспринимала свою роль бабушки весьма серьезно. Что касается меня, то я хотел бы остаться на Кубе с моим братом, чтобы принимать участие в революции. Но отец из Буэнос-Айреса запретил мне это. Перед отъездом он вновь потребовал, чтобы Эрнесто вернулся и возобновил свою медицинскую карьеру. Напрасно. Куба уже приняла его старшего сына. Тогда он не отдаст ей своего младшего! Каким бы чудны́м и беспечным он ни казался, мой отец любил своих детей. Я же чувствовал себя глубоко разочарованным и озлобленным. Моя мать, конечно же, согласилась бы на то, чтобы я остался. Она бы поняла меня. А Эрнесто? Я не знаю. Я не задавал ему подобных вопросов. Решение моего отца было необратимо, и никто, похоже, не мог противостоять этому. Мне ведь было только пятнадцать.
Если бы я остался, я сражался бы в Ньянкауасу. И с моей помощью Эрнесто мог бы выжить. Думается, я никогда не смогу простить моему отцу этот отказ.
Эксцентричная пара без гроша в кармане
Перед тем как пуститься в историю моей семьи, я хотел бы уточнить кое-что из того, что представляется мне важным. В занимающем нас сюжете, каковым, по сути, является мой брат Эрнесто, основными выступают не столько семейные аспекты и какие-то интересные случаи, характеризующие нашу семью и ее влияние на Эрнесто, но события и ситуации, которые он наблюдал, по которым выносил свое суждение, и они более серьезны, чем какие-то мелочи нашего бытия. Я стараюсь быть строгим со своей памятью. Некоторые эпизоды возникают во мне больше как ощущения, чем как фактические воспоминания. С другой стороны, есть и моменты, запечатлевшиеся в моей памяти, словно фотографии.
* * *
Мои родители, Эрнесто Гевара Линч и Селия де ла Серна и Льоса, женились в присутствии моей тети Эделмиры де ла Серна де Мур 10 декабря 1927 года. Брак был поспешным: они повстречались лишь несколькими месяцами ранее у одного из общих друзей. Семья Серна отсутствовала в день свадьбы, потому что не одобряла этот союз: мой отец был tanguero (танцором танго) без диплома и, вполне вероятно, без будущего, полуночником, который, как только наступал вечер, отправлялся танцевать в Барракас, неблагополучный пригород Буэнос-Айреса. Этот танец считался в то время исключительно занятием пролетариев и иммигрантов. Он был не в чести в приличных кварталах города. «Правильные люди» находили этот па-де-де, имитирующий эротическую любовь, исключительно порочным. А для такого человека, как мой отец, привлекательность танго заключалась именно в этом. Он был великим обманщиком. И, видимо, настолько неотразимым, что соблазнил мою мать, едва она вышла из монастыря Святого Сердца – пансиона, который содержали французские монахини. В то время половое воспитание молодежи происходило в борделях с проститутками, а не с такими девочками из приличной семьи, как Селия де ла Серна.
Происходя из старой богатой семьи, принадлежавшей к верхушке аргентинской буржуазии, моя мать, однако, не выглядела неприметной молодой девушкой, воспитанной монахинями. Она обладала сильным характером, была весьма непростой, мятежной, независимой, отличалась очень тонким интеллектом. Она буквально проглатывала книги на испанском и французском языках. И она никому не позволяла приказывать себе что-либо. Она рано стала феминисткой, потом она стала одной из первых аргентинок, что подстригли свои волосы «а-ля сорванец», начали носить брюки, курить и водить автомобиль. Я не знаю, правда ли это, но мой отец часто говорил, что, когда он познакомился с ней, она была настолько верующей, что клала битое стекло себе в обувь, чтобы истязать себя. Когда я познакомился со своей матерью, то есть когда я стал отдавать себе отчет в том, что она за личность, она уже была совершенно несносной!
«Паршивая овца» своей семьи, маргинал и мечтатель, молодой Эрнесто Гевара Линч, конечно же, не мог не понравиться моей матери. Ей было двадцать лет, у нее было грубое лицо с высокими скулами, длинным носом, темными глазами, глубоко посаженными и расходящимися к вискам, темные волосы и стройная фигура. Она не выглядела классически красивой, но она вся словно сверкала. Она отличалась величественной осанкой. Ее невозможно было не заметить.
На момент их свадьбы мой отец был совладельцем судостроительной компании «Эль-Астильеро-Рио-де-ла-Плата». Компания прогорала. Один из друзей предложил ему купить землю в Мисьонесе, чтобы выращивать там yerba mate[16]. Мисьонес – это субтропическая провинция, дикая земля, удаленная к самым границам Аргентины, своего рода узкий рукав застывшей лавы или грязи между Бразилией и Парагваем, там протекают реки Парана и Уругвай, и там снимался фильм Роланда Йоффе «Миссия». Провинция была захвачена испанскими иезуитами в XVII веке и населена индейцами гуарани. Убийства и грабежи считались там вполне обычным делом. Территория кое-как функционировала вне всяких законов. Для того чтобы защитить себя там, человек должен был уметь владеть топором или револьвером. Кроме того, Мисьонес был подвержен резким климатическим изменениям, и его буквально пожирала пышная растительность, таившая в себе множество опасностей. Там каждое насекомое имело экзотическое название, например, jején, ura или mbarigüi, и каждое жалило, кусало или переносило малярию.
Mbarigüi (мошкара) была настолько мелкой, что ее было едва видно, и она проникала сквозь любую защитную сетку. Также там водилось множество змей.
Тем не менее предложение показалось заманчивым такому авантюристу, как мой отец. А моя мать была идеальной женщиной, и она добровольно последовала за ним в эту безумную экспедицию. Они, похоже, были созданы друг для друга. Селия де ла Серна ничего не боялась. Она, можно сказать, холила и лелеяла опасности, когда представлялась такая возможность. И если она оказалась готова принять этот суровый образ жизни, будучи уже беременной, то это не просто ради того, чтобы слепо следовать за своим мужем: приключения манили ее. И потом ей очень хотелось оказаться подальше от своей семьи, воспитавшей ее в монашеской атмосфере.
Многие биографы Че потом писали, что мои родители происходили из аристократии, аргентинской олигархии, что они были буржуа. Это всегда смешило меня. Олигархия имеет две составляющие: власть и деньги. Мои же родители не имели ни того, ни другого. С другой стороны, они обладали удивительной способностью порвать с установленным порядком, с тем, что от них ожидали. Хоть они оба и были выходцами из богатых и известных семей, они представляли собой эксцентричную пару без гроша в кармане. У них не было ничего. Но зато они жили свободной богемной жизнью, находясь в постоянном движении, пребывая в финансовой нестабильности, и все это было так далеко от положения их родителей. Тем не менее их своенравность коренилась именно в их семьях.
* * *
Мои бабушка и дедушка по отцовской линии, Роберто Гевара Кастро и Анна Линч Ортис, были урожденными аргентинцами, бежавшими от произвола caudillo[17] Хуана Мануэля де Росаса[18], насильно вербовавшего мужчин в свою армию, искать счастья в Калифорнии. Чтобы выйти в люди, мой прадед, Франсиско Линч, сын ирландского иммигранта, проделал долгий и опасный путь, приведший его из Уругвая в Чили через Магелланов пролив, потом в Перу, в Эквадор и, наконец, в Сан-Франциско, где он провел тридцать лет и где родилась и росла до двенадцати лет моя бабушка. Семья моего деда, Хуана Антонио Гевары, происходившая из провинции Мендоса, которую она помогла основать и развить, также отправилась в изгнание по политическим мотивам: она осмелилась бросить вызов Хуану Мануэлю Росасу и вынуждена была жить под угрозой репрессий. Когда это стало слишком тяжело, Хуан Антонио и его братья решили эмигрировать. Они пересекли Андийские Кордильеры, чтобы обосноваться сначала в Чили, а потом отправиться в Калифорнию, будучи привлеченными золотой лихорадкой. И если Франсиско Линч сколотил себе состояние в Golden State[19], то Хуан Антонио с треском провалился. Золото так никогда и не побывало в его руках и в руках его братьев. Годы изгнания в районе Сакраменто, тамошней столицы, оказались бесплодными.
Падение Хуана Мануэля Росаса в 1852 году наконец-то позволило двум семьям вернуться в Аргентину, и мои бабушка и дедушка встретились. У них было одиннадцать детей, которых они воспитывали в estancia (имении) Портела, на ранчо, в провинции Буэнос-Айрес.
Известному инженеру-географу Роберто Гевара Кастро было поручено территориальное разделение Аргентины и Чили, с одной стороны, и Аргентины и Парагвая, с другой, а также составление кадастровой карты провинции Мендоса, что заняло пятнадцать лет. Он уходил на несколько месяцев в сопровождении людей и мулов. Я никогда не считал его настоящим авантюристом, поскольку он располагал огромными ресурсами. Но он был склонен делать свою работу в весьма сложных условиях, будучи, конечно же, вооруженным. Пребывая в Портеле, он рассказывал о своих многочисленных экспедициях. Эти истории потом пересказывались дядями и тетями, поскольку мой дед умер в 1918 году, задолго до наших последовавших одно за другим рождений. Одна из таких историй особенно поразила мое воображение: один из его мулов в один прекрасный день решил, что с него хватит и он дальше не пойдет. И он бросился в пропасть, груженный незаменимыми инструментами, что создало моему деду серьезные затруднения. Так я узнал, что мулы – это единственные животные, которые совершают самоубийство.
В то время как мой дед таскался по горам, проводя границы и сталкиваясь с разного рода опасностями, в том числе с регулярными нападениями индейцев, моя бабушка одна воспитывала его немалое потомство. Это была женщина с головой и принципиально независимая. Она была атеисткой! В такой глубоко католической стране, как Аргентина, подобный выбор подразумевал чрезвычайно свободный ум. Позднее ее дети все станут верующими под давлением или из-за честолюбия, кроме моего отца, который всю жизнь будет посмеиваться над сложившимися в обществе правилами.
Эрнесто обожал свою бабушку по отцовской линии и отправился в Портелу при первой же возможности. И именно он останется потом у ее изголовья до конца, когда она заболеет. И это из-за ее смерти он решит отказаться от карьеры инженера, чтобы стать врачом. Моя бабушка возвращала ему свою любовь сторицей: он был ее любимчиком, как он был и фаворитом моей матери, а также моей тети Беатрис. Беатрис – это сестра моего отца. Какой характер! Вечно в своей маленькой шляпке. В Портеле она спала с ружьем у кровати. Когда какой-нибудь комар надоедал ей, она стреляла, и звук выстрела долго потом резонировал в пампасах. Мой дед проделал дырку для ствола ружья в москитной сетке, которая фактически оказалась бесполезной.
Беатрис никогда не вышла замуж. Она поклонялась Эрнесто. После победы Кубинской революции она будет откапывать информацию про него, все читать и вырезать каждую статью, написанную о нем, и таким образом накопит ценнейшее досье. Время от времени она неожиданно появлялась у нас дома с газетными вырезками и с негодованием восклицала: «Я не понимаю, почему они все обвиняют Эрнесто в том, что он коммунист. Он такой милый, такой хороший!» Для нее коммунисты были чем-то дискредитирующим, противным, жестоким. И как же такое было возможно, что ее любимый племянник – коммунист? И все же Эрнесто регулярно посылал ей письма, специально подписывая их так: «Твой племянник-коммунист», «Твой племянник-пролетарий», «Сталин № 2». Просто чтобы позлить ее. Но он при этом нежно любил ее. Он хотел бы, чтобы она поняла его, потому что он чувствовал себя очень близким к ней. У него имелось обыкновение провоцировать людей, чтобы заставить их реагировать. Это забавляло его. Эрнесто был смутьяном, рожденным для споров.
* * *
Что касается моей матери, то она стала сиротой в возрасте пятнадцати лет. Семья ее матери, Эдельмиры Льоса, была могущественной. Например, Льоса построили первое метро в Буэнос-Айресе в 1908 году. Семья ее отца находилась недалеко позади. Хуан Мартин де ла Серна происходил из старинной семьи колониальной эпохи, очень влиятельной в стране. Наш прадед Мартин Хосе де ла Серна участвовал в революции против Хуана Мануэля Росаса (того самого, от которого бежали мои прадеды по отцовской линии). Его арестовали и бросили в тюрьму за его подрывную деятельность, но ему удалось бежать, и он присоединился к генералу Хуану Лавалье в Монтевидео. С ним вместе он воевал до поражения Росаса при Касеросе в 1852 году. Затем он основал город Барракас-дель-Сур (ныне Авельянеда), а потом стал там мэром. Хоть люди из семейства де ла Серна и были крупными буржуа, они не разделяли идеи и ценности себе подобных. Это было семейство связанных с землей интеллектуалов, свободолюбивых антиклерикалов, даже несмотря на то, что они и отправляли некоторых из своих детей в религиозные школы.
* * *
Мой дедушка Хуан Мартин де ла Серна был адвокатом, дипломатом и профессором на факультете права в Буэнос-Айресе. Его учениками были некоторые из будущих лидеров Радикальной партии, в которой он и сам стал очень активным членом. Судя по тому, что мне рассказывали, он был очень умным человеком, образованным и хорошо владевшим французским и немецким языками. Также он стал пионером аргентинской авиации. Все, похоже, у него получалось, и все же он бросился в море с палубы корабля в 1908 году. Потом долго ходили разные сомнительные слухи относительно причин этого самоубийства. Говорили даже, что у него был сифилис. Моей матери тогда исполнилось два года.
Тринадцать лет спустя ее мать умерла после продолжительной болезни. И семеро детей Серна-Льоса унаследовали огромное состояние. Они стали жить в прекрасном estancia, в ста километрах к югу от Буэнос-Айреса, которое называлось Манантьялес. Когда моя будущая мать еще не находилась в монастыре Святого Сердца, ее воспитывали старшие сестры Сара и Кармен. Хоть атмосфера в Манантьялесе и была строгой и подчиненной дисциплине, там велось много разговоров о политике. Трое из Серна-Льоса выделялись особенно: моя тетя Кармен, мой дядя Хорхе и моя мать.
Будучи подростком, Кармен безумно влюбилась в мексиканского поэта Амадо Нерво и зачитывалась его произведениями. Она даже начала писать ему письма, на которые, против всякого ожидания, он отвечал. Так установилась регулярная переписка между этим зрелым человеком и невинной молодой девушкой. И дошло до того, что, когда она узнала, что он умирает в Монтевидео, она устремилась к его изголовью и оставалась там до самой его смерти. Ей было тогда восемнадцать. Через несколько лет она вышла замуж за поэта, журналиста и художественного критика Каэтано «Поличо» Кордова Итурбуру. Они оба вступили в Коммунистическую партию Аргентины, где и оставались активными членами четырнадцать лет, вплоть до изгнания Поличо.
Воинственное левачество никогда не мешало Кармен внимательно относиться к своей внешности. Когда ее арестовали и бросили в тюрьму люди Перона[20], правившего страной железной рукой, ее больше смущала ужасная форма, которую носили заключенные, чем сам факт ее заключения под стражу. Однажды, когда она участвовала в демонстрации против Перона, полиция открыла огонь по толпе. Все манифестанты бросились на асфальт, чтобы укрыться от пуль, но только не она. Моя тетя осталась стоять, чтобы не повредить свое красивое платье! Супруги Итурбуру имели огромное влияние на Эрнесто.
Мой дядя Хорхе де ла Серна был буйным. И мы никогда не могли определиться, кто более чокнутый – мой отец или он. Семья де ла Серна имела привычку называть моего отца el loco Guevara (сумасшедший Гевара). Но Хорхе был почти таким же легкомысленным. После нескольких лет брака и имея несколько детей, он серьезно влюбился в одну молодую работницу, ради которой он бросил мою тетю. А та, используя свои связи, сумела объявить его душевнобольным. И Хорхе оказался в психиатрической клинике! Он провел там несколько недель, пока не сумел доказать, что находится в здравом уме. Однажды мой отец во время одного из их многочисленных препирательств назвал его viejo loco[21], а Хорхе достал из кармана листок бумаги и стал яростно размахивать им перед носом моего отца, крича: «Я – старый сумасшедший? Я, возможно, и был в заточении, но они меня выпустили! У меня даже имеется документ, подтверждающий, что я не сумасшедший! В то время как ты, может быть, и на свободе, но ты псих, которого точно нужно изолировать!»
Хорхе был агротехником. Кроме того, он был авантюристом по натуре с ярко выраженной склонностью к риску. Выдающийся пловец, он имел привычку бросаться в самые холодные и самые бурные воды, часто голый, словно червь, но с белой кепкой на голове, чтобы его можно было видеть, потому что он ненавидел оставаться незамеченным. В Мар-дель-Плате он однажды намеренно заплыл в океан, когда подняли красный флаг тревоги, бушевали течения и огромные волны. Он был способен плавать по четыре или пять часов. Неизбежно на пляже образовалась толпа. И он испортил нам весь день, так как мы страшно испугались, что он утонет. Как-то раз спасатели, недовольные его выходками, подумали, что могут положить этому конец, решили позвонить в полицию. И Хорхе задержали. И, конечно же, он снова принялся за свое на следующий день. Он любил экстремальные виды спорта, особенно если они не имели названия. Однажды он полетел на своем старом самолете-развалюхе и в воздухе отключил двигатель. Так он стал планеристом. У него был очень шустрый и предприимчивый ум, при этом он никогда не учился, но писал вполне приличные стихи – он посвятил несколько стихотворений араукарии, хвойному растению из Анд. Он сначала выступал за ультранационалистическую партию, а затем стал коммунистом. Он также прекрасно разбирался в механике, путешествовал по стране на мотоцикле. Затем он женился на одной девушке, чтобы потом бросить ее ради упомянутой выше работницы, от которой он также вскоре устал. Развод был тяжелым: он потерял земли и состояние. Разорившись, он начал работать в Министерстве культуры. Вот в это время он и появился в нашей жизни, и Эрнесто связался с ним. До развода мы редко видели Хорхе. Моя мать ушла из его семьи: она считала себя обойденной в наследстве из-за своего союза с «сумасшедшим Геварой». Состояние моих бабушки и дедушки должно было быть разделено между их семью наследниками. Но некоторые из моих дядюшек и тетушек сделали все, чтобы лишить мою мать ее доли. Таким образом, мои родители не могли спокойно жить на свои доходы, как они первоначально предполагали. Закон в то время запрещал молодой девушке вступать в брак до двадцати одного года без согласия своей семьи и позволял последней лишать ее наследства в случае неповиновения. Между тем моя мать в спешке вышла замуж.
* * *
Мои родители уехали в Мисьонес после покупки плантации yerba mate на двести гектаров. Они поселились в Пуэрто-Карагуатае, изолированном местечке, расположенном в 2700 километрах, то есть в неделе плавания от Буэнос-Айреса. Пуэрто-Карагуатай не был портом. Это были непроходимые джунгли, начиная прямо от пирса. Точка. Ни одна дорога туда не вела. Добраться туда можно было лишь по реке Парана. И хотя туда сегодня и ведет дорога, ею невозможно пользоваться в дождливые дни.
* * *
Мой отец сразу же начал строить дом на сваях, вытесанных из стволов деревьев. У него не было никакого диплома, но он обладал множеством талантов. Окна дома выходили на реку Парана, шириной в шестьсот метров в этом месте. Моя мать, как и ее брат, а позже и Эрнесто, была отличным пловцом и регулярно совершала заплывы, несмотря на опасные течения и протесты моего отца.
Ради появления первенца, которого нельзя было даже себе представить в негостеприимных джунглях Пуэрто-Карагуатая, мои родители сняли квартиру в Росарио, столице провинции Санта-Фе. Там-то 14 июня 1928 года и появился на свет Эрнесто. Через несколько недель после родов мои родители вернулись в Мисьонес. Они были счастливы. Моей матери исполнился двадцать один год, отцу – двадцать восемь. Они быстро привязались к своему дому-срубу и к своей жизни первопроходцев. Они регулярно ездили верхом, наслаждаясь природой. Несмотря на трудности и полное отсутствие комфорта, это была захватывающая жизнь, и она была так далека от монастыря Святого Сердца для моей мамы и от Сан-Исидро, богатого пригорода, что к югу от Буэнос-Айреса, где жил мой отец!
Эрнесто провел два первых года своей жизни на этой дикой земле. Мой отец любил потом подчеркнуть, что это оставило в нем глубокий след. Дескать, мой старший быстро взрослел и схватывал все на лету. Для снабжения продовольствием мои родители вынуждены были плыть на лодке в деревню, населенную mensús (сокращенно от «mensualero» – человек, который живет на одну месячную зарплату), замученными людьми, сезонными сельскохозяйственными рабочими, потомками индейцев-гуарани, туземцами, которые в течение двух веков охраняли иезуитские миссии. Сто лет прошло после ухода миссионеров, а несчастным mensús так и не удалось разорвать свои цепи. Их использовали на плантациях мате, и они жили в состоянии полурабства и в условиях крайней нищеты. Угнетение помещиками было тотальным и очень жестоким. Платили им в натуральной форме: им строили отвратительные трущобы и выдавали жалкую еду в обмен на их труд. Они влезали в долги, чтобы купить себе выпивку, потреблявшуюся в редкие минуты отдыха. Если они пытались убежать, их ловили землевладельцы и избивали до смерти в назидание другим. Это неравенство шокировало мою мать. И она восстала против несправедливости – первой же, какой стала прямым свидетелем. А тем временем мой отец решил платить своим mensús в песо, и он вмиг превратился в изгоя в среде равных себе. Его обвинили в том, что он – коммунист, в подрывной деятельности по отношению к другим yerbateros (торговцам листьями мате), и они объединились против него. Возможно, именно поэтому вся история с Мисьонес оказалась обреченной на провал. Семья вернулась в Буэнос-Айрес, и отец передал плантацию своему партнеру. Он думал туда вернуться после того, как восстановится порядок в расстроенных делах компании «Эль-Астильеро-Рио-де-ла-Плата». Но на самом деле страница под названием Пуэрто-Карагуатай уже была перевернута. В Сан-Исидро, где родители разместились у моей бабушки, Эрнесто начал страдать от острой астмы. Субтропический климат Мисьонес настоятельно не рекомендовался для его хлипких легких. И так этот жестокий диагноз начал диктовать условия существования для нашей семьи. Из-за этой болезни мы стали кочевниками.
Состояние здоровья Эрнесто быстро ухудшалось в Сан-Исидро. Влажность, связанная с близостью реки Ла-Плата, усугубляла астму в течение нескольких месяцев. Его здоровье стало приоритетом для моих родителей. Они собрали чемоданы и провели следующие месяцы, путешествуя по стране в поисках более подходящего климата. Не имея ни гроша в кармане, они переезжали из одного семейного дома в другой: в estancia моей бабушки в Портела, в estancia наших кузенов Мур де ла Серна в Галарса, что на территории гаучо, в дом тетушки в Мирамаре. В это время у них не было постоянного места жительства.
С детства мы привыкли перемещаться, приспосабливаясь к обстоятельствам. Мы никогда не знали, что такое оседлость, что такое финансовая стабильность.
В 1932 году Эрнесто исполнилось четыре года, а моей сестре Селии – три. Родился Роберто. Мои родители были обеспокоены приступами астмы, которые, похоже, становились все более сильными. Они были убеждены, что заболевание их старшего ребенка является результатом бронхопневмонии, подхваченной в Росарио вскоре после его рождения. Практически они жили в ритме приступов, становившихся все более и более частыми, все более и более устрашающими. Они консультировались с лучшими специалистами по легким. Те предписывали различные лекарства и отмечали, что им редко доводилось наблюдать столь серьезный случай у столь маленького ребенка. Никакое лечение не помогало. Мои родители были в отчаянии. Наконец один известный врач посоветовал им жить в Кордове, в горной области в центре страны, где они никогда не бывали и где никого не знали. Да какая разница! Они готовы были пойти на любые жертвы, лишь бы облегчить страдания моего брата. Они подняли якоря, державшие их в Буэнос-Айресе, и тут же отправились на поезде в Кордову, где им суждено будет провести ближайшие пятнадцать лет своей жизни. У нас никогда не было настоящих корней, места, про которое мы могли бы сказать «это наш дом, наша крепость». А вот Альта-Грасия оказалась местом, ближе всего подходившим к этой концепции. И мы все там выросли.
Свободные как ветер
В тридцатых годах Альта-Грасия была основным курортным городом примерно на двадцать тысяч жителей в центральной провинции Кордова, расположенным у подножия горной цепи Сьеррас-Чикас. Ее чистый и сухой климат считался отличным для лечения легочных заболеваний. Это было тихое место, слишком тихое для моих родителей, для которых там имелась лишь одна точка притяжения: возможность улучшить здоровье Эрнесто и тем самым скрасить его жизнь.
За пятнадцать лет, что там провела моя семья, было десять переездов. Сначала она приехала в отель «Ла-Грута» и прожила там год, потом перебралась на виллу «Чичита», потом – на виллу «Нидия», где сегодня находится Музей Че, потом – на виллу «Карлос Пеллегрини», затем – в шале «Фуэнтес», «Форте» и «Рипамон», чтобы, наконец, снова вернуться на виллу «Нидия». Мы представляли собой бродячий клан, пребывающий в вечном смятении. То есть такими были мои родственники, ибо я сам тогда еще не родился. Каждое жилище семейства Гевара неизбежно превращалось в Капернаум[22]. Они прибирались лишь в случае прихода гостей. Вилла «Чичита», в частности, находилась в очень плохом состоянии, там были трещины в полу, на стенах и на крыше. Там были очень высокие потолки, и все было плохо изолировано, и это вызывало сквозняки, весело гулявшие по дому. Отопление не работало, и у моих родителей не было денег, чтобы его исправить. К огорчению моего отца, Альта-Грасия не стала местом, благоприятным для ведения бизнеса. Но он все-таки сумел получить контракт на строительство отеля через одного друга, разработал для него проект, а затем бросился прожигать заработанные деньги. Кажется, я даже помню, что потом он занимался полем для игры в гольф. Тем не менее хорошие времена длились всего несколько месяцев.
Зимой все дрожали от холода. Моей матери в один прекрасный день пришла идея купить большую скатерть, ниспадающую до пола, и поместить обогреватель под стол. Это позволяло, по крайней мере, держать в тепле ноги и ступни. Остальная часть дома представляла собой сущий холодильник. Моя мать никогда не жаловалась: она, похоже, легко адаптировалась к любым ситуациям. Имея такие красивые платья в молодости, в настоящее время она одевалась самым скромным образом. В основном она носила брюки и простую блузку, изредка – юбку или платье. Она коротко постригла себе волосы, что в то время было чем-то невероятным для женщины. Когда она проходила мимо, люди шептались: «Селия садится за руль! Селия носит брюки! Селия не ходит на мессу!» Альта-Грасия представляла собой один из тех провинциальных городков, где все друг друга знали и всё постоянно обсуждали. Хотя в юности она и всерьез задумывалась над тем, чтобы стать монашкой, теперь моя мать не обращала внимания на кюре. Мы даже подозревали, что ее антиклерикализм был связан с годами, проведенными в пансионе, с тем фактом, что монахини заставляли ее стоять на коленях на кукурузных зернах и читать «Отче наш» десять тысяч раз подряд. И она выработала в себе глубокое отвращение к церкви после ухода из монастыря и открытия для себя иного мира. Один вид церкви портил ей настроение. Она понимала, что является объектом сплетен, но это ее не заботило. У нас была плохая репутация. Мои родители были известны, как подлинно вседозволяющие либералы, которые все оставляют на усмотрение детей и разрешают им общаться, с кем им хотелось. Потомство Гевара и в самом деле было свободно как ветер. Не было никакого внутрисемейного режима. Кроме того, мои родители относились к девочкам, как к мальчикам: они не видели в этом никакой разницы. Единственное, что они требовали от своих детей, так это уважения и внимания. Важна была семья как таковая. И никого не заботило то, что говорят другие люди, а Эрнесто – даже еще меньше, чем остальных.
Моя мать не была домохозяйкой, ее не беспокоили уборка или приготовление пищи, она не имела об этом ни малейшего понятия. Она без ложного стыда признавала, что управление домашним очагом – это не ее, и иногда сожалела об этом в моменты приступов самокритики. Но это была прекрасная мать для своих пятерых детей (Анна-Мария и я родились соответственно в 1934 и 1943 годах). Ее главным приоритетом было наше образование. И в этом она не жалела усилий. Это было особенно актуально для Эрнесто (и в меньшей степени для меня чуть позже), которого она учила читать, писать и французскому языку. До девяти лет мой брат много раз оставался дома из-за астмы. Моя мать лично давала ему уроки, которые он не имел возможности проходить в школе. И благодаря высокому качеству ее преподавания он не просто догнал, но и перегнал своих сверстников.
Стойкость Селии де ла Серна легендарна. Она не была ни ласковой, ни властной. Получить ласку или комплимент от нее – на это можно было заключать пари. Она выше всего ценила разные научные дисциплины и эрудицию, и она заставляла нас совершенствоваться, учиться, узнавать новое и сомневаться. Она проявляла стойкость к любого рода испытаниям, была по-христиански жертвенной. Она также имела огромные запасы сострадания, великую способность к солидарности, к взаимопониманию. В отличие от моего отца она была очень постоянной. Она могла читать книгу в пятьсот страниц, а он читал только стихи, потому что они короче. Как минимум, он мог просто просмотреть четверть книги, а затем пересказать всю историю, как если бы он прочитал ее от начала до конца.
У нас каждый делал то, что ему нравилось. Мои родители не требовали от нас никакой дисциплины, будучи уверенными, что их дети должны расти в условиях абсолютной свободы мысли и действий. С раннего возраста мы должны были сами решать свои собственные проблемы. Мои родители никогда не пытались найти какие-то решения за нас. Они поощряли изобретательность, будучи убежденными в том, что мы должны жить своим опытом, за свой собственный счет, если потребуется. Они повторяли, что жизнь сама научит нас. Мы не имеем права потерпеть неудачу, проиграть, отречься или пожаловаться. Если один из нас хныкал, они восклицали: «Нытиков в церковь!» Они были чрезвычайно требовательны относительно труда и устремлений. Для нас все было понятно, предельно прозрачно. Мы точно знали, что они от нас ожидают.
* * *
Это был сумасшедший дом: все, все, все из нас спятили, под руководством главного психа – отца. Мы доставали друг друга вопросами, спорили, толкали друг друга на крайности. И нам никогда не надоедало. Напротив, это доставляло нам удовольствие! Мой брат Роберто, например, установил закон, который гласил: «Наклонился – получи». Это означало, что если ты наклонился, чтобы поднять что-то, ты получаешь удар под зад. И никто не смел наклоняться. Если мы видели какой-то предмет на земле, мы сразу же думали о подстроенной ловушке и оставляли его лежать на месте. Однажды, когда наш двоюродный брат гостил у нас, Роберто спрятал небольшой переносной гриль в брюки, прикрыв его длинной рубашкой, а потом специально наклонился, сделав вид, что хочет подобрать что-то. Уважая закон, двоюродный брат едва не сломал себе ногу, пнув его в задницу! Также практиковалась игра в спелые фрукты. Все приятели нашего квартала должны были пройти через это испытание, чтобы быть принятыми в банду Гевары. Нужно было повиснуть на руках на ветке дерева на высоте три-четыре метра и висеть там до полного изнеможения. Как же часто Эрнесто отличался в этой игре! Он мог висеть почти до бесконечности. Он также любил ходить по перилам мостов, смотря вниз. Когда Эрнесто и Роберто дрались, Эрнесто обычно имел преимущество. И не только потому, что он был старше, но и потому, что вел себя словно бешеный. Но Роберто умел использовать слабую точку брата. В отместку он иногда прятал ведро ледяной воды где-то в саду, и потом неожиданно выливал его на голову Эрнесто. Из-за астмы это его парализовывало.
* * *
Будучи еще очень молодым, Эрнесто демонстрировал признаки сильного характера. Тем не менее он оставался застенчивым. Моя тетя Кармен говорила, что он был обязан застенчивостью своей интеллигентности. Эрнесто схватывал все с бешеной скоростью и редко нуждался в объяснениях. Он отличался железной волей, способностью принимать решения и смелостью. Он унаследовал порой противоречивые качества моих родителей: созерцательную сторону и при этом предприимчивость моего отца; решительность и дисциплину моей матери. Это идеальное сочетание позволяло ему идти к своей мечте и преуспевать в своих проектах. Мои родители всегда настаивали на том, чтобы мы заканчивали то, что начали. Но с огромным различием в подходе: моему отцу плевать было на то, как ты достиг своей цели, в то время как моя мать действовала по справедливости, и честность была для нее превыше всего. В связи с этим я хотел бы рассказать две важных истории. Когда я учился в колледже, я сам подписывал свои табели с оценками. Я был далеко не лучшим учеником, и мне не хотелось выслушивать утомительные выговоры. Кроме того, никто не просил у меня отчета – за исключением Эрнесто, который настаивал, чтобы я работал лучше. Однажды мой отец случайно увидел табель и подписал его. На следующий день директриса колледжа вызвала меня и попросила объяснить разницу в двух подписях. Я понес что-то типа того, что мой отец был болен и что его рука просто дрожала. Она позвонила, чтобы проверить. Мой отец прибыл в колледж, и директриса поведала ему о своих подозрениях. Он внимательно выслушал ее с выражением на лице, не оставлявшим никаких сомнений в его серьезности. И что же он сделал потом? Он с важным видом подтвердил мою ложь! А потом он сказал: «Дурак! Ты не мог мне сказать, что сам подписываешь свой табель? И что, трудно было лучше подделывать мою подпись?» Моя мать об этом не узнала: она была бы в ярости. А когда мне было тринадцать лет, меня арестовала полиция. И мой отец отругал меня за то, что я позволил себя поймать, даже не пытаясь узнать причину ареста. Моя мать спрашивала меня, что я предпринял, чтобы найти работу. Это было характерно. А вот моего отца интересовал лишь результат: путь к нему не имел значения. Для моей матери и путь был тоже важен.
Отвага и смелость были еще одними качествами, ценимыми в семье Гевара. И в этом Эрнесто тоже служил примером. Рассказывали, что однажды утром – ему тогда было десять или одиннадцать лет – баран, терроризировавший окрестности, вырвался из своего загона. Эрнесто погнался за ним, поймал за рога и боролся с ним, пока не опрокинул его на землю и не прижал. Он в кровь ободрал себе колени, но, похоже, этого даже не заметил. Он пошел в школу прямо так, как будто ничего не случилось. Все друзья восхищались им. Он завоевал авторитет. И у него не было необходимости отдавать приказы или надувать губы, ибо он отличался врожденной способностью к руководству. И для Роберто было порой весьма трудно иметь такого брата. И с годами это становилось все труднее. Тем не менее Эрнесто не был претенциозным или хвастливым. Он делал все максимально просто и никогда не важничал.
* * *
В нашей семье имела место постоянная смена друзей, которые были из разных слоев общества. Наша дверь была всегда открыта. Мои родители были лишены каких-либо классовых предрассудков. Напротив, они хотели, чтобы их дети чувствовали себя своими со всеми. Так что нашими друзьями были сыновья шахтеров, мальчики, подающие клюшки для гольфа, рабочие, служащие отелей, а позднее – беженцы от гражданской войны в Испании. Моя мать боролась за то, чтобы школа давала бесплатное питание нуждающимся детям (и она достигла своей цели). По выходным она возила всю семью гулять в горы на нашем автомобиле, который мы шутливо называли «Катрамина» (Колымага). Это был старый ржавый и помятый драндулет, что мой отец купил у одного своего друга. У «Катрамины» было только одно сиденье. В дальнейшем у нее останется только одна дверь, а другие будут оторваны! Ну и что. Она же ехала! К тому же это был наш первый и последний автомобиль. Потому что мой отец был таким человеком, у которого все обычно идет в направлении от плохого к худшему. Он начал с хорошего автомобиля, затем перешел на драндулет и, наконец, остался вообще без автомобиля! Он был способен жить и во дворце, и в хижине.
* * *
Многие биографы Че говорили в первую очередь о моей матери и забывали про моего отца, как будто он никогда и не существовал, как если бы мы жили без отца. Это серьезная ошибка! И нужно открыть для себя этого удивительного человека, которого все любили и находили одновременно странным, очаровательным, ярким, живописным, талантливым и даже божественным. Это был заклинатель змей, с невероятной интуицией, наделенный необыкновенной способностью накапливать знания, с удивительным математическим даром. Единственная проблема возникала, когда это был именно ваш отец. Потому что в этой роли он был безответственным, непоследовательным, он редко приводил к чему-то хорошему, имея при этом постоянно новые идеи, новые проекты, которые никогда не доводились до конца. Он был художником, который заставил нас жить в полной нестабильности, он был амбициозным типом, но не упорным, поэтом, который не писал стихи, но вечно искал метафоры, любителем жизни, торговцем всякой всячиной, вечно носившимся на головокружительных скоростях. Он одновременно присутствовал и отсутствовал, это был в большей степени друг, чем отец. Он играл с нами со всеми и при этом не занимался конкретно никем.
Физически он был высоким, довольно красивым и лихим, отличным танцором, атлетом, очень подвижным. Он привлекал к себе женщин. Я даже думаю, что за ним водилось несколько интрижек, пока моя мать наконец-то не выставила его за дверь. Существует семейная история об этом, и она всегда заставляет нас смеяться: в один прекрасный день он гулял с Анной-Марией в Мар-дель-Плата, и они повстречали знакомую ему женщину. Он начал флиртовать с ней. И вдруг моя сестра воскликнула: «Но, папа, ты всегда говоришь всем женщинам одно и то же!» Мой отец был тогда очень удручен!
Он был одарен глубоким интеллектом, даже исключительным, но нам следовало пропускать все, что он говорил, как сквозь сито: ты никогда не знал, преувеличивает он или нет. Он украшал все, моделировал реальность и правду по своему усмотрению, да так тонко, что ты никогда действительно не мог обвинить его во лжи. Хоть он так и не получил архитектурного или инженерного образования, он строил дома, гостиницы, а благодаря его связям у него было удивительное количество друзей. Когда люди называли его «архитектором», он кивал головой в знак подтверждения. Когда они называли его «доктором», он так же согласно кивал. Он называл себя графологом, но при этом никогда не изучал графологию. Но это не мешало ему полностью понимать характер человека, исследуя его почерк.
У него вечно было пусто в карманах. А когда они были полны благодаря какому-то крупному проекту, в котором он принял участие, он спешил потратить заработанные деньги. Тогда он водил нас в лучшие рестораны или в кино. Он для проформы спрашивал нас, какой фильм мы хотели бы посмотреть. Но, в конце концов, он все делал по-своему: он выбирал фильм, засыпал в кресле, а затем разговаривал так, как если бы он видел фильм, и постоянно спорил с нами, с теми, кто его действительно видел! Это бесило Эрнесто. Можно было есть лучшую еду в один вечер, а потом сосать палец в следующие месяцы. Если он появлялся дома с букетом цветов – а такое случалось! – мы все знали, что он истратил последние гроши. А он был одинаково доволен, имея деньги и будучи разорен. В его семье он считался неудачником. Все его братья имели дипломы и сделали карьеры. И хоть он звался Геварой-Линчем, как член семьи, он жил сумасшедшей жизнью и ни с кем не ладил. Это был деклассированный буржуа. Однако это вовсе не означало, что он был революционером, пролетарием или социалистом. Он был как флюгер. Он поворачивался туда, куда дул ветер, словно перо. Он несколько лет был сторонником американцев, потом стал антикоммунистом, а закончил тем, что стал восхищаться Кубой, играл роль отца Че, жившего в кубинском государстве, и пел при этом «Интернационал»! А еще он был противником Перона, противником Франко[23], прореспубликанцем и даже пытался создать антифашистскую организацию в Кордове. Он поддерживал испанских изгнанников, которые жили в Альта-Грасии и образовали многочисленную колонию. Его невозможно было как-то классифицировать. Он высмеивал все и словно кошка всегда приземлялся на лапы. Рядом с ним и его дети изо дня в день жили сумасшедшей жизнью. У нас было и все, и ничего.
Он шутил без умолку и имел весьма едкое чувство юмора. Наши друзья всегда говорили, что он был самым интересным и дружелюбным человеком в нашей семье. Он всех смешил. Он был проницательным наблюдателем, владел пером и был в состоянии нарисовать за пять минут потрясающую карикатуру. Казалось, что он боится нового. Если появлялось что-то новое, он это нарочно портил. Он был атеистом, но чрезвычайно суеверным – пытаясь скрыть это. Он часто носил жилет поверх рубашки. Он надевал его и снимал по многу раз – якобы он предотвращал несчастье. Его невозможно было заставить размышлять об этом: он сердился и говорил, что это лишает его вдохновения. Если он видел номер 13, он махал руками, как птица, чтобы отогнать проклятие. На лестничной клетке он всегда переступал через 13-ю ступеньку. Однажды я сказал ему, что ничего не будет, если наступить на эту ступеньку: просто 13-я идет после 12-й. Я задал ему такую дилемму, что он замер молча и потом месяц не разговаривал со мной. Точно так же он всегда выходил через то место, через которое вошел. Однажды мы пошли к одной его подруге, а той не оказалось дома, и дверь была заперта. У нас не было ключа, и мы вошли через окно. Когда мы уходили, он вышел через окно. Уйти через дверь было невозможно. Он также был ипохондриком, якобы постоянно находившимся на грани смерти. Он провел всю свою жизнь, жалуясь на мнимые болезни. Если это был не полиомиелит, то что-то другое. Никто не обращал на это внимание. Из-за этого наши друзья думали, что мы черствые и нечувствительные. Иногда они видели, как мой отец вставал и, приложив руку к груди, жаловался на сердечный приступ. И они поражались, что моя мать не вызывает «Скорую помощь». При этом он был в состоянии глупо рисковать, уходя танцевать танго в самые неблагополучные районы.
* * *
Наш дом был наполнен книгами. Мы все были увлечены литературой, философией и культурой. Могло всего не хватать, все вокруг нас могло осыпаться или ломаться, трубы могли быть засоренными и так далее, и никто бы не потревожился. Но нехватка книг – это было немыслимо! У нас имелись французские книги, которые тогда еще не были переведены на испанский язык. Работы Троцкого, к примеру. Мои братья и сестры все были очень старательными. Селия и Эрнесто, в частности, были настоящими машинами для чтения. Они следили за всеми произведениями и приобретали их. Если потом ты хотел прочитать одну из этих книг, можно было поломать себе голову над их заметками на полях. Эрнесто в этом смысле был еще хуже, чем Селия. Создавалось впечатление, что он спорил с автором. Он много читал по-французски. У него была привычка брать книгу в туалет и оставаться там бесконечно долгое время. И тем хуже для тех, кто тоже хотел в туалет! Если его просили выйти, он начинал декламировать Гюстава Флобера, Бодлера или Александра Дюма – на французском, чтобы пораздражать еще больше! Это обычно заканчивалось спорами. Бесконечными диалогами, которые было слышно по всей округе. У нас не говорили, у нас драли глотку. Даже весьма умеренные разговоры неизменно заканчивались раздражением. Мои родители никогда не думали, что они всегда правы. Наоборот. Все было можно и даже нужно обсуждать, спорить. Критическое мышление приветствовалось. Они учили нас никогда слепо не соглашаться с догмами, ничего не принимать на веру. Все проходило через диспуты. Эрнесто был лучшим полемистом семьи, самым умелым с точки зрения мышления, анализа и умения провоцировать. Он всегда выдавал самую глубокую критику, ясную и точную. Он с раннего возраста приучил себя к удивительной дисциплине чтения, пользуясь временем, когда он был прикован к постели своей астмой, для того, чтобы поглощать литературу.
* * *
Воинственность моей матери, вероятно, брала исток в ее собственной семье. Де ла Серна также вели неустанные дебаты. В них глубоко сидел дух протеста. Они осуждали генерала Франко, когда все высокородные аргентинские буржуа были его сторонниками. Но примерно два года, проведенных в Мисьонесе, политика была для моей матери абстрактным понятием. Несправедливость по отношению к mensús пробудила ее политическое сознание. Находясь между антифашистской активностью моего отца и политической деятельностью моей матери, наша семья, безусловно, была очень активной и вовлеченной во все это. Но мои родители никогда не принадлежали к какой-либо политической партии, только к движениям. У нас каждый был свободен думать то, что он хочет, при условии, конечно, что это не фашистские идеи. Наш дом был местом встречи многих личностей. И вот в такой гиперполитизированной семейной атмосфере рос Че.
В 1934 году мой отец оказался вовлечен в войну между Парагваем и Боливией. Когда Боливия при поддержке Соединенных Штатов атаковала своего слабого соседа, чтобы аннексировать часть чужой территории, защитники Парагвая регулярно встречались у нас дома. Позже моя мать рассказала мне, что Эрнесто, которому тогда было всего пять лет, слушал их разговоры с необычайным вниманием для ребенка такого возраста, не пропуская ни единого слова.
Когда наш дядя «Поличо» Итурбуру был отправлен в Испанию, чтобы писать о гражданской войне в качестве корреспондента газеты «Критика», тетя Кармен стала жить у нас. По соображениям безопасности, Поличо присылал свои заметки нам. Моя семья просматривала их, прежде чем передавать в газету, и оказывалась таким образом первой в курсе всех событий. Эрнесто прикрепил к стене в своей комнате огромную карту Испании. Он следил за вооруженным конфликтом и отмечал наступления республиканцев флажками. Ему было девять лет. Были и другие причины, чтобы страстно следить за перипетиями в судьбе испанского народа: врач и республиканский активист Хуан Гонсалес Агилар находился в изгнании в Альта-Грасии, а с ним пребывал полковник и герой битвы при Гвадалахаре Энрике Хурадо. Наши семьи стали очень близки.
Какой бы дом мы ни занимали, пол и стены в нем всегда были покрыты политическими листовками. В сороковых годах, став членом Комитета де Голля, франко-аргентинской организации поддержки Сопротивления, моя мать украсила стену в гостиной портретом этого генерала. Затем она присоединилась к организации «Монтеагудо», участвовала в подпольных встречах и в уличных демонстрациях против генерала Хуана Перона, крича: «Да здравствует свобода, долой Перона!» Когда однажды полицейские попытались утихомирить ее, схватив за руку, она завопила: «Отпустите меня, гестаповцы!» А в 1954 году она с упоением праздновала поражение французов при Дьенбьенфу[24]. Она даже устроила вечеринку у себя дома в Буэнос-Айресе, положив на стол газету «Пари Матч», в которой рассказывалось о катастрофе, постигшей Францию. Подобный контраст поразил меня.
* * *
Годы в Альта-Грасии были хорошим временем, даже с учетом того, что отношения моих родителей начали ухудшаться в то время. Это были отношения в стиле «любовь-ненависть». Я думаю, что моя мать очень любила отца в первые годы их брака. Любовь была необходима, чтобы выйти замуж за такого сумасброда, как мой отец, чтобы потом выносить все его странности! Но она постепенно устала от его выходок. Мой отец начал ее угнетать. Альта-Грасия – это очень провинциальный город. Там не только ничего не происходило, вдобавок это место было убежищем для тяжелобольных. Для любящего ночные похождения porteño[25], вроде отца, это спокойствие выглядело настоящей пыткой. Он проводил бо́льшую часть времени в отеле «Сьеррас», в месте, где собиралась местная мелкая буржуазия. В заведении был прекрасный бассейн, где мы все купались. Эрнесто занялся плаванием и достиг в этом успехов, как моя мать и мой дядя. Чемпион в стиле баттерфляй Карлос Эспехо Перес даже подружился с ним и давал ему бесплатные уроки. Несколько лет спустя, в ходе кубинских событий, плавательные таланты Эрнесто окажутся очень полезными для него, помогая ему пересекать реки Сьерра-Маэстра.
* * *
В розыгрышах или в драках Эрнесто и Роберто были заодно, как воры на ярмарке. Они стояли во главе банды поборников справедливости в коротких штанишках. Мои родители подозревали об этой их деятельности и о том, что они не всегда были паиньками, но они позволяли им все, храня верность своей политике невмешательства. В остальном мои братья не делали ничего особо предосудительного. Они даже имели в своем активе боевой подвиг, который вошел в анналы Альта-Грасии. Электрическая компания (дочернее предприятие швейцарской компании «Эрлиска») резко и самым скандальным образом увеличила свои тарифы. Жители провинции Кордова не привыкли сгибаться перед подобными мерами. Тем не менее, несмотря на их неоднократные протесты, цены не опустились ни на грош. Братья нашли решение. Они обнаружили, что муниципальное постановление предусматривает, что каждая перегоревшая лампочка общественного освещения должна быть заменена в тот же день электрической компанией. Плюс муниципалитет накладывал на компанию штраф в размере десяти долларов за каждую неисправную лампочку. Эрнесто, Роберто и их банда решили перебить все лампочки! Мэр закрыл глаза на происхождение этих нарушений, и электрическая компания в конечном итоге вынуждена была пересмотреть свои тарифы. Эрнесто извлек из этого урок: действие порой является единственным эффективным средством борьбы с несправедливостью.
* * *
Мои родители целиком отдавались болезни Эрнесто. Они по очереди сидели у его постели, читали ему, помогали в выполнении домашних заданий. Мой отец часами учил его игре в шахматы. Эрнесто вскоре превзошел его. Он быстро стал выдающимся игроком. Благодаря климату Альта-Грасии его приступы астмы стали реже. Они также стали менее интенсивными. Мои родители настаивали на том, чтобы он вел нормальную жизнь, заставляя его заниматься спортом. Таким образом, он полюбил гольф и регби, погрузившись в них полностью. Он был не в состоянии делать что-либо наполовину. Эрнесто был настолько ожесточенным на регбийном поле, что друзья окрестили его «fuser», сокращенное от «furibundo[26] Serna» (он использовал имя Гевара-Серна, сам убрав слишком буржуазные частицы). Он не считался самым лучшим игроком, но мяч всегда находился у него. А своим другим прозвищем «Chancho» (Свин) он был обязан своему плоскому носу и тому факту, что он редко ходил в душ после игры. Он даже танцевал – а он был плохим танцором и не имел никакого чувства ритма – не переодеваясь. Мир помнит Эрнесто в его безупречной зеленой униформе, с широким поясом и в берете. Его стиль одежды стал знаковым. Мы в семье над этим всегда смеялись. Эрнесто был самым оборванцем, самым невосприимчивым к моде! Он каждый день носил одну и ту же рубашку из потертого нейлона, наполовину торчащую из брюк, и разные ботинки, купленные на распродаже. У него было такое чувство юмора, что он сам смеялся над своей рубашкой. Он ее называл «еженедельником» из-за того, что менял только раз в неделю. Когда он все же принимал душ, он делал это прямо в рубашке! Он считал, что так она станет чистой. Такая у него была прихоть еще до того, как он принял прозвище «Chancho», и он сам над этим смеялся. До такой степени, что, когда он начал писать статьи для регбийного журнала «Tackle», он подписывался как «Chancho». Мой отец обиделся и рассердился. Ему не нравилось, что его сын высмеивает сам себя, и принимал это как личное оскорбление. С присущим ему юмором Эрнесто начал после этого подписываться как «Chang Cho».
Он не умел использовать свою внешность и, похоже, не подозревал о своей сексуальной привлекательности. Тем не менее девушки собирались вокруг него с самой юности, очевидно, привлеченные его шармом и индивидуальностью. Дело в том, как говорили, что он был чрезвычайно манящим, с большими выразительными глазами, густой черной копной волос и легкой улыбкой. Плюс он был темпераментным, спортивным, ярким и образованным. Todo el paquete! [27] – как принято говорить у аргентинцев. Его друг Альберто Гранадо (старший брат Томаса, один из его лучших друзей в Альта-Грасии), с которым он отправился в знаменитое мотопутешествие, которое даст рождение книги «Путешествие на мотоцикле», расскажет мне много лет спустя, что все без исключения его подруги просили, чтобы он представил их прекрасному Эрнесто. Мой брат переживал свои романтические отношения с той же интенсивностью, что и все остальное. Мне постоянно задают вопросы о любви Эрнесто: «Каким он был с женщинами?» И я всегда отвечаю: «Я знал про его увлечения. Конечно, он любил женщин». Он просто был с некоторыми более сдержанным, чем с другими. «Я перестану быть мужчиной, если не буду любить женщин», – признался он однажды репортеру… Он был джентльмен. Он очень долго и деликатно ухаживал за Алейдой Марч. Он писал ей прекрасные стихи, не торопил ее, просил поправить воротник своей рубашки, когда вел машину, или причесать его, когда у него была сломана рука, но не пытался ее поцеловать. Молодая революционерка была на восемь лет моложе его и считала его зрелым мужчиной.
В автобиографии она написала, что его глаза и особенно то, как он смотрел на людей, соблазняли сразу. Он имел определенную ауру, он был человеком отважным, полным мужественности и поэзии одновременно. Эрнесто влюбился в нее в Сьерра-Маэстра. Настолько, что он сознавался в письме, направленном в 1965 году из Конго, что ему пришлось «вести внутреннюю борьбу, в которой один безупречный революционер выступал против другого». Первым подарком Эрнесто Алейде стали духи «Fleur de rocaille» («Каменный цветок») фирмы «Карон».
* * *
А до Алейды первой большой любовью его юности была Мария дель Кармен Феррейра. В 1950 году между этой красивой девушкой и Эрнесто вспыхнула любовь с первого взгляда. Чичина – таково было ее прозвище – происходила из семьи крупной буржуазии. Она вела безбедную жизнь и жила то в замке Паласио Феррейра, то в estancia «Малагуэнья». Гевара де ла Серна были без гроша, но наше имя еще было в состоянии открыть двери в высший свет. Однако общество богатых буржуа не представляло для нас чего-то особенно привлекательного или лестного, за исключением, может быть, моего отца. В любом случае, для Эрнесто точно. И он как-то даже с неохотой влюбился в девушку из такой семьи, в богатую наследницу, олицетворявшую собой то, что он уже начал ненавидеть. Феррейра были очень состоятельными помещиками да еще и консерваторами.
Близость к детям пролетариев и крестьян Альта-Грасии консолидировала внутреннюю непереносимость моего брата по отношению к несправедливости. Мой отец имел обыкновение говорить, что еще совсем маленьким его старший сын отрицал любую форму несправедливости, она его возмущала. Например, невозможно было навязать ему то, что он считал беззаконием. Он тут же впадал в страшный гнев и успокаивался лишь после исправления ситуации и принесения извинений. Он защищал свои позиции любой ценой, используя железобетонные аргументы. Он понимал, что один класс угнетает другой, и, будучи еще совсем молодым, начал восставать против этого.
* * *
Мы жили одной ногой в одном мире, а другой – в другом: весьма бедно в Альта-Грасии и в какой-то осторожной роскоши в течение лета, которое мы каждый год проводили у более обеспеченных родителей. Эрнесто отмечал контраст между нашим образом жизни и образом жизни некоторых из его приятелей. Он углублялся в философию, пытаясь найти объяснение неравенству. В Портела он почти всегда искал контакт с бедняками и бродягами. Вместе они пили мате под мостом. И он всегда выделялся, все делал по-другому. Не для того, чтобы произвести впечатление или быть замеченным; он действительно был особенным, уникальным. Моя мать поощряла в нем это. Она знала, что у нее исключительный ребенок, одаренный к обучению, к игре в шахматы на близком к профессиональному уровне или к разработке удивительных для его возраста политических и философских теорий. Она заботилась о том, чтобы стимулировать его жажду знаний. Что касается моего отца, то он научил его контролировать свою болезнь, развивая его физически через занятия спортом. И Эрнесто стал прекрасным спортсменом. Он часто сопровождал своего дядю Хорхе в его сумасшедших воздушных, морских или горных экспедициях. Они были одинаково отважны. И ничто больше не забавляло Хорхе, чем видеть Эрнесто в обществе крупных буржуа с его протестными идеями, одетого, как бедняк, и наблюдать за их реакцией.
«Fuser-Chancho» появился в доме у семейства Феррейра очень плохо одетый. В то время он занимался медициной. Родители Чичины, а они были парой весьма утонченной, сначала не знали, что и думать об этом одержимом. Их очаровали его ум и высокая эрудиция, но совсем сбили с толку его самоуверенность и дерзость, его наряд бродяги и дух философа. Идеи, что он развивал, для них выглядели нонсенсом. И они решили, что он еще слишком молод и что у него есть время, чтобы с возрастом измениться. А он пока бесконечно и с удивительной легкостью разглагольствовал, шагая по их многочисленным комнатам, окруженным двором. Может ли такой мятежный юноша, этот типичный хиппи, в один прекрасный день стать подходящей партией для их дочери?
Дважды Эрнесто просил руки Чичины и дважды ему отказывали. Я часто потом задавался вопросом, а сожалела ли она об этом, когда он превратился в мифического героя. С политической точки зрения, думаю, что нет, ибо она вовсе не разделяла его взгляды и, конечно же, не мечтала стать женой революционера. Журналисты не оставили бы ее в покое.
Уникальный персонаж
Я вырос в тени Эрнесто. И я никогда не мог избавиться от этого. До 1956 года я был лишь Хуаном Мартином Гевара, «эль-Тином», «Пататином» или «Тудито», как он меня называл. В 1957 году я превратился в брата революционера Эрнесто Гевары, соратника Фиделя Кастро и бесстрашного воина. А затем я стал братом настоящей легенды. Я научился жить с этим. И это не всегда давалось мне легко. Его отъезды печалили меня, его смерть опустошила меня. Я всегда говорил, что хорошо быть чьим-то братом. Но я отделил себя от почти нереального образа публичного человека, иконы. А он стал ею. В Буэнос-Айресе его портреты были повсюду: они украшали стены и тротуары. Коррумпированные политики рекламировали себя за его счет, а он воплощал в себе цельность и неиспорченность. Эрнесто был фанатиком истины, не обращая внимания на цену. Он терпеть не мог неумеренность.
Эрнесто было пятнадцать лет, когда я родился в Кордове, на улице Чили. Это уже был настоящий водоворот. Он приходил, уходил, отправлялся в путешествия, возвращался, уезжал снова, жил своей жизнью. Когда он находился дома, он относился ко мне, как к своему сыну. Свидетели тех времен говорят, что он любил меня, заботился обо мне, брал меня на прогулку, поднимал на руки, ласкал меня. Мой отец рассказывал, что Эрнесто был очень предан своей семье, своему дому, который он защищал бы зубами и ногтями, если бы в этом возникла необходимость, и что он питал слабость ко мне. Он присылал мне письма из всех своих путешествий. Я, конечно, не все помню. Я осознал потом степень этой нежности по фотографиям или перечитывая его письма: в самых сложных ситуациях он спрашивал обо мне, если не писал мне напрямую. Как только я достаточно подрос, чтобы понимать что-то и говорить, я стал считать его образцом для подражания. Он был смелым, озорным, веселым и предприимчивым. Кроме того, он отличался яростной преданностью и объективностью. Я вообще не признаю его в образе страдальца, каким нам его иногда показывают. Посмотрите на фотографии! Он всегда улыбался, все время шутил. Его смех был таким заразительным. Мы часто ели вместе в полдень. Не знаю, где находились в это время остальные: каждый чем-то занимался. Я знал, что он придет завтракать, и я ждал его. Я хотел по максимуму воспользоваться его присутствием, потому что понимал, что он не останется надолго. Я смаковал подобные моменты. Хоть Эрнесто и рано стал кочевником, он оставался очень привязанным к нам, в частности к моей матери. Он был для нас лучом света, и наплевать, если это звучит как какое-то клише: именно такой эффект он производил. И я не знаю, как описать это иначе.
Он рассказывал мне забавные истории. Это был тот еще шутник, насмешливый, способный и на полную серьезность, и на совершенно детские выходки. Он часто просил, чтобы я приготовил ему мате. Он крайне щепетильно относился к подготовке его любимого напитка. И я был очень счастлив кипятить для него воду, слишком счастлив, чтобы оказаться при этом полезным. Если вода остывала, пока мы беседовали, он пытался отправить меня обратно на кухню, чтобы я снова подогрел воду. Я отказывался. И тогда он делал вид, что колотит меня. Мы оба делали вид, что наносим друг другу удары, и все это всегда заканчивалось объятиями.
Это был великолепный брат, даже больше, чем брат: верный спутник. Тем не менее его отношения с нами были сложными. Он не играл роль старшего властного брата, он был защитником. Для него знания стояли на первом месте, и, как и мои родители, он никогда не пытался навязывать мне что-либо. Он предпочитал использовать свое влияние, чтобы убеждать. Мне было достаточно, чтобы он сказал: «Я думаю, что было бы хорошо, если бы ты сделал то-то или то-то». Выходить куда-то с ним – это было освобождение, радость. Когда он брал меня с собой в кино, это становилось настоящим праздником.
Точно так же он вел себя и с остальными братьями и сестрами, хотя его отношения с ними были несколько иными. Селия и Анна-Мария также обожали его. Они не всегда хорошо ладили друг с другом – случалось даже, что они ненавидили друг друга в определенное время – но с Эрнесто у них все шло хорошо. Селия была – и осталась – очень непростой, если не сказать невозможной. Она могла быть забавной, но серьезность – это было ее более естественное состояние. Когда Эрнесто начал изучать Карла Маркса, она последовала его примеру. Она копировала его, доверяя его суждениям. Смерть Эрнесто больно ударила по ней. Она почувствовала невыносимую боль, и та потом все продолжалась, продолжалась. Из всех нас именно она дольше всех не верила в то, что его больше нет. Даже после возвращения Роберто из Боливии она отказывалась принять это. Она все цеплялась за какие-то несогласованности, за малейшие сомнения. Сама она никогда не ездила в Кебрада-дель-Юро, потому что не смогла бы это вынести. Даже сейчас она едва может смотреть документальные фильмы о Че. Если она видит мертвого Эрнесто, она закрывает лицо руками. Она поклялась никогда не говорить о нем публично, и все еще держится. Она обвиняет меня в том, что я стал слишком медийным, и укоряет в том, что я говорю об Эрнесто. Она считает, что он принадлежит к области семейной, частной, священной. У нее все либо черного, либо белого цвета. Серый цвет ей чужд. Она продолжает вести себя как старшая сестра и забывает, что мне уже семьдесят два года! Я не смог рассказать ей об этой книге.
До подросткового возраста Эрнесто и Роберто были очень близки. Они входили в состав одной банды. Но Роберто не был таким ненормальным бродягой, как Эрнесто. Он вел более сидячий образ жизни, более разумный. Он был хорошим учеником, потом стал адвокатом, женился на девушке из «хорошей семьи», на Матильде Лесика, и с ней у него родилось пятеро детей, он переехал в Сан-Исидро, потом развелся, потом снова женился и зачал еще двух детей. Он во всем следовал стандартам. Но это был боец. Такой тип людей, которые наносят тебе удар ногой под столом, а затем тебя же винят за то, что ты его коснулся. Общей с Эрнесто у них была железная воля. Я помню тот день, когда он принимал участие в марафоне вместе с приятелями из нашего квартала. Трасса забега проходила мимо нашего дома. Через несколько километров остальные отказались от соревнования, пробегая мимо нас. Им было плевать, чем закончится состязание, потому что они не принимали его всерьез. Но не Роберто! Он продолжал бежать. Он был типичным Геварой, и даже мысль об отступлении для него была невыносима. Он закончил марафон полностью истощенным, в таком плачевном состоянии, что пришлось нести его до дома. И ему потом потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться.
Роберто был сыном, который наилучшим образом соответствовал ожиданиям моего отца. Однако мощная тень Эрнесто парила над ним. Он отличался всем, заставлял ждать себя во время своих отлучек, выделялся на семейной сцене, на местном, национальном и международном уровнях. Эрнесто побеждал на всех фронтах. И Роберто приходилось тяжко, хоть он и не был ревнивцем или завистником. Политика его не интересовала. Но он, в конце концов, стал ею заниматься, к чему его вынудил ход событий: сначала смерть Эрнесто, а затем мой арест в годы военной диктатуры. Его воинственность с годами лишь укрепилась. Настолько, что он оказался в тюрьме в Мексике, в 1981 году, как Эрнесто в 1956 году, за свою руководящую деятельность в рамках Революционной рабочей партии (Partido revolucionario de los trabajadores), партии, за членство в которой я был арестован за шесть лет до этого. В момент моего ареста он жил в изгнании, бежав за границу, чтобы скрыться от страшных репрессий, заливавших кровью Аргентину. Он продолжал вести политическую деятельность за границей. Не будем забывать, что с 1957 по 1983 год быть родственником Че было опасно.
* * *
Селия с головой погрузилась в политику в годы военной диктатуры, не обращая внимания на связанные с этим риски. Она вышла замуж, развелась через несколько лет и не имела детей. В непростые годы, которые начались в 1974 году – еще до переворота 24 марта 1976 года – и продлились до 1984 года, Роберто и Селия пытались, правда тщетно, вести мою судебную тяжбу. Это было связано с опасностью для их жизни, ибо ставленники диктатуры не стеснялись травить «подрывные элементы» или тех, кого они таковыми считали, вплоть до их полного устранения.
Анна-Мария оказалась самой невзрачной среди нас. После выхода замуж за Фернандо «Малыша» Чавеса, профессора университета и активиста Революционной рабочей партии, который также пережил арест по политическим мотивам, она уехала жить в провинцию, сначала в Тукуман, а потом в Жужуй. Она была твердолобой, как и Селия. Она также была весьма упорной: она продолжала обучение архитектуре, даже будучи беременной. Для нее и вопрос не стоял так, чтобы ее как-то сдержали пять материнств.
Кто-то из нас лучше ладил с матерью, кто-то – с отцом. Существовало как бы два клана. Со стороны матери – Эрнесто и я. Со стороны отца – Роберто и Анна-Мария. Селия переходила туда-сюда в зависимости от времени и ситуации. Два Эрнесто часто ссорились. Отец упрекал сына за его политические взгляды и скитания. Сын обвинял отца в безответственности и непостоянстве. Например, в письме к моей матери из Боготы в 1952 году Эрнесто писал: «Пусть viejo активизируется, и пусть он едет в Венесуэлу; жизнь там дороже, чем здесь, но там значительно лучше платят, и это идеально подходит для экономных людей (!!!), типа него… Papi очень интеллиглупый». Думаю, мой брат страдал, видя нашу мать несчастной. Измены ее мужа и шаткость их положения в конечном итоге добили ее. Их развод, решение о котором было принято в Альта-Грасии, станет реальностью в Буэнос-Айресе. И никогда еще расставание не было столь двусмысленным.
* * *
В шестнадцать лет Эрнесто поступил на факультет инженерного дела в Кордове, чтобы остаться рядом с Чичиной. Он продолжал посещать своего друга Карлоса «Калико» Феррера и братьев Томаса и Альберто «Миаля» Гранадо. Чтобы содержать себя, он работал в муниципальном предприятии по надзору за путями сообщения Управления провинции Виалидад. А в это время мои родители решили перевезти семью в Буэнос-Айрес. Мы сначала поселились у моей бабушки по отцовской линии, а потом благодаря кое-каким деньгам из небольшого наследства, которое моей матери наконец-то удалось получить после процесса, возбужденного против ее семьи, мы купили полуразрушенный дом № 2180 по улице Араос, на углу улицы Мансилья, в квартале Палермо. Сегодня Палермо – это модное местечко. А в то время этот угол представлял собой границу: между улицами Мансилья и Санта-Фе был как бы ход в цивилизацию. Идя в обратном направлении, вы попадали в жалкие пригороды с блошиными рынками, хлопковыми фабриками и жителями-изгоями.
Наш дом был старый, каменный, весьма красивый, но он пребывал в очень плохом состоянии. Он был двухэтажный, точнее, это были небольшие четырехкомнатные апартаменты с обширной террасой и двумя балконами. На первом этаже находился гараж, но у нас больше не было машины. На второй этаж можно было подняться по темной лестнице с несколькими провалившимися ступеньками. В первое время входная дверь не закрывалась, потому что никто не знал, куда подевался ключ. Когда он наконец-то нашелся, его тут же снова потеряли. Подобного рода практические детали не имели значения для нас. Сколько раз мне приходилось взбираться по фасаду, цепляясь за водосточную трубу, чтобы открыть дверь! Прохожие и соседи остолбенело смотрели на меня. Но это совершенно не трогало моих родителей. И тогда я понял, что благодаря им я перестал вообще чего-либо стыдиться!
Интерьер дома был тот еще, что-то среднее между разрухой и гниением. Краска повсюду шелушилась, с потолка капало, на полу недоставало досок. Никто никогда там ничего не ремонтировал. Однажды утром сломался водонагреватель. Несколько дней спустя и окно ванной приказало долго жить, так что мы вынуждены были не только мыться в холодной воде, но и терпеть ледяной ветер, проникавший в помещение зимой. Принятие душа стало пыткой. Ручка нашего холодильника осталась однажды в руках одного из гостей, и ее так никто и не заменил. Результат: тот, кто открывал холодильник, получал удар электрическим током. Это досадное недоразумение быстро превратилось в развлечение. Гостя посылали на кухню, чтобы взять что-то в холодильнике. А потом мы слышали его крик, и все дружно хохотали. У нас было очень мало мебели, а то, что имелось, было ужасно. Обеденный стол шатался. Его дополняли две скамейки. И мы регулярно ссорились из-за того, кто займет скамью, стоявшую у стены, ибо там можно было о нее опереться спиной.
Однако у нас, как всегда, имелась разнообразная и вполне достойная библиотека. Наши друзья пользовались ею. Они утверждали, что наши книги открыли им глаза и позволили задать кое-какие вопросы консервативным родителям. Моя мать выступала в качестве педагога: она советовала, что читать, а затем беседовала с ними о политике, литературе, истории, философии, религии, что делало ее очень популярной среди молодых людей, которые регулярно наведывались в наш дом. Круговорот был таким, что она часто даже не знала, кто находится в доме. «Араос» – это был поистине народный дом. Хоть моя мать обычно и не готовила, она всегда была готова соорудить салат и бросить стейк на барбекюшницу. Но мы часто ели лишь яйца и рис… не имея средств, чтобы купить что-то другое. Наши друзья любили повторять, что наша семья уникальна. И так оно и было!
Мы не очень знали, где обитал мой отец. Он купил себе студию в самом центре, в доме № 2014 по улице Парагвай, и он давал ключ всем нашим друзьям, чтобы они могли пойти туда позаниматься спокойно. Но иногда он ночевал дома. Случилось ему там и отдыхать среди дня – либо в столовой, либо на одной из кроватей в нашей комнате, в комнате мальчиков, всегда на верхнем уровне, откуда он порой падал. Но бо́льшую часть времени он отсутствовал, а когда был на месте, я всегда задавался вопросом, а для чего он нам нужен.
Мои родители постоянно ругались. И когда это происходило, лучше было бежать. Как правило, я гораздо больше беспокоился, видя их вместе, чем наоборот. Мой отец был очень плохим игроком. Однажды он играл в шахматы в саду Портелы с моей матерью, и она явно побеждала. Мысль о проигрыше была абсолютно невыносима для отца. Шах и мат уже маячили на горизонте. Его плохое настроение проявлялось в раздраженных вздохах, он хмурился. Вдруг он вскочил, опрокинул стол и разбросал в стороны все фигуры. Мать пришла в ярость. А отец завозмущался: «Неужели ты думаешь, что я сделал это нарочно?» Он никогда не упускал случая обмануть, чтобы выиграть.
* * *
Моя бабушка Линч перенесла кровоизлияние в мозг. Как только Эрнесто узнал об этом, он бросил все в Кордове и немедленно вернулся в Буэнос-Айрес. Он не отходил от ее изголовья. Он пытался приготовить еду и питье, с бесконечным терпением вытирал ей лоб. Но ничего не удалось поделать, и она умерла семнадцать дней спустя.
Эрнесто переехал в нашу комнату. В ней было тесновато, но она выходила на большой балкон. В ней стояли двухъярусные кровати, шкаф для одежды и комод, плюс там были две полки и стол, на котором громоздились книги. Я как самый молодой был отправлен на старый диван в столовую, но мне было все равно: Эрнесто вернулся, и на этот раз он останется! Огромная радость переполняла меня. Он поступил на медицинский, где повстречал свою лучшую подругу, Берту Хильду «Титу» Инфанте. Они тут же стали неразлучны и сразу же начали делиться друг с другом литературными открытиями, философскими, политическими и медицинскими мыслями. Когда жизнь разъединяла их, они поддерживали отношения по переписке, интимной и очень красивой, которая продолжалась до самого конца. Кстати, Тита является автором лучшего текста, который когда-либо был написан про Че[28].
В университете Эрнесто не блистал, но имел хорошие оценки. Он отличался способностью поглощать впечатляющее количество курсов. Был ли он увлечен учебой? Конечно же, нет. Однажды Анна-Мария и ее подруга Ольга подхватили какую-то болезнь, похожую на экзему. Их ноги внезапно покрылись красными пятнами. Обеспокоенные, они поинтересовались мнением Эрнесто. Он ответил, смеясь: «Да что я знаю? Пойдите лучше к врачу!» Ольга боялась его. Или, вернее, она сильно смущалась. Он постоянно дразнил ее, и она никогда не знала, что ответить. Эрнесто был асом в остроумии, но иногда его шутки оказывались весьма едкими. Он был очень умен и игрив с девушками. Это его забавляло. В его присутствии женщины, казалось, теряли все свои средства защиты.
Начав специализироваться на аллергии под руководством профессора Пизани, известного аллерголога, он решил использовать нас в качестве подопытных кроликов. Все отказались. Никогда не было известно, чего от него ожидать! На самом деле, когда один наш друг наконец-то согласился участвовать в экспериментах, Эрнесто сделал ему несколько инъекций, и он от них заболел. Так что наш доктор-подмастерье, к огорчению моего отца, сосредоточился на кролике, жившем на террасе. Эрнесто это не волновало. В то время мнение отца больше не интересовало никого. Он потерял для нас авторитет. А вот кролику удалось бежать, выпрыгнув с террасы на улицу. Весь квартал тогда пришел в смятение: наши соседи были убеждены в том, что Эрнесто привил ему какой-то вирус, от которого могут заразиться все.
Подражая отцу, Эрнесто разрывался между несколькими домами: домом моей матери, домом бабушки, домом тети Беатрис и студией на улице Парагвай. Редко кто знал, где он находится, и никто не задавал вопросов. Он появлялся и исчезал. Ему нужна была тишина, чтобы заниматься, а в нашем доме происходила перманентная революция. У нас он любил сидеть на балконе с книгой. Когда он не был на лекциях или в музее естественной истории с Титой Инфанте, он все свое свободное время читал, писал, играл в шахматы и пытался что-то заработать. Он всегда торопился, и, казалось, что ему вечно и безнадежно не хватает времени. Чтобы заработать денег, он ввязывался в разные сомнительные предприятия. А начал он с производства инсектицида, который он создал в гараже путем разделения хлорного препарата «Гамексан» и смешения его с тальком. Так появился яд для тараканов, который он назвал «Вендавалем» и даже запатентовал. Порошок помещался в маленькие зеленые круглые коробочки, которые он потом продавал соседям. Мой отец сразу же предложил ему помощь, представив своих друзей-инвесторов. Эрнесто ответил: «Ты, возможно, думаешь, что я собираюсь позволить твоим друзьям проглотить меня?» Знакомые моего отца были все из верхушки: политическими деятелями, рулевыми промышленности, землевладельцами, и Эрнесто уже начал относиться к таким типам с подозрением. Через несколько месяцев он вынужден был прекратить производство «Вендаваля»: его продукт не только не дал ожидаемого результата, но проникал повсюду, а запах у этого порошка был невыносим.
Идеи Эрнесто всегда выглядели фантастически. В этом он был похож на моего отца. После провала «Вендаваля» он решил купить партию обуви при ликвидации торгового центра, чтобы перепродать ее и заработать немного денег. Приехав домой, он обнаружил, что вместо того, чтобы продать нормальные пары, ему впарили сотню одних левых ботинок! И он остался один на один со всеми этими ботинками, и ему даже пришлось мужественно носить какие-то образцы!
Одним из его самых больших успехов того времени стало освобождение от военной службы. «Эти дерьмовые легкие наконец-то послужили мне!» – воскликнул он тогда. Униформа? Только не для него. Он ненавидел протокол, о чем родители, посмеиваясь, говорили, что он даже не знает, что это такое, он издевался над буржуа и продолжал не обращать никакого внимания на свою одежду.
* * *
Я был еще совсем ребенком, но я уже знал, что мой старший брат – уникальный персонаж. Я сравнивал его с Роберто, который гораздо лучше ладил с моим отцом и вел себя более достойно для сына буржуа. От него исходило меньше беспокойств, он часто встречался с детьми из хороших семей и играл в регби за команду Сан-Исидро. В то время регби был спортом для «золотой молодежи». Как я уже говорил, Эрнесто также был частью этой команды, прежде чем прекратить играть, несмотря на протесты моего отца. Позже я последовал его примеру: я ненавидел эту элитарную атмосферу.
Я много тусовался с разного рода людьми, с головорезами и маргиналами. Я чувствовал себя с ними вполне комфортно. Мы вместе играли в футбол с опьянением, которое может дать только уличная свобода. Я познал дух товарищества, скромность и закон тишины, правила поведения, которые потом окажутся очень полезными во время моего задержания. Нашими худшими врагами были полицейские. Однажды меня притащили в участок за какое-то мелкое преступление. Квартал был полон разного рода головорезов. Мы знали про их деятельность, но никому и в голову не приходила мысль о том, чтобы пойти донести на них или даже пытаться комментировать их проступки. В их присутствии я вынужден был специально обеднять свой словарный запас, по крайней мере, если я хотел, чтобы меня продолжали принимать в нашей банде. Меня обвиняли в том, что я говорю, как большой человек, что я слишком зрелый для своего возраста, что я выражаюсь очень внятно, а это контрастирует с моим небольшим ростом. Своей зрелостью я был обязан Эрнесто. С детства он советовал мне, что́ читать, объяснял многое, говорил о политике на равных. Я просто не мог не попасть под влияние его эрудиции. Он также научил меня непристойным стихам, которые я поспешил повторить подругам моих сестер. Это потрясло их. Я рассказал об этом Эрнесто: он расхохотался. Эрнесто обладал глубоким чувством собственного достоинства. У него не было пощады для себя, и он никого не прощал, никому не делал одолжения. Его жесткость и целостность давали ему право быть требовательным с другими. Но не все горели желанием подчиняться его правилам. Он был одновременно разумным и негибким. Для него время делилось на небольшие отрезки веселья и большие периоды работы. Он никогда не останавливался, он постоянно думал о следующем шаге, о будущих проектах. Он был настоящей машиной! На Кубе, когда он станет министром промышленности, он будет работать по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, например, он добровольцем пойдет собирать урожай сахарного тростника в рамках программы, которую он сам и создаст.
Одно из главных событий произошло, когда я учился в лицее. Другие, возможно, придавали этому лишь относительное значение, но для меня, взращенного в атеистической гиперполитизированной среде, это была катастрофа. Я говорю о поправке к закону 1420 о народном образовании, которая предполагала возвращение религиозного воспитания в школы. Я вместе с группой учеников начал противостоять этому. Это стало моим первым столкновением с репрессиями и гражданским правом. Я стал одним из основателей Ученического центра. Именно в это время и началась моя активная деятельность.
* * *
Моя мать поддерживала меня. Она была еще одним человеком, который сделал меня таким, какой я есть, хоть я и провел так много времени на улице, хоть я и был свободен, словно птица, хоть она и устала от воспитания детей. Мне было семь лет, когда она вторично заболела раком – первый раз имел место сразу после моего рождения – и ей ампутировали обе груди. Мой отец отсутствовал в это время. Подозревали, что он завел себе новую любовницу. Эрнесто, напротив, все время находился рядом. Моя мать всегда была для него как скала. Он изучал ее болезнь, потому что отчаянно хотел найти возможность ее вылечить, найти нужные лекарства.
Отношения с моим отцом стали очень трудными, конфликтными. Как только представлялась возможность, они цепляли друг друга. Моего отца начал раздражать такой сын с такими резкими взглядами. Он потерял влияние на него. Эрнесто было невозможно контролировать, и он проявлял желание отдохнуть от своих медицинских занятий, отправляясь в путешествие. Он мечтал о приключениях. Хоть он и был в то время очень политизирован, когда наш двоюродный брат Гильермо Мур де ла Серна попросил его присоединиться к движению против Перона, за которое он агитировал, Эрнесто ответил: «Нет, нет, это меня не интересует». Он думал, что сможет утолить жажду новых горизонтов, нанявшись в летнее время в качестве медбрата на танкер национальной нефтяной компании «YPF». На танкер – только представьте себе! Эта идея не вдохновила моих родителей, но в соответствии с их философией они не стали вмешиваться. В Кордове, за несколько лет до этого, когда им было четырнадцать и одиннадцать лет, Эрнесто и Роберто решили однажды утром пойти на сбор винограда. Виноградники находились далеко. Они сели на автобус, потом несколько километров шли пешком, чтобы до них добраться. Эта затея сильно взволновала моих родителей, но они вынуждены были согласиться. Мои братья вернулись совершенно изможденные через несколько дней: они съели слишком много винограда. В то время этот продукт был роскошью.
Опыт с танкером принес Эрнесто лишь горькое разочарование. Вместо того чтобы повидать страну, он в течение нескольких месяцев созерцал исключительно трюм судна. Эта морская экспедиция убедила его в том, что отныне следует вести бродячую жизнь только на земле.
«Страна Америки, где лучшая еда»
Меня часто спрашивают, что я чувствовал, когда Эрнесто уезжал. Этот вопрос я предпочел бы переформулировать так: что я чувствовал, когда он возвращался, потому что уехать он был готов всегда. Когда он вновь появлялся – это был настоящий праздник. В семье раздавались возгласы: «Ах, ох, Эрнесто вернулся, Эрнесто здесь!» Мы звонили, чтобы предупредить об этом остальных. Все хотели его видеть и слышать, мои родители, мои братья и сестры, дяди, тети и двоюродные братья.
* * *
Я был еще маленьким, но я прекрасно помню возбуждение, вызванное его отъездом 1 декабря 1950 года, первым из череды многих, которые потом будут удалять его от Аргентины каждый раз все дальше и дальше. Ему был двадцать один год, и он отправился в длительное путешествие на велосипеде, имея лишь весьма скудные сбережения в кармане. Он отказался от финансовой помощи родителей: он хотел справиться со всем сам.
Мой дядя Хорхе де ла Серна установил небольшой двигатель марки «Микрон» на его велосипед. Перед тем, как начать крутить педали, Эрнесто позировал для фото перед домом, надев берет, с солнечными очками на носу, с запасным колесом через плечо, с кое-какими пожитками на багажнике. Мы все высыпали на улицу и смотрели, как он скрывается за углом улицы, усаженной деревьями. Его задача состояла в том, чтобы проехать по северной части Аргентины, без конкретной цели, уехать так далеко, насколько ему позволят силы. Он надеялся открыть для себя Сан-Хуан, Сан-Луис, Мендосу, Сальту, Жужуй, Тукуман. Некоторые из этих провинций были еще недостаточно развиты. Если Буэнос-Айрес был продвинутым городом, то север страны оставался экзотикой, чудесно красивым, но отсталым. Сегодня el Norte[29] – это очень модно. А в то время это был другой мир, забытый мир, и относились к нему пренебрежительно. Он напоминал гражданам столицы, что Аргентина – далеко не Европа, что она находится в Южной Америке.
Северные ландшафты были и остаются красивыми и живописными. Зеленый горный Тукуман считается садом республики. Обширные винные долины Мендосы продолжаются до бесконечности в тени возвышающихся Андийских Кордильер и их заснеженных вершин. Сальта известна своими гигантскими кактусами, карминовыми скалами, волнистыми холмами и белоснежными городами, возникшими в колониальную эпоху. Жужуй очень близок по внешнему виду к Боливии с его красивыми деревнями, выросшими под сенью знаменитой Кебрада-де-Умауака, семицветного горного хребта на северо-западе страны.
Эрнесто сделал первую остановку в Альта-Грасии у Томаса Гранадо. В Сан-Франциско-дель-Чаньяре он посетил своего друга Альберто Гранадо по прозвищу Миаль, который был биохимиком и работал в лепрозории. Там Эрнесто впервые узнал, что такое большое несчастье, и был глубоко потрясен.
За несколько месяцев он пересек двенадцать провинций и преодолел около 4500 километров. Он пережил незабываемые приключения. По пути он познакомился с индейцами аймара, разделил с ними кров и свои скудные гроши. Он научился проводить ночи под открытым небом на морозе и целыми днями жить без пищи. Он победил свою астму в одиночку и доказал скептикам – и, возможно, самому себе, – что он в состоянии благополучно завершить путешествие подобного масштаба.
Все это время мои родители изнемогали в Буэнос-Айресе. Новостей было мало. Из-за его астмы, с одной стороны, и склонности к риску, с другой, они представляли себе, что Эрнесто стал жертвой опасных ситуаций. Он никогда не бывал так далеко и совсем один. Он добровольно отправился в области, где никого не знал. Тем не менее местная газета из Тукумана, «Эль-Тропико», опубликовала первую статью о нем под названием «Guevara, un joven raidista cumplirá una extensa gira» («Гевара, молодой путешественник совершил длительное турне»). Так или иначе, Эрнесто удалось сделать так, что его заметили в Тукумане. Впрочем, эта новость не дошла до нас. В то время распространение местных газет было ограничено тем регионом, где они издавались.
Эрнесто возвратился целым и невредимым через три месяца. И это снова был праздник. Он столько всего мог бы нам рассказать! Он изменился, кожа его стала более смуглой. Мы не сомневались, что тревога, вызванная у нас этим первым его приключением, это лишь прелюдия к целой серии страхов, которые охватят семью в дальнейшем. Эрнесто действительно не прекращал затем уезжать. Совсем не насытив его жажду путешествий, эта экспедиция, напротив, словно дала ему крылья. В своем дневнике он написал: «Я просто понял, что то, что росло внутри горожанина, каковым я являлся, созрело: это ненависть к цивилизации, к грубому образу толпы, которая движется, словно безумная, в ритме ужасного шума; мне кажется, что это – полная противоположность мира».
Он завершил путешествие, крутя педали, потому что двигатель «Микрон» не выдержал и сломался. Он притащил его продавцу из Буэнос-Айреса на ремонт. Пораженный пройденным расстоянием, тот предложил выдать ему новый двигатель, если Эрнесто отметит достоинства «Микрона» в рекламе. Так во второй раз фото брата появилось в газете.
* * *
Семья вновь воссоединилась. Почти. Мой отец приходил и уходил, когда ему было угодно. Роберто учился на юридическом факультете; Селия занималась архитектурой; Анна-Мария еще была в лицее, а я – в начальной школе. Учился я плохо. Уроки – это было не мое. Я был аномалией. Школе я предпочитал улицу и мяч. Эрнесто беспокоило отсутствие у меня ученического задора. Он постоянно наставлял меня. «Нужно работать, учиться, узнавать что-то новое», – повторял он.
* * *
Он возобновил занятия на медицинском факультете и часто спал у моей тети Беатрис, которая ревниво наблюдала за ним. Возвращаясь домой, он, как правило, был в сопровождении друга, с которым они устраивались в комнате для занятий. Моя мать наняла в дом сотрудницу-боливийку. Ее звали Сабина Португаль (это не было ее настоящим именем, его было слишком сложно произносить, как и у многих других индейцев из Альтиплано, и она взяла себе испанское имя). Сабина принадлежала к племени аймара. Она была типичной женщиной из боливийского Альтиплано: очень строгая и очень невзрачная, она выполняла свои обязанности с усердием, но в полной тишине. Она немного говорила по-испански, однако ее родным языком был кечуа. Тем не менее Эрнесто удавалось без труда ее понимать. И ничего ему не нравилось больше, чем проводить время с ней, его интересовали ее жизнь, ее происхождение, ее народ. Он задавал ей множество вопросов, и она вежливо отвечала. Это была крайняя редкость, чтобы аргентинец из такой среды до такой степени интересовался человеком ее положения. Поначалу она смущалась, но вскоре Эрнесто превратился в единственного человека, с которым она говорила свободно. Они очень сблизились. Он мог вернуться в любое время, и она готовила его любимые блюда. Эрнесто не был ни высокомерным, ни самодовольным. Будучи очень образованным и культурным, он не претендовал на то, что понимает тайны вселенной лучше, чем эта простая горничная. Напротив, он считал, что можно было многому у нее научиться. И точно, Сабина научила его многому. Я только потом осознал то влияние, что она имела на родившийся в нем образ мышления революционера. Именно она вызвала у него желание посетить Боливию.
* * *
Хоть Эрнесто и трудился весьма упорно ради своих экзаменов, у него была только одна мысль в голове: побыстрее смотаться. В течение учебного года он проработал впечатляющее количество материалов. А потом он объявил нам о своем втором отъезде. На этот раз он планировал уехать со своим другом Альберто Гранадо в путешествие аж на восемь месяцев. Когда мой отец удивился его решению оставить прекрасную Чичину на столь длительное время, Эрнесто ответил: «Она будет ждать, если любит меня». Кроме того, первый этап поездки должен был включать в себя Мирамар, морской курорт на побережье Атлантического океана, где семейство Феррейра имело резиденцию. Именно там, как он планировал, они и должны были попрощаться.
После Мирамара Эрнесто и Миаль должны были пересечь страну с востока на запад в направлении Патагонии, потом Андийских Кордильер, которые нужно было преодолеть, чтобы попасть в Чили, Перу, Эквадор и т. д. Маршрут не был точно определен. Все зависело от средства передвижения, от «Poderosa II» – старого мотоцикла с объемом двигателя в 500 кубических сантиметров. Они надеялись, что он довезет их до Соединенных Штатов. Мой дядя Хорхе де ла Серна изрядно поработал над мотоциклом, чтобы привести его в порядок. Он был отличным механиком. Эрнесто также получил финансовую поддержку от моего дяди Эрнесто «Эль-Пато» Мура (мужа Эделмиры де ла Серна и отца нашего кузена Гильермо, у которых поженились наши родители), который по этому случаю приоткрыл свой сейф. Как я уже говорил раньше, Эрнесто очень любили. Авантюристам семьи, а имелись и такие, казалось, что они узнают в нем себя. История потом докажет, что он был более сумасшедшим, более смелым, более решительным и гораздо большим идеалистом, чем любой из них.
* * *
Эрнесто и Альберто стартовали из Кордовы под грохот выхлопной трубы ранним январским утром 1952 года. Мы отмечали отъезд Эрнесто за несколько дней до этого. Мне было восемь лет. Для меня вся эта история путешествия на мотоцикле была просто великолепна. Я задавался вопросом, как они собираются успешно добраться до Соединенных Штатов, до этой далекой страны, где родилась наша бабушка. Это напоминало мне приключения Манча, Гато и Эме Чиффели, книгу о которых Эрнесто посоветовал мне прочитать. В книге рассказывалась история двух лошадей, отправившихся из Буэнос-Айреса в Вашингтон вместе с их владельцем, швейцарским профессором Чиффели. Он предпринял это сумасшедшее путешествие, чтобы доказать, что аргентинские лошади более выносливы, чем прочие. В книге всадник исчезает за двумя животными: вся история рассказана именно с их точки зрения. Гато умирает в дороге, но Манча достигает цели. Эрнесто наверняка должен был думать об этих лошадях, когда решился на эту авантюру с Соединенными Штатами.
Мои родители умоляли Миаля следить за их сыном, чтобы помешать ему вляпаться в какую-то опасную ситуацию. Это новое путешествие не содержало для них ничего путного. Они цеплялись за мысль, что Миаль может приструнить его глупости, если таковые проявятся. Он был на шесть лет старше Эрнесто. Ирония, безусловно, состояла в том, что, как только началось путешествие, именно Эрнесто стал хозяином положения, а Миаль – учеником. И именно Эрнесто указывал путь. Что же касается вопроса о том, чтобы помешать ему делать что-либо, то это было просто невозможно. Когда, например, он решил пересечь вплавь реку Амазонку, Альберто не смог остановить его: «Ты – безумец. Река полна пираний! Они съедят тебя живьем!» – предупреждал он. Но Эрнесто остался глух к этим призывам, нырнул и поплыл к другому берегу. «Я поклялся самому себе, что я это сделаю. Я должен был уважать данное обещание», – объяснил он позже ошеломленному Альберто.
* * *
Моя мать была печальна, а отец пребывал в ярости. Он не понимал, почему Эрнесто решил бросить учебу, хоть он и обещал завершить все по возвращении. Нет сомнений в том, что мой отец не очень верил в это обещание. Но, с другой стороны, а что он сам успешно завершил, чтобы требовать постоянства от своих детей? Он просто приходил домой, считая себя там хозяином. Они с моей матерью продолжали ссориться, и я каждый раз бежал на улицу, чтобы не слышать этого. Их аргументы были весьма жестоки. Отец жил с другой женщиной, не признаваясь в этом. Моя мать страдала от их разобщения. И она стала страдать еще больше, когда Роберто и сестры, в свою очередь, покинули дом. Как обычно, с финансами у нас все обстояло худо. Я почти ничего не помню о профессиональной деятельности моего отца в то время. Понятно, однако, что он не зарабатывал деньги, или зарабатывал недостаточно, или тратил все где-то в другом месте. В любом случае, моя мать переживала очень трудные времена. Вскоре он была вынуждена начать работать. Сначала она нашла работу в ювелирном магазине «Альвеара», одного из лучших отелей в Буэнос-Айресе, потом – в книжном магазине, который также служил лавкой флориста. Она также делала переводы на английский и французский языки. Она никогда не жаловалась и пыталась, как обычно, видеть во всем положительную сторону, но тем не менее погрузилась в достаточно глубокую депрессию. Ее легендарная кипучесть и политическая активность сошли на нет. Она была убита. Удаление грудей, измены мужа и отсутствие любимого сына – это было больше, чем она могла вынести. Единственным, что возвращало ей подобие комфорта, были письма Эрнесто. Они приходили эпизодически, и он извинялся, что ему не хватает денег, чтобы купить марки. Иногда ему не на что было даже поесть.
* * *
Я не буду рассказывать о путешествии Эрнесто с Гранадо. Мой брат вел дневник, и его опубликовали под названием «Путешествие на мотоцикле», а потом по книге Вальтер Саллес снял фильм с Гаэлем Гарсия Берналем и Родриго де ла Серна – дальним родственником – в главных ролях. Я могу сказать, однако, что за много месяцев мы заметили перемены в его переписке. Постепенно, двигаясь по маршруту, он менялся. Тон его становился более вдумчивым, более серьезным, менее туристическим, но более заточенным на реальность и социальные проблемы, которые открывались ему по пути. Он говорил все больше и больше о политике, пускался в экономический анализ.
В конце поездки он отделился от Миаля, который решил остаться работать в лепрозории в Венесуэле. А Эрнесто отправился в Аргентину, чтобы закончить учебу, как он и обещал. Он давал слово один раз и навсегда. Оставляя Миаля, он пообещал ему, что скоро вернется. В Каракасе он сел на самолет, зафрахтованный моим дядей Марсело Геварой для транспортировки скаковых лошадей. Рейс предполагал остановку на неопределенный срок в Майами. И Эрнесто застрял там на две недели. Мы не знали всех подробностей его вынужденного отпуска во Флориде. Позже он сказал, что провел «наихудшие недели в своей жизни». Мы предположили, что его шокировала расовая сегрегация. Движение в защиту гражданских прав в Америке тогда едва зародилось. Помимо всего прочего, давайте вспомним, что чернокожие тогда не имели права сидеть в автобусе. Эрнесто наверняка это глубоко потрясло.
Его возвращение снова дало повод для вечеринки. К моей матери, казалось, снова вернулись силы и присутствие духа. Наличия сына рядом было достаточно для ее счастья. Эрнесто возобновил занятия на медицинском факультете. Ему оставалось сдать пятнадцать предметов. Это много для одного учебного года, но он был полон решимости покончить раз и навсегда со своим образованием. Это выглядело невозможным, особенно после восьмимесячного перерыва. Но не стоит забывать, что Эрнесто с детства привык учиться с перерывами. У него имелся разработанный метод. Он читал с бешеной скоростью. Он работал, не стремясь углубить то, что узнал. Он хотел просто получить диплом и тем самым купить себе свободу.
Однажды он позвонил нам по телефону от моей тети Беатрис и объявил: «Зовите меня доктором». Он выиграл эту свою невероятную партию. Гордый, словно павлин, мой отец объявил всем, что, хотя Эрнесто и не был лучшим студентом медицинского факультета, он тем не менее побил все рекорды скорости получения диплома.
Однако Эрнесто не имел ни малейшего желания практиковаться в медицине, по крайней мере, не в то время, даже несмотря на то что профессор Пизани предложил ему должность в своей лаборатории. Любой другой молодой практикант был бы польщен подобным предложением. Но у Эрнесто были другие планы. Он хотел вновь уехать.
Вечером, 7 июля 1953 года, дом был полон гостей. В очередной раз мы отмечали отъезд Эрнесто. Но на сей раз он уезжал без гарантии возвращения. Ничто не держало его больше в Буэнос-Айресе. Чичина во второй раз отказалась от его предложения о браке, и они разорвали отношения. Миаль оставался в Венесуэле. И Эрнесто думал найти его, побродяжничав немного по пути.
Он уезжал вместе со своим другом Каликой Феррером. Первый этап: Боливия, о которой ему так много рассказывала Сабина Португаль. Цель: познакомиться с представителями племени аймара и шахтерами, чьи условия жизни и труда были признаны бесчеловечными. Шахтеры были единственными членами рабочего профсоюза в Боливии. И Эрнесто хотел понять или, вернее, понаблюдать за их борьбой. Но вечером 7 июля он не думал об этом. Он наслаждался последними несколькими часами с семьей. Звучала музыка. Мы танцевали, и все смеялись: Эрнесто жестикулировал, но как-то без особой гармонии и грации.
Моя мать соорудила ему костюм. Теперь, официально став врачом, он, конечно, должен был участвовать в профессиональных встречах. И она пошила ему одежду со всей любовью, на какую только была способна. Будучи посредственной хозяйкой, она все же умела шить, и была особенно горда этой своей работой. Увы, через несколько месяцев Эрнесто написал из Гуаякиля (Эквадор), сообщая печальную новость: «Очень сожалею, но я вынужден сообщить тебе, что твое творение, зеница очей твоих, героически пало на распродаже…» Он продал весь комплект из-за отсутствия денег и чтобы избавиться от ненужного балласта.
Окончательное прощание состоялось 8 июля, на платформе вокзала «Ретиро Генерал Бельграно». Этот новый отъезд поразил мою мать в самое сердце. Теперь, когда у него больше не было каких-либо ограничений по времени или обязательств, что будет делать этот бродяга и мятежный сын так далеко от нее? Тем не менее она пыталась держаться бодро, потому что не относилась к тем матерям, которые вынуждают своих детей чувствовать себя виноватыми. Вся семья находилась на перроне. Когда поезд тронулся, Эрнесто со смехом произнес фразу, истинный смысл которой станет понятен позднее: «Aquí va un soldado de América» (Вот он – солдат Америки). А мои родители в это время бежали по перрону, словно в каком-нибудь фильме.
* * *
Эрнесто так больше и не вернулся из этого похода, который привел его к кубинской Сьерра-Маэстре – через Боливию, Перу, Эквадор, Колумбию, Панаму, Коста-Рику, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Мексику. Я не буду описывать эту поездку. Прежде всего, я не был там. К тому же вся переписка того времени опубликована. Но я могу говорить о влиянии, которое оказало его отсутствие на его близких.
Эрнесто присылал нам письма, некоторые из которых были адресованы всей семье, некоторые – кому-то персонально. Все зависело от случайных подработок, которые он находил в пути, и от денег, что у него оставались на покупку марок.
Писал он нам лично или нет, результат был тот же. Каждое письмо становилось событием, и вокруг него собиралась вся семья. Усилия всех объединялись: его почерк был неразборчивым, и требовалось порой несколько часов, чтобы его расшифровать. Один из нас, как правило, мой отец или моя мать, читал письмо вслух, постоянно спотыкаясь на словах, пытаясь угадать их значение. О телефонной связи не шло и речи из-за высокой стоимости. Кроме того, получить линию на столь большое расстояние было проблемой в любой стране Латинской Америки. По этой причине мы не слышали голос Эрнесто в течение многих лет.
Его письма представляли собой разумное сочетание юмора, иронии, вопросов о семье и экономических, исторических и философских эссе. На земле и в контакте с бедняками, которых он встречал по пути, его политическое сознание и негодование по поводу несправедливости вскипали. И чувствовалось преобразование в нем. Он отмечал эксплуатацию слабых сильными мира сего: он становился коммунистом.
В Боливии он столкнулся с плачевной судьбой шахтеров, со скверным обращением с ними, с кровавыми репрессиями, жертвами которых они становились в случае восстания. В Перу он увидел коренные народы, боровшиеся за выживание, лишенные самых элементарных прав человека. И так далее. Каждая страна становилась примером безжалостного господства американской империи. В связи с этим он отказался – и я делаю то же самое – называть Соединенные Штаты «Америкой». Америка, говорил он, это континент. Все народы континента – американцы.
Его презрение и бунт против Соединенных Штатов росли. Он жаловался на моего отца, который всегда защищал родину своей матери. Он присылал ему жесткие и серьезные открытки, в которых называл его друзей «янки». К моей матери и тете Беатрис он относился значительно лучше, прибегая к иронии: он обвинял их в принадлежности к классу угнетателей, хоть у них с этим и не было ничего общего. Тем не менее в письме, датированном маем 1959 года и направленном директору кубинского журнала «Богемия», он объявил: «Я – не коммунист».
Через несколько месяцев после отъезда он написал Беатрис: «Несмотря на мои скитания, мое хроническое легкомыслие и прочие дефекты, у меня есть глубокие и вполне определенные убеждения». А потом он добавил со своим обычным юмором, который у него всегда смешивался со словами более серьезными: «Прекрати посылать мне деньги, это стоит тебе целое состояние, в то время как мне достаточно лишь нагнуться, чтобы подобрать банковские билеты, валяющиеся тут прямо на земле, да так, что я уже от этого подхватил боли в пояснице. Так что я теперь наклоняюсь лишь один раз из десяти, чтобы поддерживать чистоту, потому что слишком много клочков бумаги, покрывающих землю, представляют собой общественную опасность». В апреле 1954 года он написал моей матери: «Америка будет сценой для моих приключений, и это станет для меня гораздо важнее, чем я думал вначале. Мне кажется, что я ее наконец-то понял, и я чувствую себя членом американского народа, народа, который отличается от любых других людей на Земле». Он становился все более и более понятным для нас, он хотел, чтобы его воспринимали всерьез, а его обязательства возрастали. При этом он продолжал бродить по свету без какой-то конкретной миссии. Он искал выход, первопричину, которая дала бы ему толчок к тому, чему он мог бы посвятить все свое существование. А пока он принял решение: продлить свои скитания еще на десяток лет. Его большой мечтой было посещение Парижа: «Это биологическая потребность, это цель, от которой невозможно отказаться, даже если мне придется пересечь Атлантику вплавь», – написал он в 1955 году.
* * *
Из-за длительного отсутствия Эрнесто депрессия моей матери усилилась. Она перестала работать и проводила дни в халате, раскладывая пасьянсы и куря сигарету за сигаретой. Темные были времена. Мои братья и сестры покинули домашний очаг. Я жил с ней один. Я проводил все больше и больше времени на улице. В то время наш квартал хоть и считался центральным, но был практически полем. Молочник продавал свою продукцию прямо с запряженной телеги. Мой отец продолжал регулярно появляться. Эрнесто послал больше писем моей матери, чем ему, так что он приходил, чтобы почитать их. Я словно жонглировал несколькими жизнями. Мое существование было как бы разделенным на отсеки. Я переходил из компании парней с улицы в общество аргентинских грандов. Мой отец настаивал на том, чтобы я сопровождал его в протокольных визитах его влиятельных друзей. Возможно, он представлял себе, что близость таких людей заставит меня захотеть получить образование и сделать успешную карьеру. Мы, к примеру, регулярно наносили визиты в семью Хосе Альфредо Мартинеса де Ос, ставшего позднее министром экономики у правителя Хорхе Виделы во время военной диктатуры. При отношениях с подобными типами было неудивительно, что Эрнесто буквально вычеркнул из своей жизни моего отца!
Политическая ситуация в Аргентине отличалась нестабильностью. Хуан Перон находился у власти второй срок. Его жена, очень популярная в народе Эвита, умерла в 1952 году. Страна была глубоко разделена, и ее расшатывала серия смертоносных покушений. Обострились противоречия между левыми и «ортодоксальными» правыми перонистами. 15 апреля 1953 года террористическая группа, состоявшая из привилегированных молодых студентов и профессиональных антиперонистов, взорвала бомбу на знаменитой площади Пласа-де-Майо, убив семь человек. Десятки человек получили ранения в то время, как Перон выступал с речью с балкона Каса Росада, президентского дворца. Его сторонники в ответ подожгли штаб-квартиры Социалистической партии, Радикальной партии и фешенебельного Жокей-клуба.
Перед лицом подобного хаоса вооруженные силы проявляли нетерпение. Перон также ополчился на католическую церковь, пожелав отменить религиозное образование в школах и предложив легализовать разводы.
Мой отец был ярым антиперонистом. В то время мне было всего десять лет, и я разрывался между его реакционной и антинародной точкой зрения и точкой зрения скромных семей, рабочих и моих друзей, живших по соседству. С тех пор я изменился. С учетом того, что я знаю теперь, мое видение трансформировалось. Я считаю перонизм (вне и независимо от Перона) очень важным движением, крайне необходимым для нашей страны.
Тем не менее, как и любой аргентинец, мой отец был зациклен на вечном политическом насилии в нашей стране, насилии одновременно словесном и физическом. Он никогда не выходил без оружия, будучи убежденным в том, что мы движемся к военному перевороту. Моя мать питала те же страхи. Она была яростной антимилитаристкой и считала, что армия всегда поддержит реакционных правых. Она много думала над этим, пытаясь понять, чем являются вооруженные силы в Америке: защитой или, напротив, угрозой нападения? 16 июня 1955 года мы получили ответ, но, к сожалению, он не внес ясности. Интерпретировав заявление Ватикана как свое отлучение от церкви, Перон призвал к митингу в свою поддержку на Пласа-де-Майо. А когда толпа собралась, руководство военно-морских сил послало несколько самолетов военно-морской авиации, и те, пролетая на малой высоте, сбросили бомбы прямо на площадь[30]. Триста шестьдесят четыре человека погибли и сотни получили ранения. Дни Перона, казалось, были сочтены. Чаша терпения военных переполнилась. 16 сентября Перон бежал в Испанию через Парагвай.
Во время этих кошмарных событий Эрнесто находился в Мексике. Он приехал оттуда в сентябре 1954 года в компании перуанки, которая была на семь лет его старше и которую он встретил за год до этого в Гватемале: это была Ильда Гадеа, женщина «как минимум, с платиновым сердцем», как он сам нам написал. Политическая изгнанница Ильда была исключительным человеком: она была первой женщиной, управлявшей финансами Исполнительного комитета партии Alianza popular revolucionaria americana (Американский народно-революционный альянс). Мексика была в то время убежищем для эмигрантов, бежавших из своих стран от репрессий.
Эрнесто обосновался с Ильдой в маленькой квартирке. Сначала он зарабатывал себе на жизнь как фотограф в агентстве. Затем он стал врачом-аллергологом в государственной больнице. Его вовлеченность в проблемы местного населения усилилась после восьми месяцев, проведенных в Гватемале. А письма его стали более агрессивными, в них было больше возмущения, чем раньше. В Коста-Рике он пересек территории, где господствовала банановая компания «Юнайтед фрут», больше, чем что-либо другое олицетворявшая собой империализм янки. Он рассказал нам, что «проезжал области, где истинным олицетворением нации были не страны, а частные ранчо или плантации». Варварские методы, используемые этой многонациональной корпорацией для поддержания своей гегемонии в Центральной Америке, вызвали у него отвращение к капитализму. 10 декабря 1953 года он написал тете Беатрис: «У меня была возможность пройти по территориям «Юнайтед фрут», и это в очередной раз убедило меня в гнусности этих капиталистических спрутов. И я поклялся перед портретом умершего и оплакиваемого мною товарища Сталина, что у меня отныне не будет отдыха до тех пор, пока я не увижу, как будут уничтожены эти капиталистические спруты. Я стал лучше в Гватемале, я превратился в настоящего революционера».
«Юнайтед фрут компани» была в то время жестокой репрессивной машиной, которая держала своих работников в форменном рабстве, а правительства – в повиновении при содействии ЦРУ. Проезд по Коста-Рике стал поворотным пунктом в жизни Эрнесто, а вслед за этим и в нашей жизни тоже. С этого момента существование каждого из нас уже происходило под влиянием политической деятельности Эрнесто.
Когда он прибыл в Гватемалу в январе 1954 года, эта маленькая страна в Центральной Америке была молодой демократией, которой правил сын швейцарского фармацевта Хакобо Арбенс Гусман. Арбенс был военным, однако при этом придерживался социалистических взглядов. Он принял участие в свержении диктатора Хорхе Убико, потом стал министром обороны, а в 1951 году его избрали президентом. Это были первые выборы на основе всеобщего избирательного права в истории Гватемалы.
* * *
Правительство Арбенса сразу же отметилось целой серией прогрессивных реформ. Оно поддерживало всеобщее избирательное право и трудовое законодательство. Оно начало аграрную реформу, заключавшуюся в национализации необработанной земли для передачи ее крестьянам. Самым крупным землевладельцем в стране была «Юнайтед фрут компани», и она крайне негативно отнеслась к преобразованиям. Угроза не замедлила появиться в лице госсекретаря США Джона Фостера Даллеса, который также был акционером «Юнайтед фрут» и который во время конференции министров иностранных дел заявил о правительстве Арбенса: «Коммунисты!» Это был призыв к свержению.
«Юнайтед фрут», Государственный департамент США и ЦРУ подготовили вторжение. Гватемала была изолирована, брошена своими соседями. В то время как происходила вся эта драма, Эрнесто и Ильда осматривали руины майя в Петене. Они узнали о произошедших событиях, когда вернулись в Гватемала-Сити. Первоначально Эрнесто не поверил в американское вторжение. А когда оно свершилось, то он был убежден, что президент будет сопротивляться. Но Арбенс безуспешно попытался купить оружие в Западной Европе. В конце концов, он вынужден был обратиться к Чехословакии. Отправленное к берегам Гватемалы оружие чешского производства было захвачено американцами, и те получили отличный повод для объявления Гватемалы «союзником Советского Союза». После этого американские бомбы посыпались на столицу. Оптимизм Эрнесто вмиг обратился в бунт. Он сразу же приступил к действиям и пытался организовать сопротивление со стороны различных групп: профсоюзов, политических партий и т. д. Он объявил Ильде, что у него имеется «надежный план», заключавшийся в том, чтобы «захватить стратегические пункты города, овладеть средствами связи и организовать засады на тех, кто попытается войти в город»[31]. Он тогда впервые заметил американские спецслужбы, которые стали за ним следить.
В Буэнос-Айресе мои родители страшно волновались. Они внимательно следили за событиями, будучи убежденными, что Эрнесто принимает участие в борьбе. Тон его последних писем не оставлял сомнений относительно его желания бороться с властями. 10 мая 1954 года он прислал нам письмо с такими словами: «Я мог бы стать очень богатым в Гватемале, но лишь пройдя через трудоемкую процедуру признания моего диплома и открытия клиники по борьбе с аллергией […] Но это означало бы самое ужасное предательство двух моих «я», соперничающих во мне – социализма и страсти к путешествиям».
Мы сидели без новостей в течение нескольких недель (в своем последнем письме он прислал мне марки и рекомендовал есть аргентинское мясо: «Пользуйся, братец, тем, что ты живешь в стране Америки, где лучшая еда»). Мои родители посчитали, что с этого момента их старший сын станет для них постоянным источником проблем. Моя мать прорабатывала от корки до корки не только прессу в поисках какой-либо информации о положении в Гватемале, но и литературу, учебники истории, короче говоря, все, что было связано с этой страной. Она хотела все знать, все понимать. Что за опасности подвергается там ее Эрнесто?
А опасности были вполне реальные, если даже аргентинский атташе при посольстве в Гватемале, некий Никасио Санчес Торансо, в отчаянии бегал в поисках Эрнесто Гевары по улицам Гватемала-Сити, чтобы предупредить об угрозе, нависшей над ним. Он действительно услышал имя этого своего соотечественника, и это был один из тех счастливых случаев, которые порой спасают жизнь. Он бегал повсюду: в штаб-квартиры профсоюзов, в бары, в студенческие центры. Когда он наконец нашел его, он прямо заявил: «Уезжайте немедленно. Они намерены вас убрать». «Кто и почему?» – спросил мой брат. «Не удивляйтесь, но имейте в виду, что посольство США в курсе каждого вашего шага. За вами следят. Вам остается только спасать свою шкуру. Я пришел, чтобы предупредить вас». Эрнесто был ошеломлен: «Я не предполагал, что это так серьезно! Но я не думаю, что эта история закончилась. Если мой план сработает…»
Ни один план не сработал. Окруженный и раздавленный американцами, Хакобо Арбенс подал в отставку 27 июня и бежал в Мексику. Разочарованию Эрнесто не было предела. Он несколько дней прятался, прежде чем нашел убежище в аргентинском посольстве. Ему предложили репатриацию. Он выбрал отъезд в Мексику.
Открыть мир или изменить его
Эрнесто был в Мексике в течение десяти месяцев. Казалось, что ему это нравилось. «Эта земля приняла меня со всем равнодушием крупного животного, без ласки, но и не показывая зубы», – написал он моей тете Беатрис, приехав в страну Панчо Вильи[32]. Он установил регулярные контакты с Улисом Пети де Муратом, поэтом и сценаристом, близким другом нашего отца, что позволило родителям время от времени получать о нем косвенные новости.
Письма Эрнесто выдавали чувство тревоги. Казалось, он разрывается между двумя противоречивыми позывами: вступить в бой или продолжить свои скитания. В октябре 1954 года, в ответ на новую мольбу моих родителей вернуться в Аргентину, чтобы возобновить медицинскую карьеру, он написал моей матери (которую он называл ласково «моя мама, моя маленькая мама»): «В глубине (и на поверхности тоже) я – неисправимый бродяга, и у меня нет ни малейшего желания покончить с этим ради сидячей карьеры. Моя вера в конечное торжество того, что для меня важно, абсолютна, но я до сих пор не знаю, буду ли я в этом актером или просто зрителем, заинтересованным действием. Горькие нотки, которые, похоже, некоторые из вас заметили в моих письмах, несомненно, связаны именно с этой двойственностью; истина же заключается в том, что мое бродяжничество всегда идет наперекор всему, и я не могу заставить себя покончить с этим». Эта боль ставила перед ним моральный вопрос, и это нашло подтверждение в письме, направленном его подруге Тите Инфанте в ноябре 1954 года: «Было бы лицемерием ставить меня в пример: единственное, чем я могу похвастаться, так это тем, что я смог избавиться от всего, что беспокоило меня, и теперь, даже когда я собрался участвовать в борьбе (особенно в социальном плане), я спокойно продолжаю свои путешествия по мере развития событий, не думая вернуться и бороться в Аргентине. Согласен с вами, в этом заключается моя главная проблема, потому что я стою перед страшной дилеммой между целомудрием (здесь) и желанием (странствовать, особенно по Европе), и я вижу, что готов торговать своими убеждениями со страшным бесстыдством всякий раз, когда возникает такая возможность».
Я уже это говорил: Эрнесто имел удивительную способность к самокритике. Он мог с поразительной ясностью проанализировать свои мельчайшие дефекты, слабые места и действия. Находясь в поиске выхода для своих идеалов, он стремился вести борьбу с империалистической эксплуатацией и палачами по всему свету. Или, для начала, в Америке. Открыть для себя мир или изменить его, жить или принести в жертву свое существование – таковы были фундаментальные вопросы, мучившие его. В то время они могли бы показаться пафосными, может быть, даже сумасбродными. Но учитывая то, что он потом совершил, все это приобретает особый смысл. Эрнесто погиб за свои идеи. Все просто.
* * *
Внутренний конфликт, не оставлявший ему ни дня передышки, нашел окончательный выход: Эрнесто познакомился с Раулем Кастро, младшим братом Фиделя. Этой встречей он был обязан Ильде Гадеа. Спутница Эрнесто с легкостью вращалась в кругах политических эмигрантов. Таким образом, они с Эрнесто регулярно посещали приемы и мероприятия, организованные политическими лидерами Перу, Гватемалы, Аргентины и… Кубы. После этой первой встречи Рауль и Эрнесто уже не расставались.
26 июля 1953 года братья Кастро предприняли атаку казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба[33]. Нападение, цель которого заключалась в дестабилизации диктатуры на месте, закончилась жестоким провалом. Члены повстанческой группы были казнены или арестованы солдатами Фульхенсио Батисты. Во время суда Фидель сам защищал себя: он был адвокатом, и еще каким адвокатом! Его пламенная и красивая речь в пользу угнетенного кубинского народа под названием «История меня оправдает» длилась три часа. Она так взволновала страну, что в мае 1955 года под давлением народа Батиста вынужден был пойти на амнистию в обмен на обещание – его, совершенно очевидно, никто не собирался выполнять – не повторять попыток. После освобождения Фидель отправился в Мексику для подготовки своего возвращения на Кубу. Он восстановил свою повстанческую группу и назвал ее «Движением 26 июля».
Эрнесто впервые повстречал Фиделя вечером 7 июля 1955 года у подруги Ильды – некоей Марии Антонии. Дьявольскому случаю было угодно, чтобы эти два исключительных человека встретились только в тот момент, когда они стали нужны друг другу! Они сразу же оценили друг друга и всю ночь провели за разговором. Эрнесто был совершенно покорен. Что касается Фиделя, то ему потребовалось всего несколько часов, чтобы признать значение и потенциал Эрнесто. «Мне нужен этот парень», – так он должен был сказать себе. Потому что он предложил ему стать полевым врачом его движения. На рассвете Эрнесто согласился. Конец проволочкам и дилеммам. Он нашел свое призвание. Я думаю, что он согласился на пост врача по умолчанию. Его последняя поездка привела к выводу: одной медицины не достаточно, чтобы залечить раны человечества.
У него не было никакой военной подготовки, поскольку он был освобожден от службы в Аргентине. Поэтому пропуском к партизанам ему послужил медицинский диплом. Тренировки начались через несколько недель под командованием шестидесятитрехлетнего кубинского полковника Альберто Байо. Выросший в Испании, Байо формировал республиканские войска на испанской гражданской войне. Чтобы подготовить восемьдесят два человека из числа партизан, не привлекая внимания, Кастро и Байо выбрали одну гасиенду в горном районе Чалко, что примерно в тридцати километрах от мексиканской столицы. Обширное ранчо принадлежало старому другу Панчо Вильи. Теоретическое и практическое обучение продолжалось три месяца, после чего Байо объявил Эрнесто наиболее перспективным учеником. Он был впечатлен его интеллектом, дисциплиной, решимостью, мужеством, высокой культурой и духом товарищества.
В горах Эрнесто стал Че, его назвали так, как было сказано ранее, его товарищи из-за его привычки добавлять «che» ко всем фразам, что характерно для аргентинца. Это его не смутило, наоборот, он любил напоминать о своих корнях. Che и мате были два его «аргентинизма». Che имело и иной смысл: оно шло от Mapuche, что переводилось как «народ земли» и обозначало коренной народ южной части Чили и юго-запада Аргентины.
* * *
Эрнесто ничего не сказал нам о своей новой деятельности. При этом он нам регулярно писал. Я помню, в частности, письмо, полученное в октябре 1955 года – после изгнания Перона – и все из-за реакции моего отца. Эрнесто там осуждал произошедшие события, но не потому, что он был перонистом, а потому, что думал, что Перон, по крайней мере, мог противостоять империалистам-янки и был меньшим злом по сравнению с военными. Тем не менее мой отец-антиперонист в ярости прибежал на улицу Араос, размахивая письмом Эрнесто. «Вы только послушайте, что он пишет!» – кричал он.
* * *
Тон его писем изменился. Он по-прежнему обладал чувством юмора, письма были полны насмешек, в них он интересовался новостями обо всех. Но он теперь не говорил нам открыто про свои занятия. Он делал лишь скрытые подсказки. Он вел речь о «кубинских друзьях» и своих статьях в медицинском журнале; о своем «странствующем доме» и предстоящем рождении первого ребенка, дочери Ильде-Беатрис; о своем восхождении на второй по высоте горный пик Мексики, о вулкане Попокатепетль (5426 метров – «Я штурмом взял Попо», – писал он нам) и научных работах. Мой отец жаловался на загадочность и каббалистический оттенок его посланий. Надо было расшифровывать не только его почерк, но и смысл его слов! Гораздо позже мы поняли, что опасное восхождение, из которого он вернулся с отмороженными ногами и обгорелым как на пожаре лицом, было на самом деле одним из этапов военных учений полковника Альберто Байо. Действительно, нужно было иметь отличное физическое состояние, чтобы передвигаться в кубинской Сьерра-Маэстре.
Однако он объявил нам, что однажды, «злоупотребив текилой», совершил «жест абсурдной галантности», попросив Ильду выйти за него замуж[34]. Он также упомянул о своем предстоящем участии в медицинском конгрессе в Венесуэле. Он собирался стать отцом и, казалось, начал серьезно относиться к работе. Может быть, он наконец-то найдет свое пристанище. Предпочтительно – в Аргентине, рядом со всеми своими. Мои родители, однако, по-прежнему были обеспокоены. Без сомнения, благодаря своему чутью… Мы были проинформированы о его задержании в тюрьме для иммигрантов «Мигель Шульц» летом 1956 года. На кубинскую ячейку «Движения 26 июля» обратило внимание федеральное руководство службы безопасности Мексики. Для них было очевидно, что группа готовилась нанести удар по Кубе. В письме, датированном апрелем 1956 года, Эрнесто фактически признался в своем растущем интересе к «доктрине Святого Карлоса» (Карла Маркса), «гораздо более интересной, чем изучение физиологии». И это чтобы в конечном итоге оказаться в тюрьме! Не имея новостей в течение долгого времени и страшно обеспокоенный этим, мой отец ворошил небо и землю, чтобы выяснить, что случилось с его сыном. Его двоюродный брат, адмирал в отставке Рауль Линч, был аргентинским послом на Кубе и имел возможность навести справки по дипломатическим каналам. В Мексике находились Улис Пети де Мурат и аргентинский посол Фернандо Лесика, который был дядей жены Роберто. Мой отец привлек всех этих людей, чтобы получить хоть какую-то информацию. Таким образом, мы узнали о существовании Фиделя Кастро.
Эрнесто смог наконец открыться и сказать нам правду. В письме к семье он в первый раз заговорил о Фиделе: «Фидель – это молодой кубинский лидер, который попросил меня присоединиться к его движению некоторое время назад, и это было прекрасное время». Мы получили информацию от третьих лиц, что из всех арестованных членов кубинской группы Эрнесто показал себя самым дерзким. Он был единственным, кто с гордостью признавал себя марксистом-ленинцем. Он закончил свое письмо словами: «Мы победим вместе с ней [кубинской революцией], или я погибну там. Если по какой-то причине, которую я не могу предвидеть, я не смогу написать снова, и если потом удача покинет меня, рассматривайте эти строки в качестве моего не столь пафосного, но искреннего прощания. С этого момента я не буду смотреть на свою смерть с сожалением».
Зная характер своего сына, моя испуганная мать начала поглощать все, что она могла прочитать про этого Фиделя Кастро, про которого она до этого никогда не слышала. Она хотела знать, в чьи руки попал ее Эрнесто. То, что она смогла узнать, не успокоило ее. Наоборот. Глубокое беспокойство моих родителей, ежедневная тревога укоренились в то время. Мой отец пытался задействовать свои связи с просьбой о свидании с Эрнесто в тюрьме. Эрнесто отвечал, прося его немедленно прекратить подсылать ему «подобного рода типов». Когда Улис Пети де Мурат посетил его, Эрнесто отверг любую помощь, какой не могли бы воспользоваться и его кубинские товарищи. Он отказался от лечения. Улис Пети де Мурат описал нам тогда его «прекрасную нравственную позицию». Он, казалось, был очень впечатлен честностью Эрнесто.
Новость о задержании «аргентинского врача» распространилась по всей Латинской Америке. Наша семья и друзья были поражены его «безрассудными замыслами». Они не лишили себя удовольствия сказать, что они думают о моих родителях. На улице Араос непрерывно звонил телефон. Родственники советовали нам надавить, ударить кулаком по столу, чтобы наставить Эрнесто на правильный путь. Я находил всю эту историю прекрасной, даже гениальной. Что за исключительный тип, этот мой брат!
Период, который я бы назвал «до Че», завершился и сменился эпохой «после Че», конфликтной в отношении нашей семьи. Мы активно переключились на деятельность Эрнесто, на его растущую популярность и особенно на его противостояние властям.
Мне только что исполнилось тринадцать, и мое политическое образование значительно продвинулась вперед. Мы много разговаривали с моей матерью. Наши отношения были более дружественными, чем просто отношения матери и сына. С другой стороны, я мало говорил о политике с моим отцом, потому что мы редко приходили к согласию. В этой области мои предпочтения были на стороне матери и моей сестры Селии. И Эрнесто, конечно же, не отставал от них. Его письма продолжали приходить регулярно.
Я до сих пор помню первый раз, когда он подписался «el Che». Это было письмо к матери от 15 июля 1956 года. Как стало понятно, Фидель Кастро планировал вторжение на остров с участием ее сына, и она направила письменный выговор Эрнесто, в котором выразила свое недоумение и сомнения по этому поводу. Куба не была его родиной. Если ему так хотелось бороться с несправедливостью, почему же он не боролся против нашего национального тирана, вместо того чтобы ставить свою жизнь в опасность где-то за тысячи километров? Аргентиной управлял Педро Эухенио Арамбуру, генерал, ответственный за revolución libertadora (освободительную революцию), другими словами, за переворот 1955 года против Перона. Арамбуру был очередным диктатором, который преследовал перонистов, заключал в тюрьму или убивал их. Его фанатизм дошел даже до принятия закона, сделавшего незаконной перонистскую пропаганду, упоминание имен Эвы и Хуана Перона, хранение их изображений, символов или скульптур и т. д. Это преследование способствовало зарождению движения «Монтонерос»[35].
Моя мать боялась за своего сына. Умирая от волнения, она попыталась впервые набросить на него поводок, несмотря на то что ему было уже двадцать восемь лет. Со своей стороны, Эрнесто привык к тому, что мать поддерживала его во всем. Полагаю, он был удивлен тем, что его вдруг стали так жестко увещевать. Я воспроизведу ниже часть его ответа, потому что это важное письмо стало поворотным моментом в нашей жизни:
«Я не Христос и не филантроп, vieja, я полная противоположность Христу, а филантропия, как мне кажется, – ничто по сравнению с вещами, в которые я верю. Я буду бороться всем доступным мне оружием, и я постараюсь повалить противника на землю, вместо того чтобы позволить распять себя на кресте. Что касается голодовки, ты не права полностью: ее начинали два раза; в первый раз они выпустили двадцать одного из двадцати четырех заключенных нашей группы, а после второй они объявили об освобождении Фиделя Кастро, лидера Движения, и оно должно произойти завтра. Таким образом, только два человека, включая меня, остаются в тюрьме. Я не хочу, чтобы ты думала, как намекает Ильда, что этими двумя людьми пожертвовали, мы просто те, у кого документы оказались не в порядке, поэтому мы и не имеем доступа к тем же ресурсам, что и наши товарищи. Я намерен просить убежища в ближайшей стране, чего непросто добиться из-за интерамериканской [sic] репутации, в которую меня обратили, и ждать там, когда захотят действительно воспользоваться моими услугами. Я повторяю, что существует вероятность того, что я не смогу писать вам в течение более или менее длительного периода времени.
Меня ужасают твое непонимание и твои призывы к умеренности, к заботе о себе и т. д., то есть к тому, что я считаю самыми отвратительными качествами, которые только могут быть у человека. Я не просто не умерен, я постараюсь никогда не стать таковым, а когда пойму, что священное пламя внутри меня сменилось робким огоньком, я буду блевать на свое собственное дерьмо. Ты призываешь меня к умеренному эгоизму, то есть к вульгарному и малодушному индивидуализму, и в честь X [друга семьи][36] я должен сказать, что попытался уничтожить это в себе. Я говорю не о трусливом типе индивидуализма, а о другом, богемном, равнодушном к другим и питающемся чувством самодостаточности, токсичным для сознания, а не своей собственной силой. За эти дни в тюрьме и раньше, на учениях, я стал единым целым с моими товарищами […] Одна из твоих серьезных ошибок состоит в том, что ты веришь, что великие изобретения и шедевры рождаются от умеренности или «умеренного эгоизма». Для всего великого нужна страсть, а в деле революции страсть и безрассудство требуются в огромном количестве. Другая странная вещь, которую я заметил: ты все время повторяешь имя Бога, и я надеюсь, что это не означает, что ты вернулась в свою девичью[37] клетку. Я также хочу тебе сказать, что серия сигналов SOS, что вы запустили, абсолютно ничего не стоит. Пети де Мурат испугался, Лесика исчез из вида и обратился с проповедью к Ильде (против моей воли) относительно просьбы политического убежища. Рауль Линч повел себя неплохо, но на расстоянии, а Падилья Нерва сказал, что речь идет о разных министерствах. Все они хотели мне помочь, но при условии, что я отрекусь от своих идеалов. Я не думаю, что ты предпочла бы сына живого, но изменника, мертвому сыну, но сделавшему то, что он считал своим долгом […] Кроме того, очевидно, что после того, как я сделаю дела на Кубе, я отправлюсь в другое место, и я в равной степени уверен, что совсем пропал бы, если бы оказался заперт в каком-нибудь офисе или в клинике аллергических заболеваний. Тем не менее мне кажется, что боль, боль матери, которая, похоже, охватила тебя в старости и требует, чтобы твой сын был жив, достойна уважения, и у меня есть обязательство – и сильное желание тоже – признать это, а посему я хотел бы увидеть тебя не только для того, чтобы утешить, но и чтобы самому избавиться от своей постыдной эпизодически возникающей ностальгии. Vieja, обнимаю тебя и обещаю приехать, если не случится чего-то особенного. Твой сын, Че».
Это письмо, которое мы расшифровывали всей семьей, убедило моих родителей, что ничего не остается делать, кроме как поддержать решения моего брата. Мы знали о его целеустремленности. Он будет следовать за этим Фиделем Кастро, которым и моя мать тоже начала восхищаться. Она прочитала стенограмму его речи на суде, эдакий шедевр лиризма, осуждающий тиранию Фульхенсио Батисты и подробно описывающий страдания кубинского народа. Там было трудно найти хоть малейший изъян. Что касается Эрнесто, то он говорил о приезде к нам, и мы цеплялись за это. На самом деле он уже никогда не вернется в Буэнос-Айрес, за исключением августа 1961 года, когда он делал короткую пересадку на несколько часов после пребывания в Пунта-дель-Эсте. Вся семья, включая тетю Беатрис, затем присоединилась к нему на уругвайском курорте. Это был последний раз, когда мы видели его. В то время, в 1961 году, Эрнесто был министром промышленности кубинского правительства, и у нас не имелось никаких оснований полагать, что он задумает воевать где-то далеко от Кубы. Другое письмо к моей матери, датированное ноябрем 1956 года, то есть через три месяца после предыдущего, однако, оказалось пророческим. Он писал: «Когда болезнь, которой я страдаю, овладевает вами, мне кажется, что она будет лишь усугубляться со временем и что она отпустит только в могиле». Этой болезнью было его возрождающееся желание или скорее осознание необходимости идти и бороться с несправедливостью.
* * *
Вскоре после отправки письма от 15 июля 1956 года Эрнесто погрузился – а с ним еще восемьдесят один человек (включая Фиделя и Рауля Кастро, Камило Сьенфуэгоса, Хуана Алмейду и Рамиро Вальдеса) – на «Гранму», старую яхту длиной в восемнадцать метров, купленную Фиделем за пятнадцать тысяч долларов за несколько недель до этого. Переход с потушенными огнями в мексиканский порт Тукспан в ночь на 25 ноября стал десятидневной одиссеей. Страшная морская болезнь сразу прихватила всех этих закаленных людей. И пусть теперь лучше Эрнесто сам расскажет: «Мы принялись лихорадочно искать антигистамины для борьбы с морской болезнью, но ничего не нашли. Уже минут через пять после того, как были спеты кубинский национальный гимн и гимн «Движения 26 июля», лодка представляла собой смехотворно-трагическое зрелище. Люди с обеспокоенными лицами хватались за животы. Некоторые уткнулись головами в ведра, другие в самых причудливых позах неподвижно лежали на палубе в испачканной рвотой одежде»[38]. Через четыре или пять дней закончились продукты питания.
«Гранма» подошла к берегам Кубы 5 декабря, имея на борту крайне ослабленных людей. Высадка на пляже Лас-Колорадас тут же обернулась катастрофой. Их заметили еще при приближении к острову, и солдаты Батисты были готовы встретить их своей артиллерией made in USA. Едва люди Фиделя ступили на берег, как авиация начала расстреливать их из пулеметов, и семьдесят из восьмидесяти двух человек, поднявшихся на борт в Мексике, тут же погибли. Осталось только двенадцать бойцов и семь винтовок, чтобы противостоять тридцати тысячам солдат и ультрасовременному вооружению, включавшему танки, орудия, самолеты и т. д. И тем не менее этот изголодавшийся отряд сумел победить жестокого Фульхенсио Батисту. Позднее Эрнесто объяснит аргентинскому журналисту Хорхе Рикардо Масетти, первому соотечественнику, кто взял у него интервью в Сьерра-Маэстре, что движение победило благодаря непоколебимой вере Фиделя: «Это был необыкновенный человек. Он смело выступал и решал самые невозможные вещи. Он обладал исключительной уверенностью в том, что, как только он высадится на Кубе, у него все получится. Оказавшись там, он начнет бороться. А едва он станет бороться, он победит». В то время как многие из его людей только что были убиты, а кубинская армия продолжала обстрел, Фидель воскликнул: «Послушайте, как они стреляют. Это трусы. Они боятся нас, потому что знают, что мы покончим с ними!» Что это было, предчувствие или уверенность? Никто и никогда этого не узнает.
Посреди всего этого разгрома и резни Эрнесто столкнулся с дилеммой. Его товарищ, тащивший ящик с боеприпасами, пал у его ног. Эрнесто нес ящик с медикаментами. В этот момент он должен был сделать выбор между этими двумя ящиками, потому что невозможно было нести сразу оба. «Или я врач, или – боец», – сказал он самому себе (он потом рассказал эту историю в письме к моей матери). И он схватил ящик с патронами и понес его, прикрыв рубашкой. Через несколько минут пуля попала ему в грудь. И ящик спас его, ибо пуля отскочила, лишь задев ему шею. В другой раз пуля пробила ему щеку, выйдя за ухом.
* * *
Новость о высадке на Кубе не дошла до нас сразу, но как только газеты разнесли ее по свету, для нас начался сущий кошмар. Мы же даже не знали, что он высадился! Он говорил о своей приверженности Фиделю Кастро, но не раскрывал подробности своего плана: он знал, что мексиканские спецслужбы просматривают его почту.
Аргентинская пресса немедленно заинтересовалась «молодым аргентинским врачом-революционером». И в первый раз известие о смерти Эрнесто было объявлено в декабре в правом ежедневнике «Ла Пренса». «Среди погибших в этом бою, – говорилось в статье, – оказался доктор Эрнесто Гевара де ла Серна». В тот день мой отец неожиданно появился дома. Он был словно в лихорадке и очень испуган, что меня насторожило. Моя мать была поглощена раскладыванием пасьянса. Отец на миг замер, ничего не говоря. Он, очевидно, не знал, как выдать ей эту новость. Моя мать наконец подняла голову и увидела его, и она тут же спросила: «Что случилось?» Мой отец сказал: «Я уверен, что это не так». – «Эрнесто?» – воскликнула она. В одну секунду она стала мертвенно-бледной. Ему не нужно было ничего больше говорить. Она вскочила, схватила газету и, прочитав заголовок, бросилась к телефону, чтобы связаться с «Ассошиейтед Пресс». Агентство ничего больше не знало. Моя мать чувствовала себя убитой. Непрерывно звонил телефон. Члены семьи и друзья хотели знать, правда ли это и есть ли у нас какие-либо новости. Газеты всего мира объявили об уничтожении группы Фиделя Кастро. Они просто повторяли ложь Батисты. Для нас это был чистой воды ужас. И вновь мой отец поднял все свои связи.
В то время как мы нервно ждали новостей из посольства Аргентины в Гаване, до нас дошло письмо Эрнесто, направленное из Мексики перед его отъездом. Там он объявлял о своем бесповоротном решении бороться за независимость Кубы. Мы были беспомощны, не зная, что и думать. Жив он или мертв? Неопределенность была так мучительна. А затем, 31 декабря, когда мы все собрались на улице Араос, из-под двери показался конверт. На почтовом штемпеле значилось: «Мансанильо, Куба». Это была короткая записка, в которой Эрнесто говорил так: «Дорогие viejos, самочувствие прекрасное. Потратил две, осталось пять [он говорил о своих жизнях]. Продолжаю заниматься своей работой, новости могут приходить от случая к случаю, но будьте уверены: Бог – аргентинец. Крепко обнимаю всех. Тэтэ[39]». Какая же это была радость – то, что мы чувствовали тогда! Вечер завершился праздником, очень памятным праздником.
После этого международная пресса объявляла о его смерти пять раз. Аргентинские газеты были рупором режима Батисты. Они пересказывали одну ложь за другой, например, что guajiros (кубинские крестьяне) выступали против революции, что армия диктатора нейтрализовала членов «Движения 26 июля» и т. д. Дезинформация шла по полной программе. Реальность же была совершенно иной. Guajiros записывались в Движение тысячами. И если они не вступали в ряды партизан, то это лишь потому, что для них не было никакого оружия. Тем не менее численность войск росла, и вскоре ejercito rebelde удалось организовать саботаж и поставить ряд засад для захвата арсеналов противника. В то время как Батиста занимался дезинформацией, революционная армия структурировалась и организовывалась в Сьерра-Маэстре. В течение нескольких месяцев Эрнесто не только сражался, но и открывал школы, полевые госпитали, пекарни, фабрику по производству бомб и обувную фабрику. Было также создано радио и газета «Cubano Libre», выпускавшаяся с помощью старого копировального аппарата, где он подписывал свои статьи псевдонимом «Снайпер» (El francotirador). В них он уже следовал определенным этическим принципам, которые позднее будут им сформулированы так: «Все, что мы требуем, это чтобы рассказчик был искренен; чтобы он никогда, дабы прояснить свою личную позицию или показать, что он находился в том или ином месте, не прибегал ко лжи; мы требуем, чтобы после написания нескольких страниц в соответствии со своими способностями, образованием и талантом рассказчик прибегал к максимально серьезной самокритике, чтобы удалить все слова, которые не относятся к истинным фактам или в правдивости которых он не до конца уверен». Эрнесто учил фермеров грамоте, и не только, терпеливо выслушивал их жалобы и пожелания – словно он и не был сильно занят. Он даже курировал строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов, перевозящих оружие для революционной армии. Казалось, что он вездесущий: он был сразу везде и одновременно решал многочисленные и разнообразные проблемы.
Че первым из бойцов ejercito rebelde был назван Фиделем Команданте – раньше Рауля. Известная партизанка Селия Санчес пришила знаменитую красную звезду к его берету.
Известия о его смерти убивали нас – что, если это правда? – но каждый раз после них шло опровержение. Мы старались уделять этому все меньше внимания и концентрировались на любой позитивной информации. Наиболее обнадеживающей для нас в конце февраля 1957 года оказалась серия статей, опубликованных в «Нью-Йорк таймс». Американский журналист Герберт Мэттьюз встретился с Фиделем в Сьерра-Маэстре. Его репортаж, публиковавшийся в течение трех дней, оказал огромное влияние и расставил все точки над «i». Кастро не был деморализованным безумцем, готовым к разоружению, а как раз наоборот. Не был он и коммунистом, он был кубинским патриотом, хотевшим избавить свою страну от тирана, который терроризировал ее. Революционная армия Кастро была четко организована и продолжала расти.
* * *
Это двоюродная сестра моей матери, бывшая в отпуске в Нью-Йорке, позвонила нам и рассказала об этом репортаже. Его чтение дало нам повод устроить новый праздник у себя дома. Через несколько дней та же самая кузина позвонила нам, чтобы сообщить, что на этот раз она видела Эрнесто по телевизору, в репортаже CBS, и он там был одет в униформу, бородатый, веселый и абсолютно уверенный в победе ejercito rebelde! После невыразимых мук мы пребывали в полной эйфории.
А через год наступила очередь Хорхе Рикардо Масетти посетить Сьерра-Маэстру в качестве корреспондента аргентинской радиостанции «Эль-Мундо». Когда он прибыл в лагерь Че после многодневных изнурительных и опасных переходов в горах[40], он увидел моего брата таким, каким и отразил его в своем репортаже: «Он прибыл на муле, ноги его болтались, спина сгорбилась под тяжестью «беретты» и телескопической снайперской винтовки, которые казались двумя столбами, поддерживающими его, судя по всему, стройное тело. Когда мул подошел, я смог увидеть, что на ремне у него висели кожаный патронташ, полный патронов, и пистолет. Из карманов рубахи торчали два магазина, на шее висел фотоаппарат, а на подбородке виднелось несколько волосинок, пытавшихся выглядеть бородой […] Знаменитый Че Гевара казался типичным молодым аргентинцем среднего класса».
Радио «Ребелде», радиостанция, установленная на вершине холма в лесу, позволила Масетти передавать свои репортажи и интервью. После долгого подпольного пребывания в Сьерра-Маэстре он отправил свои эксклюзивные записи в Аргентину. К сожалению, вернувшись в Гавану, он узнал, что туда они так и не дошли. И он снова поехал в Сьерра-Маэстру в еще более сложных условиях, чем в первый раз, и вновь нашел там Фиделя и Че, которые, как оказалось, были рады видеть его снова. Они симпатизировали друг другу. Его репортажи, в конечном итоге, транслировались в четырех передачах. И благодаря ему Аргентина впервые смогла услышать голос Че и получить прямое свидетельство о кубинской революции.
Вернувшись в Буэнос-Айрес, Масетти сразу же пришел к нам в гости. То, что он нам рассказал, вернуло нам радость и надежду. Он передал нам кассеты, записанные для нас Эрнесто. Услышать его голос после стольких месяцев разлуки было и удовольствием, и огромным облегчением.
Хорхе стал не только близким другом семьи, но и последователем Эрнесто. Нахождение рядом с Фиделем, Че и другими партизанами, возможность слышать их аргументы в пользу революции и видеть зверства, совершенные Батистой, так повлияли на его сознание, что после того, как он основал вместе с Эрнесто агентство «Пренса Латина» – с целью распространения надежной и честной информации для противодействия американской пропаганде, бушевавшей в странах Латинской Америки, – он отказался от журналистики, чтобы стать революционером. Сначала он воевал в Алжире за Фронт национального освобождения, потом – в аргентинской провинции Сальта под боевым псевдонимом Команданте Сегундо. Его миссия состояла в том, чтобы подготовить возвращение Че и распространение революции по континенту. Он пропал без вести 21 апреля 1964 года. Масетти стал автором лучшей книги, когда-либо написанной о ejercito rebelde[41].
* * *
Революционная армия прочно утвердилась в Сьерра-Маэстре, а Эрнесто подавал нам признаки жизни, хотя они и имели спорадический характер. Он успокоил нас, сказав, что дела стабилизировались. Узнав о существовании «Радио Ребелде», мои родители сразу же купили радиоприемник, оснащенный огромной антенной, чтобы ловить короткие волны, на которых транслировались новости о революции и разоблачения лжи Батисты.
Услышав весть о смерти Эрнесто еще раз, мы тут же утешились тем, что «Радио Ребелде» объявило: «Для того чтобы успокоить его родителей в Южной Америке и весь кубинский народ, мы хотим заверить вас: Эрнесто Гевара не только жив, что главное, но он еще и собирается захватить город Санта-Клара».
Другие журналисты, в частности, уругваец Карлос Мария Гутьеррес, приходили к нам в гости. Улица Араос стала обязательным местом для репортеров. Они являлись по просьбе Эрнесто, который хотел успокоить нас, но они также начали интересоваться и нами самими. Откуда появился Че, кто его родители, его братья и сестры, кузены, дяди и тети? Однажды моя мать призналась Гутьерресу, который только что рассказал, что рюкзак Эрнесто был заполнен книгами и он с утра до вечера декламировал стихи Леона Фелипе, что две вещи, по сути, не давали ей спать: «вероятность того, что его убьют, и уверенность, что он будет убивать»[42].
Впрочем, нами заинтересовались не только журналисты. Мои родители создали комитет поддержки ejercito rebelde. Таким образом, наш дом превратился в импровизированный революционный центр. Примерно в это же время к моему отцу обратился американский журналист, некий Жюль Дюбуа, который выдавал себя за директора журнала «Диарио-де-лас-Америкас», основанного во Флориде, и утверждал, что поддерживает революцию. Дюбуа совершал частые поездки между Майами и Буэнос-Айресом. Он никогда не упускал случая позвонить моему отцу и назначал ему встречи в кафе, когда находился в столице. Он задавал вопросы об Эрнесто, под прикрытием того, что хочет его защитить. Больше всего его интересовала информация о том, где Эрнесто мог бы находиться в Сьерра-Маэстре. Из-за такой его настойчивости мой отец наконец заподозрил его в том, что он – агент ЦРУ, и он тут же порвал все связи с ним. Мы были крайне уязвимы. Генерал Педро Арамбуру и его режим «освободительной революции», о которой говорилось выше, находились у власти. Он сформировал военное правительство и начал репрессии, и он не был другом кубинских революционеров.
* * *
В начале июня 1958 года Эрнесто кратко обратился к нам через «Радио Ребелде». Это обращение стало провидческим для моей матери. Она была очень одинока, очень печальна, она страшно волновалась за него. Вскоре после этого она написала ему длинное письмо, я не знаю, по какому адресу. Несомненно, она доверила его журналисту, направлявшемуся на Кубу. Я воспроизвожу ниже наиболее трогательные отрывки из этого письма:
«Тэтэ, мой дорогой!
Я была так переполнена чувствами, когда спустя столько времени услышала твой голос по телефону. Я не узнала его. Это был словно кто-то другой. Наверное, связь была плохая, а может, твой голос изменился. Только когда ты сказал «vieja», я уловила прежний тембр. Какие чудесные новости ты сообщил […] Анна-Мария 2 апреля вышла замуж за Малыша[43], и они отправились в Вену… Серхио подарил им билет на самолет. Они думают найти там работу, чтобы заработать себе на жизнь, воспользовавшись этим путешествием.
Похоже, там уже намечается ребенок, и он будет аргентинцем.
Как грустно, что все мои дети уезжают! Их отъезд делает дом таким пустым. Ты знаешь, как Анна любит порхать, какая она шумная. Селия осталась, но она после отъезда сестры превратилась в маленькую тихую мышку.
У Роберто две чудесные белокурые дочки. В августе ожидается появление наследника. Он много работает, чтобы содержать свою многочисленную семью. Ты знаешь, какой он способный, как он любит во все вникать. Он выглядит счастливым…
Недавно Селия вместе с ее мужем, Луисом Родригесом Алгараньясом, и Петитом получили престижную архитектурную награду. На троих им дали два или три миллиона песо. Очевидно, наши венские путешественники теперь вернутся работать сюда. Я надеюсь на это, ибо чувствую себя такой потерянной без моей детворы.
Меня распирает гордость от того, что у меня настолько талантливые дети.
Хуан Мартин, конечно, вырос: это не значит, что он стал большим, он все такой же малорослый, как и его братья и сестры, но он стал действительно прекрасным подростком. Он набрасывается на жизнь с аппетитом, и она его не портит. Все приходит к нему естественным образом, и он получает все с такой же легкостью. Он нежен и чувствителен. У него забавный голос, который напоминает мне Роберто, у него всепроникающий ум, но он не такой любопытный, как ты и Селия. Я считаю, что он станет одним из тех, кто улетает, едва только у него появляются крылья, есть такие молодые люди, которые, подобно ему, испытывают желание открывать для себя новые горизонты. А пока он будет моим товарищем […]
Что касается меня, то я по-прежнему на том же пути. Только я стала еще на несколько лет старше, и забот новых прибавилось, только они не острые, а превратились в какую-то хроническую печаль, прерываемую время от времени чувством удовлетворения.
Награда, присужденная Селии, – это одно, возвращение [Анны][44] на родину – это будет совсем другое, а услышать твой голос – это было бы совсем хорошо. Я стала такой одинокой.
Я не знаю, как тебе писать, что тебе еще сказать, я утратила сноровку.
До сих пор не получила наследство. Мы хотим снова строиться, наши планы одобрены, но нам придется еще немного подождать: суды о выселении приостановлены. К счастью, эта зима довольно мягкая, во всяком случае, до сих пор. И мы будем вынуждены терпеть этот старый, холодный и неуютный дом еще какое-то время.
В связи с этим у нас возник новый обитатель… Он заявился в дом самостоятельно, без приглашения… И все серьезно осложнилось, когда Хуан Мартин вернулся. Я авторитетно объявила: «Ни в коем случае тут не будет собаки. Ну-ка, Хуан Мартин, отведи ее в другое место». И вот уже неделю собака спит на кухне. Хуан Мартин называет ее Негритой […]
Работа по дому страшно меня утомляет. Уже долгое время я готовлю себе сама, а ты знаешь, как я ненавижу домашние хлопоты.
Кухня – мой штаб, и я провожу в ней большую часть времени.
У нас случился скандал с твоим отцом, так что он теперь ко мне носа не кажет…»
2 января 1959 года «Радио Ребелде» объявило о победе Фиделя Кастро. Эрнесто живой и невредимый прибыл в Гавану. Мой брат, «аргентинский авантюрист», как его теперь называли, мгновенно стал национальным героем своей страны. А в нашей же семье мнения тут же разделились.
Возвращение в Буэнос-Айрес
Есть время до Че и после Че, до Кубинской революции и после нее – для Латинской Америки и для нас. После возвращения с Кубы к моей матери снова вернулась ее воинственная энергия. То, что она увидела на острове, покорило ее. Ее сын выбрался живым и невредимым из Сьерра-Маэстры, весь в ореоле славы, и она теперь могла наконец расслабиться и наслаждаться победой и миром. Едва избавившись от своей затянувшейся депрессии, она сформировала комитет поддержки «Движения 26 июля» и стала одним из самых активных его участников. Теперь она была полна страсти, ее буквально пожирали кубинские события.
Моя собственная воинственность сформировалась во время пребывания на острове. Мы с моей матерью были первыми, кто безоговорочно поддерживал моего брата в его политической деятельности. Для матери было нелегко согласиться с тем, что он никогда не возобновит свою медицинскую карьеру и не вернется в Аргентину. Но с того момента, как она смирилась с реальностью, она посвятила себя его защите. Она оставила раз и навсегда свои пасьянсы и начала высказываться о кубинской революции и ее целях. Она опубликовала в аргентинском журнале «Ла Вангардиа» серию из четырех статей под названиями «Cuba por dentro» (Куба с оборотной стороны), «La tierra para el guajiro» (Земля для крестьян), «Vivienda para todos» (Жилье для всех) и «Desarrollo industrial» (Промышленное развитие). В них она рассказала о своем удивлении при виде такого количества молодых лидеров, неустанно работающих ради всеобщего блага: «Если партизаны научились сражаться, сражаясь, то теперь они учатся управлять, управляя. Каждый из них нашел в себе скрытые ресурсы, которые вышли на поверхность из спавших доселе глубин их личности, ресурсы, которые сделали их способными решать самые разнообразные задачи».
На этом она не остановилась. Когда вице-президент Алехандро Гомес ушел из правительства Артуро Фрондиси, чтобы сформировать Movimiento nacional de defensa del petróleo y la energía (Национальное движение в защиту нефтяной промышленности и энергетики) с целью помешать иностранным державам использовать наши ресурсы, она начала высказываться в пользу этой организации. Когда интеллектуал и основатель журнала «Конторно» Исмаэль Виньяс запустил свое собственное Movimiento de liberación nacional (Национально-освободительное движение), она первой поддержала его. Она перешла от патологической неподвижности к лихорадочной политической активности. В течение последующих двух лет она два раза ездила на Кубу на длительные пятимесячные периоды. Остальную часть времени она моталась туда и обратно между Аргентиной и заграницей, читая лекции о Кубинской революции, которая нашла в ней своего самого преданного глашатая.
* * *
Несмотря на отказ получать высшее образование, я все же поступил на факультет журналистики. Моя мать настояла. Эрнесто тоже, потому я это и сделал. И все бросил через год. Я хотел быть пролетарием, и я им стал. Я нашел работу водителя грузовика.
Мой отец продолжал жить словно в другом измерении. Он преуспел в своих меркантильных делишках. Благодаря диплому архитектора Селии он выбил для себя контракт на строительство дома в Буэнос-Айресе, огромного здания для муниципальных служащих. Кстати, это здание до сих пор существует. Оно находится на углу авеню Ривадабиа и Доницетти. В течение двух лет (о, чудо!) у него водились деньги.
Подхваченный порывом моей матери и примером Эрнесто, я тоже начал активную деятельность. Вопрос, который тогда уже ставили перед собой левые партии, заключался в том, нужно ли браться за оружие, чтобы защищать свои идеалы. Они не могли прийти тут к согласию. Кубинская революция спровоцировала этот раскол. Она разделила всех. Мы с моей матерью были за вооруженную борьбу. Эрнесто убедил нас в этом. Он нам показал, что единственный вариант – это сражаться и что «необходимо продолжать бороться, потому что это единственный путь к победе». А вот мой отец был против.
Хоть мы и гордились репутацией Эрнесто и его подвигами, это не прошло для нас без последствий.
То были проблемные времена, но, согласитесь, какие времена не были проблемными в Аргентине? Мои родители перестали быть просто Гевара Линч де ла Серна, чтобы стать родителями Че. По всей семье словно прошел глубокий водораздел. Кубинская революция изначально казалась очень даже симпатичной. Но постепенно, по мере ее поворота влево, наши родственники стали вступать в оппозицию, несмотря на огромную привязанность, которую они испытывали к Эрнесто. В одном, однако, все были единодушны: это признание образцовой цельности и неиспорченности Че. Ponia el cuerpo[45], иначе говоря, и он доказал, что был готов умереть за свои идеалы. Его храбрость заслужила уважение всех, в том числе и его недоброжелателей. Тем не менее, хоть все члены семьи без исключения хвастались своими отношениями с ним, когда он стал героем мифических масштабов, такого уже не было в 60-е годы. С одной стороны, потому что Че был заподозрен в коммунизме, во-вторых, потому что простой факт знакомства с ним уже представлял собой риск. Трусы и традиционалисты говорили о нем плохо, критиковали его. Две сестры моего отца, Сусана и Марта, были особенно злобными. Ни одно доброе слово не выходило из их уст. Все, что они говорили, было враждебным. Они, конечно же, вышли замуж за влиятельных людей. Муж Марты был крупным хирургом. Я не знаю, чем занимался муж Сусаны. Когда моя мать умерла, Марта имела наглость заявиться на поминки. Это было очень трудное время для всех нас. Мы не знали, где Эрнесто, и моя мать умерла в мучениях. Я спросил ее, что она тут делает, и попросил ее немедленно нас покинуть. Гевара были реакционерами, за исключением, может быть, моих тетушек Беатрис и Марии-Луизы. А вот моя бабушка слыла конформисткой. И что самое удивительное? Послом Аргентины на Кубе, когда Че победоносно вступил в Гавану, был двоюродный брат моего отца. Это был упомянутый выше Рауль Гевара Линч, тот самый, кто помог нам получить новости от Эрнесто, тот самый, кто подписал свидетельство о рождении Эрнесто. И он вовсе не был сторонником революции!
Вокруг нас образовалась пустота. Что касается семейства де ла Серна, то мой дядя Хорхе остался верным и внимательным. Но никто из его детей больше не приходил к нам домой. Мой дядя Кордова Итурбуру и моя тетя Кармен де ла Серна сохранили дружбу с нами, но Каэтано теперь почти исключительно посвятил себя поэзии и художественной критике.
* * *
На Кубе Фидель, Эрнесто, Рауль, Камило и другие пытались заложить фундамент революции и организовать свое правительство. Все, что нужно было делать, выглядело очевидным, однако задача была титанически сложной. И одной из самых больших проблем была враждебность Соединенных Штатов. Фидель призвал позитивно смотреть на союз со столь могущественным соседом. Он не был коммунистом. Его революция была прежде всего патриотической и национальной. Она не имела каких-то международных претензий. Однако его заявления не могли успокоить империалистов. Кровавый Батиста был их человеком, их марионеткой. И они не желали, чтобы их людей вот так выталкивали. Только они имели право назначать и разгонять правительства, особенно в Латинской Америке, где имела место давняя традиция угнетения и противостояния демократии.
Первая лобовая атака произошла 4 марта 1960 года. Ее цель? «La Couvre», французское судно, стоявшее на якоре в порту Гаваны и перевозившее бельгийские боеприпасы из Антверпена. Взрыв привел к гибели семидесяти шести ни в чем не повинных людей. Фидель увидел в этом работу ЦРУ. И он осудил Соединенные Штаты. Поэтому были объявлены военные действия между сверхдержавой и крошечным беззащитным островом. Перед бегством Батиста опустошил Национальный банк Кубы (BNC) и перевел 424 миллиона долларов в американские банки, и эта сумма так никогда и не была возвращена кубинскому народу. Казна страны стала совершенно пустой. Управляемый Эрнесто BNC сделал заявку на получение кредита для поддержания кубинской валюты. Заявка была отклонена Советом национальной безопасности США. Затем Фидель решил ускорить земельную реформу и провести социальные мероприятия. Он национализировал собственность в 420 га для перераспределения ее между крестьянами, арендаторами и безземельными. Он также национализировал все иностранные активы и экспроприировал американские компании. С этого момента правительство Дуайта Эйзенхауэра не прекращало мешать развитию кубинской революции. Оно приняло ответные экономические меры, начиная с резкого сокращения импорта кубинского сахара, потом оно перешло к частичному эмбарго в октябре 1960 года и, наконец, к полному эмбарго в феврале 1962 года. При этом сахар всегда имел ключевое значение для кубинской экономики.
В августе 1961 года Че провел анализ ситуации в статье, опубликованной в журнале министерства промышленности (он больше не существует):
Естественно, нет никакой военной силы, способной помешать североамериканцам в Южной Америке; но что их беспокоит, так это внезапное появление народной власти и возможности того, что эта власть приобретет такую силу, что она сможет себе позволить, как в случае с Кубой, бросить вызов их приказам и осуществлять экономическую и социальную политику, в которых США потеряет контроль; по логике вещей они не допустят внешнюю политику, которая была бы за пределами их контроля. Именно поэтому империалисты ищут новых союзников, новые опоры, не отказываясь при этом от старых методов экономического и политического господства.
Союз американского империализма с местной буржуазией в экономической сфере означает, что «новые» методы эксплуатации латиноамериканских народов состоят в перемещении национальных капиталов, связанных с землей, в пользу отраслей промышленности, подчиненных Соединенным Штатам, или в замене импортных товаров товарами отечественными, но полностью зависящими от североамериканских технологий и сырья.
Существует и другая формула, согласно которой национальная буржуазия вступает в союз с иностранным капиталом, и вместе они создают в нужной стране новые отрасли промышленности, дают этим отраслям налоговые преференции, позволяющие полностью исключить технологии других империалистических стран, а полученная таким образом прибыль может потом выводиться из страны под защитой благоприятных торговых правил и регламентов.
С помощью этой системы эксплуатации, новой и более умной, страна-«националист» берет на себя ответственность за защиту интересов Соединенных Штатов, утверждает льготные тарифы для получения дополнительной прибыли. Естественно, цены продажи товаров, не связанные с их качеством, устанавливаются монополиями.
У Фиделя Кастро не было иной альтернативы, кроме как подписать торговое соглашение с Советским Союзом. Кубе был нужен союзник. Соединенные Штаты отказывались от любых предложений. Дипломатические отношения между двумя странами были окончательно разорваны. Эрнесто стал министром промышленности. Он упорно работал в похожем на монастырскую келью офисе здания, который журналист Рохелио Гарсиа Лупо описал позднее так: «Его офис находился в четырнадцатиэтажном еще строящемся здании […] Стены там были из грубого бетона, и наша встреча проходила в атмосфере близости, которая могла быть объяснена в разгар столь опасной политической ситуации лишь доверием, которое испытывал Че к имени Титы Инфанте, едва оно было произнесено ее братом Карлосом Инфанте. Я почти все забыл о самой встрече, но я помню мате, переходившее из рук Гевары в руки Карлоса, и карту Аргентинской Республики, украшавшую одну из голых стен, стен совсем без отделки, стен, готовых рухнуть, которые так трудно себе представить в качестве повседневной обстановки» [46]. Рутина, бюрократия и душная атмосфера, в которой он вынужден был продолжать делать революцию, – все это, казалось, давило на Эрнесто. Во время официального визита в Алжир в 1963 году [47] он написал моей тете Беатрис: «Из Фив, первой столицы мечты, приветствие тебе от поэта, который не пишет стихов и стал достойным бюрократом с представительным животом и такими сидячими привычками, что он даже передвигается, стремясь лишь к своим тапочкам и детям».
В 1960 году мой двоюродный брат Гильермо Мур де ла Серна вступил в контакт с группой «ФИАТ-Сомека», обосновавшейся в Аргентине. Гильермо был землевладельцем, а также инженером-агрономом и совмещал деятельность в Аргентине и Никарагуа. Он только что получил лицензию пилота. Они с Эрнесто в юности часто проводили лето вместе в Галарса, у моего дяди Эрнесто Мура и тети Эделмиры. Группу «ФИАТ-Сомека» представлял Аурелио Печчеи, один из руководителей «Итало-Консалт», группы итальянских компаний, работавших в Аргентине. Когда Печчеи узнал, что Гильермо собирается купить самолет в США, он сказал: «Если ты умеешь летать, почему бы тебе не залететь повидаться со своим двоюродным братом на Кубе на обратном пути?» Гильермо понял, что миссия, которую ему хотели доверить, заключается в том, чтобы убедить Эрнесто заполнить пустоту, оставшуюся после разрыва с Соединенными Штатами, союзом с Европой, а не с Советским Союзом. Он связался с Эрнесто, чтобы сообщить о своем предстоящем визите на Кубу. Узнав, что он собирается появиться на самолете, зарегистрированном в США, Эрнесто воскликнул: «Ты не можешь прибыть на этом самолете, тебя убьют!» Не стоит забывать, что Камило Сьенфуэгос погиб в загадочной авиакатастрофе, причины которой так и не были раскрыты, 28 октября 1959 года, и Эрнесто теперь не доверял этому транспортному средству. Тогда Гильермо прилетел коммерческим рейсом. Оказалось, что и моя мать тоже находилась в Гаване в то время. Перспектива увидеться со своим племянником и стать для него гидом привела ее в восторг. Гильермо посетил Кубу, глядя на все острым глазом агронома. То, что он увидел, не слишком порадовало его, он прогнозировал катастрофу. Огромные участки земли лежали необработанными, они были оставлены помещиками. Когда он рассказал об этом Эрнесто, Че ответил: «Пусть они уезжают. Это революция. И расскажи своим друзьям, что уже слишком поздно для Европы. Жребий брошен».
Гильермо провел на Кубе две недели. Вернувшись в Буэнос-Айрес, он сказал нам, что Эрнесто живет в простом доме с Алейдой, что она жутко ревнива и пытается все контролировать, особенно тех, кто был близок к ее мужу до нее, и поэтому иногда трудно бывает общаться с Эрнесто; что он упорно трудится, носит лишь безупречный и отлично отглаженный оливково-зеленый мундир, что ему кажется забавным с учетом того, во что он наряжался в молодости; что он встает в девять часов утра и пьет большой черный кофе; что вечером он часто играет в шахматы, любит есть флан, его любимый десерт, пить вино, разбавленное водой – аргентинский обычай того времени, – и принимать расслабляющие ванны; и что его больше всего интересовало, когда он разговаривал с Гильермо, так это семья и Аргентина. Тогда исполнилось уже семь лет, как он туда не возвращался.
Ревность Алейды, вероятно, имела оправдания. Че многие обхаживали. Люди приезжали со всего мира, чтобы встретиться с ним, например, пара Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр, актер Жерар Филип, журналист «Нью-Йорк таймс» Герберт Мэттьюз и целая армия привлекательных женщин, которые слетались под различными предлогами в Гавану для переговоров с красавцем-революционером.
* * *
В то время как молодое кубинское правительство изо всех сил билось с Соединенными Штатами, политическая активность моей матери и ее пребывание в Гаване не остались незамеченными в Аргентине. Мы теперь считались коммунистами. Приезд к нам Фиделя Кастро, прибывшего принять участие в работе Конференции «Группы 21» (G21) в мае 1960 года, ничего не уладил. Фидель знал и очень любил мою мать. Он рассказывал о ней своему окружению как об исключительной женщине, интеллигентной и культурной. Со своей стороны, моя мать восхищалась им. Мы все восхищались. Разделяли мы его идеи или нет, это все равно был необыкновенный человек, абсолютно гениальный. Кто бы мог подумать в то время, что он будет противостоять Соединенным Штатам в течение пятидесяти четырех лет и что эта могучая держава не сможет скрутить ему руки!
Короче говоря, из дружбы к Эрнесто и вежливости по отношению к моей матери он объявил о своем визите за несколько дней. А потом произошли очень забавные вещи. Для начала мой отец категорически отказался разрешить встречу в нашем полуразрушенном доме на улице Араос. Моей матери было все равно, но она уступила. Она сама жила в весьма строгой обстановке и знала, что Фидель не уделяет этому большого внимания. Фидель, несомненно, да, но только не мой отец! И он организовал празднование у своей сестры Эрсилии. Она жила в роскошной квартире на улице Република-де-ла-Индиа, в эксклюзивном районе Палермо, рядом с парком. Моя тетя и ее муж были яростными контрреволюционерами, но они ни за что на свете не хотели упустить возможность встретить у себя дома Фиделя Кастро! Их буквально распирало от гордости! Это была огромная честь! И квартиру заполнили примерно тридцать человек: дяди, тети, двоюродные братья и друзья, все в основном выступавшие против даже самого духа кубинской революции.
Приезд Фиделя был достоин главы государства – с эскортом, телохранителями и всей сопутствующей суетой, но в дом он поднялся один. Войдя, он с улыбкой объявил: «Я нахожусь в доме моего брата». Затем он поклонился моей матери: «Вы похожи на мою мать. Мы так много говорили «о маме» с Че! Во всех наших приключениях он говорил о вас с такой любовью, что я теперь люблю вас так же, как и он». Моя мать вся сияла.
Фидель был встречен как настоящий герой, и гости принялись осаждать его. Каждый хотел что-то сказать, послушать, вступить в частную беседу с ним. Женщины, казалось, готовы были съесть его прямо в сыром виде. Вы бы видели, как они пожирали его глазами! Фидель – это был Фидель! Победоносный революционер, легенда, тридцать четыре года, одетый в красивую униформу, привлекательный, очень харизматичный, очень милый и ласковый. Революционер он или нет, но женские взгляды, казалось, взывали: «Какой аппетитный мужчина, как было бы хорошо оказаться в его мощных объятиях!» Но единственными женщинами, на которых смотрел Фидель, были моя кузина и сестра Селия. Они обе были очень красивы. Это был незабываемый вечер.
Однако репрессии, связанные с этим визитом, очень скоро буквально полились дождем. Наш дом однажды даже был обстрелян. Гевара де ла Серна стало именем, которое непросто носить. Впрочем, какая разница. Теперь я разделял идеи моего брата, я понимал и поддерживал его борьбу. Может быть, я не был хорошим учеником, но я много читал. Я впитывал знания. И в самое ближайшее время мне представится возможность показать Эрнесто, что я не какой-то там тупица.
Действительно, в июле 1961 года Эрнесто сообщил нам, что он будет в Пунта-дель-Эсте в начале августа для участия в Ассамблее Организации американских государств (ОАГ). И мы всей семьей отправились в Уругвай.
* * *
Встречи в Пунта-дель-Эсте были трогательными, и их было очень много. Моя тетя Беатрис, которой его страшно не хватало все эти годы, глядела на него с таким обожанием! Она хотела привезти его обратно в Буэнос-Айрес. У нас у всех возникло смутное ощущение, что эта встреча может стать последней. К сожалению, мы оказались правы, лишь только моя мать увидит его еще один раз в Гаване несколько месяцев спустя. Эрнесто представлял на Ассамблее Кубу. Так что было достаточно трудно застать его одного. Тем не менее он всегда завтракал с нами и каждый раз сидел между матерью и тетей Беатрис, положив руки им на плечи.
Журналист Рохелио Гарсиа Лупо потом рассказал, что Пунта-дель-Эсте кишела представителями секретных служб, шпионами, замаскированными сотрудниками служб безопасности, американцами, кубинцами, русскими, а также женщинами, которые просто хотели увидеть Че. Это был настоящий ад. А потом имела место операция в заливе Кочинос[48] (заливе Свиней)[49].
Лично я был тогда еще слишком зелен, чтобы разбираться во всей этой мешанине, достойной шпионского романа. Тем не менее я уже достаточно повзрослел, чтобы стремиться вести серьезные разговоры с Эрнесто. Я хотел поговорить с ним о социализме, об изменениях в мире, о будущем Америки и Кубы. Он тактично отвечал на мои вопросы. Но при этом он по-прежнему настаивал на том, чтобы я продолжал учебу. Мы все ходили вокруг да около. Он вручил мне книгу, написанную в эпоху Сталина, «Учебник политической экономии» Академии наук СССР, и попросил ее внимательно прочитать. И что удивительно, через три года он выскажется весьма язвительно в отношении этой книги: «В этой книге много утверждений, которые по форме напоминают Святую Троицу; они непонятны, но вера решает все… Глава «Построение социалистической экономики европейских стран народной демократии», похоже, была написана для детей или для дураков. А советская армия во всем этом? Она что, стоит и почесывает себе яйца?»
В 1961 году, однако, он все еще верил в Советский Союз. И я был такой наивный. Перестав верить, он начал сомневаться и порой даже жестко его критиковать. В ходе своего последнего пребывания в Праге в феврале 1966 года перед отъездом в Боливию он уже не говорил на деликатные темы в своем гостиничном номере. Он был уверен, что его прослушивают. Советский Союз, в конечном итоге, не хотел, как и США, дальнейшего разжигания революции и нарушения установленного порядка. Я подозреваю также, что некоторые агенты КГБ сотрудничали с ЦРУ в деле ликвидации Че в Боливии, но у меня нет этому надежных доказательств.
* * *
Через несколько дней после нашего возвращения в Буэнос-Айрес мы узнали из ежедневной газеты «Насьон», что Эрнесто залетел в столицу перед возвращением на Кубу через Бразилию. Он ничего не сообщил нам об этом молниеносном приезде. Он стал скрытным, в том числе и с нами.
Две причины привели его в Буэнос-Айрес: тяжелая болезнь моей тети Марии-Луизы Гевара Линч и встреча с президентом Артуро Фрондиси.
Он покинул Монтевидео утром 18 августа, отправившись в Сан-Фернандо, пригород, находящийся недалеко от президентской резиденции Кинта-де-Оливос. Его сопровождал бывший депутат Хорхе Карретони. Встреча с президентом должна была остаться конфиденциальной. Крайне важно было, чтобы военные не узнали, что Фрондиси согласился выслушать революционера-марксиста. Для этого, чтобы не привлекать к себе внимание, Карретони получил указание не садиться в тот же самолет в Монтевидео, что и Че. Но, опасаясь засады ЦРУ, Эрнесто отказался лететь в одиночку. Карретони уступил. Когда они приземлились на аэродроме в Сан-Фернандо, их встретили двое военных. Увидев Че, они выпучили глаза от удивления: никто не знал о его прилете. Его присутствие на аргентинской земле оказалось совершенно неожиданным и создавало проблемы. Не зная, что делать, они обратились к своему начальству. Оно дало зеленый свет. Затем Че проводили к Фрондиси. Два мужчины разговаривали в течение трех часов. И никто так никогда и не узнал, о чем они говорили. Когда встреча закончилась, Эрнесто отправился к моей тете в Сан-Исидро. Там он воспользовался возможностью поесть choripan[50].
Последние события, связанные с Че и с Кубой, видимо, нервировали многих. Моей матери несколько раз угрожали смертью. Однажды утром мы приехали домой, и наша горничная Сабина Португаль обнаружила на лестнице бомбу. Она побежала в мою комнату предупредить, что какая-то странная коробка с тлеющим фитилем лежит на ступеньках. Я схватил мою мать и ножницы на кухне. Мы спустились вниз, прыгая через ступени, и я отрезал фитиль. На улице мать обнаружила, что забыла свои зубные протезы, и она бросилась к дому, чтобы забрать их. Не зная, обезврежена ли бомба, я крикнул ей, что она сошла с ума. Напрасно! Она настаивала на своем и, в конце концов, направилась к двери. Моя мать была такой – чрезвычайно упрямой и смелой. Она была готова умереть, лишь бы получить свои зубные протезы! Я, конечно же, не пустил ее: и я пошел вместо нее. Мы позвонили в полицию. Это оказался тротил. А виновники так никогда и не были найдены.
У меня был двоюродный брат-фашист по имени Хуан Мартин Гевара Линч. Меня часто с ним путали. Таким образом, мы получали анонимные звонки и от противников Эрнесто, и от его сторонников. Одни говорили: «Сын нацистской шлюхи». Другие: «Коммунистическое дерьмо». Это была весьма политизированная эпоха.
Моя мать была очень осторожная, но при этом производила много шума. В ходе встреч или конференций, на которых она просто присутствовала или принимала участие, она никогда не раскрывала, что она – мать Че. Она просто называла себя Селией и преднамеренно опускала свою фамилию. Некоторые ее знали, другие догадывались, третьи не шли на сближение. В любом случае, она не хотела пользоваться своим родством для получения льгот или специального лечения. Наоборот. Она чувствовала себя непринужденно в общественных местах, в окружении простых людей. Но в то же самое время она провоцировала много шума вокруг Кубинской революции.
23 апреля 1963 года, возвращаясь после шестимесячного пребывания на Кубе, в Европе и в Бразилии, она была арестована в Конкордии, городке на уругвайской границе. Она была объявлена «опасной». Она хотела вернуться в Буэнос-Айрес на машине по дороге из Рио-де-Жанейро, чтобы «внимательно рассмотреть Америку». Ей было пятьдесят семь лет, и у нее было слабое здоровье. Ее взяли под контроль исполнительных органов и обвинили в нарушении верховного постановления № 8161/962, запрещавшего коммунистическую пропаганду в стране. И в чем же заключалась коммунистическая пропаганда? При матери нашли фотографию Че, несколько книг, рукопись Эрнесто и небольшой флаг Кубы.
Моя тетя Кармен, мой отец, мой брат Роберто, сестра Селия, ее муж Луис и я сразу поехали в Конкордию. Арест матери уже горячо обсуждался в таблоидах: она дошла аж до Чехословакии, а некоторые газеты обвинили ее в шпионаже. Судья постановил освободить ее, но президент Аргентины Хосе Мария Гуидо из Unión cívica radical (Гражданского радикального союза) отменил это решение и приказал перевести ее в женскую исправительную тюрьму «Buen Pastor» (Небесного Доброго Пастыря), что в квартале Сан-Телмо в Буэнос-Айресе.
За такое преступление, как рождение Че, она оставалась в тюрьме два долгих месяца. Она могла бы провести там и десять месяцев, и десять лет, потому что приговоры тогда выносились совершенно произвольно. Мы приходили повидаться с ней почти каждый день. Она никогда не жаловалась. Свою грязную камеру она делила с другими заключенными и написала Эрнесто: «Это замечательный обезображиватель[51]. Как для обычных заключенных, так и для политических. Если ты вялый, тут ты становишься активным, если ты активен, становишься агрессивным, если агрессивный, становишься непримиримым». Через несколько месяцев власти предоставили ей выбор: остаться в тюрьме или покинуть страну. Она выбрала последнее.
Мы проводили ее до уругвайской границы, но она не задержалась в Уругвае: очередная смена правительства вскоре позволила ей вернуться в Буэнос-Айрес.
В то время я начал работать в книжном магазине «Богемия». Владелец завещал его мне. Я переименовал его в «Pulga» (Блоха) и продавал разные книги и журналы, в том числе Pekin Informa («Пекин информирует»), московское Lenguas extranjeras («Иностранные языки»), El Obrero Monthly Review («Ежемесячное рабочее обозрение»), Monthly Review («Ежемесячное обозрение») Лео Губермана и Пола Суизи[52], произведения Хорхе Альвареса[53]. «Блоха» быстро стала местом встреч и совещаний революционных организаций того времени. Люди приходили читать журналы и книги, которые они не могли найти в другом месте. Они сидели в магазине по много часов. Я тоже постоянно читал. Именно в то время я вступил в контакт с боевиками-марксистами. А потом я женился в девятнадцать лет, и у меня тоже появились дети. Если я когда-то и рассматривал всерьез возможность присоединения к Эрнесто на Кубе, то теперь подобная иллюзия угасла. Я прочно укоренился в Аргентине.
«Возможно, это письмо окажется последним»
Я узнал о смерти Эрнесто из газеты от 10 октября 1967 года. Тогда я работал водителем грузовика, доставлял молочные продукты. День в Буэнос-Айресе еще только начинался, и я совсем недавно прибыл на рабочее место. Я увидел заголовок газеты «Кларин», сопровождавшийся портретом Эрнесто, курящего сигару, который сразил меня: «Из Боливии сообщают, что Че погиб». Вторая страница газеты открывалась ставшей знаменитой фотографией неподвижного Че, без рубашки, с открытыми глазами, с руками, вытянутыми вдоль тела, и взъерошенными волосами, лежащего в прачечной больницы Валлегранде. Это был шок. Все комментировали это событие. Мои коллеги не знали, что это мой брат. Я ничего никому не сказал.
Я ни на минуту не сомневался, что эти безжизненное тело и взгляд принадлежали Эрнесто, хотя я не знал, что он находился в Боливии, так близко. Семья потеряла его след с тех пор, как он покинул Кубу. Никто не знал, где он, за исключением Фиделя и тех, кто сражался с ним в районе Ньянкауасу. За два с половиной года до этого, 18 мая 1965 года, моя мать умерла от рака, так и не придя в себя после его исчезновения. За несколько недель до смерти, не показывая, что приговорена, она сообщила Эрнесто о своем желании вернуться на Кубу как можно скорее. «Это невозможно, – ответил он в письме. – Тебе придется запастись терпением. Я собираюсь поехать рубить сахарный тростник на месяц». Он добавил, что покинул министерство промышленности, чтобы посвятить ближайшие пять лет своей жизни управлению предприятием. Мать знала моего брата лучше всех. Этот ответ глубоко смутил ее: Эрнесто не противился ее приезду, но, наоборот, настаивал, чтобы она появилась на Кубе. Она была убеждена, что он что-то скрывает. Никто не мог выбить у нее из головы эту мысль. Она не поверила ни на секунду в историю про отставку и про главу предприятия, не говоря уже про рубку сахарного тростника, хотя он однажды признался ей, что любит «участвовать в уборке урожая, что представляет собой побег, умственный отдых да плюс еще и физическое упражнение». Че инициировал систему добровольного труда. Она заключалась в том, чтобы посылать горожан на работу на плантации и на фабрики один раз в неделю, чтобы развеяться. К тому же все – и он в том числе – должны были внести свой вклад в строительство революционного общества, которое он видел солидарным, человеколюбивым и щедрым. Работа на добровольных началах была одной из составных частей, которые способствовали появлению нового человека, реконструированного человеческого существа, чье сознание, обычаи, привычки и ценности были бы радикально трансформированы путем самоотречения во имя блага всех. Чтобы подать пример, Эрнесто постоянно участвовал в напряженной работе в полях или на заводах по воскресеньям. Плюс он посвящал несколько часов каждый вечер работе добровольцем на заводе. И что, отдать теперь все свое время уборке сахарного тростника, когда имелось так много важных вещей, которые еще предстояло сделать… Она с ужасом вспомнила, как Эрнесто сказал ей в Пунта-дель-Эсте, когда она попросила его быть осторожным: «Не беспокойся, vieja, я не умру в постели!» Отрицательный ответ Эрнесто о ее четвертой поездке на Кубу дошел до нее в начале апреля. С этого момента она пыталась связаться с ним всеми средствами, но напрасно. Это ее чрезвычайно огорчило. Это был очень болезненный период.
Рождение моего сына Пабло 2 апреля не улучшило состояние его бабушки. Она не понимала молчания Эрнесто, и оно ей омрачало все. Это не было на него похоже. Он же всегда был так внимателен к ней. Как он мог оставить ее в полном неведении относительно своих передвижений? Дезинформация, публиковавшаяся в аргентинской и международной прессе, еще больше усилила ее мучения. Ходили самые дикие клеветнические слухи. Некоторые утверждали, что у Че тяжелые проблемы с сердцем из-за астмы; что непоправимый разрыв с Фиделем вынудил его скрываться в посольстве Мексики, чтобы избежать смерти или заточения в тюрьму; что резкая критика против него со стороны Фиделя свела его с ума и он оказался заперт в психиатрической клинике в Гаване; что его расстреляли за близость к прокитайским и антисоветским позициям; что он очень болен, что он уехал в СССР для хирургической операции и что там его ликвидировали за его троцкистские взгляды; и, наконец, что он продал за десять миллионов долларов военные секреты американцам, что он был агентом ЦРУ и что Фидель приговорил его к смерти…
Куба тогда переживала непростые времена. Перед его таинственным исчезновением критика Эрнесто, направленная против Советского Союза, усилилась. Его последнее выступление в Алжире 24 февраля 1965 года[54] вызвало огромный ажиотаж. Он обвинил СССР в том, что тот ведет себя как капиталистическая страна, превратив материализм в пустую вывеску для обмана своих граждан. «Все начинается с погони за химерой построить социализм с помощью непригодного инструмента, завещанного нам капитализмом, не меняя его сути. Так приходят к некоей гибридной системе, которая ведет в тупик. В него упираются после длительного пути, на котором дороги перекрещиваются много раз, и трудно почувствовать момент, когда сбиваешься с маршрута. Между тем полученная в наследство экономическая база уже осуществила подрывную акцию в сознании»[55], – писал он. Между тем Советский Союз был главным союзником Кубы. И он не хотел делать из нее врага. Фидель не был принципиальным противником Эрнесто, но он находился под давлением. Он был главой государства. Вернувшись из своего последнего официального турне по зарубежным странам, он имел с Эрнесто весьма долгий разговор. Эрнесто объявил ему о своем желании отправиться делать революцию в другом месте.
В своей биографии «El Che Guevara» аргентинский автор Уго Гамбини написал, что Фидель попытался убедить Эрнесто остаться. Че ему ответил так: «Кубинская революция должна иметь союзника в Латинской Америке, чтобы была другая точка опоры и можно было закрепиться. Союзник, о котором я говорю, может найтись только путем совершения революции где-то в другом месте, и для этого нужно иметь во главе человека с большим опытом партизанской войны и с авторитетом, необходимым для руководства политическим движением. Такой лидер – я. Ты не можешь сделать революцию в другом месте, потому что ты должен продолжать руководить здесь. Я могу, и я сделаю это, черт побери!»
Оставалось определить, в какой стране Латинской Америки произойдет следующая революция. Очаг восстания, начатого Хорхе Масетти в аргентинской провинции Сальта, который должен был стать отправной точкой для более широкого движения, затух. Масетти ушел в партизаны в сентябре 1963 года. Семь месяцев спустя он пропал без вести. И никто никогда его больше не видел.
Совсем не обязательно верить в нелепые слухи, но моя мать провела свои последние недели в постоянной тревоге. Она задавалась вопросом, а не был ли Эрнесто просто рассержен на нее. Может быть, виной всему было письмо, которое она написала ему 14 апреля 1965 года, где она адресовала ему горькие упреки и которое она доверила Рикардо Рохо, соотечественнику, которого Эрнесто знал очень давно? В то время дипломатические отношения между Кубой и Аргентиной были испорчены. И мы доверяли нашу переписку надежным людям. Рохо должен был доставить письмо посреднику из Кубы, но его поездку отменили в последнюю минуту, и послание осталось в Буэнос-Айресе. Поэтому Эрнесто и был не в курсе. Это письмо вернули семье гораздо позже, уже после смерти моей матери.
В начале мая я отвез мать к моей бабушке в Портелу, полагая, что это принесет ей облегчение. Через несколько дней ее состояние внезапно ухудшилось. Она страшно мучилась. И я привез ее обратно в Буэнос-Айрес, где ее тут же госпитализировали. Она думала только об одном: увидеть Эрнесто или, по крайней мере, поговорить с ним.
После нескольких попыток ей наконец-то удалось дозвониться до Алейды Марч. Моя сноха попыталась успокоить ее, сказав, что не стоит волноваться: Эрнесто нет в Гаване, она не может узнать, где он, но все хорошо, он работает. Подобное загадочное объяснение не утешило мою мать. Она умерла совсем измученной, все время спрашивая себя, где Эрнесто и почему от него ничего не слышно.
На похоронах ее гроб был покрыт аргентинским и кубинским флагами, а также знаменем Movimiento de Liberación Nacional (Национально-освободительного движения).
* * *
Тайна исчезновения Че так и осталась неразгаданной, в том числе и на Кубе. Никто не видел его с момента последней поездки, которая привела его в Нью-Йорк, а затем в Мали, Гану, Алжир, Дагомею[56], Гвинею, Конго и Танзанию. Кубинцы были особенно удивлены его отсутствием на похоронах Анибала Эскаланте, важного члена правительства. Тогда мир не знал, что Че послал Фиделю прошение об отставке и одновременно прощальное письмо, и произошло это во время его последнего тайного приезда на Кубу. Это письмо я воспроизвожу здесь, а Líder Máximo (вождь нации) публично зачитал его 3 октября 1965 года:
«Фидель!
Сейчас я вспоминаю о многих вещах: о том, как мы познакомились в доме Марии Антонии, о том, как ты предложил мне идти с вами, как рассказывал о трудностях приготовлений.
Однажды нас спросили, кого нужно известить в случае смерти и какова реальная возможность всем нам погибнуть. Тогда нам представлялось само собой разумеющимся, что в революции (если она настоящая) либо выходишь победителем, либо мертвецом. На пути к победе много товарищей покинуло нас.
Сегодня для меня все это уже не так трагично, потому что сейчас мы уже стали взрослее, но события повторяются. Чувствую, что я исполнил часть своего долга, связавшего меня с кубинской революцией на ее территории, и я прощаюсь с тобой, с товарищами, с твоим народом, ставшим и моим тоже.
Я формально отрекся от моих должностей в правлении партии, от своего министерского кресла, от своего чина командующего, от своей кубинской сущности. С Кубой меня связывают не рамки закона, это узы иного рода – они не могут быть разорваны, как должностные.
Оглядываясь на прожитые годы, я думаю, что потрудился достаточно добросовестно и самоотверженно, чтобы закрепить победу революции. Моей единственной ошибкой было то, что я не сразу поверил в тебя, с самых первых минут в Сьерра-Маэстре, что недооценил твои качества революционера и предводителя. Я прожил великолепное время, а когда ты был рядом, чувствовал гордость за принадлежность к твоему народу в те яркие и одновременно печальные дни Карибского кризиса[57]. Редко так высоко блистал государственный деятель, как в те дни, и я также преисполнялся гордостью, когда следовал за тобой без колебаний, отождествлял себя с твоей манерой думать, видеть, определять опасности и принципы.
Другие страны мира настойчиво зовут на помощь. И я могу сделать то, что тебе не позволит твоя ответственность перед Кубой, а посему пришел час нашей разлуки.
Знай, что я поступаю так и с радостью, и с болью: здесь я оставляю самые истинные из всех моих надежд созидателя и самое вожделенное из всех моих человеческих желаний… Оставляю народ, принявший меня как своего сына; и это ранит мою душу. На новые поля сражений я несу с собой веру, которую ты внушил мне, революционный дух моего народа, ощущение исполнения самых святых обязанностей, связанных с борьбой против империализма, где бы то ни было. Это укрепляет дух и залечивает любые раны сердца.
Повторяю еще раз: я освобождаю Кубу от любой ответственности, кроме как служить примером. И если решающий час настигнет меня под другими облаками и другим небом, моей последней мыслью будет мысль о народе Кубы и о тебе. Я благодарен тебе за твои уроки и твой пример, которому постараюсь быть верным до последнего вздоха. Я всегда отождествляю себя с нашей революцией, и так будет и впредь. Где бы я ни оказался, я буду чувствовать ответственность кубинского революционера и буду действовать как таковой. Я не оставил своим детям и жене ничего материального, но я не печалюсь: не прошу ничего для них, так как государство даст им достаточно и для жизни, и для обучения.
Хотел бы многое еще рассказать тебе и нашему народу, но чувствую, что это не нужно; слова не могут выразить то, что бы я пожелал, потому и не стоит исписывать листы чистой бумаги.
До победы, всегда! Родина или смерть!
Обнимаю тебя со всем революционным пылом».
Таким образом, вместо рубки сахарного тростника Че готовился к бою и планировал следующий этап своей жизни. Для моих родителей он написал следующее прощальное письмо 1 апреля 1965 года:
«Дорогие старики: я вновь чувствую под своими пятками зуд странствующего рыцаря; и я вновь пускаюсь в путь со щитом в руках. Около десяти лет тому назад я написал вам другое прощальное письмо. Насколько помню, тогда я сожалел, что не являюсь лучшим солдатом и лучшим врачом; второе меня уже не интересует, но солдат из меня получился не такой уж и плохой. В основном ничего не изменилось с тех пор, если не считать того, что я стал значительно более сознательным, мой марксизм укоренился во мне и очистился. Я верю, что вооруженная борьба – единственный выход для народов, борющихся за свое освобождение, и я последователен в своих взглядах. Многие назовут меня авантюристом, и это так, только я авантюрист особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою правоту.
Возможно, это письмо окажется последним. Я не ищу смерти, но она возможна, если логически рассчитать вероятности. И если так случится, пусть это письмо будет моим последним объятием: я любил вас крепко, только не умел выразить свою любовь. Я слишком прямолинеен в своих действиях и думаю, что иногда вы меня не понимали. Меня нелегко было понять, но на этот раз – верьте мне. Итак, решимость, которую я совершенствовал со страстью артиста, заставит действовать хилые ноги и уставшие легкие. Я добьюсь своего. Вспоминайте иногда вашего скромного кондотьера XX века. Поцелуйте Селию, Роберто, Анну-Марию, Пототина, Беатрис, всех. Крепко обнимает вас ваш блудный и неисправимый сын».
Задержанное в Гаване, это сентиментальное письмо так и не пришло к месту назначения до смерти моей матери. Эрнесто узнал страшную новость в Конго, 20 мая, и в ее честь он написал прекрасный рассказ «Камень», короткий отрывок из которого я воспроизвожу тут:
«Он мне сказал это [про смерть моей матери] так, как должны говорить об этом людям сильным и ответственным, и я благодарен за это […] Что я знаю. По правде, ничего. Знаю только, что у меня есть физическая необходимость видеть свою мать, и я кладу голову на ее худые колени, и она мне говорит: «мой старичок», с нежностью скупой, но абсолютной, и чувствовать на плече ее неловкую руку, гладившую меня, точно марионетку, как если бы нежность исходила у нее из очей и голоса, потому что веревки не позволяли приблизиться. И руки содрогались и продвигались ощупью, больше чем ласкали, но нежность проступала из пор и разливалась повсюду, и от этого я чувствовал себя так хорошо, таким маленьким и таким сильным. Не нужно просить у нее прощения; она все понимает, и это становится ясно, когда слышишь ее «мой старичок».
Че прилетел в Африку в конце апреля – начале мая 1965 года [58] под именем Рамон Бенитес. Он прибыл в Конго-Киншасу через три недели [59] с двенадцатью кубинскими товарищами – сотня других присоединится к нему позже – с целью оказания помощи повстанческому движению Симба во главе с Лораном-Дезире Кабилой. Конго было охвачено гражданской войной с момента обретения независимости. В стране царил ужасный хаос. Оружие прибыло поврежденным; точной информации не хватало; люди потратили часть революционных денег на проституток и теперь страдали от венерических заболеваний; повсюду главенствовал скрытый алкоголизм; логистика практически отсутствовала. Такому ультрадисциплинированному бойцу, как мой брат, терпеть подобное разложение было крайне трудно. Что же касается Лорана-Дезире Кабилы, одного из революционных вождей, то он сначала впечатлил, а потом разочаровал Эрнесто. Ему явно не хватало серьезности, и он никогда не находился там, где его ждали. Он был дилетантом. Разочаровавшись, Эрнесто покинул Конго в ноябре с чувством, что не совершил ничего конкретного, да плюс еще его здоровье оказалось ослаблено местным климатом. Он потерял почти двадцать килограммов. Полагая, что нельзя возвращаться на Кубу в настоящее время, когда Фидель уже публично зачитал его прощальное письмо, он провел следующие шесть месяцев под чужим именем в Дар-эс-Саламе, что в Танзании, куда отправилась и Алейда (также под другим именем), а затем – в Праге, где он вошел в контакт с Таней Бунке, аргентинской революционеркой немецкого [60] происхождения, базировавшейся в Ла-Пасе, в Боливии. «Я никогда не чувствовал себя таким одиноким на моем пути», – записал он тогда в своем дневнике.
В Буэнос-Айресе мы все еще жили без новостей и буквально умирали от волнения. Позже мы узнали, что Фидель убедил его вернуться инкогнито в Гавану. Дальнейшая история известна. Он вернулся на Кубу под именем Рамона Бенитеса, через Швейцарию и, вероятно, через Париж (некоторые потом рассказывали, что видели, как он гуляет рядом с Сорбонной в своем знаменитом берете, совершенно не заботясь о том, что его узнают), Германию и Москву, где, чтобы запутать потенциальных шпионов, Эрнесто сбрил себе бороду, постригся и отрастил усы. Он прибыл неузнанным, выдавая себя за респектабельного коммивояжера. Переодевание оказалось настолько эффективным, что его дети Ильда (десяти лет), Алейда (шести лет), Камило (четырех лет), Селия (трех лет) и Эрнесто (одного года) не признали его, когда он нанес им последний визит перед отъездом в Южную Америку. Он представился другом их отца, и они поверили.
* * *
Когда я услышал страшную весть о смерти Эрнесто, я побежал к своему отцу на улицу Парагвай, держа газету в руке. Мы сразу же собрались у Селии. Только Анна-Мария отсутствовала: она жила в Тукумане, и у нее было пять маленьких детей. Зато присутствовала ее подруга Ольга. Мы вместе изучили все газетные фотографии. Никто не хотел верить, что это Эрнесто. Селия повторяла: «А ты, что ты по этому поводу думаешь? Это, конечно же, фотомонтаж». Мой отец думал точно так же. Это было ужасно. Я был убежден, что это он и что там нет никакой фальшивки. Ольга была согласна со мной, но не решалась это сказать. Она посмотрела на руки на фотографии и узнала их. У нас у всех были такие же руки. А еще у нас у всех была одинаковая походка, и она всегда отмечала это. Селия не могла смириться с тем, что Эрнесто умер. Эта мысль отдавалась в ней страшной болью. Мой отец повторял: «Я говорю вам, фотография – подделка, это не Эрнесто».
Один из нас должен был немедленно ехать в Боливию, чтобы там точно во всем убедиться. Мы долго спорили, чтобы определить, кто из нас сделает это. Отец и Селия были не в себе. Оставались только я или Роберто. И выбрали его, ибо ему было 35 лет, плюс он был адвокатом.
Поездка на опознание останков Че в Боливию не прошла для него без последствий. Это было не только чрезвычайно мучительно, фактически это было актом неповиновения. Аргентина тогда жила под военной диктатурой Хуана Карлоса Онганиа. Надо было проявить мужество, а Роберто не испытывал недостатка в нем.
* * *
Мой брат прилетел в Валлегранде на частном самолете утром 11 октября, то есть через два дня после смерти Эрнесто, и его сопровождали два репортера из журнала «Хенте». В Буэнос-Айресе шел сильный дождь, и видимость была нулевой. Большинство рейсов отменили из-за погодных условий. Но дело Роберто не могло ждать. Надо было срочно прибыть в Боливию и все разузнать. Действительно ли Эрнесто погиб?
Простая поездка быстро превратилась в целую эпопею. Самолет сначала приземлился в Сальте, где Роберто, водитель и двое журналистов были вынуждены провести ночь. Было уже 17 часов, и боливийские аэропорты прекратили работу в ночное время. В Сальте Роберто назвал свое имя работнику отеля, а тот поспешил предупредить прессу, в результате чего тут же появился рой репортеров. Известие о смерти самого разыскиваемого партизана в мире, конечно же, уже облетело мир.
Первые полосы всех газет показывали одно и то же: труп Че. Роберто смотрел на них, всматриваясь в каждую деталь разбитого тела, стараясь не признать своего брата. Журналисту, который поинтересовался его мнением, увидев его мысленную борьбу с фотографиями, он ответил: «Это действительно очень волнительно, и ничего пока не доказано. Когда я окажусь перед телом, я вам скажу свое мнение». Но он не мог видеть останки Эрнесто из-за препятствий, чинившихся боливийской армией.
Прибыв в Валлегранде на следующий день, Роберто попросил встречи с человеком, производившим захват, то есть с полковником Хоакином Сентено Анайя. Он отсутствовал. На улице продавец газет выкрикиваял: «Че был похоронен вчера на рассвете». Роберто не поверил. Как они могли посметь похоронить Че так быстро, не проинформировав его семью? Когда полковник вернулся, он подтвердил эту историю. Захоронение Че происходило в большой тайне, и никто, кроме высшего командования боливийской армии, согласно правилам, применявшимся ко всем партизанам, не знал о месте его погребения. Сентено Анайя также утверждал, что у него имеются доказательства относительно личности Эрнесто. Армия нашла при нем его дневник, отпечатки пальцев соответствовали и, что самое главное, Че сам признался перед смертью, что это он. Роберто потребовал эксгумации трупа на основании своего права родного брата. Полковник ответил, что не уполномочен принимать такие решения. Он посоветовал ему поехать в Ла-Пас, к генералу Альфредо Овандо Кандия. Роберто поехал в Ла-Пас и пошел там прямо к казармам. Овандо Кандия там не оказалось. Роберто постучал в дверь его частной резиденции. Он начинал уже думать, что боливийские военные руководители сознательно его избегают. «Генерал никогда не принимает официальные визиты дома», – сообщил лейтенант, открывший дверь. Роберто назвал свое имя и настаивал. Генерал появился и приветствовал его следующими словами: «Мне очень жаль. Я предпочел бы, чтобы такой герой, как ваш брат, живым выбрался из боливийских лесов». Роберто повторил свою просьбу об эксгумации трупа. И тогда генерал придумал такую историю: «Я разрешаю вам вернуться в Валлегранде, но вы точно прибудете слишком поздно. Не удивлюсь, если тело уже кремировали». Коммерческий рейс на Санта-Крус, ближайший к Валлегранде аэропорт, вылетал лишь на следующее утро. Поэтому Роберто провел ночь в отеле «Крийон». По случайному совпадению, ему дали тот же номер, который за несколько месяцев до этого занимали родители французского журналиста Режи Дебре[61], когда они прибыли, чтобы повидать сына в тюрьме. Дебре был задержан на выходе из лесов Ньянкауасу в сопровождении партизана Чиро Бустоса, дезертировавшего с согласия Че.
Роберто все меньше и меньше верил в смерть Эрнесто. Каждая версия, казалось, противоречила предыдущей. Боливийская армия тянула время, вынуждая его совершать бессмысленные поездки. Но почему? Можно было сломать себе голову, он ничего не понимал. Он также прочитал один доклад, в котором утверждалось, что состояние зубов «мертвого партизана» было идеальным, отсутствовал только один коренной зуб. Но это было не так. У нас в семье у всех были гнилые зубы. В тридцать шесть лет у Роберто уже стояли зубные протезы. А у Эрнесто зубы начали портиться с десяти лет. Так что все только еще больше запуталось.
Роберто не смог забронировать себе место на рейс в Санта-Крус. Все было против него. На рассвете он появился в аэропорту Ла-Паса. Сотрудники авиакомпании заявили, что первый самолет уже полон, потом они сказали, что это не так, но уже слишком поздно покупать билет. Какой бы ни была истинная причина, было совершенно невозможно лететь этим рейсом. Но когда Роберто пришла идея предложить заплатить почти тройную цену, места чудом освободились. Из Санта-Круса он сделал еще один перелет в Валлегранде. Взлетно-посадочная полоса охранялась двумя сотнями солдат. Выйдя из самолета, Роберто оказался лицом к лицу с полковником Сентено Анайя, который примчался на джипе. Полковник казался удивленным и раздраженным, увидев его. Он думал, что избавился раз и навсегда от этого другого Гевары. Но он не мог его проигнорировать, и он пригласил его в казарму, чтобы встретиться там с генералом Хуаном Хосе Торресом, который подтвердил ложь своего коллеги Овандо Кандия из Ла-Паса, что тело Че было кремировано утром. Генерал посоветовал Роберто вернуться в Аргентину.
Пяти партизанам удалось вырваться из ловушки, и они были еще живы, прячась где-то в окрестностях. Это были Гарри «Помбо» Вильегас Тамайо, Даниэль «Бениньо» Аларкон Рамирес, Леонардо «Урбано» Тамайо Нуньес, Давид «Дарио» Ардиасола и Гидо «Инти» Передо Лейге. Роберто теперь был убежден, что Эрнесто не мертв, что он пробрался сквозь расставленные сети вместе с ними. Ведь о его смерти объявляли так часто, а затем это опровергалось! И потом, боливийцы рассказали ему слишком много противоречивых историй. Он также решил, что нос Эрнесто на фотографии слишком тонкий, заостренный. А у Эрнесто был плоский нос.
Короче говоря, он покинул Боливию в неопределенности. Вместо того чтобы направиться прямо в Буэнос-Айрес, он решил поехать навестить мою сестру Анну-Марию в Тукумане. Она, очевидно, видела фотографии и не строила иллюзий.
Поездка в Боливию оказалась бесполезной. Роберто не узнал ничего нового по сравнению с тем, что он знал до отъезда. По возвращении семья собралась снова. Мы не знали, что и думать. По одной информации, Эрнесто погиб, по другой – нет. И тогда Фидель покончил с нашими сомнениями, позвонив нам на следующий день и подтвердив его смерть. Он хотел показать нам доказательства. И Роберто полетел в Гавану. Он был принят Фиделем, который сказал следующее: «Прости меня, но мы не можем отрицать очевидное. У нас есть все доказательства того, что это он». Один боливийский военный отправил дневник и руки Че на Кубу. Они были ампутированы, чтобы сохранить его отпечатки пальцев. Роберто буквально рухнул. На этот раз он вернулся в Буэнос-Айрес убежденным, что наш брат мертв. Новость потрясла моего отца. Нам сказали, что Эрнесто не пал в бою 8 октября, как это первоначально утверждали в боливийской армии, якобы он был убит 9-го числа (фотографии его пленения в школе Ла-Игеры будут опубликованы гораздо позже). Никто не верил в историю с кремацией. Это была сказка с целью предотвратить раскопки. Боливийская армия отказалась ждать прибытия федеральной полиции для опознания тела. Она даже послала куда подальше Мигеля Кремону, секретаря аргентинского посольства в Ла-Пасе.
Мы все пребывали в ужасном состоянии шока. Не обменявшись ни словом, мы приняли молчаливое решение: отныне мы будем говорить об Эрнесто только между собой. Селия и Роберто сдержали свое слово. До самой своей смерти Анна-Мария повторяла, что никогда не будет говорить о Че. Что же касается меня, то я объясню ниже причины того, что я, в конце концов, решил заговорить.
На Кубе о смерти Че Фидель заявил 15 октября. Были объявлены три дня национального траура. Через три дня на площади Революции Фидель произнес длинную памятную речь о своем погибшем друге. Это была трогательная дань его памяти, которая завершалась такими словами:
«Говоря о том, какими бы мы хотели видеть наших революционных бойцов, наших активистов, наших работников, мы не колеблясь заявляем: пусть они будут как Че! Говоря о том, каким бы нам хотелось видеть будущее поколение людей, мы должны заявить: пусть оно будет, как Че! Говоря о том, какими бы нам хотелось воспитать наших детей, мы твердо заявляем: мы хотим, чтобы они были воспитаны в духе Че! Если мы хотим представить себе образец человека не нашей эпохи, героя будущего, то положа руку на сердце скажу, что прототипом человека кристально чистого во всех своих поступках и поведении является Че! И от всего нашего пламенного сердца пламенных революционеров мы заявляем: мы хотим, чтобы наши сыновья были как Че!»
Мы наконец узнали правду о захоронении Эрнесто в конце 1995 года благодаря американскому журналисту Джону Ли Андерсону[62]. Ему пришла в голову мысль встретиться с боливийским генералом в отставке Марио Варгасом с бутылкой виски в руках. Выпивка помогла этому военному излить душу: он раскрыл правду. Андерсон узнал, что Че не был кремирован, его просто бросили в братскую могилу возле кладбища у аэродрома Валлегранде вместе с шестью его товарищами, арестованными вместе с ним: с Орландо Пантойя Тамайо, Аникето Рейнага Гордильо, Рене Мартинесом Тамайо, Альберто Фернандесом Монтес-де-Ока, Хуаном Пабло Чангом Наварро и Симеоном Куба Сарабиа. Только два свидетеля присутствовали на тайных ночных «похоронах»: водитель грузовика, ответственный за транспортировку тела, и тракторист, которому было поручено вырыть яму. Под угрозой смерти они поклялись сохранить все в тайне.
Боливийское правительство санкционировало эксгумацию через несколько дней после откровений генерала. Злые языки внезапно замолкли. Удивительное количество противоречивых доказательств стало достоянием общественности. Начались раскопки. Аргентинские и кубинские команды геологов и судебно-медицинских экспертов прибыли в Валлегранде, а перед ними шли сто десять солдат, которым было поручено следить за каждым их шагом. Раскопки длились более года. Останки семи тел были выкопаны 28 июня 1997 года. У одного из них были отрублены руки. Полковник, возглавлявший солдат, позвонил нам, чтобы сообщить об этом. Медики начали работу по идентификации всех останков, в том числе и останков Че.
На Кубе человеком, ответственным за ведение дела и проверку ДНК Эрнесто, был Рамиро Вальдес, бывший его товарищ по «Гранме» и Сьерра-Маэстре. Он позвонил нам и спросил, что бы мы хотели сделать с останками Эрнесто. Это был строго риторический вопрос, чтобы показать, что наше мнение имеет значение. К сожалению, не существовало никакого способа перевезти останки Эрнесто в Аргентину. Это не имело смысла. Страна не была готова принять его так, как он того заслуживал. Его тело было передано в Гавану 12 июля 1997 года, потом – в Санта-Клару, на место его победы, где он и был официально похоронен в присутствии членов семьи: его четырех живых детей (Ильда Беатрис умерла двумя годами ранее), Алейды Марч, его жены, Роберто, Селии, моих сводных братьев Гевара Эрра и меня.
* * *
К боли от смерти моего брата у меня добавилась боль от провала революции. Некоторые говорили о кампании в лесах Ньянкауасу как о самоубийственной миссии. По их словам, Че был нигилистом, и он произнес такую фразу: «Я здесь сейчас, и меня вынесут отсюда только вперед ногами». Они были не правы. Боливия не была самоцелью. Она должна была стать отправной точкой, трамплином к новой революции, которая должна была распространиться на всю Латинскую Америку, чтобы освободить братские народы от империализма янки. Ее географическое положение сделало из нее стратегический регион «для распространения революции на соседние страны», – говорил он (Боливия имеет пять границ: с Чили, Аргентиной, Перу, Бразилией и Парагваем).
Ничего в дневнике Эрнесто не позволяло думать, что он сознательно бросился в волчью пасть. Он продолжал надеяться на победу до конца. Некоторые, в том числе и я, как уже говорилось, думали, что КГБ сотрудничал с ЦРУ, чтобы захватить его. Советский Союз не любил революционеров. Также говорили, что боливийские шахтеры не пришли к нему на помощь и что коммунистическая партия Боливии бросила его. Конечно, ее генеральный секретарь Марио Монхе хотел порвать с Че, несмотря на свои первоначальные обещания помощи. Когда он пошел к нему в леса и потребовал руководства ejercito de liberación nacional de Bolivia (ELN; Боливийская армия национального освобождения) под предлогом того, что Че иностранец, а ELN необходим боливиец во главе, он знал, что Че никогда с этим не согласится. Монхе не имел никакого опыта партизанской войны. Для того чтобы позволить себе предать Че, не выглядя изменником делу коммунизма, нужно было найти оправдание, и Монхе его нашел. Гидо «Инти» Передо, один из товарищей Че, позже объяснил, что предательство коммунистической партии отрезало повстанцев от городов и возможной материально-технической помощи, необходимой для выживания движения.
Че прибыл в Боливию, чтобы создать там повстанческий очаг, развивая то, что уже назревало. Вся Латинская Америка была в смятении в то время, и во многих странах имел место активный протест. Эрнесто, мы это знаем, испытывал особую привязанность к Боливии из-за нашей горничной Сабины Португаль. Он посетил эту страну в первый раз в 1953 году, в самый революционный период, во время правления Виктора Пас Эстенссоро. Он писал нам длинные письма, описывающие то, что он увидел: сборища людей на улицах и принятие прогрессивных мер вроде национализации или земельной реформы. Он верил в способность боливийцев к восстанию.
Можно предположить, что Эрнесто переоценил поддержку крестьян. Большинство из них были бедны, и они были местными. Они говорили на языке аймара или кечуа, а не на испанском, на котором там едва могли изъясняться. У них был один идол, Pachamama (Мать-Земля Кормилица), и они жили словно в другом измерении. Отрезанные от остального мира, они не имели шансов оценить революцию. Все испанское им было чуждо, и они относились к этому с подозрением. Они, скорее всего, даже не слышали о Че Геваре, чья слава просто не достигла их земель. В таком контексте было очень трудно сделать их своими союзниками.
К тому же именно крестьянин предупредил армию о присутствии партизан в Кебрада-дель-Юро. Тем не менее повстанцы относились к campesinos (крестьянам) с уважением и любовью. Эрнесто лечил их больных детей, учил их читать и писать. Он строил передвижные школы и назначал своих самых образованных бойцов, которые ежедневно от 16 до 18 часов преподавали грамматику, арифметику, историю и географию. Сам Эрнесто участвовал в обучении и давал дополнительные уроки французского языка для заинтересованных. Его лекции по политической экономии были обязательными. После победы, говорил он, нужны будут образованные люди, чтобы удержать власть. Он повторял, что партизанская борьба не может быть «просто стрельбой»: она должна опираться на общую культуру.
Че выпустил на свободу пленных из боливийской армии после того, как перевязал им раны. Мой брат был великим гуманистом. «Рискуя показаться смешным, – сказал он однажды, – я утверждаю, что истинный революционер, в первую очередь, должен руководствоваться великими чувствами любви. Невозможно думать о подлинном революционере без этих качеств […] Нужны большие дозы гуманизма, справедливости и правды, чтобы не впасть в догматизм, в холодную схоластику, в изоляцию от масс»[63]. Перед отъездом он дал Алейде список книг, которые хотел бы взять с собой. Там были произведения Софокла, Демосфена, Геродота, Платона, Плутарха, Еврипида, Аристофана, Аристотеля, Данте, Расина, Гёте, Шекспира и Пиндара.
Кампания в лесах Ньянкауасу длилась одиннадцать месяцев. Сорок пять изнурительных недель в постоянном движении. Эрнесто страдал от приступов астмы, становившихся все более и более частыми, что ослабляло его, хоть он никому и не позволял из-за этого замедлять ход. Он никогда не разрешал другим относиться к себе с бо́льшим вниманием или давать больше пищи, чем другим.
* * *
Он прибыл в Ла-Пас в величайшей тайне в начале ноября 1966 года, в своем пресловутом облике коммивояжера. 27-го числа боливийский революционер Гидо «Инти» Передо впервые увидел его в лесах, и он потом описал эту их первую встречу в своей книге «Mi campaña con el Che» (Наша с Че война): «Че сидел на стволе дерева. Он курил, наслаждаясь ароматом табака. Он был в своем берете. Когда мы приехали, его глаза заблестели от радости. Самый разыскиваемый империалистами человек, легендарный партизан, стратег и теоретик международного масштаба, знамя борьбы и надежды, спокойно сидел в самом центре одной из наиболее эксплуатируемых и угнетенных стран континента […] Его приезд в Боливию был одной из самых захватывающих тайн истории»[64].
Первые столкновения с боливийской армией произошли не по воле повстанцев. Они были вынуждены вступить в бой после того, как их обнаружили. У повстанцев было всего около пятидесяти человек. Но, выиграв в первые месяцы 1967 года несколько сражений, они ввели в заблуждение боливийскую армию, которая подумала, что их гораздо больше, чем было на самом деле. В ответ армия усилилась и привлекла новые средства для борьбы с ними. Встревоженное ЦРУ обосновалось во дворце президента-марионетки Рене Барриентоса и отдало приказ соседним странам закрыть свои границы для повстанцев и сделать так, чтобы к ним не могла подойти никакая помощь.
К концу сентября ELN сократилась до группы из семнадцати изнуренных человек, измученных голодом и жаждой, ослабленных дефицитом белка. Утром 8 октября в Кебрада-дель-Юро было очень холодно. Зная, что его окружили, Че послал три группы по два человека, чтобы определить местонахождение позиций боливийской армии. Таким образом, некоторые из его людей избежали засады.
* * *
Я не могу вдаваться в анализ провала кампании в Ньянкауасу. Но в одном я уверен – она закончилась разгромом. Я не в состоянии определить причины, они мне неизвестны. Каждый ищет их в своих собственных убеждениях. Некоторые утверждают, что это было предательство Фиделя Кастро, другие – что шахтеры не поддержали Че, или что он зря поверил крестьянам, или что захваченные в плен бойцы и дезертиры развязали языки. Это доказанный факт, что схваченный партизан Чиро Бустос признался, что помог составить фоторобот «Рамона Бенитеса» во время допроса и что этот портрет наконец убедил военных, что Рамон – это действительно Че, о чем они подозревали в течение нескольких месяцев и в чем пытались удостовериться. Самый важный урок заключается в том, что имело место поражение континентального революционного проекта Че. Для меня поражение в Боливии является слишком сложной головоломкой, чтобы можно было ее решить.
Есть еще одна уверенность – там было пять выживших, названных выше. Несмотря на массовое присутствие армии, Гидо «Инти» Передо оказался одним из тех, кто сумел выйти из лесов и нашел убежище в Кочабамбе. Из своего укрытия Инти связался с неким представителем боливийской компартии. И что ему сказал этот тип? Что он не должен ни при каких обстоятельствах раскрыть свое присутствие в Кочабамбе лидеру компартии, ибо тот выдаст его. Инти оставался в бегах в течение нескольких недель. Он был убит в 1969 году силами безопасности. Так был ли он на самом деле предан кем-то из своих?
Восемь лет, три месяца и двадцать три дня
Я спокойно шел по улице Кордовы, когда меня в первый раз задержали люди в униформе. Это произошло 3 мая 1974 года. Я только что вернулся из Гаваны, куда отвозил свою жену Марию-Элену и наших троих детей. Я опасался за их безопасность в Аргентине. Политический климат там становился все тревожней, и он угрожал активистам, каковыми мы являлись, не говоря уже о моих родственных отношениях с Че. Мы уже вступили в один из тех проклятых периодов, когда носить фамилию Гевара стало нелегко. Несмотря на опасность, я осмелился вернуться в страну, решив продолжать свою политическую и боевую деятельность. В прошлом году я подтолкнул отца к эмиграции на Кубу. А теперь, будучи уверенным, что моя семья в безопасности, я мог работать более активно.
Я активно продвигал идеи Partido revolucionario de los trabajadores (PRT; Революционная партия трудящихся), крупной политической и профсоюзной организации, объединявшей несколько движений. Я принадлежал к Frente anti-imperialista por el Socialismo (Антиимпериалистическому фронту за социализм). Хуан Перон очень ослаб физически, но он по-прежнему продолжал править. Своим возвращением из изгнания он был обязан соглашению с военным правительством Алехандро Агустина Лануссе, который позволил ему вернуться домой, чтобы блокировать рост популярности революционеров. Но дни Перона уже были сочтены. Ему было семьдесят девять лет, и он страдал от болезни сердца. Он умер 1 июля 1974 года, и его заменила на посту главы государства его третья жена Исабель[65], бывшая танцовщица из кабаре, которая училась в школе всего пять лет, но при этом до того занимала завидный пост вице-президента. Она была неспособна править в одиночку, и ей помогал или, точнее, над ней полностью доминировал некий злостный тип, полицейский высокого полета, погруженный в эзотерику. Это был Хосе Лопес Рега по прозвищу «el Brujo» (Колдун). Лопес Рега уже в течение многих лет плел интриги, чтобы приблизиться к Исабель. Он потратил немало энергии для укрепления их дружбы. И его усилия окупились: он был приглашен сопровождать пару Перонов в их испанском изгнании в качестве личного секретаря. После смерти генерала он, естественно, взял на себя роль консультанта Исабель. И с тех пор вдова не принимала никаких решений, не посоветовавшись с ним. Кроме того, влияние Лопеса Рега усилилось. Он воспользовался своей властью, чтобы основать эскадрон смерти «Антикоммунистического альянса Аргентины», более известного под названием «Тройное А» или «ААА» и имевшего цель «искоренить проникновение марксизма в перонизм». В альянс, помимо всего прочего, входили движение «Монтонерос», организации «Fuerzas armadas revolucionarias» (FAR; Революционные вооруженные силы) и «Ejercito revolucionario del pueblo» (ERP; Народная революционная армия). Моя страна вновь двинулась к очередной эпохе репрессий, известной сегодня под названиями «грязная война» и «свинцовые годы». Должно быть понятно, что политический контекст того времени был чрезвычайно сложным. И если бы я не попытался объяснить это, было бы невозможно понять причины двух моих задержаний и постепенного изгнания всех членов семьи Гевара на Кубу.
В целом перонизм представлял собой популярное профсоюзное движение. «Ни янки, ни марксисты. Перонисты!» – выкрикивали его сторонники. Он был больше, чем партия, он был движением, позволявшим каждому найти то, что он искал. Хуан Перон был кумиром масс, его разрывали на части сторонники всех мастей. Независимо от того, правыми они были или левыми, они изо всех сил боролись за существование и без его благословения, в том числе и особенно во время его изгнания. Перонизм также породил две противоположные тенденции: левое движение, представленное юными «монтонерос», «Juventud Peronista» (JP; «Перонистская молодежь») и «ВКТ аргентинцев»[66] под руководством Агустина Тоско, и правое «ортодоксальное» движение, представленное могущественным профсоюзом «CGT»[67]. Обе тенденции были призваны воплощать подлинный перонизм, и они боролись за любовь своего лидера. Но всякий раз, когда перонизм получал возможность повернуть влево, Перон на корню убивал подобную инициативу. Когда Эктор Хосе Кампора по прозвищу «el Tío» («Дядя») был избран президентом в марте 1973 года, Перон вынудил его уйти в отставку через два месяца после инаугурации, хотя он сам и назвал его кандидатом-перонистом[68]. «Дядя» совершил три непростительные ошибки: провел амнистию для членов революционных организаций, восстановил дипломатические отношения с Кубой и назначил молодых социалистов на важные правительственные посты. Другими словами, он поддержал левацкие элементы.
Перонисты стали скандировать: «Кампору – в правительство, Перона – к власти!» Отставка Кампоры 13 июля (он послушался, не моргнув глазом) позволила генералу организовать новые выборы и победить на них. Он пришел к власти 12 октября и назначил вице-президентом Исабель. Процесс «ухода вправо» получил надежную базу.
* * *
Некоторые перонисты пытались дистанцироваться от трагических событий, потрясших нашу страну, будь то военные перевороты 1955 года или 1976 года, решив переложить вину на других. Тем не менее часть ответственности за эти трагедии принадлежит именно им. Когда Перон отправился в изгнание через три месяца после бомбардировки на Пласа-де-Майо 16 июня 1955 года, он нашел тысячу оправданий, почему он покидает корабль. Он был принципиально против подлинного процесса социальных изменений. В частности, он не доверял молодежи, входившей в движение «Монтонерос». В результате, заигрывая с обеими тенденциями и культивируя двусмысленность, он кончил тем, что выложил все свои карты по возвращении из изгнания: да, он презирал левое крыло движения.
Окончательный разрыв с «Монтонерос» был потоплен в крови 20 июня 1973 года, в день возвращения из Испании. Для помпезной встречи Перона его верные сторонники с обеих сторон планировали собраться на перекрестке дороги, ведущей из Буэнос-Айреса до международного аэропорта Эсейса (позднее их число оценивали в три с половиной миллиона человек). Некоторые сторонники пришли вооруженными, настолько была сильна взаимная неприязнь представителей двух лагерей. Они не смогли договориться о своих местах на дороге, по которой генерал должен был ехать до Буэнос-Айреса после восемнадцати лет изгнания. Не посоветовавшись с «монтонерос», «ортодоксы» в спешке установили сцену. Они заняли высоту. Когда леворадикальные «монтонерос» приблизились к ней, снайперы открыли по ним огонь, тринадцать человек были убиты и триста шестьдесят пять человек получили ранения. Далекий от осуждения убийц, Перон сказал: «Родину создают не криком. Мы, перонисты, должны снова взять на себя руководство нашим движением, нейтрализовать вредителей, желающих развалить его снизу и сверху». Избиение положило начало реальным боевым действиям. «Монтонерос» были преданы их кумиром, и вся аргентинская молодежь вместе с ними.
Таким образом, Исабель унаследовала режим, благоприятный для революционных действий. Некоторые предположили, что Перон был околдован Лопесом Рега[69]. Нет ничего более ложного. Это выдумка, имеющая целью скрыть тот факт, что Перон был глубоко реакционным человеком, продавшимся империалистам. Он был националистом-капиталистом правого толка плюс популистом, который ни в коем случае не был сторонником марксизма, коммунизма, социализма или революции. Ближе к концу жизни именно эта тенденция диктовала его действия. Он сблизился с военными и срежиссировал временную власть своей жены, дав военным время, чтобы подготовиться к перевороту 24 марта 1976 года.
Под влиянием Лопеса Рега Исабель усилила репрессии. В дополнение к своим эзотерическим практикам и антикоммунизму, «Колдун» выполнял приказы, направленные на то, чтобы избавить перонизм от левых и уничтожить саму возможность народного и революционного движения. Преследуемые «Тройным А», безнаказанно убивавшим его членов, «монтонерос» постепенно превратились в вооруженную группу. Восстание загрохотало. Были сформированы и другие фракции. Атаки умножались. Одной из целей «Тройного А» была партия PRT. Перед лицом такого поворота событий наши собрания вращались вокруг главного вопроса: должны ли мы взяться за оружие, и если да, то какое для этого самое подходящее время? Мы разделились. А на всем континенте шло вооруженное противостояние с революционными движениями – в Уругвае, Боливии, Чили, Венесуэле, Колумбии и Бразилии. Их идеалом была Куба, колыбель победоносной борьбы, флагман всей Америки. Остров представлял собой надежду на реальное изменение общества.
В Аргентине конфликт между левыми и правыми с каждым днем усугублялся. Мы наблюдали массовую мобилизацию рабочих и профсоюзов. Пролетарские массы, трудящиеся и студенты группировались в организации. Им противостоял альянс экономических групп, аргентинских секретных служб и даже вооруженных сил, а также правых политических и профсоюзных организаций. Главным врагом были левые, а конечной целью – их исчезновение. И наши товарищи стали пропадать во все более и более тревожных количествах во всевозможных тайных центрах содержания, которые возникали по всей стране и где практиковались пытки. Они исчезли бесследно, а иногда потом появлялись их изуродованные трупы. В Кордове ситуация была страшнее, чем в остальной части страны. После военного переворота генерала Хуана Карлоса Онганиа в 1966 году и после принятия его антикоммунистического репрессивного закона город стал столицей сопротивления в Аргентине. Уже хорошо зарекомендовавшие себя традиции протеста вызвали появление эскадрона смерти Лопеса Рега. Повстанческое движение тоже получило свое название: Cordobazo. Оно объединило студентов, рабочих и членов профсоюзов в бесконечную череду бунтов, протестов и нападений, а потом был организован первый большой мятеж в мае 1969 года. Из своего изгнания Перон объявил Кордову «очагом заразы».
Именно в Кордове появилось на свет «Тройное А» и произошел фатальный разрыв с официальной законностью в правоохранительных органах. Я прибыл туда за несколько месяцев до ареста, незадолго до регионального переворота 28 февраля 1974 года. В тот день полковник армии и шеф полиции Антонио Доминго Наварро штурмом взял дворец правительства и арестовал губернатора Рикардо Обрегона Кано и вице-губернатора Атилио Лопеса как левых перонистов. Также были арестованы двенадцать их сотрудников. При этом Обрегон Кано и его напарник набрали более 50 % голосов на предыдущих выборах. Какая разница: они были брошены в тюрьму. Не было никаких сомнений в том, что приказ пришел с самого высокого государственного уровня. Более того, то же самое произошло в провинции Буэнос-Айрес месяцем ранее. Губернатор Оскар Рауль Бидеген был уволен со своего поста правыми перонистами, не доверявшими молодым прогрессистам его правительства.
* * *
Именно на фоне такой вот ядовитой и взрывоопасной атмосферы я и был арестован 3 мая 1974 года. Два типа в униформе, которых я не видел, внезапно возникли передо мной на улице. Каждый из них схватил меня за руку. Когда я попытался сопротивляться, они ткнули в меня ствол пистолета.
Они заставили меня сесть в полицейский фургон. Мы, как ураган, полетели в префектуру. По пути они объяснили мне, что моя квартира подверглась обыску в то время, как я находился на заводе. Они нашли там документы PRT и «компрометирующие» книги. Я был рабочим, активным членом PRT, и меня звали Гевара. Хоть у меня и имелись фальшивые документы, чтобы избежать риска, связанного с этим именем, меня выследили. Но я не был уверен, знают ли они точно, кто я такой. Ведь я мог быть арестован просто за факт принадлежности к PRT.
Мои товарищи по партии не знали, кто я. Для них я был не чьим-то братом, а просто Хуаном Мартином. Я не кричал на каждом углу про свои родственные отношения с Че: это было слишком опасно не только для меня, но и для моих друзей, и для PRT тоже. Это сегодня я хочу распространять идеи Че. А вот в то время – нет. Плюс у нас имелось немало сомнений по поводу возможного проникновения в партию людей из «Тройного А». Следовало остерегаться всего. Несколько вооруженных групп, которые затем объединились, уже свирепствовали в Кордове.
* * *
Я пробыл в тюрьме Сан-Мартин три месяца и восемнадцать дней. На свой страх и риск, едва узнав об аресте, мой брат Роберто стал моим адвокатом. Он сразу же примчался в Кордову и защищал меня изо всех сил. Меня избивали, оскорбляли и допрашивали, но все же не пытали. Меня обвинили в «подделке официальных документов», это оказалось единственным из того, что им удалось мне инкриминировать. Из этого я сделал вывод, что они знали, кто я такой. Они выпустили меня на свободу с условным сроком. Однако теперь я был взят на карандаш. А вот мои товарищи, которых арестовали в тот же день, что и меня, остались в тюрьме. Позже я узнал, что многих из них расстреляли или замучили до смерти. Никогда не узнаешь, почему один заключенный был освобожден, а другой – расстрелян.
После переворота 24 марта 1976 года не было ни освобождений, ни посадок: смерть стала самым распространенным наказанием, как, например, это случилось с Хосе Рене Мукарзелем, которого вытолкнули голым во внутренний двор тюрьмы в собачий холод, а потом несколько раз облили ледяной водой – и все это лишь за то, что он получил пакетик соли от обычного заключенного.
Я думал, что смогу избежать репрессий после освобождения, в августе перебравшись в Росарио, столицу провинции Санта-Фе. Там все казалось более спокойным, менее взрывоопасным, чем в Кордове. Я нашел работу на фабрике yerbatera (листьев мате). Именно там я встретил Вивиану Бегуан по прозвищу Ла-Негра, мать моей дочери Долорес. Вивиана, как и я, была активистом PRT. Мы начали вести борьбу вместе. Мы присутствовали на заседаниях, ходили в университеты, чтобы попытаться объединить движение до военного переворота, который явно назревал. Мы действительно были убеждены в том, что вооруженные силы будут силой захватывать власть. Они это делали каждый раз в периоды нестабильности в Аргентине, и в нашей истории у нас было так много переворотов! В PRT главные дискуссии шли вокруг стратегии. Руководство партии больше склонялось в сторону вооруженной борьбы, но некоторые были против этого, считая, что это может ускорить переворот, а не предотвратить его. В конце концов, мы потонули в сомнениях: мы не были уверены ни в возможности предотвратить его, ни в выборе момента для начала действий. Смерть Перона еще более все усложнила. А Исабель начала провозглашать меры все более и более репрессивного характера, что ограничивало нам возможности для маневра.
В конце сентября 1975 года Сенат под председательством Итало Лудера санкционировал массовые репрессии, приняв Закон № 20840 о национальной безопасности, названный антикоммунистическим и антиподрывным. Его четырнадцать статей позволили правительству арестовывать людей под любым надуманным предлогом только за то, что у них находили подрывные материалы – листовки, газеты, книги и т. д.; называть криминальной деятельность профсоюзов и рабочих движений; запрещать публикацию некоторых газет и заключать в тюрьму любого, подозреваемого в пропаганде. В то же самое время федеральное правительство отправило в Кордову фашиста-перониста, бригадира Рауля Оскара Лакабанна, чтобы он организовал там «идеологическую чистку».
Через год после переворота лидер военной хунты и диктатор Рафаэль Видела, не колеблясь, заявил: «В случае необходимости, в Аргентине не станет всех тех, кто выступает против достижения мира в стране». По его приказу военная группа GT4 начала специализироваться на охоте за сторонниками Гевары и Кастро. К счастью для меня, если можно так выразиться, я уже находился в тюрьме, когда репрессии стали системой.
* * *
Мое второе лишение свободы произошло в ночь на 5 марта 1975 года в Росарио. Мы с Вивианой спали у друзей, на улице Тукуман, когда четыре типа в штатском, вооруженные до зубов, разбудили нас, приставив каждому пистолет к голове. Они взломали дверь. Вивиану оттолкнули в угол, угрожая автоматами «Sten MKII». Мне они надели мешок на голову. Мы услышали выстрелы на улице. Я думал, что это конец, что они специально устроили инсценировку на улице, чтобы показать, что мы были вооружены и что мы сопротивлялись. Таков был их обычный принцип работы: создать предлог, чтобы уничтожить «подрывной элемент» без всяких проволочек. Но этого не произошло. Они заставили нас сесть в черный автомобиль, который резко тронулся под визг шин и повез нас в тайный центр заключения. Я ничего не видел, но я ощущал тишину пустых улиц. Люди из «Тройного А», как правило, действовали в ночное время.
Когда мы прибыли на место, они бросили меня в комнате под лестницей, в подвале, как мне показалось из-за запаха плесени. С мешком на голове я был дезориентирован, я просто знал, что нахожусь в руках тайной полиции. Нас с Вивианой разделили, и я не знал, куда ее отвели. Через несколько минут пришли какие-то люди и стали меня допрашивать. Я подвергался психологическим пыткам. Они угрожали, что убьют меня, что сломают меня, уничтожат меня. Они хотели знать имена моих товарищей и мои обязанности в рамках PRT. Я им ничего не сказал. Затем они прислали ко мне официального представителя федеральной полиции. И на его вопросы я ответил упорным молчанием. Я даже не попросил встречи с судьей. Молчание было лучшим из того, что я мог сделать, чтобы спасти свою шкуру. В течение нескольких дней они по очереди допрашивали меня, но безуспешно. Устав, они в конечном итоге передали меня судье для короткой встречи. Закон о национальной безопасности говорил о «подрывной деятельности во всех ее проявлениях». А вот определение того, что такое «подрывная деятельность», было таким расплывчатым, чтобы можно было легко арестовать любого, кто стоит в оппозиции к правительству Исабель Перон. После переворота и «Процесса национальной реорганизации», начатого военной хунтой, генералы называли таких людей, как я, аббревиатурой (они любили аббревиатуры) BDS (banda de delincuentes subversivos – банда преступников, занимающихся подрывной деятельностью), и это позволило им полностью игнорировать Женевскую конвенцию по содержанию политических заключенных: благодаря этому новому названию мы становились заключенными обычного права. В том же оруэлловском стиле они называли центры задержания и тайных пыток LRD (lugar de reunión de detenidos – место собрания задержанных).
Фарс, который имел место вместо суда, длился полчаса и был совершенно неформальным. На абсурдные обвинения, выдвинутые против меня, я просто отвечал, что я – член организации, которая боролась против несправедливости. Все, точка. Чао. Судья спросил меня, согласен ли я с обвинениями. Я ответил отрицательно. «Тем не менее в вашей квартире нашли…» – настаивал он. Я ответил: «Это не моя квартира».
Потом меня перевели в тюрьму в Вилла Девото, что на улице Бермудес, в пригороде Буэнос-Айреса. Это было грязное место, череда высоких бетонных зданий, датирующихся 1927 годом. Для меня стало приятным сюрпризом, когда я встретил там по приезде Вивиану. Мы тогда еще не понимали, что нам посчастливилось стать официальными заключенными, осужденными. Когда ты оказался в системе, становилось сложно – но не невозможно, как мы вскоре увидим, – заставить нас исчезнуть. Наши родственники, по крайней мере, знали, что с нами случилось и где мы, в отличие от тысяч семей будущих жертв диктатуры, о которых просто ничего не было известно, и там люди мучились неопределенностью в течение многих лет. Нам очень повезло в том, что нас арестовали до переворота. Потому что потом хунта поставила на поток ремесло репрессий, по-любительски начатое «Тройным А». Мы думали, что уже знаем, что такое ужас. Но то, что ожидало Аргентину в конце 70-х годов, оказалось гораздо хуже.
* * *
Несмотря на риски, связанные с нашим именем и моим статусом «подрывного элемента», моя сестра Селия сразу же бросились в Девото, узнав о моем тюремном заключении. Что касается моего брата Роберто, то он решил еще раз поработать моим адвокатом. Это было опасно. Репрессивный аппарат уже подвергал нападениям родственников задержанных. Со времени моего первого задержания террор только усилился. Адвокатов политических заключенных начали отправлять в ссылку, или они просто исчезали. Некоторых пристрелили, как уличных собак; других похитили. В «свинцовые годы» военные развернули против них такую охоту, что скоро мог остаться только один человек, способный защищать нас. Двое из последних, кто имел мужество противостоять хунте, были адвокаты Броккен и Анхел Херардо Писарелло. Последний был похищен 24 июня 1976 года, а затем его имя добавилось к списку «исчезнувших». Его изуродованное тело, с руками, связанными за спиной, было обнаружено несколько дней спустя. Тем не менее Роберто для моей защиты объединился с другим адвокатом из Росарио, с Делией Родригес Арайя, женщиной необычайной смелости. Это оказалось бесполезно. Судебный процесс мог легко длиться и тысячу лет или не происходить вообще. Не было никого, к кому бы можно было обратиться за помощью. Мы были совершенно бесправны. Мы теперь были просто никто.
Однажды я увидел Вивиану. Друзья назначили нас крестными для своего новорожденного. Требовалось, чтобы крещение проходило в тюрьме, и нас нужно было собрать в одном месте, пусть даже и на несколько минут (подобные уловки скоро перестали быть возможными). Таким образом, мы оказались у купели в часовне. После этого я больше не видел Вивиану в течение восьми лет, трех месяцев и двадцати трех дней – именно столько продолжалось мое содержание в тюрьме.
* * *
Аргентинские тюрьмы были суровы. С людьми там обходились отвратительно. Условия жизни в Девото были особенно ужасны. Одной из основных причин смерти в тюрьме был отек легких. Тюремщики избивали пленника так сильно, что удары вызывали глубокие поражения в легких. Нас держали по несколько человек в одной камере, и мы были перемешаны с обычными заключенными. Коррупция была ужасной. Огромный бюджет, который получала государственная тюрьма, должен был покрыть потребности трех тысяч заключенных, но начальство рассовывало деньги по карманам, мучая нас голодом. Мясо, которое предназначалось для нас, продавалось у местных мясников. Надзиратели продавали гомосексуалистов для утех состоятельным заключенным. Политические заключенные возмущались подобным гадством. Мы писали жалобы, но ничего не менялось. Поэтому мы приняли решение начать голодовку. Чтобы ее прекратить, нас перевели в другие тюрьмы. Так или иначе, политические заключенные что-то меняли в этом отношении. Мы шумели, и у нас еще оставались контакты на воле, имелись люди, которые могли рассказать о сложившейся ситуации. Это мешало коррумпированному префекту и его клике, и они предпочитали обычных заключенных, как правило, более податливых.
Я был переправлен с некоторыми моими товарищами на самолете «Геркулес» в тюрьму Роусон, что рядом с Трелью[70], в Патагонии. Это «перемещение» положило начало тому, что я потом назвал тюремным туризмом. За восемь лет меня переводили пять раз: из Девото в Роусон, из Роусона в Девото, из Девото в Ла-Плату, из Ла-Плата в Сьерра-Чика, а из Сьерра-Чика потом снова в Росон. Условия содержания в тюрьмах с каждым переводом ухудшались.
Роусон был предназначен для осужденных, и это была своего рода колония, затерянная в глубине враждебной земли, продуваемой ледяными ветрами Атлантического океана, и находилась она в 1100 километрах к югу от Буэнос-Айреса. Ее изоляция затрудняла посещения, если не сказать, что делала невозможными. Отрыв нас от наших близких – в этом и состояла искомая цель, наряду с нашим психологическим, а также физическим и психическим разрушением.
Религия тоже была представлена в Роусоне, но как! Капеллан – он имел воинское звание – был садистом, который называл нас террористами, убийцами, грязными леваками и даже лично проводил суровые допросы… во имя Господа. К счастью, его заменили на архиепископа Комодоро-Ривадавии, монсеньора Моуре, с которым у меня завязалась большая дружба[71]. Архимио Моуре был настоящим христианином. В первый раз, когда он позвал меня на исповедь, я признался в том, что являюсь атеистом. Он ответил, что это не важно. Он явился не с целью обратить в свою веру, а в роли предлагающего возможность человеческого и просто приятного общения. Большинство заключенных стали ходить на мессу каждую неделю, просто чтобы его послушать.
Репрессивный аппарат все более внимательно наблюдал за посетителями. Одной близости к политическим заключенным было достаточно, чтобы подписать себе смертный приговор. Родители Вивианы никогда ее не посещали. С ней поступили не как со мной (на самом деле она провела восемь лет в тюрьме в Вилла-Девото, в камере № 90, на третьем этаже, в отделении № 5, не видя ни солнца, ни луны). При ужесточении режима и первых отголосках массовых исчезновений, дошедших до нее в тюрьме, она испугалась за родителей и попросила их немедленно покинуть страну. Они жили в Кордове. Но, вместо того чтобы уехать в изгнание, они тайно переехали в Авелланеду, пригород Буэнос-Айреса – она не знала, на какой они жили улице – и ушли в подполье. Однажды, в октябре 1977 года, детскую подругу и сокамерницу Вивианы Стеллу посетили ее трое маленьких детей. Они прибыли из Авелланеды и рассказали ей кошмарные вещи: их отец бесследно исчез, а через несколько недель за ним последовал и его друг, забравший их к себе. Пара пенсионеров из квартала взяла на себя заботу о них после этой двойной трагедии. Через несколько дней и их, в свою очередь, постигла та же участь. Травмированные этими последовавшими друг за другом исчезновениями дети забыли, как звали эту пару. Но, услышав эту историю и описания, Вивиана с ужасом поняла: эта пара – это были ее родители. То есть ее предупреждение оказалось бесполезным. Им было по шестьдесят лет, и они никогда не вмешивались в политику. После освобождения Вивиана получила информацию о том, что они были похищены, доставлены в тайный центр содержания Кампо-де-Майо, их там пытали, а затем сбросили живыми с самолета в реку Ла-Плата. Эти события произошли в сентябре 1977 года. Я узнал об этом уже после выхода из тюрьмы.
* * *
Воспоминания о моих арестах сегодня спутались. Просто каждый день был похож на предыдущий. Тем не менее я помню некоторые ключевые даты и некоторые поразительные истории. Да простит меня читатель, если я вынесу что-то на страницы этой книги в случайном порядке.
Следует разделять периоды «до» и «после» переворота. В 1975 году у нас имелись радиоприемники, газеты, посещения, часы прогулки во дворе. Начиная с 24 марта 1976 года все это было отменено. Режим содержания политических заключенных ощутимо ужесточился. Группы военных теперь стояли во дворах, направив свое оружие на окна камер. Постоянно происходили побои, обыски, угрозы, оскорбления.
Я дважды находился в Роусоне. Никогда не понимал, что я там делаю, не понимал я и смысл этих задержаний. Во второй раз меня заперли в холодной камере, без матраса и без одеяла, в результате чего я подхватил ревматизм, которым страдаю и до сих пор, плюс у меня обострился гепатит, которым я заразился еще до тюремного заключения.
В общей сложности я провел в карцере три с половиной года. Мой самый длительный период полной изоляции продолжался шесть месяцев. Я ходил и думал, да там ничего другого и нельзя было делать. Они кормили меня так плохо, что у меня не было сил, чтобы заниматься физическими упражнениями. Я потерял ощущение времени и пространства, а также того, что происходило не только за пределами тюрьмы, но и в коридоре, в нескольких метрах от меня. Но время от времени до меня все же доходила какая-то информация. Когда заключенный находился в карцере, изолированный от других, иногда удавалось общаться либо через туалет, либо через щели в стенах, либо при помощи азбуки Морзе. Если удавалось понять сообщение, надо было постучать по стене один раз, в противном случае – два раза. Эти контакты, даже краткие и отдаленные друг от друга по времени, не позволяли нам совсем сойти с ума. Тем не менее я какое-то время даже страдал галлюцинациями. Карцер, куда меня бросили, был темным, с закругленными углами, и я не имел права из него выходить. Там была отдушина в потолке, позволявшая определять, день сейчас или ночь. В некоторых тюрьмах пищу передавали через щель. Невозможно было даже увидеть, кто ее принес. В других – надзиратель открывал дверь, но было бы даже лучше не видеть его физиономию. Виктор Гюго как-то сказал, что самый последний из людей – это не заключенный, а тюремщик. Там имелись, вероятно, и не такие плохие люди, как остальные, но все они все равно были ужасны. Надо было обладать совсем исковерканным сознанием, чтобы выбрать такую профессию!
Когда ты был не в карцере, тебя запихивали в камеру. В то время уже никто не приходил нас посещать. Не было больше и адвокатов. Некоторые тюремные корпуса имели общие комнаты, где нам разрешали иногда проводить время. Иногда случалось, что тюремщик забывал газету в туалете. Как правило, это была очень старая газета, но это позволяло нам собирать хоть какие-то крупицы информации. Мы узнавали о массовых похищениях людей от новых заключенных, время от времени появлявшихся в тюрьме. Некоторым повезло, и они попали в число официальных заключенных. Они-то и рассказывали нам про похищения людей, про убийства. Другие просто исчезали. И их никто никогда больше не видел. И мы начали постепенно осознавать масштабы репрессий.
Через равные промежутки времени мучители входили в камеру, чтобы допрашивать нас. И это при условии, что они не тащили нас в камеру пыток. У нас был свой способ избежать разговора, он назывался «бесстрастная физиономия, ничего не знаю». Это означало, что надо было сделать совершенно ничего не выражающее выражение лица. Потому что никогда не было известно, что произойдет дальше. Когда они спрашивали: «Ты читал эту книгу?» Мы отвечали: «Нет». «Ты занимаешься гимнастикой?» – «Нет». И тогда мучитель делал заключение: «Что за бездельник. Ты же ничего не делаешь!»
Однажды один полковник в военной форме вошел в камеру, которую я делил с другим заключенным. Он его спросил: «Ты – монтонеро?» – «Нет, я перонист», – ответил мой товарищ. Различие имело очень важное значение. «Монтонерос» были вооруженной партизанской группой, в то время как перонизм – был просто движением. Спрашивавший настаивал. А мой сокамерник стоял на своей версии, что он перонист. Внезапно этот тип повернулся ко мне: «А ты из PRT?» – «Нет, я социалист», – ответил я, следуя примеру моего друга. Хитрость заключалась в том, чтобы отвечать расплывчато, чтобы не допустить связь с какой-то конкретной партийной принадлежностью.
Также случалось, что на допросах поднимался вопрос о моих отношениях с Эрнесто. Те, кто узнавал, что я брат Че, приходили ко мне. Казалось, они огорошены. Я становился для них вызывающим любопытство зверем. И это могло сыграть как в мою пользу, так и против меня. Трудно было предвидеть реакцию. Все зависело от личности надзирателя или военного.
Однажды, когда я находился один в своей камере в Сьерра-Чика, дверь открылась и вошел парень в военной форме, офицер. Он попросил тюремщика оставить нас. Койкой мне служила цементная стяжка. Мне приносили матрас в 22 часа и забирали его в 6 утра. Было очень холодно. Когда солдат или надзиратель входил в камеру, заключенный должен был встать у задней стены, заложив руки за спину. Посмотрев на меня в упор какое-то время, офицер сказал: «Расслабься и сядь». Он сел рядом со мной. А потом он начал разговор, спрашивая меня, делаю ли я упражнения, что я думаю о еде и т. д. На каждый вопрос я, как обычно, отвечал «нет». Мне хотелось, чтобы он побыстрее ушел. Мне было нечего сказать этому грязному типу. Поняв, что я так и буду упорствовать в своем молчании, он попытался сломать лед, воскликнув: «Вот так так! Ведь ты же брат Че!» И он начал рассуждать об Эрнесто. Он поведал мне об искусстве партизанской войны, о том, что представлял собой Че, а в завершение он сказал: «Какой невероятный тип, просто гений, этот твой брат!» Я был поражен. Это был военный, специалист по борьбе с повстанческим движением, он знал, что Че посвятил всю свою жизнь борьбе против извергов типа него, в общем, что это был враг, и в его адрес он выражал такое восхищение! В другой раз во время допроса еще один военный заговорил со мной о Че. Он сказал: «Как жаль, что твой брат выбрал не тот лагерь! Потому что он – масштабная личность». И он продолжил рассказывать мне все, что знал о Эрнесто, что ему удалось прочитать о нем. И нельзя было сказать, что он был не слишком информирован по этому вопросу…
* * *
Однажды ночью, во время моего первого пребывания в Роусоне, пришли за четверыми из нас. Сказали, что нас отвезут на военно-морскую авиабазу «Алмиранте Зар» в Трелью, что это обычный «административный перевод». Мы же были убеждены в том, что нас собираются расстрелять. Так, в частности, шесть политических заключенных из числа леваков были убиты 22 августа 1972 года. Одним из методов, широко используемых военными, чтобы стрелять в заключенных «на законных основаниях», была имитация их побега. Хунтой действительно был принят закон о побегах, чтобы оправдать подобного рода убийства. И вот грузовик, перевозивший нас на базу, вдруг остановился в безлюдном месте. Рядом стоял еще один автомобиль с потушенными фарами. Нас высадили. Мы посмотрели вокруг и все поняли. Все уже было готово. А потом они обвинят нас в том, что мы пытались бежать и что они вынуждены были в нас стрелять.
Но на самом деле нам приказали идти к другой машине. Когда мы прибыли на базу, нас подтолкнули к небольшому самолету. И я снова оказался в Вилла-Девото. Меня поместили в камеру вместе с другими заключенными. Через много лет стало известно, что военные разделили политических заключенных на три категории: исправимых, трудноисправимых и неисправимых. Я принадлежал к третьей категории. Надо признать, я не был образцовым заключенным. Я постоянно протестовал. А что я еще мог сделать при том образовании, что я получил, и с таким братом, служившим для меня примером! Так я оказался в каком-то подвале. Затем через каждые три-четыре часа ко мне приходили, ставили меня под холодный душ, пока я не начинал буквально околевать от холода. Затем меня вернули в мою камеру, мокрого и полуголого. В то же самое время у меня забрали матрас и не давали мне есть. Любая мелочь приводила к наказанию, как правило, к избиению, призванному сломить любого из нас. Но для большинства это не срабатывало, потому что мы твердо придерживались убеждения: мы не преступники. Мы понимали, почему нас бросили в тюрьму. Плюс нам удавалось поддерживать контакты. Они так и не смогли полностью пресечь связи или полностью уничтожить нас. Мы были организованными в тюрьме.
* * *
При моем четвертом переводе я был доставлен в Ла-Плату, расположенную в провинции Буэнос-Айрес. Я не могу описать внешний вид тюрьмы, ибо меня туда привезли ночью и в фургоне. Нас встретили ударами. Это была страшная тюрьма, место пыток и исчезновения задержанных. Они отделили меня от других и привели в кабинет начальника. Он выбрал меня в качестве делегата от заключенных, чтобы заявить, что ему не нужны проблемы, что он будет уважать нас и давать нам некоторые поблажки – то, чего военные никогда не делали – по крайней мере, если мы будем сохранять спокойствие. Он хотел дожить до выхода на пенсию без проблем. На самом деле его вскоре заменили на военного. С усилением репрессий тюрьмы постепенно перешли под контроль армии. Большое количество политических заключенных, таких как «монтенерос» Орасио Рапарорт и Анхель Георгиавис, были убиты в Ла-Плате – якобы при попытке побега. Корпуса № 1 и № 2 были отведены для неисправимых типа меня. Было лето, стоял ужасный зной, а мы должны были носить тюремные робы из плотной ткани, царапавшей нам кожу. Их было запрещено снимать. Я выразил протест и оказался в карцере. К подобному я уже привык. Следующей зимой они сделали наоборот. Нам раздали очень тонкие робы, в которых мы замерзали.
В ночь на 22 августа тюремщики пришли за пятью задержанными в изоляторе. Дата была символической из-за резни в Трелью, упомянутой мной выше. И мы вновь пришли к выводу, что нас расстреляют, и мы вообще потеряли всякую надежду, когда военный, сопровождавший нас, спросил у охранника, где наши личные вещи, а тот ответил, что нам они больше не понадобятся. Мы все были из разных камер, но мы друг друга знали. Мы понимали, что мы все отличились с политической точки зрения. Там был один товарищ, бразилец, лидер «монтонерос», другой был партизаном, воевавшим с Фиделем на Кубе, третий – лидером PRT. Нас поместили в фургон, который вдруг остановился где-то на открытой местности. И снова рядом стоял автомобиль с потушенными фарами. На этот раз мы были уверены, что погибнем. Вовсе нет! Нас просто перевезли в Сьерра-Чика. Позже я узнал, что там в ту ночь произошло массовое убийство заключенных, и наша маленькая группа была спасена в последнюю минуту военными по причине, не известной мне и поныне. Мы так никогда и не узнали, почему нам удалось спастись, но пришли к выводу: когда нас уже собирались расстрелять, кто-то отдал противоположный приказ. Военные имели свои сферы влияния, четыре по всей стране, а они, в свою очередь, были разделены на 19 зон и 117 секторов и подсекторов. Каждый генерал был полным руководителем своей зоны и имел право даровать жизнь и убивать пленников, находившихся «под ним».
Я провел три года в Сьерра-Чика (она также находилась в провинции Буэнос-Айрес). Это была тюрьма в форме веера, очень старая и зловещая, с двенадцатью корпусами по сто метров длиной каждый. Она была построена в 1890 году, до появления электричества, возле города под названием Олаваррия, среди полей и карьеров по добыче полезных ископаемых, в которых работали заключенные. В центре каждого корпуса находился двор, на который выходили окна камер. Одна из особенностей тюрьмы заключалась в том, что, чтобы помешать заключенным перепилить решетки, окна были оснащены железными ставнями, которые делали это невозможным, и создавалось впечатление, что положение безвыходно. Камеры были вогнутыми, их стены имели толщину в 80 сантиметров, а двери были деревянными, с выступающими смотровыми окошками. Камеры были оборудованы унитазом и краном. Можно было провести несколько недель, не выходя из такой камеры. Я делил свою камеру с руководителем организации «Juventud Peronista» Хуаном Карлосом Данте «el Canca» Гулло, который впоследствии стал депутатом и сторонником четы Киршнер[72], а его мать и брат были похищены и стали «исчезнувшими» во время нашего заточения.
Корпус № 12 служил для наказания. Он был полностью изолирован от других. А вот № 11 был «корпусом смерти». У нас не было имен: мы там становились просто номерами. Я был номером 449. На некоторое время нас выпускали в центральный двор – три раза в неделю. Однако мы не имели права ходить группами, приближаться к окнам или останавливаться. Когда происходило какое-то нарушение, надзиратели вбегали в камеру, громили все, избивали заключенных и поливали их ледяной водой, и это были единственные «ванны», на которые имели право заключенные в Сьерра-Чика. A 24 или 31 декабря, не помню уже какого года, я находился в одной камере с другими заключенными. Надзиратели только что явились к нам. И им удалось найти какие-то лакомства. Я не помню, как они к нам попали. Но это страшно разозлило надзирателей, и мы тут же оказались в карцере.
* * *
А за пределами тюрьмы «грязная война» была в самом разгаре. Некоторые вооруженные группы, такие как «монтонерос», считались радикальными, и предательство там каралось смертью. Под предательством они подразумевали донос, даже полученный в результате пыток. Аргентина переживала период зверств, некую адскую спираль, где за одной смертью следовала другая. Однажды к нам привели «исчезнувшего» члена такой вооруженной группы. Он заговорил под пытками. А организация, к которой он принадлежал, приговорила его к смерти. Военные бросили его в самое логово льва, к другим задержанным, чтобы они его убили. Он стал человеком, оказавшимся между двух огней: между пытками одних и угрозами других. Но группа заключенных, в которую входил и я, нашла это слишком жестоким, и мы решили защитить этого человека, держа его на расстоянии и служа ему как бы живым щитом. Тюремщики с нетерпением ждали, когда его убьют. Но мы проявляли бдительность. Мы никогда не оставляли его одного. Постепенно он восстановил силы. А потом он вдруг покончил с собой, перерезав себе вены. Один мой сокамерник-психиатр объяснил, что это было необходимо для него – воспрянуть духом и уже потом самому решить, что его жизнь уже не стоит того, чтобы жить. Эта смерть потрясла нас.
Состояние моего здоровья ухудшалось. У меня была грыжа и аппендицит в дополнение к ревматоидному артриту. Меня даже два раза оперировали: один раз – в Сьерра-Чика, другой – в Роусоне. Я пережил сердечный приступ, пока находился в больнице.
Общение между заключенными проходило в письменном виде, а буквы писали на леденцах, которые держали во рту. Подобные сообщения часто передавались в лазарете. Надо было дождаться подходящего момента, когда никто не смотрел на нас, и тогда мы передавали конфеты. Сообщения шли медленно, но это работало. Когда меня взяли в лазарет, чтобы делать операцию в первый раз, у меня как раз лежала во рту одна из таких конфет. Я был очень слаб. Я находился под наркозом. Но, когда я пришел в себя, окруженный двумя надзирателями, первое, о чем я подумал, это было не то, хорошо или плохо прошла операция, а сохранилась ли конфета во рту. Она была у меня под языком!
Меня снова перевели в Роусон, и это был последний и самый длинный этап моего «тюремного туризма». Шел 1979 год, и военные распорядились провести массовое перемещение заключенных из Сьерра-Чика в Роусон. Самолет «Геркулес», перевозивший нас, вновь совершил посадку на знаменитой базе «Алмиранте Зар» в Трелью. Когда мы прибыли в тюрьму, один из надзирателей воскликнул: «Ах, я вижу, что с вами хорошо обращались в Сьерра-Чика!» Это была жестокая шутка: мы страшно голодали.
* * *
Тем не менее, несмотря на ужасное обращение, мы начали верить, что однажды нам все же удастся выбраться из этого ада. Вопрос заключался в том – когда. Чистилище могло продлиться еще очень долго, но события развивались явно в правильном направлении. Благодаря активности моей сестры Селии в Европе у меня были три посещения, прошедшие одно за другим. Прибыли австрийский консул в Буэнос-Айресе, представитель организации по защите прав человека и представитель Красного Креста. В то время как масштабы и варварство репрессий, казалось, вообще не попадали на страницы национальной прессы, за границей все обстояло иначе. Аргентинцы в изгнании неустанно боролись за нас, рассказывая о бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах. И, в конечном итоге, хунта была вынуждена разрешить частичную инспекцию своих тюрем. Военные думали убить одним выстрелом двух зайцев. Они думали, что наличие такого количества политических заключенных докажет, что слухи о незаконном лишении свободы ложны. На самом деле наше наличие, конечно же, не имело никакого отношения к исчезновению десятков тысяч людей, которых никто никогда больше не видел и которых нельзя было найти ни в одной тюрьме. Пропавшие пропадали окончательно и бесповоротно.
Мальвинская война[73] – она началась 2 апреля 1982 года – обозначила начало конца для хунты. Все в стране шло исключительно от плохого к худшему. Политика министерства экономики диктатора Хосе Альфредо Мартинеса де Ос привела к полной катастрофе. Генералы стремились возбуждать патриотизм граждан, сплотив их в вопросе о глупом и безответственном вторжении на принадлежащие Великобритании острова и думая, что это заставит людей забыть про репрессии, безудержную инфляцию и невиданные социальные проблемы, которые тогда потрясали страну. Аргентина после семи лет военной диктатуры была обескровлена. В дополнение к совершавшимся убийствам, генералы были некомпетентными, они ничего ни в чем не понимали. Это был тотальный мрачный провал. И абсурдная Мальвинская война закончилась удручающим и унизительным поражением ровно через семьдесят четыре дня. Хунта серьезно недооценила реакцию англичан и американцев. Она была убеждена, что премьер-министру Маргарет Тэтчер есть чем заняться и она не будет защищать какие-то далекие Мальвины, а во-вторых, что Рональд Рейган поддержит своего союзника в Южной Америке или, в худшем случае, останется нейтральным, но на деле все получилось совсем не так.
Судьба хунты решилась с распадом армии, в частности из-за того, что несколько солдат умерло от голода из-за ошибок командования в деле обеспечения. А вот наше обеспечение улучшилось. Тем не менее мы ничего толком не знали из-за непрекращающейся пропаганды, которая, естественно, постоянно говорила об успехах нашей армии и о неизбежной победе. С началом вторжения мы вдруг снова получили право слушать радио!
Но самый для меня сюрреализм заключался в том, что некоторые политические заключенные вдруг начали защищать наших мучителей – из чувства патриотизма, к чему и стремилась хунта. Вторжение на Мальвины разделило нас. Некоторые заключенные тогда говорили, что мы должны поддержать нашу армию в ее борьбе против британского империализма; находились и такие, кто хотел добровольно пойти на фронт! Это был просто какой-то бред! Это же вторжение было очередным безумием фашистской клики, находящейся у власти!
После поражения к нам вдруг начали приходить адвокаты, представители правозащитных организаций и т. д. Мы поняли, что наступает разрядка, некое ослабление напряженности. А потом, утром 10 марта 1983 года, один тюремщик подошел ко мне и сказал: «Собирайся. Ты убываешь». Я подумал, что это неудачная шутка, ложь. Но уже через несколько минут мне принесли мои вещи. Я и не подозревал, что они путешествовали вместе со мной. Ничего не пропало.
После освобождения
Я вышел из Роусона с двадцатью шестью песо в кармане и автобусным билетом на рейс Трелью – Росарио, предоставленным мне администрацией тюрьмы. Никто не ждал меня на выходе. Вся моя семья была в изгнании на Кубе или в Испании. С Пиренейского полуострова мой брат Роберто руководил организацией под названием MoDePA (Movimiento demo-crático popular antiimperialista – Демократическое народное антиимпериалистическое движение), одной из последних существовавших ветвей PRT, исчезнувшей, погребенной репрессиями. Моя сестра Селия все воевала в Европе за освобождение политических заключенных.
С собой у меня было двадцать шесть песо – мизерная сумма Я купил бутылку вина, а потом сел в автобус на Росарио. Благодаря кое-каким контактам я знал, где найти Вивиану. Ее только что освободили, и теперь она столкнулась с трагической смертью своих родителей.
Находясь на условно-досрочном освобождении, мы не имели права передвигаться по стране, не говоря уж об отъезде за границу, без специального судебного разрешения. В Росарио я связался с адвокатом, и она решила вопрос о моем поселении в Буэнос-Айресе, а затем и о поездке на Кубу, чтобы повидаться с семьей. Мы с Вивианой обосновались в старом квартале Сан-Тельмо. И первое, что мы сделали, это пошли в квартиру родителей Вивианы в Авелланеде. И мы нашли ее точно такой же, какой она была в тот день, когда их похитили. Это был ужасный момент для Вивианы.
За нами следили днем и ночью. Автомобиль с двумя типами внутри постоянно дежурил на нашей улице. Военные и их «Процесс национальной реорганизации» были еще в силе[74] – даже при том, что их дни уже были сочтены. Репрессии утихли, но время от времени страну сотрясали отдельные «толчки». Через несколько дней после моего освобождения два моих соратника были похищены и объявлены пропавшими без вести.
Меня преследовало чувство полной безнадежности и неудачи. Любое революционное усилие тут же уничтожалось. Это был полный провал. Хунта истребила тридцать тысяч человек; десять тысяч были брошены в тюрьмы за свои идеи; десятки тысяч аргентинцев отправились в изгнание. Государственный терроризм породил террор, и обстановка в стране была просто ужасной. Шло так много доносов и оговоров!
Аргентина очень сильно изменилась. Молодежь была запугана, подавлена, аморфна. Для нее не было никакого будущего, не было ни надежд, ни желаний. Имела место бедственная потеря энергии для всей страны. Наши политические и профсоюзные организации были обескровлены. В тюрьме мы имели весьма смутное представление о катастрофе, произошедшей в наше отсутствие, и у нас не было ничего конкретного, чтобы подтвердить это. Мы прожили «свинцовые годы» взаперти, отрезанные от остального мира. Мы с Вивианой постепенно стали понимать, как нам повезло, что нас арестовали до запуска репрессий на полные обороты. Задержание было весьма жестким, но все же не таким, как для тех, кто был похищен, подвергнут пыткам и сброшен живыми с самолета в океан или в реку Ла-Плата, как для тех, у кого целые семьи были уничтожены просто за то, что они имели отношение к «подрывным элементам». На фоне того варварства, с каким столкнулись эти десятки тысяч жертв, наши аресты не вошли в историю. Для военных политические заключенные были своеобразными трофеями.
Мы узнали, что до вторжения на Мальвинские острова, 30 марта 1982 года, в стране была произведена спонтанная мобилизация. Все шло плохо. Годовой уровень инфляции достиг 924 %. Матери пропавших людей, знаменитые madres de la Plaza de Mayo[75], были полны решимости. И стало невозможно не обращать внимание на этих отважных женщин, ходивших кругами по Пласа-де-Майо с белыми платками на голове. Они требовали возвращения своих детей живыми. В худшем случае, они требовали информации о том, что с ними случилось, при каких условиях они погибли, от чьей руки и где находятся их останки. Со своей стороны, оживилось и рабочее движение. Уровень безработицы был на самом высоком уровне, заработная плата не увеличилась в течение нескольких лет, в то время как инфляция продолжала скакать. Вторжение на Мальвины стало попыткой – причем неудачной – восстановить силы и вернуть себе инициативу. Власть у военных буквально утекала сквозь пальцы.
Заключение стало своего рода школой для политических заключенных. У каждого из нас имелось два варианта: либо чувствовать себя разгромленным и, таким образом, быть неактивным и тем самым лишь углублять поражение; либо оставаться оптимистом и сохранять то вдохновение, что было до катастрофы. В конце концов, оба этих варианта имели место. Произошло много самоубийств и депрессий в наших рядах. Многие товарищи отказались от борьбы и от наших идей. Но их было не большинство.
* * *
Вернувшись в Буэнос-Айрес, я пошел навестить свою кузину Эрсилиту, дочь сестры моего отца. Она была замужем за богатым типом из верхнего слоя буржуазии, за неким Касаресом, владельцем молочной компании под названием «Мартона». Узнав о моем освобождении, они пригласили меня на ужин. Их чертов дом находился в очень престижном районе. Когда я пришел к ним, Эрсилита задала мне вопрос, который показался мне полным невероятного цинизма: «Теперь, когда военное правительство собирается уходить, что будут делать такие подрывные элементы, как ты?» Я ничего не понял. Я был слишком потрясен ее инсинуациями. Я провел более восьми лет в тюрьме, ее двоюродный брат Эрнесто был мертв, остальная часть семьи находилась в изгнании, в том числе и ее родной дядя (мой отец), и это было все, что она могла мне сказать! Я ответил: «Военные совершили переворот. Мне кажется, что настоящие подрывные элементы – это они, разве нет? Почему ты не задаешь этот вопрос военным?» И с этим я захлопнул дверь. Несколько дней спустя мне позвонил дядя. Он был стар и умирал, и он повел себя как последняя сволочь после исчезновения Эрнесто и во время моего ареста. Он позвал меня к своей постели, чтобы получить мое прощение. «Дай мне возможность добраться до небес», – попросил меня он. Я сказал ему, чтобы он шел куда подальше. У меня не осталось больше терпения по отношению к подобным людям.
* * *
Двадцать шесть песо были потрачены, и у меня больше не было ни гроша. Моя сестра Селия познакомила меня с парнем по имени Шевалье, швейцарцем, который поддержал ее, когда она выступала в защиту политических заключенных. Шевалье прислал мне чек на 50 швейцарских франков. Я был настолько дезориентирован и не знал соотношения различных валют после восьми лет лишения свободы, что я вошел в филиал швейцарского банка на авеню Корриентес, думая, что смогу обменять там свой чек на купюры. Я вошел в лифт и был крайне удивлен его современным видом и светом, который сразу же зажегся, едва я вошел. Я-то был уверен, что его нужно выключить перед пуском лифта к месту назначения, но я не понимал, как это сделать. В банке я обратился к очень серьезному господину в костюме, сказав, что у меня имеются швейцарские франки. «Сколько?» – спросил он меня, вероятно, думая, что речь идет о большой сумме. «Пятьдесят». Он недоверчиво посмотрел на меня. Он явно принял меня за умственно отсталого и послал в обменник. Шевалье продолжал посылать мне деньги, пока я не встал на ноги.
Получив официальное разрешение, я отправился на Кубу. Мои дети Мартин, Пабло и Анна выросли со своей матерью, без меня. Они были в близких отношениях с детьми Эрнесто. Мой отец женился на аргентинской художнице, более молодой, чем он, и у которой уже было трое маленьких детей. Я провел несколько недель в Гаване, в течение которых я связался с издателями через мою сестру Селию, имевшую множество связей. Это оказалось сладостно-горьким опытом. Во время моего отсутствия Че стал исторической фигурой, мифической фигурой, чьи подвиги изучают в школах. То, что ты – его брат, открывало все двери, с точностью до наоборот по сравнению с Аргентиной!
Я решил продавать и издавать кубинские книги, которых тогда еще не было в Аргентине. Моя семья имела прочные связи и тесные отношения с Кубой. Фидель относился к нам, как если бы мы все были членами его семьи. Для него это было способом почтить своего погибшего друга. Эти особые отношения позволили мне получить доступ в мир кубинской культуры.
Я вернулся в Буэнос-Айрес чуть позже своих детей, которые потом очень быстро вернулись обратно на Кубу: их жизнь была теперь там. Военная диктатура в Аргентине рухнула.
* * *
А я начал работать в книжном магазине на авеню Корриентес, одной из самых оживленных торговых улиц Буэнос-Айреса, вместе с моим другом Карлосом Дамианом Эрнандесом, издателем и книготорговцем. Тогда со мной связался один человек из посольства Кубы, и так я начал продавать кубинские неопубликованные книги, став представителем Института книги и кубинских изданий. Мы тогда открыли культурный центр под названием «Nuestra America» («Наша Америка»). Успех последовал мгновенно. Говорить о Кубинской революции было так долго запрещено, что аргентинцы испытывали жажду информации и любопытство. Они хотели восстановить память. Я организовал фестиваль книги, и там собралась огромная толпа. Люди приходили и листали книги в тишине, не имея сил говорить, выражать свои мысли. Репрессии научили их молчать. У нас было так много диктаторов и волн всевозможных гонений, что они еще не были уверены, долго ли просуществует новая демократия. Все боялись.
Узнав об успехе фестиваля, Советский Союз попросил сделать то же самое в Москве. Но я отклонил это приглашение. Я не имел ничего общего с этой сектантской страной. К тому же Че осуждал СССР и даже предсказал его крах. Он обозвал его «кортизоном» – это такое название анальгетика. По его словам, советский коммунизм пошел не в ту сторону. Поэтому в нем не было больше никакого смысла. «Если коммунизм станет пренебрегать факторами сознания, он окажется лишь способом распределения, но никак не революционной моралью», – заявил он как-то журналисту Жану Даниэлю[76].
Постепенно я начал продавать и другие кубинские товары: ром, варенье из гуавы и сигары, в первую очередь те, что не продавались в Аргентине. Все накинулись на них. И вскоре я уже был первым импортером гаванских сигар. Кубинское предприятие «Habanos S. A.» предложило мне стать полноправным партнером, и я занял место одного из вице-президентов. Я постоянно ездил туда и обратно между Буэнос-Айресом и Гаваной. Торговля сигарами позволила мне продолжать продажу и издание книг. Я стал своего рода бизнесменом. Я импортировал миллионы сигар, которые я продавал в 1500 торговых точках, от севера до юга страны – до самой Ушуайи, что на Огненной Земле. Я научился маркетингу и рекламе. У меня родилась идея установки humidors (коробок для хранения сигар) на станциях технического обслуживания, в зонах беспошлинной торговли, в киосках и в супермаркетах. Я привез с Кубы torcedores (мастеров по скрутке сигар), и они начали проводить презентации; я изменил имидж сигар, сделав их более привлекательными: я поместил их в очень красивые алюминиевые тубы или продавал, завернутыми в целлофан.
А затем, в 2000 году, 40 % акций «Habanos S. A.» были проданы испанцам (Altadis), и я закончил наше сотрудничество. Я не был с этим согласен. Ситуация на Кубе тогда была весьма сложной. А однажды я случайно обнаружил контрабандный продукт в партии сигар с севера страны, предназначенных для Европы. Думаю, это был кокаин, хотя точно мне так ничего и не удалось выяснить. Я спросил своего друга, имевшего связи на таможне, можно ли потребовать провести расследование. Таможня ответила, что для этого нужны деньги. Я дал указанную сумму. Три дня спустя мой друг назначил мне встречу. На ней он вернул деньги и сказал: «Они не хотят что-либо делать, не хотят ничего знать». И самое странное – служебные собаки таможенников ничего не обнаружили. Я также понял, что эти сигары даже не были подлинными: это был полный контрафакт! Меня это встревожило. На деньги, заработанные с «Habanos S. A.», я решил открыть в квартале Лас-Каньитас в Буэнос-Айресе epicúreos – место, которое служило бы и рестораном, и местом продажи вина и сигар. Это оказалось неудачной инициативой, но она длилась шесть лет, и я потратил на нее часть жизни и все свои сбережения. Дело не пошло из-за недостатка клиентов. Но вовсе не из-за пропавших денег мною овладело болезненное чувство неудачи. Всего через несколько месяцев после выхода из тюрьмы я продавал на шестьсот тысяч долларов сигар в месяц, я много путешествовал и встретил множество интересных людей. Я наивно полагал, что смогу повторить этот опыт с epicúreos, и оказался неправ. Продавать сигары – это не совсем то же самое, что содержать успешный ресторан. Так что я вынуждел был смириться со своим первым профессиональным поражением.
Вылет в Гавану
Мой отец первым из нашей семьи уехал жить на Кубу – это произошло в 1974 году. Он испытывал большие проблемы с деньгами. Он жил в своей студии на улице Парагвай вместе с новой женой Анной-Марией «Тутти» Эрра и их двумя детьми, Марией-Викторией и Рамоном. В то время он и его жена были художниками. Но у них не получилось. Мой отец также решил опубликовать книгу воспоминаний об Эрнесто. Но тут возникли сложные вопросы авторского права. Роберто, Селия, Анна-Мария и я не согласились с публикацией этой книги, которая показалась нам более отражением эго нашего отца, чем долгом памяти. Мне показалось, что этот проект стал для него способом заявить: «Я тот, кто я есть, отец известного революционера, и я хочу превращать в деньги все, что принадлежит мне по праву». Однако эта книга не увековечивала идеальный образ моего брата, потому что отец переиначил одни факты и приукрасил другие. В частности, он решил включить в книгу письма Эрнесто, удалив из них целые абзацы, отражавшие конфликт между ними. Я считал, что нужно опубликовать письма полностью, в том числе и самые нелицеприятные их моменты. Короче говоря, этот проект меня раздражал. Мой отец думал, что может говорить все, что ему вздумается: мы бы никогда не стали противоречить ему публично. Но когда Эрнесто писал нам о своих путешествиях, он часто сталкивался с моим отцом по политическим мотивам. Он все время повторял «твои друзья янки», но когда Эрнесто уже превратился в миф, мой отец полностью изменил тональность и начал критиковать Соединенные Штаты, этих империалистов. Я так и не понял, по расчету или по убеждению. Он, безусловно, имел право изменить свое мнение. Но кто знает? Возможно, Эрнесто удалось переубедить его. В конце концов, он обладал мощной силой убеждения.
Роберто не был согласен со мной, и нам приходилось спорить с ним по поводу отца. Мой брат до сих пор считает, что я вел себя с ним слишком жестко. Может быть, это и так. Я был самый младший, и я имел свой особый опыт, отличный от опыта моих братьев и сестер. Я провел много лет с матерью, и я видел, как она страдает от их расставания, как она потом болела. Мой отец был человеком чрезвычайно сложным, и ему трудно дать четкое определение. У него было много друзей и много связей: он приспосабливался к любой ситуации, и его многие ценили. Но у него были не все дома. Почему? Это вопрос на тысячу евро. Я потратил много времени, ругаясь с ним. Я обвинял его в незрелости. Какое-то время я почти не разговаривал с ним. А в 70-е годы между нами все окончательно испортилось. Я понял, что дальше так продолжаться не может, если мы хотим сохранить хотя бы видимость единства семьи. Нужно было решение: принять его таким, какой он есть, или вообще прекратить видеться с ним. Я выбрал первое.
В преклонном возрасте семидесяти трех лет он боролся с неразрешимыми проблемами в Аргентине и вынужден был сражаться на многих фронтах. Его двое маленьких детей не значили для него ровным счетом ничего и очень от этого страдали. Чтобы все усложнить еще больше, он поддержал коммунистическую организацию «Национальное движение в защиту нефтяной промышленности и энергетики» (там, кстати, и моя мать была членом). Хуан Перон был у власти и преследовал левых. Мы чувствовали, что петля вокруг нашей семьи затягивается. Для людей с фамилией Гевара представляла проблему не только политическая ситуация, но и то, как мой отец реагировал на нее, еще более усугубляя риски. Мы никогда не знали, какие роковые слова он произнесет, как нерационально отреагирует на то или иное событие. Начиная с 1974 года страшное «Тройное А» находилось в самом расцвете.
Мне пришла в голову идея отправить его на Кубу. Его проблемы исчезнут, едва он ступит на землю Гаваны. Это был все-таки отец Че. Роберто отказался вмешиваться. Для него было рискованно занимать какую-то позицию в пользу острова. Анна-Мария уже обосновалась там: ее муж Фернандо Чавес был выдворен из страны военной диктатурой Алехандро Агустина Ланюсса[77] в 1972 году. Фернандо был профессором в университете и активистом PRT. Его арестовали, а потом освободили в обмен на обещание покинуть страну. В день их отъезда в изгнание вся наша семья сопровождала их к аэропорту Эсейса. Нас тщательно обыскали. Там была целая армия сотрудников полиции и, возможно, подручных «Тройного А». Моя сестра Селия показала им жест рукой, чрезвычайно неприличный жест, но она была такая: безрассудная, мятежная, любительница высказаться.
Я рассказал о своем плане отцу, или, вернее, я настоятельно призвал его уехать, чтобы освободить нас от вечной головоломки, которую ставило перед нами его присутствие в Буэнос-Айресе. Он не спорил. Затем я связался с Фиделем, и тот подготовил его приезд. Я уже говорил, что Фидель всегда относился к нам, как к своей семье, помогая нам в трудные времена. Я организовал отъезд, и в один прекрасный день, в феврале 1974 года, мой отец и его новая семья вылетели в Гавану. Их сначала разместили в отеле «Свободная Гавана» – в бывшем «Хилтоне», где мы жили в 1959 году. А потом Фидель предоставил им дом, расположенный по адресу: улица Септима, дом № 7617, что в квартале Мирамар. Куба взяла содержание моего отца на свой счет в благодарность за то, что он принес в жертву своего сына.
В Гаване Эрнесто Гевара Линч, естественно, тут же начал изображать из себя «отца Че», и это вскоре стало его основным занятием, почти профессией. Чрезвычайно гордый за Эрнесто, он готов был воспользоваться преимуществами статуса национального героя своего старшего сына. Когда кубинцы узнавали, что его отец – среди них, они приходили почтить его, словно самого высокопоставленного сановника. В непрерывном потоке посетителей были и иностранные туристы, и политики на отдыхе. Как правило, они приходили неожиданно и стучали в его дверь. Мой отец был рад приветствовать их всех!
Когда его спрашивали, архитектор ли он, он отвечал: «Да!» Инженер? «Да!» Отец Че!? «Да, да, да!» На Кубе быть отцом Че было чем-то экстравагантным. Это немедленно давало исключительный рост. Находясь там лично, я никогда не говорил, что я брат Че. Однако когда люди узнавали об этом, то они подходили ко мне. Эрнесто почитали. Какая-то часть этого культа отражалась и на нас. Это поражало.
Мой отец жил за счет кубинского государства, которое решало все его проблемы. У него даже появился третий ребенок, Рамиро, и это в семьдесят пять лет! Через год Аргентина продолжила свое неумолимое движение к новой диктатуре, и я отправил жену и троих детей на Кубу. Это изгнание имело преимущество: оно сблизило моих детей с их двоюродными братьями, которых они до этого едва знали.
Роберто и его семья оказались следующими. Роберто уже отметился пребыванием в Валлегранде в 1967 году. Смерть Эрнесто глубоко потрясла его и одновременно мотивировала в его убеждениях. Его позиции воинствующего левака еще более укрепились. А взгляды его стали более глубокими. Мои последующие аресты и жестокие репрессии окончательно убедили его в том, что нужно вести борьбу. Его старший брат жил, боролся и погиб за свои идеи; его младший брат – то есть я – был брошен в тюрьму. И он не мог оставаться безучастным. Несмотря на риск, он пытался, как мы уже видели, защищать меня, и он был связан с другим адвокатом в области уголовного права и борцом за права человека, с Густаво Рока[78], другом Эрнесто. Прочие коллеги, с которыми он установил регулярные контакты, также серьезно скомпрометировали себя защитой «монтонерос» или членов иных революционных групп.
Я попросил Роберто бежать, оставив мою защиту. Сначала он решительно отказался. Я не хотел потерять единственного брата, который у меня остался. Он – тоже. Наше желание защитить друг друга привело нас в тупик. Ему было крайне тяжело бросить меня в моем положении. В то же время у него самого была жена и пятеро детей, и они также нуждались в защите. По моему настоянию он наконец-то согласился. Угроза росла. И тогда Роберто понял, что для него осталось только два возможных варианта: исчезнуть, как и многие другие, или отправиться в изгнание. Он сначала полетел на Кубу, потом – в Испанию. Он много путешествовал, пытаясь мобилизовать зарубежные страны на борьбу против хунты и ее злодеяний. Он агитировал за PRT, его избрали президентом организации «Аргентинцы в изгнании».
В октябре 1981 года во время участия в конференции в Мехико он был арестован. Мексиканцы обвинили его в причастности к похищению племянницы Пабло Эмилио Мадеро, кандидата в президенты от партии PAN[79]. Предполагаемая причина захвата? Сбор средств для PRT. Его освободили через несколько недель из-за отсутствия доказательств. Само собой разумеется, мой брат Роберто никогда никого не похищал. Однако с таким именем, как у нас, казалось, можно было получить обвинение в чем угодно. Мы по умолчанию считались опасными «подрывными элементами». И чем больше нас обвиняли, тем больше ненависти мы испытывали к системе, чувствуя необходимость противостоять ей.
Селия бежала последней. Уже помеченная, как и все мы, она усугубила свое положение, регулярно посещая меня в тюрьме. Она даже имела наглость добраться до Роусона, что было весьма символическим жестом, показавшим ее решимость, ее мужество и ее мятежный дух – качества, которые репрессивный аппарат не мог терпеть. В 1975 году ужасы «Тройного А» происходили один за другим. Бросая вызов, а также потому, что она не могла заставить себя отказаться от меня, Селия поддерживала частоту своих визитов. После переворота я попросил ее прервать их. Но она была удивительно упряма и отказалась. В марте 1976 года мы ощутили на себе все возрастающую силу репрессий. Наблюдая за приездами и отъездами посетителей, военные обратили внимание на членов семей, симпатизирующих, и они мгновенно стали виновными в их глазах. И начали исчезать. Массовые похищения людей происходили именно в то время, и они постепенно стали приближаться к нашему окружению. Однажды друга Селии похитили прямо на улице, где он жил, в присутствии множества свидетелей. С этого момента у меня появилась уверенность в том, что она будет следующей. И теперь я испугался за сестру.
К тому же она имела неосторожность прийти и рассказать мне про отправку своего друга в заключение. Я отчитал ее: «Но ты с ума сошла! Что ты здесь делаешь? Я уже в тюрьме, но ты-то нет! Ты ничего не можешь сделать для меня! Уходи, беги».
Я вздохнул с облегчением, когда она наконец решила уехать в августе 1976 года, после того, как ее квартиру разгромили военные из карательных отрядов, которых окрестили Grupos de tareas (Группы действия). Они взяли все, что смогли, и разрушили то, что осталось. Репрессиям также иногда подвергались и совершенно невинные, но обладавшие желанной собственностью. Я не утверждаю, что были виновные и невиновные, я говорю о людях, которые вообще не занимались политикой, но все равно были сметены этой приливной волной.
Селия стала объектом запугивания, анонимных телефонных звонков с ноября 1975 года. Когда она посетила меня в тюрьме, тюремщики также ей угрожали. Она громко выступала за освобождение политических заключенных. В то время она была одна. Ее муж Луис, с которым они расстались, умер.
Она в спешке бежала через границу Уругвая, пешком (аэропорт Эсейса тщательно охранялся). Оказаться в Уругвае еще не обязательно означало, что можно расслабиться: земля нашего северного соседа также была небезопасной. Дело в том, что Аргентина подписала соглашения о выдаче «подрывных элементов» с соседними странами. Но Селии каким-то образом удалось пробраться незаметно.
В сопровождении своего мужа Карлоса наша подруга Ольга нашла в себе мужество пойти к Селии сразу же после ее бегства. Она хотела посмотреть, что можно было бы спасти после расхищения. В то время как она оценивала ущерб, начал звонить телефон. После нескольких секунд колебаний и взглядов украдкой на Ольгу Карлос все же взял трубку. В «свинцовые годы» самые обычные решения могли повернуть жизнь, сделав ее ужасной. Кто-то, выдавший себя за Роберто, спросил, дома ли Селия. Карлос сразу понял, что этот голос – не голос моего брата. Ребята из «Группы действия» четко знали, что он часто звонил Селии с Кубы или из других мест. Слава богу, они и не подозревали, что Селия уже пересекла границу, что она находится далеко. Карлос сделал вид, что поверил в то, что это Роберто, и ответил, что она вышла за покупками и скоро вернется. Ольга перепугалась. И они бежали, ничего с собой не взяв.
В конце 1976 года моя семья воссоединилась в Гаване – там были все, кроме меня. А я находился в Роусоне, и я был счастлив от того, что они теперь вне досягаемости военной хунты. Селия не осталась на Кубе, она почти сразу же переехала в Испанию в поисках адвокатов, готовых защищать политических заключенных. С 1976 по 1982 год она путешествовала по Европе, пытаясь повысить осведомленность людей, давая интервью и читая лекции там, где ей предоставляли такую возможность. Она провела несколько месяцев в Париже и в Швейцарии. Она говорила по-французски, как Эрнесто, но вскоре утомилась каждодневно говорить на иностранном языке. Изгнание – штука очень трудная. Она была почти без гроша, не могла работать архитектором и жила на подачки добрых душ. Она часто спала на диване, в чужих стенах. Она изготовила постер с моим изображением, который она носила повсюду вместе с фотографией Эрнесто, укладывала их каждую ночь рядом с кроватью и смотрела на нас перед сном. Думается, она была очень одинока.
Она вернулась из изгнания через несколько месяцев после избрания Рауля Альфонсина 30 октября 1983 года. Роберто последовал за ней. А вот Анна-Мария и мой отец предпочли остаться в Гаване. После моего освобождения я виделся с ними достаточно регулярно, так как моя профессиональная деятельность заставила меня часто совершать перелеты между Аргентиной и Кубой. Мой отец сблизился с моими детьми, а также с детьми Эрнесто, особенно с последним, который едва знал своего отца. Они задавали ему много вопросов о Че, и он был рад поведать им о его детстве, юности, его увлечениях и путешествиях.
Мой отец умер в 1987 году в возрасте восьмидесяти семи лет от кровоизлияния в мозг, и умирал он несколько недель. В день, когда случился удар, меня самого госпитализировали в Гаване в самом плачевном состоянии. Я тяжело заболел в Аргентине, но не имел медицинской страховки, и меня через несколько дней по настоянию Роберто перевезли на Кубу. Десять часов перелета были ужасными, и казалось, что они никогда не закончатся. Мне выделили целых три кресла, чтобы я мог лежать. Я думал, что никогда не доберусь до места назначения. Я страдал от крайне редкого заболевания, это был синдром Гийена-Барре[80] – штука, которая случается в одном случае на миллион, которая влияет на периферические нервы и выражается в страшной слабости, а порой и в прогрессирующем параличе.
Когда мы наконец приземлились в Гаване, команда врачей уже ждала меня в аэропорту вместе с машиной «Скорой помощи». Я очень сильно болел в течение трех месяцев. В это время мой отец постепенно угасал на другом этаже больницы. Я был слишком слаб, чтобы встать с постели, и я так его и не увидел. Так или иначе, он находился практически без сознания. Я узнал о его смерти утром по телевизору. Медсестра, находившаяся в моей палате в то время, бросилась выключать телевизор. Но было слишком поздно. Мне не удалось присутствовать на его похоронах. Он покоится в Гаванском военном пантеоне рядом с моей сестрой Анной-Марией, умершей через три года от рака костей.
Как же часто я спорил с отцом! После моего освобождения ему пришла в голову сумасшедшая идея опубликовать переписку моих лет лишения свободы. По его замыслу, эти письма представляли особый интерес: я там писал при помощи кода, чтобы избежать репрессий и цензуры. Я стал настоящим экспертом в искусстве выражать что-то, не говоря об этом непосредственно. Мой отец находил мои письма превосходными и желал поделиться ими с общественностью. Когда он предложил мне опубликовать их после моего освобождения, я взорвался. Не понимаю, как ему только могла прийти подобная идея. Это же была частная переписка между нами. Думаю, моя ярость его сильно испугала. И он отказался от своей затеи.
После его смерти я продолжил ездить туда-сюда между Буэнос-Айресом и Кубой. Я сблизился с моими племянниками и племянницами. Но – и я об этом горько сожалею – я не стал ближе к Фиделю. Просто я никогда не хотел получать выгоду от наших отношений, разве что в самых исключительных случаях.
Может быть, думал я, это не сделает чести моему брату, который был таким неподкупным и имел такое ярко выраженное отвращение к любым привилегиям.
Тем не менее я пребывал в хороших отношениях с Раулем Кастро и его женой Вильмой Эспин Гиллуа. Вильма была очень важной женщиной на Кубе. Она происходила из мощной и влиятельной семьи (ее отец был одним из адвокатов группы «Бакарди»), сама она блестяще училась в престижном MIT[81], где получила диплом в области гражданского строительства. По возвращении на Кубу она присоединилась к «Движению 26 июля» в провинции Орьенте и храбро сражалась с оружием в руках. Она была президентом Федерации кубинских женщин с 1960 года и до самой своей смерти в 2007 году. Она была очень сильной женщиной, воинственной, да еще и феминисткой, творившей чудеса во имя прав женщин и гомосексуалистов. До Фиделя Куба считалась страной несгибаемых мачо. Вильма помогла трансформировать ментальность. Ее дочь Мариэла стала директором Национального центра полового воспитания на Кубе; ее сын Алехандро служил полковником в министерстве внутренних дел. Мариэла гораздо больше похожа на мать, чем на отца. Рауль же в первую очередь военный! Он не говорит, он отдает приказы. Я действительно был весьма близок к этой семье. И в течение многих лет именно в их маленькой гостинице я останавливался, когда приезжал на Кубу.
С другой стороны, я не знал нынешнюю жену Фиделя Далию Сото дель Валле. Она также долгое время оставалась неизвестной широкой публике. Фидель всегда был весьма сдержан. Он, казалось, не имел вообще никакой личной жизни, редко выходя за пределы своих служебных обязанностей, в которых никогда не участвовала его жена. Давно говорили, что он был очень близок с кубинской революционеркой Селией Санчес. Может быть. Я думаю, что Фидель был одержим вопросами безопасности. Его дети никогда не выходили из тени. Мы почти не знали, кем они были или даже сколько их было. У Фиделя Кастро было одиннадцать детей от семи женщин, две из которых были его женами. У меня была возможность встречаться с его сыном Алехандро.
Единственный раз я напрямую обратился к Фиделю, чтобы что-то получить, когда мне захотелось, чтобы моя дочь Анна вернулась на Кубу в 1984 году. Она провела несколько лет на острове, вернулась в Буэнос-Айрес со своей матерью, но не смогла адаптироваться в Аргентине. Я написал Фиделю. Он мне сразу же ответил очень ласковым письмом, очень красивым, сопроводив его подарками: он не только согласился с тем, чтобы Анна переехала на Кубу, но и гарантировал ей жилье и работу. За это я был ему очень благодарен.
После падения военной диктатуры Мартин и Пабло, два других ребенка от моего союза с Марией Эленой Дуарте, также вернулись жить в Буэнос-Айрес на какое-то время. Но прошло девять лет с момента их отъезда в изгнание, и вся их жизнь теперь была связана с Кубой. И они уехали. Мой сын Мартин и дочь Анна теперь живут в Испании. А вот Пабло до сих пор проживает на Кубе.
Я сохранил контакт с бывшими боевыми товарищами Эрнесто, с Гарри Вильегасом и Леонардо Тамайо, пережившими не только партизанскую войну в Сьерра-Маэстре, но и бои в районе Ньянкауасу, и занимавшими важные посты в кубинском правительстве. Они сделали признание, глубоко тронувшее меня. В то время, как они сражались в Боливии, Эрнесто часто говорил обо мне. А однажды он признался им, что из всех своих братьев и сестер он именно меня считал своим духовным наследником, тем, кто мог бы продолжить его борьбу и привести ее к успеху. Об этом я думаю сегодня при написании этой книги.
«Во веки вечные вы мои дети…»
Однажды я случайно зашел в один ресторан в Гаване с Алехандро Кастро, сыном Фиделя, и Селией, дочерью Эрнесто. И, слово за слово, мы начали говорить о том, что значит для каждого из нас родство с этими прославленными людьми. Я не знал его братьев и сестер, но мы поняли, что Алехандро был тем, кто больше всех пострадал от своего происхождения. Его всю жизнь слишком охраняли и окружали телохранители. Безопасность Фиделя всегда была одним из ключевых аспектов в жизни его семьи. Неоднократные акты агрессии со стороны Соединенных Штатов заставляли его опасаться, что возьмутся и за его потомство. И его дети выросли без права выходить на улицу в одиночку. А потом, быть сыном Фиделя – это же такой груз! Алехандро восхищался своим отцом, но он не мог свободно об этом говорить. Он был фотографом и делал портреты… Фиделя. Хоть они и были прекрасны, но главным в его фотографиях был не он, а, конечно же, Фидель. Бедняга так и прожил всю свою жизнь в тени Líder Máximo (вождя нации).
Моя племянница Селия стала ветеринаром, большим специалистом по дельфинам. Она работает в Гаванском аквариуме. Много лет назад она приняла решение никогда не говорить о своем отце. Она развелась со своим мужем-чилийцем и вела очень спокойную жизнь со своими детьми. Она не захотела заниматься делами Centro Estudios (Исследовательского центра) имени Че Гевары в Гаване и музеем, миссия которого заключается в сборе архивов Че, будь то рукописи, книги, речи, статьи или фотографии. Центр Че возглавляет ее брат Камило, ныне фотограф, который до этого занимал несколько постов в кубинском правительстве.
Я мало знал мою племянницу Ильду, старшую дочь Эрнесто. Когда я вышел из тюрьмы, ей уже было двадцать семь лет, она была замужем за мексиканцем и работала в библиотеке. Уже тогда она мучилась депрессиями. Она умерла от рака в возрасте тридцати девяти лет.
Алейда стала педиатром, специалистом по детской аллергии. Она работает в одной гаванской больнице. Она осуществила множество гуманитарных миссий в Анголе, Никарагуа и Эквадоре. Она выступает за права человека, а также управляет двумя центрами для детей-инвалидов и жертв жестокого обращения. Алейда неустанно путешествует, стремясь содействовать свободному доступу людей к здравоохранению. Она говорит, что отец – ее вдохновение. Она также издает журнал «Парадигма», где работает вместе со своим братом Камило.
Мои племянницы и племянники едва знали своего отца[82]. Когда он отсутствовал, он посылал им открытки с картинками. И они сохранили красивое прощальное письмо, написанное им перед отъездом в Боливию:
«Моим детям.
Дорогие Ильдита, Алейдита, Камило, Селия и Эрнесто, если вы читаете это письмо, значит, меня больше нет с вами. Скорее всего, вы вряд ли вспомните меня, а самые младшие точно не запомнят. Ваш отец всегда жил в соответствии с тем, во что верил, и поступал он согласно своим убеждениям. Вырастайте хорошими революционерами. Учитесь прилежно, чтобы освоить знания и технологии – это помогает овладеть природой. Не забывайте, что важнее всего – революция, но каждый из нас поодиночке ничего не значит. Прежде всего всегда обостренно воспринимайте любое проявление несправедливости – против кого угодно, где угодно в мире. Это самое прекрасное качество революционера. Во веки вечные вы мои дети, и я все еще надеюсь увидеть вас. Целую и крепко обнимаю. Ваш папа»[83].
Эрнесто очень мучила невозможность играть роль отца. Он любил своих пятерых детей и расстраивался от того, что не мог засвидетельствовать эту свою любовь из-за длительных и регулярно повторяющихся отъездов. Он разрывался между добром для своих детей и добром для всего мира. Кто больше всего нуждался в нем? Алейда Марч была матерью очень внимательной, и он рассчитывал на нее в деле обучения детей. «Мои дети называют папой солдат, которых они видят каждый день, а меня они никогда не видели», – жаловался он. Или так: «Иногда мы, революционеры, бываем очень одиноки, и даже наши дети считают нас почти незнакомыми людьми. Они видят нас реже, чем часового, которого они называют дядей». Отдаление от своей семьи было для него огромной жертвой. В январе 1965 года, находясь в Париже, он написал Алейде: «На самом деле, я старею. Я все больше и больше люблю тебя, и я чувствую привязанность к нашему дому, к нашим детям, ко всему этому маленькому мирку, о котором я думаю тем больше, чем дольше я его не вижу. Ментальный возраст, что я ношу в себе, очень опасен; ты становишься необходимой, тогда как я – всего лишь привычка». Для его детей расти без отца на Кубе, где его так почитали, было очень трудно.
Я никогда не касался постоянного отсутствия Эрнесто в разговорах с Алейдой Марч. На следующий день после того, как Фидель публично прочитал его прощальное письмо в театре, она оделась во все черное и молча плакала на балконе. Она очень любила моего брата, это даже было настоящей страстью. Она потом зажила другой жизнью с одним членом правительства. Кубинцы не простили ее. Они считали, что она должна была оставаться верной Че и во вдовстве, обязана посвятить всю свою жизнь его памяти, и ничего больше! Я понял это из разговоров с людьми. И тем не менее определенным образом Алейда все же посвятила свою жизнь погибшему мужу. Кроме того, она работает в Исследовательском центре имени Че Гевары. Я даже порой задаюсь вопросом, как ее нынешний супруг живет со всем этим?
Я испытываю большую привязанность к моим племянницам и племянникам. Я стараюсь помочь им в жизни, делаю все, чтобы видеть их как можно чаще, что-то советовать. В то же самое время я не психотерапевт и создан не для того, чтобы задавать им слишком много вопросов или их анализировать. Есть темы, на которые я с ними говорю только тогда, когда они сами меня спрашивают. Иногда мы беседуем об Эрнесто, но всегда в достаточно легком тоне. Они шутят. Эрнесто, сын Че, например, любит повторять, что его отец забыл передать ему свои нейроны. Чувствуется, что это все очень сложно для них, и они стараются над этим смеяться. Я делаю то же самое. В них есть некий вакуум, и я пытаюсь заполнить его, как могу. Когда они приезжают в Аргентину, я изо всех сил пытаюсь сделать так, чтобы они чувствовали себя как дома. Эрнесто ощущает себя более аргентинцем, чем его братья и сестры, но, в конце концов, его жизнь – это Куба. Именно с ним я в большей степени близок. Это весьма интересный человек, который не захотел соответствовать ожиданиям своей семьи, эдакий нонконформист, делающий вид, что уступает, но затем все равно совершающий то, что задумал.
Эрнесто бегло говорит по-русски: он обучался праву в Советском Союзе. Он стал адвокатом – больше из обязательств, чем из желания. Ему хотелось быть механиком, но Алейда не могла себе представить, чтобы ее сын, а главное – сын Че, не имел высшего образования. И она отправила его в Московский университет. Но на досуге он занимается механикой, ставшей его истинной страстью. Он специализируется на мотоциклах, в частности на марке «Харлей-Дэвидсон». И нет никаких сомнений в том, что кровь моего дяди Хорхе де ла Серна течет в его венах! Он приобрел такой опыт, что в настоящее время считается одним из лучших механиков по марке «Харлей-Дэвидсон» в мире. У него есть два своих старых «Харлея», это эдакие винтажные реликвии, но он содержит их в хорошем состоянии. На острове нужно быть чертовски хорошим механиком, чтобы управляться с подобными штуковинами! Однако даже с его талантами его два «Харлея» позволяют ему лишь просто кататься по городу, им не до поездок по сельской местности. Мать не всегда одобряет его поступки. Ей, например, не понравился его отказ принимать участие в деятельности Исследовательского центра имени Че Гевары. Но Эрнесто уже полтинник, и он решил, что настало его время и он может делать то, что ему нравится. Недавно у него возникла идея купить двенадцать «Харлеев», чтобы организовывать круизы в сотрудничестве с туристическим агентством. Он назвал это предприятие «La Poderosa Tours» – в честь мотоцикла[84] Альберто Гранадо, на котором Эрнесто и Миаль кочевали в 1951 году по Южной Америке. Круиз проходит по самым символическим местам, связанным с кубинской революцией. Когда стало известно об этом проекте, кубинская диаспора в Майами практически задохнулась от ярости. Они нашли это неприличным.
Из пятерых детей моего брата Эрнесто труднее других нести на себе тяжкий груз своего прославленного происхождения.
Я всегда говорил, что есть две титанические задачи, которые невозможно выполнить: убедить мою сестру Селию и моего племянника Эрнесто заговорить о Че. Мне кажется, для них было бы легче подняться на Эверест!
Однажды Эрнесто попросил меня сопровождать его в Санта-Клару, где находится мавзолей Че, импозантный памятник, почти сакральный. Он, кстати, мне не нравится. Это был октябрь, месяц его смерти и месяц проведения торжественных мероприятий. Я не хотел ехать туда в день церемоний, которые обычно проходят 8 октября, чтобы избежать встреч с толпой и с прессой. Эрнесто согласился подождать два дня. К сожалению, и 10 октября там было полно народа. Подошла журналистка, которая, должно быть, узнала меня. Я предложил ей поговорить с сыном, а не с братом. Постепенно, по мере того как она приближалась, Эрнесто пятился назад. Вскоре он оказался буквально прижатым к стене, и она воспользовалась этой возможностью, чтобы поставить микрофон прямо у него под носом. В результате он вынужден был что-то говорить. И он до сих пор не простил меня за то, что я его так «подставил»!
Мы часто ошибочно воспринимаем кубинцев
С момента объявления исторического сближения между США и Кубой многие журналисты с аргентинского телевидения и радио связывались со мной. Они интересовались моим мнением. Как брата Че или просто аргентинца, обладающего глубоким знанием острова и привилегированным положением на нем? Я не знал, что сказать, и мне было все равно. Я близок как к руководству, так и к кубинскому пролетариату. У меня есть связи с государственными лидерами, а также с большим количеством простых рабочих. Но все это не делает меня кубинцем. Мое родство с Че, возможно, создает у журналиста впечатление, что мое мнение более ценно, чем какое-то другое.
Прежде всего я хочу уточнить, что моя поддержка кубинского революционного процесса непоколебима и что кубинско-американские дела мне практически неизвестны.
Так сложилось, что как раз перед объявлением «оттепели» я помог своему племяннику Эрнесто приобрести 12 мотоциклов, необходимых для его туристического проекта. Некоторые люди сразу же сделали вывод, что я участвовал в тайных переговорах и что я знал, что американские туристы потянутся на Кубу. Аргентинский телеканал TN пригласил меня на свою передачу для неформального обсуждения Барака Обамы и Рауля Кастро. Хотя я и знаю Рауля, но я не его представитель, и, уж само собой разумеется, я никогда не встречался лично с президентом США! Но я пошутил в своем ответе, что Обама, конечно же, позвонил мне, чтобы попросить меня запустить «La Poderosa Tours». Но если отставить шутки в сторону, то проект начался с череды случайностей, и как говорил мой друг Орландо Фундора: «Все, что происходит, уместно» (sic).
Тем не менее одному журналисту TN я заявил следующее: Куба для меня гораздо важнее, чем просто сюжет о международной политике. Я чувствую близость к Кубе, это моя вторая родина, моя вторая семья, мой второй дом, хотя я никогда и не проводил там больше, чем три месяца, и у меня нет там никакой официальной должности. Она приняла моих родных без всяких сомнений, когда Аргентина их преследовала. Это любимое и знакомое мне место. Я езжу туда регулярно с 1959 года, я объехал Кубу с севера на юг и с востока на запад, и я к ней глубоко привязан. По всем этим причинам я думаю, что обладаю довольно точной картиной событий.
В целом, если вы хотите знать мое мнение об «оттепели», я начну с того, что происходит в политической и дипломатической областях: изменения, которым мы являемся свидетелями, – это результат долгого процесса, начатого кубинцами из Майами и из Гаваны, даже если остальной мир до недавнего времени и не подозревал, что он идет. На самом деле всегда имели место человеческие контакты между двумя странами, и они все – из области любви-ненависти. Иногда любовь брала верх, а иногда – ненависть.
Многие островные кубинцы имеют близких или дальних родственников в Соединенных Штатах. И наоборот. Как с одной, так и с другой стороны, так называемая старая гвардия практикует двойной стандарт: на людях они говорят одно, а в частном порядке – другое. Люди с острова, решившие остаться, уже давно считали уехавших предателями отечества, gusanos (земляными червями, практически ничем). «Если ты бросился в море, чтобы добраться до Майами, и ты добрался, – это твой выбор, – говорили они. – И теперь, когда ты там, ты будешь нас критиковать? Нет! Да пошел ты!» В то же самое время те, кто остался на Кубе, всегда принимали деньги, отсылаемые из Флориды и иных штатов, где поселились люди из кубинской диаспоры. Что касается последней, то она критиковала Кубу, но в конечном итоге все равно помогала ей, посылая туда деньги.
В 90-е годы я знал одну семью, где бабушка жила в том же доме, что и до революции. Ее старший сын уехал жить в США, а младший остался на Кубе. Он был чиновником. Бабушка продолжала общаться со своим сыном и внуками из Майами. А младший считал, что его брат переметнулся к противнику. Она защищала своего сына-беглеца. Но прошло время, и критика младшего постепенно начала становиться все более и более комплиментарной. Именно по этой семье я лично наблюдал за эволюцией менталитета.
Кубинские эмигранты, как правило, считают себя лучше информированными. Они воображают, будто их соотечественники на острове ничего не знают. Это не так! Я признаю, что Интернет на Кубе медленный и что пресса там не отличается плюрализмом. Но у каждого имеется спутниковая тарелка, и можно смотреть телевизионные программы из Майами. Компакт-диски и DVD-диски спокойно продаются. Информация также проходит через то, что называется radio bemba (сарафанное радио), и через общение с теми, кто уехал. В Гаване можно увидеть молодых людей, ищущих более удобные места для подключения к Wi-Fi, вроде Ла-Рампы или «Президент-отеля». Современная техника и технологии позволяют им оставаться в курсе событий. С другой стороны, островитяне много читают. Они образованны, знают и уважают свою историю. Их видение мира гораздо более широкое, чем мы себе представляем. Когда они приезжают во Флориду, они уже обучены и подготовлены. Они многое знают благодаря системе бесплатного образования. И они тут же начинают что-то организовывать, строить, что-то предпринимать. И совершенно не случайно, что они быстро добиваются успеха.
Кубинское лобби в Майами изменилось. Как я полагаю, это произошло потому, что молодые люди хотят нормализовать отношения, чтобы поехать на Кубу, чтобы навестить родственников. Они уже не экстремисты, как их родители или бабушки с дедушками. Арьергардные сражения – это не для них. Они не признают это, потому что они не имели такого опыта. Они не хотят конфликтов, ибо это кажется им смешным и неуместным. То же самое происходит и на Кубе.
Кубинское правительство всегда меняло правила и законы в зависимости от изменений в стране. Оно приспосабливалось к свершившимся событиям. Существует невероятное количество денег под матрасом, отправленных или привезенных диаспорой. С тех пор как были разрешены чартерные рейсы из Майами и из Нью-Йорка (аэропорт Хосе Марти в Гаване имеет специальный терминал для приема этих пассажиров), около миллиона кубинских эмигрантов посетили остров за последние десять лет. Если предположить, что каждый привез с собой 10 000 долларов (разрешенную сумму), то получится, что на Кубу пришли 10 миллиардов долларов, и это не считая денег, передаваемых через «Western Union». Соединенные Штаты только что разрешили авиакомпаниям открывать коммерческие рейсы между двумя странами. Предполагается, что их число достигнет ста десяти ежедневных рейсов (для сравнения: пока имеется около 25 чартерных рейсов в день).
В течение многих лет островитяне копили деньги, не имея реальной возможности их тратить. Они не могли официально покупать жилье (многие кубинцы владеют старыми семейными домами), но при этом имели право заниматься бартером. И что они делали? Они делали вид, что меняют двухкомнатную квартиру на дом с пятнадцатью комнатами, оплачивая разницу «под столом». Очевидно, что это было секретом Полишинеля. Ну кто, скажите, поверит, что владелец целого имения захочет обменять его на обычную двушку?
Принимая во внимание не только тот факт, что оно не способно пресечь этот черный рынок, но при этом еще и теряет большие деньги, кубинское государство, в конце концов, узаконило имущественные сделки и подвергло их налогообложению. Оно просто подтвердило и без того уже прочно укоренившийся процесс.
В Соединенных Штатах имелось Бюро по кубинским делам, которое играло в то, что кубинцы называют «рулеткой». Время от времени оно санкционировало посещение острова каким-то кубинцем из Майами. Со временем разрешений становилось все больше и больше. Теперь, когда обмены либерализованы, деньги поступают в открытую. Всякий раз, когда я еду на Кубу, я вижу колоссальные изменения. Парикмахерские, рестораны и станции автотехобслуживания растут, словно грибы после дождя!
Обама признал, что пришло время изменить политику. За пятьдесят лет эмбарго, объявленное в 1962 году, не дало никаких результатов. И я думаю, что это произошло также под влиянием изменений в других странах Латинской Америки, которые свернули влево и стали ближе к Кубе.
Одна история так и стоит у меня в памяти. Я был на Кубе в очень трудное время для острова. Я остановился на заправочной станции. Работник принял меня за испанца из-за моего светлого цвета кожи. Он сразу же начал жаловаться, заправляя машину. «Ойе, Pepe[85], – сказал он, – попытайся только представить себе, что значит для нас жить в этой стране. Это ужасно! У нас нечего есть». Я рассмотрел его с ног до головы. Он был толстый, практически жирный! И я ответил ему: «Ты смеешься надо мной? Ты смеешь говорить мне, у тебя какие-то проблемы с питанием! Я, конечно, готов слушать твои стенания, но найди для них какой-нибудь другой повод!»
Я очень люблю кубинский народ. Он замечательный, он – стоик, он делает то, что ему нравится, в темпе, который ему подходит. Что касается героизма и храбрости, то и тут ему нет равных! Он одним из первых метнется на борт челнока, чтобы изменить свою жизнь. Он – эксперт в искусстве говорить без перерыва, не говоря при этом абсолютно ничего. Он способен курить сигары под водой. Он полон жизни, он танцует, он смеется, он шутит, в нем живет стремление к счастью, некий особый темперамент, прекрасное чувство юмора, и он все свои проблемы обращает в насмешку. Печальная история, которая стала бы объектом наполненного болью танго в Аргентине, на Кубе превращается в шутку. Перебои в подаче электроэнергии тут часты, они даже стали нормой. Но кубинцы смеются. А когда есть свет, они восклицают: «О, свет!» Они любят повторять такую шутку. На краю пропасти стоит капитализм и смотрит вниз. И что он видит на дне? Коммунизм, который уже разбился вдребезги.
Дверь кубинца всегда открыта. Гостеприимство и солидарность – вот лишь некоторые из его великих качеств.
Он продолжает рассматривать человека как живое существо, а не как какой-то предмет или машину. Он не стремится обжулить своего соседа, подметить, что можно было бы взять у него. У него нет «Феррари», «Мерседеса» или частного самолета. И что с того? Он что, от этого глубоко несчастен? Я знаю одну молодую кубинку двадцати шести лет, которая только что переехала в Буэнос-Айрес. Это очень красивая девушка, образованная, культурная, умная и тонкая, она из Гаваны и до этого никогда не покидала Кубу. Так вот, в первый раз, когда она пошла здесь по магазинам, она была в шоке. Она искала себе пару белых туфелек. И что же ей сказала продавщица в обувном магазине, когда она попросила примерить белые балетки? Что новая мода – это туфли без пятки, которые годятся для любого Porteñas[86], и что нужно обязательно иметь и их тоже, чтобы тебя не обвинили в дурном вкусе. Моей подруге были чужды мода и разные сезонные концепции, эти понятия она считала несерьезными. На Кубе нет моды. Там одеваются дешево и весьма утилитарно.
Куба, безусловно, представляет собой более бедное общество, чем в большинстве развитых стран, но при этом более справедливое, менее материалистическое, с очень развитыми критериями равенства и справедливости. Кубинец имеет какое-то особое чувство нравственности, братства и справедливости. Женщина там равна с мужчиной. Она делает то, что желает ее тело. Она может совершить аборт. Никто не будет заставлять ее рожать ребенка, которого она не хочет. Преступность почти равна нулю. Юстиция работает. Насильственная смерть человека, будь то мужчина или женщина, как правило, в тот же день приводит к аресту преступника. Чувство безопасности, которое там возникает, является результатом изменений, которые революция привнесла в общество. На Кубе нет организованной преступности.
Часть доходов государства идет на общественное здравоохранение, другая – на образование, третья – на социальные программы, в частности, на семейные пособия, детские сады и т. д. Социальные и общечеловеческие ценности, настолько дорогие кубинцам, рискуют исчезнуть с возвращением Соединенных Штатов на остров. США хотят выиграть идеологическую войну. В течение пятидесяти лет их цель состояла в том, чтобы превратить Кубу в капиталистическую страну. Короче, капитализм разрушает равенство – достаточно посмотреть на то, что происходит в Китае, где уже имеются сотни миллионов миллионеров, а также привилегии партийных чиновников и бизнес-лидеров. И все же изменения, которые я наблюдаю на Кубе, необходимы.
Для создания и поддержки социальных программ кубинскому государству пришлось сбалансировать зарплаты. А что такое справедливая зарплата? Это сумма богатств страны, разделенная между ее жителями. Куба не знает нелепого неравенства, характерного для других стран, например для Соединенных Штатов, где разница между зарплатой простого работника и руководителя предприятия сегодня достигает 300 %. США разграбляют ресурсы других стран, но они не перераспределяют эти богатства в пользу своих собственных граждан. И еще меньше они думают о жителях ограбленной страны. В то же самое время кубинцы посылают своих лучших врачей за границу, чтобы спасать чужие жизни. Не будем забывать, что именно они были очень активны в Западной Африке во время вспышки эпидемии лихорадки «Эбола».
Куба – небольшая страна, где обитает одиннадцать миллионов жителей, которые в течение более пяти десятилетий мужественно противостояли самой крупной мировой державе. Этот боевой дух достоин восхищения. Куба жила плохо, но она все-таки выжила – прошла тот «особый период», который пришел на смену «холодной войне». После потери поддержки со стороны СССР, когда пала Берлинская стена и ничего не осталось, она смогла выжить, в частности, за счет развития туризма. Никто всерьез не верил, что Куба сможет пережить распад СССР. Она показала обратное. Она сплотилась вокруг Фиделя. Кубинцы продолжили отстаивать концепцию солидарности и справедливости, даже приблизившись к капиталистической модели, которая по сути своей гораздо более эгоистична. Я называю эту смесь капитализма и социализма так – «capisol» (sic). Это – явное противоречие, но у какого народа такого нет? Кубинцы с нетерпением ждут американские круизные суда, но в то же самое время и испытывают страх перед тем, что могут оказаться безвозвратно запачканными. Они хотят, чтобы «гринго» приходили к ним тратить свои деньги, но они также знают, что изменения, которые принесут новые источники дохода, поменяют менталитет, и вовсе не обязательно в позитивном смысле. Они одновременно и возбуждены и нервничают по поводу людского прилива, который обязательно обрушится на их берега. Франция тут не является исключением: после объявления об «оттепели» президент Франции Франсуа Олланд направился на Кубу с целью развития дипломатических и торговых отношений. Он прибыл в Гавану в сопровождении нескольких бизнесменов, в том числе представителей «Pernod Ricard», гостиничной сети «Accor», компаний «Air France», «Carrefour» и «Orange». И можно предположить, что часть доходов от этих проектов пойдет французам.
Мы часто ошибочно воспринимаем кубинцев. Они никогда не были марксистами – просто сторонниками Кастро и революционерами. Один друг недавно сказал мне: «Куба зависела от Испании в течение четырех столетий, потом были Соединенные Штаты, потом – Советский Союз, и в настоящее время она готовится вновь оказаться под американским влиянием. Круг замкнулся». Проблема заключается в том, что Куба не имеет иного выбора. Она не может сама постоять за себя и противостоять миллионам инвесторов, специализирующихся на эксплуатации ресурсов и открытии новых рынков. Чего ожидают от Кубы? Что она станет Швейцарией или Францией? Ее сравнивают с развитыми странами. Но почему бы вместо этого не сравнить ее с соседней Гаити или Доминиканской Республикой? Или с Гондурасом? В какой из этих стран лучше? Где заботятся и обучают своих граждан бесплатно? Где меньше преступность? Но для той страны, что попыталась быть локомотивом триумфального социализма и изменить весь мир, все очень сложно, когда всего в 180 километрах находятся Соединенные Штаты! Судьба мирового социализма не может зависеть только от нее.
Ее бизнес-модель успешна? Это зависит от точки зрения. Че подошел к проблеме индустриализации в 1963 году, заявив в знаменитом интервью Жану Даниэлю: «В основном наши трудности – последствия наших ошибок. И они многочисленны. Ошибка, которая нанесла нам наибольший ущерб, это было недопроизводство сахарного тростника». Он также говорил по другому поводу: «Что мне нравится меньше всего – это отсутствие порой у нас мужества при столкновении с определенными реалиями, экономическими или политическими […] Порой у нас появляются компаньоны, следующие политике страуса, который прячет голову в песок. Что касается экономических проблем, то мы обвиняем то засуху, то империализм… иногда мы сами не хотели открывать что-то новое, мы на это просто не решились, а затем только американская модель и осталась».
Что произошло бы, если бы Че остался на Кубе? Очевидно, это невозможно знать точно. Он думал, что в целом остров идет по правильному пути и находится в хороших руках, а посему он мог пойти повторить этот опыт в другом месте. Осталась ли Куба верной духу Че? А Че, в свою очередь, ответственен ли за свои неудачи? Это диалектическая ловушка. Эрнесто хотел индустриализировать страну и диверсифицировать производство. Поэтому именно он стоял у истоков министерства промышленности. Он хотел расширить торговлю: оптом Куба экспортировала сахар и импортировала мясо. Но этого не могло быть достаточно, чтобы обогатить страну. Она должна была стать более независимой, чтобы продолжить свою революцию.
Имидж Эрнесто очень чувствуется на острове, но трудно измерить его фактическое влияние на политику Кубы. В кубинских школах ученикам преподают подвиги Че, о нем говорят как о герое страны, но его мысли не изучены. Мало тех, кто знаком со всей их глубиной. Министерства промышленности больше не существует, нет и волонтерской программы работы, которую он создал и которая была в первую очередь тем, что я называю «генератором совести», ибо ее назначение было вовсе не экономическим, а социальным и гуманитарным.
Кубу обвиняют в репрессиях. И это Соединенные Штаты смеют осуждать нарушения прав человека, в то время как они сами имели тюремный лагерь в Гуантанамо на Кубе аж с 2002 года, и он был центром внесудебного задержания, где арестованные могли содержаться в течение неограниченного времени! В действительности на Кубе не было никаких реальных политических репрессий. Теперь мы знаем, что пятьдесят три задержанных, о которых так много говорили как о несчастных политических заключенных, были на самом деле агентами ЦРУ, обнаруженными кубинскими спецслужбами! Кроме того, большое количество так называемых диссидентов на Кубе были наемниками, которых поддерживали Соединенные Штаты. И что Куба должна была делать? Дать им спокойно творить то, что им хочется? Если ЦРУ стремилось дестабилизировать остров путем создания антикастровских организаций, то очевидно, что Куба вынуждена была защищаться! Сколько раз ЦРУ совершало попытки убийства Фиделя? Куба подвергалась нападениям в течение пятидесяти четырех лет, в то время как она сама не напала на Соединенные Штаты. И нас все это время пытались убедить, что именно она представляла опасность для мира во всем мире! Что ответил Че в 1964 году в интервью для программы CBS «Face the Nation», когда журналисты спросили его, как он видит американо-кубинские отношения? «Что хочет Куба, так это, прежде всего, чтобы Соединенные Штаты оставили ее в покое. Нам не нужен конфликт. Мы хотим, чтобы вы забыли про нас. Это все, что мы просим, и это довольно просто». Но Соединенные Штаты не могли забыть Кубу. Они стали словно одержимы ею. В последние десятилетия они лишь тиражировали ложь. Например, что люди не могут свободно выражаться. На Кубе мы были свободны непринужденно говорить на улице, и никто не приходил потом и не предъявлял счет. Что мы не могли делать свободно – так это высказываться в газетах. Еще один малоизвестный факт – это выборы. На Кубе, кстати, имеется гораздо больший выбор, чем в любой другой стране. Да, там нет прямых президентских выборов, но есть множество выборов муниципальных, региональных и парламентских. Национальное Собрание Кубы состоит из шестисот двенадцати человек, избранных народом. И никто не приставляет им пистолет к голове, чтобы заставить голосовать каким-то определенным образом.
Предал ли Фидель Че, бросив его в Боливии? Послал ли он его на новую войну, чтобы избавиться от него, чтобы удовлетворить советских лидеров, которых Эрнесто начал критиковать в своих речах? Ничто до такой степени не далеко от истины. Фидель и Че имели общие взгляды на мир и революцию, необходимую для того, чтобы положить конец нищете, которую капитализм и его альтер эго империализм навязывали людям. Но Фидель должен был остаться на Кубе, а Че хотел отправиться сажать семена независимости, равенства и социалистических идеалов в других странах. Он покинул Кубу добровольно. Его переписка не может более ясно выразить его мнение по этому вопросу. Эрнесто был врагом крупных компаний, транснациональных корпораций и капитализма, а Фидель имел других врагов. Но так как Че был убит и похоронен, стали нападать на Фиделя, который остался жив. Фидель принял на себя роль плохого парня, козла отпущения. Он стал предателем и трусом. При этом именно Фидель взял на себя заботу о детях Эрнесто, которые называли его tio (дядя) и нежно любили. Вот доказательство его деликатности по отношению к нашей семье – кубинское правительство предотвратило публикацию знаменитой фотографии смерти Эрнесто, той самой, что так травмировала меня 10 октября 1967 года, а также фотографии его отрубленных рук. Из соображений порядочности по отношению к нам и потому, что это было слишком болезненно.
Однажды Фидель произнес очень важную речь в Гаване в присутствии советского посла Юрия Петрова. Это было в 1987 году, а потом Фидель посмотрел Юрию Петрову прямо в глаза и сказал: «Я думаю, что вам не повредит, если вы проведете какое-то время за чтением работ Че. Понимаете, здесь, в Латинской Америке, тоже имеются свои мыслители».
Что я мог сделать, кроме как сеять семена?
Случай порой творит хорошие вещи. Хоть моя авантюра с кафе-рестораном и закончилась плохо, она, по крайней мере, дала мне возможность встретиться с французской журналисткой Армеллой Венсан и сделать эту книгу. Действительно, именно за столиком в epicúreos родилась наша дружба, и было это в 2007 году. Аргентинская подруга рассказала ей обо мне после прочтения интервью – моего первого – в ежедневнике «Página 12», в котором я утверждал, что государство должно произвести обещанные репарационные платежи политическим заключенным за их пребывание в тюрьме, потому что оно медлило с выполнением этого своего обещания. Когда Армелла узнала о моем существовании, она сразу же захотела встретиться со мной. Как и большинство людей, она никогда не рассматривала возможность того, что Че мог иметь брата, да еще живого! Она немедленно отправилась на мои поиски в квартал Лас-Каньитас (интервью не уточняло ни названия, ни адреса epicúreos), и наконец она нашла меня. Она представилась и попросила меня об интервью. Я отказался. Просто в то время я не был готов. Но я пригласил ее на кофе. Ее сопровождал ее аргентинский муж. Мы много говорили. Я немного рассказал о своей семье. Армелла выглядела весьма заинтересованной. Мы встретились на следующий день в обед. В ходе беседы я узнал, что Клаудио, муж Армеллы, бежал из Аргентины в 1974 году после того, как его задержали за революционную деятельность, и он принимал активное участие в движении Гевары. Это неизбежно создало некие особые связи. Итак, я, в конечном итоге, дал интервью Армелле. Она написала обо мне во французском журнале «L’Amateur de cigare» («Любитель сигар»). Мы оставались на связи. Когда мы встретились в Буэнос-Айресе в марте 2015 года, я сказал ей, что хотел бы теперь почтить память моего брата, и она предложила мне идею книги. Так родилась эта книга, вышедшая во Франции.
Я отказывался говорить об Эрнесто в течение многих лет. От скромности, по молчаливому соглашению с моими братом и сестрами, в качестве реакции на моего отца, который активно играл роль «отца Че» на Кубе, и, без сомнения, из-за страха. Зачем говорить, что я был его братом? Чтобы меня убили? Действительно, уже после диктатуры, когда опасность миновала, я не задавался вопросом, почему я до сих пор чувствовал себя столь некомфортно от одной мысли о том, чтобы коснуться темы нашего родства. Это был очень личный вопрос. Че был моим братом, прежде чем его увенчала слава героя. Я боялся использовать его память, как это сделали многие другие. Поэтому я молчал, постоянно сталкиваясь с его изображениями на улицах по всему миру, где он продолжал существовать уже в качестве легенды. Этот миф был невыносим для меня и навсегда таковым останется.
Однажды, в октябре 1973 года, я был на Кубе с семьей, когда с моим сыном Мартином случился очень тяжелый приступ астмы. Предполагаю, что он унаследовал эту болезнь от своего дяди Эрнесто, как и его брат Пабло. Двое моих сыновей были астматиками. Но не я. У меня появились весьма странные проблемы с легкими при выходе из тюрьмы, но это была не астма. Я отвез Мартина в клинику Боррас, больничный комплекс в Гаване. Его случай оказался настолько серьезным, что врачи решили госпитализировать его и перелить ему сыворотку крови. Он едва мог дышать.
Конечно, благодаря моему имени докторша узнала меня. На следующий день она отвела меня в сторону: «Сеньор Гевара, – сказала она, – мы хотим пригласить вас принять участие в церемонии, которая состоится завтра. Мы будем вручать награды лучшим сотрудникам от имени Че и рассчитываем на ваше присутствие». Октябрь – это месяц мероприятий, посвященных смерти Эрнесто и Камило Сьенфуэгоса. Я отказался, объяснив, что предпочитаю молчать и что я прибыл в больницу, потому что мой сын болен. Врач была маленькой, но крайне авторитарной, и она ничего не хотела слушать. Она посмотрела на меня горящими глазами и заявила тоном, не терпящим возражений: «Послушайте меня, сеньор Гевара. Вы имеете полное право говорить или не говорить. Однако мне кажется, что ваша позиция состоит в том, что вы – большой эгоист. Всем известно, что вы тут не имеете ни малейшего представления о вещах, которые вы могли бы сказать, и вы зарыли все это глубоко внутри себя. Если предпочитаете держать их в себе, это ваш выбор, но я не согласна». Я был поражен.
Она говорила без конца и стояла на своем. Устав от ее увещеваний, я уступил. Что я мог сделать? Я спросил у нее про время и место проведения церемонии, и я там появился, не имея ни малейшего представления о том, что буду говорить. Они поставили длинный стол в большом зале. Присутствовали директор больницы, врачи, медсестры, санитары… Я никого не знал в этой среде. Они посадили меня в конце стола и забыли про меня, к моему огромному облегчению, на все время, пока вручались награды. Я задумался. Меня никогда еще не просили делать так. Что я должен сказать? Неожиданно докторша взяла микрофон и объявила: «Мы имеем честь видеть с нами сегодня вечером брата доктора Эрнесто Че Гевары, героического партизана…» Прежде чем она успела закончить фразу, все встали и начали дико аплодировать. Это оказалось весьма ксати, потому что у меня ком встал в горле, и я весь дрожал; мне нужно было успокоиться и подумать о том, что я собираюсь сказать. Они плакали! Че погиб всего пять лет назад, и его отсутствие до сих пор с болью воспринималось на Кубе. Такая реакция глубоко тронула меня.
Кто-то сунул мне микрофон под нос, и я начал говорить. Слова полились сами собой. Пока я говорил, я чувствовал, что вот-вот заплачу. Ком все еще стоял в моем горле, и все же я говорил. Я не знаю, что я такого сказал, но мои слова шли из самого сердца. Периодически присутствовавшие начинали аплодировать. Это был первый раз, когда я публично говорил об Эрнесто. Я сохранил об этом очень сильное впечатление, но я не повторял ничего подобного в течение тридцати шести лет.
Что касается интервью в средствах массовой информации, то у меня был неудачный опыт в 1965 или 1966 году (я точно не помню дату), который потом надолго отбил у меня всякую охоту. Все, и моя семья в том числе, задавались вопросом, где Че. Он исчез. Я не говорил ни с кем из моих родственников, и я ничего не знал о передвижениях Эрнесто. Однажды репортер из журнала «Gente» появился в моем книжном магазине. Он хотел взять у меня интервью. Я ответил, что не даю никаких интервью. Он настаивал на своем. «Я просто хочу понять, знаете ли вы, где ваш брат», – сказал он мне. Я повторил ему, что не даю интервью. Я также добавил, что, даже если бы я знал, где мой брат, он был бы последним человеком, которому я бы об этом рассказал. При нем находился фотограф с телеобъективом, которого я не заметил с другой стороны улицы. Он сфотографировал меня без моего согласия. На следующий день «Gente» опубликовал мою фотографию, сопроводив ее следующим комментарием: «Хуан Мартин Гевара утверждает, что не знает, где его брат Че, но тон, которым он это сказал, предполагает, что он про это знает, и очень даже хорошо». Подобные методы были тем более шокирующими, что они подвергали меня опасности. Я нашел этого чертова репортера и сказал ему: «Что ты хочешь? Навести на меня CIDE[87], ФБР, ЦРУ и КГБ? Ты больной?» Они не трогали меня, пока он не сделал эту свою фальшивку. Он доставил мне неприятностей: если спецслужбы не замечали меня прежде, в чем я сильно сомневаюсь, то теперь я стал для них мишенью.
С годами я изменился, а журналисты наконец оставили меня в покое, я их разочаровал. Потом они вернулись после моего первого интервью в 2007 году для аргентинского ежедневника «Página/12». В нем говорилось не о Че, а о пособиях, которые правительство обещало политическим заключенным. Оно тянуло с выполнением свого обещания, и я решил выступить по этому поводу. Тогда публика вспомнила о моем существовании. Все забыли, что у Че были братья и сестры. Аргентинцы были поражены. Настолько плохо они знали свою собственную историю. Тем не менее мне потребовалось еще два года, чтобы решиться заговорить о Че. Я был жертвой самоцензуры!
Когда аргентинская пресса предприняла новую попытку примерно в 2009 году, я был наконец готов, хотя формально еще не все для себя решил. Это произошло естественным путем. Однажды я просто согласился на интервью. Мне было чего сказать, что я давно носил в себе. А потом были многочисленные беседы с Роберто, Селией, Анной-Марией до ее смерти. С тех пор как Селия вернулась из изгнания в 1984 году, а за ней и Роберто, мы много говорили об Эрнесто и необходимости высказаться или, наоборот, молчать. Анна-Мария и Селия остались на своих позициях и сохраняли молчание. Роберто много выступал публично, в частности о своем движении MoDePA.
Селия ничего не знает об этой книге. Когда узнает, она вполне может перестать со мной разговаривать. Она не согласна со мной в этом плане. И мы обходим эту тему, чтобы не ругаться. Она более жесткая, более цельная, чем когда-либо. Роберто вновь ушел в себя и в восемьдесят три года не хочет говорить об этом. Он знает, что я очень активен, что я участвую в защите памяти Эрнесто, но он никогда не задавал мне по этому поводу никаких вопросов. Его жена, напротив, меня очень воодушевляет.
Мое желание говорить не просто родилось из каких-то личных соображений. В период между 2001 и 2003 годами Аргентина пережила ряд катаклизмов. С политической точки зрения, это был период крайней нестабильности: после двух катастрофических правлений перониста Карлоса Менема пять президентов поменялись в резиденции Касса Росада в течение четырех лет; некоторые из них продержались лишь 48 часов[88]. И в то время я вдруг обнаружил, что молодежь заново открывает для себя Че. Она жаждала знаний. Она задавала вопросы. И возникла необходимость, потребность, рожденная хаосом, катастрофическим экономическим и социальным кризисом, которого мы достигли в полную силу в 2001 году. Мы уже жили при весьма опасном спаде. А теперь нас толкали в пропасть резкие экономические меры, навязанные Международным валютным фондом (мы стали Грецией задолго до Греции). Целые слои населения перешли из среднего класса в состояние полной нищеты: их сбережения внезапно обесценились, а у кого-то и вообще полностью растаяли. Люди были вынуждены прибегать к бартеру, чтобы как-то выживать. У них не было больше наличности: банки были закрыты или наложили ограничения на снятие денег. Все начали обменивать еду на услуги. Стало ясно, что «дикий капитализм» – это вовсе не обещанная нирвана. Пришлось мобилизоваться. Нужно было найти лекарство, создать другое общество на пепелище старого. И молодые люди обратились к Че. Что он говорил о капитализме? Какие решения он предлагал? Постепенно я начал отвечать. И я увлекся. Я чувствовал ответственность перед ним, некий долг памяти, который требует, чтобы я говорил о нем. Какие шаги надо сделать, чтобы стать Че?
В то же самое время три старых друга решили открыть музеи: Хулия Перье, сестра моего сокамерника, депутата от провинции Мисьонес – в Пуэрто-Карагуатай, где Эрнесто провел свои первые два года; ответственная за туризм Карина Чуикикич – в Альта-Грасии, где Эрнесто жил в молодости; и Дарио Фуэнтес – в Сан-Мартин-де-лос-Андес, в патагонской провинции Неукен, месте удивительной красоты, которое так пленило Эрнесто, что он говорил о нем до конца своих дней. Хулия, Карина и Дарио попросили меня принять участие в этом деле. Они приложили так много усилий, чтобы почтить память моего брата, что я не мог отказаться. Мы запустили схему культурного туризма под названием «Los Caminos del Che» («Дороги Че»), связывающую три музея, и эта программа была одобрена Министерством туризма Аргентины. Наша первая публичная встреча была проведена в 2009 году. Она отметила мой дебют на национальной и международной арене. В 2013 году я основал ассоциацию «Por las huellas del Che» («По следам Че») с целью распространения его идей. Я всегда говорил, что многие хотели бы поставить крест и распять Че, причем не только его тело, но и его идеалы. Ассоциация начала с детального изучения того, как изображали Че после его высадки вместе с Фиделем на пляже Лас-Колорадас. Мы хотели понять, как это было воспринято. И что же мы обнаружили? То, что его образ многогранен: образ аргентинского врача-коммуниста, который агитировал молодых людей из хороших семей; образы героев фильмов («Че» Ричарда Флейшера с Омаром Шарифом в главной роли, а также более поздний «Че» Стивена Содерберга с Бенисио Дель Topo[89]); образ убийцы-психопата, который легко стреляет с двух рук; образ героического борца, защитника вдов и сирот и т. д. Но каким был Че на самом деле?
Я хотел бы, чтобы эта книга – и Ассоциация тоже – достигла нескольких целей. Главное – показать моего брата за пределами сложившегося мифа. Люди имеют искаженное представление о Че. Но под маской иконы или партизана, как бы это ни было привлекательно, имелось совсем другое содержание, и его нужно было распространять. Кто знает, о чем думал Че? Почти никто! Тем не менее он был одним из величайших мыслителей-марксистов своего века. И люди должны понимать, что этот человек не просто так взялся за оружие. Многим он представлялся авантюристом, но он был из тех, кто готов отдать жизнь ради того, чтобы быть в гармонии с истиной, кто способен умереть за свои идеи. Важно понимать, что Эрнесто сначала был нормальным человеком, если не сказать самым обычным, а потом он стал исключительной личностью, которой другие могут и должны подражать. Великие люди очень редки, но они существуют! И он был аргентинцем. Отсюда и моя вторая цель: чтобы аргентинцы символически переоткрыли для себя фигуру Че. Не в обиду кубинцам будет сказано, он имел привычки, культуру и юмор типичного аргентинца. Недавно я читал лекцию в крупном университете Гаваны и имел несчастье сказать об «аргентинстве» Че. Это очень плохо прошло в аудитории. Настолько, что несколько человек даже вскочили, чтобы возразить мне. Че был не просто кубинцем, заверили они меня, он был santaclareño[90], и в нем не было ничего аргентинского, даже не было акцента, который скорее походил на что-то среднее между мексиканским и кубинским. Я не настаивал, это было бесполезно, но я все же на какой-то миг потерял дар речи.
Эрнесто никогда не переставал ощущать себя аргентинцем и любить нашу страну. В Гаване он регулярно отправлялся в информационное агентство «Пренса Латина», чтобы собрать там информацию о событиях на родине – за этим он следил с огромным интересом. Он знал имена всех политиков, всех важных военных и членов профсоюзов. Ничто из того, что происходило в Буэнос-Айресе, не ускользало от его внимания. Хорхе Масетти – который долго беседовал с ним в Сьерра-Маэстре и стал потом его другом – посылал ему каждое утро последние новости об Аргентине.
Однажды журналист, имя которого я забыл, расспрашивал Эрнесто о нашей стране. В какой-то момент он воскликнул: «Хватит об Аргентине, перейдем к другой теме». – «Почему? – удивился журналист. – Вы же так любите свою страну!» – «Именно по этой причине!» – ответил Эрнесто. Истина заключается в том, что он испытывал сильную ностальгию по своей родине.
На Кубе Че был идеальным парнем, он стал почти святым, и никто не имеет права трогать его. Однако у Эрнесто были и недостатки, как и у всех остальных людей. Ему часто было трудно объяснить словесно или физически, что он чувствует по отношению к людям. Из этого делали вывод, что он далек от людей, как и моя мать. Она любила нас очень нежно, но она никогда никого не брала на руки. И все же мы знали, какую любовь она к нам испытывает. Именно поэтому долгое объятие матери и сына в аэропорту Гаваны стало таким трогательным и так впечатлило нас.
В своих письмах Эрнесто самовыражался гораздо больше. Он писал прекрасные стихи о любви к Алейде, а до этого – к Чичине. Его сердце было полно теплоты. Одним из его любимых высказываний было такое: «Затвердеть, не теряя нежности». Это был именно его случай.
Я захотел помочь людям узнать его. Я не интеллектуал и не журналист, но я его брат, и этот простой факт тут важнее всего. Когда люди узнают, кто я, они не верят мне, они сомневаются, относятся ко мне, как к какому-то сказочнику. Они внаглую осматривают меня с ног до головы. Я – загадка. После того как они принимают для себя, что то, что я говорю, может быть правдой, их второй реакцией становится поиск сходства. Они подробно изучают мои глаза, мой нос, мой рот, мой рост. Я ниже Эрнесто. У нас имеется некоторое сходство, но оно не то чтобы очевидно. Зато у нас один и тот же голос. Когда кто-то выплескивает на меня свои эмоции, как та японка в Валлегранде, что упоминалась в начале этой книги, я очень хорошо знаю, что подобные чувства не для меня. Я – лишь только вектор. И каждый раз я задаюсь вопросом: что ощущает этот человек? Почему у него такие сильные эмоции? Я встречал людей всех национальностей, которые носят Че у себя в сердце.
В Аргентине это явление почти противоположно тому, что имеет место на Кубе. Раньше Эрнесто поносили, теперь про него забыли. Он слишком смущал. В самом деле, подумайте о стране, которая пережила семнадцать военных диктатур, где свобода выражения своего мнения так часто нарушалась, где поощрялось кумовство! И пусть провинции Кордова, Неукен и Мисьонес сегодня отдают долг памяти Че своими музеями, ни одна улица Буэнос-Айреса не носит его имя. Муниципалитет отказал в этом. Недавно одна школа попросила разрешения переименоваться в Escuela Ernesto Guevara: просьбу отклонили на том основании, что «он был убийцей». Зато десятки улиц в столице названы именами диктаторов, виновных в массовых убийствах!
Тем не менее отношение меняется. Сегодня Че стал символом, который усвоила для себя часть аргентинского народа. А, например, Киршнер украсила стены резиденции Касса Росада его портретом. Политики часто не обращают внимания на истинные мысли Че, они эксплуатируют лишь его образ, забывая о том, что поощряемая ими коррупция просто оскорбительна на фоне его неиспорченности.
Для меня были иногда и приятные сюрпризы. Недавно я искал исчерпывающую книгу о моем брате. После бесплодных поисков в книжных магазинах столицы я наконец нашел ее на интернет-сайте подержанных книг. Продавец назначил мне встречу в популярном районе на углу улицы. Он не знал, кто я такой. Он просто хотел продать книгу незнакомцу. Это был тип тридцати лет. Выглядел он довольно бедно. Прибыв, он вручил мне книгу и сразу же начал извиняться, что избавляется от нее. Он сказал мне, что имел целую коллекцию книг о Че, что был его большим почитателем, что прочитал почти все его труды и что я должен сделать то же самое и т. д. Он расставался с книгой с сожалением, просто потому что был разорен. Он прочитал мне импровизированную лекцию о Че у двери супермаркета, охранник которого, ходивший взад-вперед, наблюдал за нами не без подозрения во взгляде! Я наконец признался в том, кто я такой. Сначала это было принято с недоверием. Для начала – зачем мне эта книга, если я на самом деле брат Че? Не должен ли я был иметь копию? (У меня на самом деле была одна, и я достал ее из портфеля, чтобы ему показать, но мне была нужна еще одна.) Он спросил, как меня зовут, спросил о моей семье, пытаясь меня подловить. Но, поскольку у него ничего не получилось, ему пришлось смириться с очевидностью. Он был так рад встретиться с близким родственником Че! Я сделал его день!
Этот человек хорошо разбирался в мыслях Че, что в Аргентине было делом довольно редким. Существует ужасный недостаток информации. Крайне важно, чтобы новые поколения взглянули на Эрнесто в детстве, на Эрнесто подростка и юношу. В настоящее время мои товарищи из профсоюза ATE (Asociación de trabajadores del Estado – Ассоциация государственных служащих) работают совместно с Университетом Буэнос-Айреса и Центром Че на Кубе над собранием полной документации по Эрнесто в Аргентине. Его открывают как брата, как сына, друга, племянника, внука, врача, шахматиста, интеллектуала, политического деятеля, стратега и бойца. Когда мы все будем мертвы, по крайней мере, Че по-прежнему останется Че.
Гуманизировать его – это единственный способ говорить о его мыслях, его философии и его совести, избегая клише, особенно в плане его партизанского имиджа, который выглядит слишком упрощенным; а также показать, что сведение его литературного наследия к одному «Путешествию на мотоцикле» слишком поверхностно, ибо он написал около трех тысяч страниц текста. Партизанская борьба была для него способом достичь освобождения, перемен, равенства и прекращения эксплуатации человека человеком. Он обозначил решений проблем больше, чем кто-либо другой сегодня. Мы склонны забывать, что между 1959 и 1965 годами Эрнесто имел полномочия главы государства. Он летал по всей планете, находясь в служебных командировках, встречался с другими главами государств, участвовал в разработке экономической политики Кубы. Он стал президентом Национального банка и проходил курсы по высшей математике с Сальвадором Виласека, чтобы быть в состоянии управлять им. Это был великий почитатель Маркса, он пытался применить его основные идеи в своем министерстве промышленности. Идеи, которые не имели ничего общего с интересами СССР, эволюционировавшего в сторону материализма и догматизма. В связи с этим он писал: «Непримиримый догматизм эпохи Сталина сменился на несостоятельный прагматизм. И трагедия заключается в том, что это явление применительно не только к конкретной отрасли науки; это происходит во всех аспектах жизни социалистических наций, создавая крайне вредные помехи, конечные последствия которых невозможно просчитать»[91].
Че мечтал построить справедливое и равноправное общество, основанное не на прибыли, а на гуманитарных принципах и идеалах чести, солидарности, братства. Он говорил, что «нужно быть марксистом с той же естественностью, с которой являются сторонником Ньютона в физике или Пастера в биологии […] Заслуга Маркса состоит в том, что он осуществил качественный сдвиг в истории общественной мысли. Он сумел по-новому истолковать исторические процессы, понять их динамику, предвидеть будущее. Однако он пошел дальше выполнения до конца своего научного долга: он выразил революционную концепцию. Нужно не только объяснять природу вещей, но и преобразовывать ее. Человек перестает быть рабом и инструментом среды и превращается в архитектора собственной судьбы»[92].
В отличие от российских аппаратчиков, Че отказался от всех привилегий. Деньги его не интересовали. Он тут же раздавал своим подчиненным подарки, полученные от других глав государств. Алейда, кстати, была очень разочарована в тот день, когда он отдал цветной телевизор – тогда большую редкость на Кубе – одному сотруднику министерства промышленности.
Эрнесто не нужна была Кубинская революция, чтобы стать противником догматизма. Он не создавал идеологические барьеры. Он все познавал на практике. Много говоря о диалектике, он не ограничивался обычными спекуляциями на эту тему, пустым философствованием. Для него сначала было действие, потом – размышления. Он пытался вывести теоретические рассуждения из своих действий и реализовать свои мысли в действии. В Ньянкауасу он буквально поглощал книги. Он читал философов Древней Греции, чтобы попытаться понять человека и его роль в истории. Он перечитывал книги по второму разу, думая, что, возможно, что-то упустил. Его деятельность шла намного дальше обычной партизанской войны. Он переживал непрерывный процесс политического, философского и гуманистического созревания. Его мышление постоянно менялось. А как иначе достичь идеала нового человека, если ты не в состоянии понять суть человеческого существа?
Люди, заинтересованные мыслями Эрнесто, должны быть способны выйти на поле трансформации реальности, изменения политических, идеологических, философских и культурных подходов, чтобы добраться до того самого hombre nuevo (нового человека), который так интересовал его. Радикальное изменение общества, общество, основанное на справедливости, – все это должно в обязательном порядке пройти через полную метаморфозу человека, причем не только хозяина, но и раба и простого работника. У нас у всех должен измениться менталитет, мы должны улучшить себя. Эксплуатация человека человеком имеет место не только в труде, она распространяется на все области человеческой деятельности. Экономические структуры не могут быть изменены без изменения в человеческом сознании. А оно, в свою очередь, может быть трансформировано только практикой. Нужно сначала взять власть, положить конец частной собственности на средства производства и ненасытности монополий. А что мы наблюдаем в современной Аргентине? Те же банки, те же «старбаксы», «макдоналдсы», «каррефуры», «уолмарты» и прочие иностранные компании, что вторглись к нам.
Оставляют ли они свои прибыли у нас? Конечно же, нет. Кроме того, они теперь ставят свои названия даже на продукции, произведенной в Аргентине. И это происходит во всем мире. Это стандартизация. Мы теряем наши различия.
На фоне этого процесса, катком катящегося по нам, что я мог сделать, кроме как сеять семена? Некоторым из них повезло, и они оказались в плодородной почве, другие нуждаются в удобрении. Я твердо верю в исторические совпадения, в то, например, что революционная ситуация для успешного развития должна быть связана с конкретными людьми. Иногда получается так, что сильны обстоятельства, но не для человека, который работает не покладая рук. Тем не менее история показала нам, что порой даже звезды вдруг выстраиваются каким-то чудесным образом. Как, например, в тот вечер, когда Фидель и Эрнесто встретились в Мехико. Там свою роль сыграл случай, но также было необходимо, чтобы Фидель оказался способен за несколько часов узнать и оценить качества Эрнесто.
Моя миссия связана не только с моим родством с Че. Я разделяю его взгляды. Я марксист-ленинист, геварист. Я верю в преобразование мира и уверен, что силы, которые управляют нами, все эти корпорации, картели, миллиардеры и их армии не уступят нам власть без боя. Они виноваты в том, что мы катимся к катастрофе. Мы подошли к точке перелома. Но нам не хватает динамики, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Нужно дать людям средства, чтобы они могли защитить себя. Хоть я и противник вооруженной борьбы, я верю в определенные достоинства насилия. Мы не можем бороться с крокодилом одними словами. Насилие существует, и оно является прямым порождением капитализма. Кто-то должен внезапно восстать. Кто, что, когда, где – мы еще не знаем. Но так больше продолжаться не может.
Шестидесятые годы были ярким кипучим временем благодаря победе Кубинской революции и поражению империализма в заливе Кочинос. Казалось, мир разделился на две части: с одной стороны – коммунизм, с другой – капитализм. Через десять лет мы вступили в серые времена. Че был разбит, и вместе с ним потерпела поражение боливийская революция.
Этот разгром запятнал Латинскую Америку. Он имел огромное значение для дальнейших событий, но нам пришлось ждать годы, чтобы понять весь его масштаб. В 70-е годы мы все еще надеялись сделать революцию, выиграть и навязать социализм, по крайней мере, в Аргентине. Но затем рухнул СССР, а с ним и «железный занавес». Сегодня мы вышли из серости. Стоит только посмотреть, что происходит в Европе. Но отдают ли европейцы себе отчет в серьезности проблем, которые они испытывают? Безработица, долги, иммиграция и т. д. Старый континент теперь находится на очень скользком склоне, все более и более скользком. Что мы можем сделать, сталкиваясь с огромной финансовой концентрацией, транснациональными корпорациями, которые, похоже, регулируют всю нашу жизнь, с монополиями в области вооружений, связи, нефти, пищевой промышленности? Каждая из основных сфер жизни сосредоточена в руках немногих. И кто способен бороться с такой мощью?
По этой причине я – убежденный геварист. Нас, может быть, и немного, но мы постепенно пробуждаемся, идем к пониманию того, что это не романтика, не донкихотство, как утверждают некоторые. Нет! Философия Че конкретна и практична. Был ли он разбит, принужден ли склониться? Несомненно. Недавно я присутствовал на научной конференции в Буэнос-Айресе. Там говорилось о том, что Латинская Америка сегодня формирует единую глобальную сущность. Я не согласен. США оказывают огромное влияние на наш континент, и у них нет никакого интереса видеть нас объединенными: тогда мы смогли бы избавиться от их влияния.
Если Соединенные Штаты также находятся в кризисе, то они страдают от кризиса богатой могущественной страны. У США есть Уолл-стрит («Голдман Сакс», «Морган Стенли», «Джей-Пи Морган Чейз» и т. д.), самая мощная армия в мире, крупнейшие медиакомпании («Уорнер», «Виаком», «Комкаст» и т. д.), наиважнейшие высокотехнологические компании («Гугл», «Фейсбук», «Майкрософт»). Они управляют кризисом таким образом, чтобы переложить вину на других. Они оставляют себе самое лучшее, устраивая так, чтобы худшее находилось где-то в другом месте. Тем не менее худшее уже у их дверей. Примерно пятьдесят миллионов американцев в настоящее время живут в условиях недостатка еды, во взрывоопасной ситуации, которая может привести прямо к точке перелома, о которой я уже упоминал. Это было благословенное время, когда большинство из этих людей принадлежали к среднему классу. У них был автомобиль, дом, избыток продуктов питания. Они думали, что приобрели некие неотъемлемые права, но это все ушло. Могут ли они удовлетвориться объяснением, что существуют более бедные страны и народы, которые страдают еще больше, чем они? Конечно же, нет! Это не землетрясение их всего лишило, а дикий капитализм. Какова на самом деле цель тех, кто обладает наибольшим богатством? Чтобы остальные не знали, как они это все накопили; чтобы те, кого они вынуждают страдать, были убеждены, что их бедность – это воля Господа, и они будут спасены и счастливы в иной жизни; чтобы они были уверены, что их судьба связана с тем, что они черный и коричневый ни на что не способный скот…
Что же это за страны, которые богатые супердержавы заставляют расплачиваться за дикий капитализм? Исторически сложилось, что это так называемые страны «третьего мира» или развивающиеся страны. Сегодня, однако, развитые страны тоже начинают страдать. Европа, например, подтолкнула Португалию на грань пропасти, и первыми туда упадут, очевидно, самые бедные. Классовая борьба, о которой говорил Маркс, происходит сегодня, возможно, как-то по-другому, но она никуда не делась. И это не только вопрос морали и справедливости, хотя в мире существует большая несправедливость, но это вопрос практический, политический и экономический. Решение наших проблем не может происходить в анархии, которую мы сейчас переживаем в производстве. Единственное, что нам предлагается, это покупать все больше и больше. Нашей религией стало каннибальское потребление. Таким образом мы и производим все больше и больше, но зачем и почему? Для подпитки монополий, о которых я уже говорил выше.
Нас заставляют поверить, что принимаются меры в пользу бедных. Они ходят в государственные школы, их учат читать и писать. Доверяют административные посты в корпорациях, где правят олигархи, представителям среднего класса. А в это время олигархия посылает своих детей в частные школы и в крупные университеты, которые готовят лидеров, специально обученных управлять нами. От этих будущих плутократов ожидается, что они увековечат империалистическую модель. Время от времени один из них ломает ряды и демонстрирует свою независимость. Олигархия удивляется. Он же обладал всем необходимым для того, чтобы продолжать управлять теми, кто находится внизу. Что же случилось?
* * *
Че покинул Кубу слишком рано для того, чтобы его управление и видение ситуации дало свои плоды. Он пытался преодолеть марксизм по-советски, чтобы внедрить на Кубе марксизм с человеческим лицом. Он считал, что его проект идет по нужному руслу, но после его отъезда он остался в подвешенном состоянии. Коммунизм закончился неудачей. А вот капитализм выжил, но за счет всей планеты и людей. Богатство продолжает концентрироваться в руках немногих, в то время как бедных становится все больше и больше. Неужели мы не видим очевидного соотношения причины и следствия?
Люди перестали быть чем-то важным, они превратились в объект эксплуатации и жестокого обращения. Все области в настоящее время страдают от безнравственности и коррупции, даже футбол, который перестал быть спортом, чтобы стать вонючей торговлей. Мы теряем все больше и больше нашу человечность, нашу солидарность, нашу коммуникабельность. Человек не родился таким. Его таким сделали.
Есть ли у меня решения для всех этих проблем? К сожалению, нет. Если бы я их имел, я стал бы новым Че. А вот мой брат имел решения. Но они не увенчались успехом. Он потерпел стратегическое поражение, причем не только в Южной Америке, но и во всем мире. Он хотел изменить умонастроения для достижения глобальных изменений. Он верил в это.
* * *
Одна из целей ассоциации «Por las huellas del Che» состоит в том, чтобы присутствовать во всех местах, где Че существует как мыслитель, как социальный новатор. Это нужно делать. Она не будет ничего революционизировать, и это не ее цель. Она должна быть в состоянии распространять духовное наследие Че, которое распространилось во всем мире. Марксистом-флагманом XXI века будет Че. Он определил и указал на события, которые произошли, на имеющиеся нерешенные бедствия. Че – футуристический мыслитель, несмотря на то что его не стало в 1967 году. Оглядываясь назад, мы видим, что у него было поразительное видение будущего. Например, он предсказал распад СССР. Кто в 1965 году был способен на такое? Почему именно он? Потому что он произвел тщательный анализ советского общества, которое, по его словам, боролось против капитализма при помощи капиталистического же оружия, что привело фактически к укреплению либеральной системы. Советские люди потерялись после своей революции. Они допустили новую экономическую политику (НЭП), запущенную в 1921 году Лениным, чтобы оживить страну в ее экономической отсталости[93], привели ее к законченному виду вместо того, чтобы использовать ее как временную меру. Материальные стимулы заняли фундаментальное место в советском обществе в ущерб человеческим ценностям. Люди становились все более одержимыми материальной выгодой и денежными компенсациями. Че назвал это явление законом стоимости и противопоставил его морали, которая, по его словам, имела принципиальное значение. Люди должны быть стимулированы желанием делать добро, быть честными, сохранить чистую совесть, выполнить свой долг. А миссия правительства должна ограничиваться, в первую очередь, вопросами образования. Но это не означает, что материальные проблемы могут быть полностью устранены.
Че не вдавался в анализ советских репрессий, в понятие свободы выражения мнений. Он пришел к власти на Кубе в хрущевские годы, и именно этот период он тогда анализировал. Он выразил сожаление по поводу догматизма, советского тоталитаризма и противоречивости. По его словам, СССР предал марксистские принципы, превратив их в догму. Что он писал в 1965 году в Танзании, когда готовил там свой отъезд в Боливию? «В этот период длительных каникул я сунул нос в философию, что я давно уже думал сделать. Первая трудность, с которой я столкнулся: на Кубе ничего не опубликовано, если исключить советские кирпичи, слабость которых состоит в том, что они не дают тебе думать: ибо партия уже сделала это за тебя. И твое дело – переваривать это. Не говоря уже о том, что подобная методология полностью противоречит марксизму, книги эти к тому же попросту очень плохи»[94].
В XX веке возможным ответом на многие вопросы были вооруженная борьба, революция, восстание, бунт. Сегодня мы можем, скорее всего, утверждать, что подобные методы не слишком хороши. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что капитализм и не думает совершать самоубийство. Он не скажет: «Ладно, хватит, я хочу сделать мир лучше. Basta, я останавливаюсь, я готов сложить оружие». Так что это еще очень большой вопрос, как найти путь, ведущий к справедливости.
Че выступал за вооруженную борьбу, потому что был убежден, что это единственный способ раз и навсегда покончить с империализмом. Должны ли мы ждать палача, который отрубит нам голову, или Дракулу, который высосет у нас всю кровь, или нам все же следует взяться за оружие, чтобы защитить самих себя?
В последние годы мы стали свидетелями прямой агрессии против народа, что выражается, например, в ипотечном кризисе и в наложении ареста на имущество. Тем не менее не было никаких крупных возмущений. Очевидно, зная о вреде, который все это наносит, сильные мира сего произвели и производят дезинформацию, некие отвлекающие маневры, необходимые для отупления масс. Люди очень политизированы, причем не только в Соединенных Штатах. Яростная защита частной собственности, индивидуализм и эгоизм настолько укоренились в обществе, что стало чрезвычайно сложно организовать народ. А он убежден, что нет никакого решения, что все должно быть так и никак не иначе. Народ стал фаталистом.
* * *
Итак, почему же я наконец решился заговорить? Для чего эта книга и эта ассоциация?
Ответ на первый вопрос заключается в том, что я постоянно сталкиваюсь с очевидностью: необходимостью преобразовать общество. Я разделяю идеалы моего брата. Я говорю от его имени. Для того чтобы мы могли изучать великих мыслителей, необходимо, чтобы кто-то посвятил себя тому, чтобы разыскать их тексты, отредактировать их и задокументировать. Это то, чем я и занимаюсь вместе с ассоциацией.
Ответ на второй вопрос состоит в том, что, если бы я осуществлял свою миссию в одиночку, можно было бы ставить мне палки в колеса – это не говоря о том, что мне все-таки уже шестьдесят два года. Враги народа ничего не могут сделать против книги, тем более, если она опубликована во Франции. Было время, когда «подрывные» книги подвергались цензуре в Аргентине. Сейчас это уже не так. Нынешний подход состоит в том, чтобы попытаться помешать нам читать, толкая нас смотреть телевизор, путешествовать по просторам Интернета. Вот почему я всегда выступал против этих средств массовой информации. Их быстродействие меня не устраивает. Понятно, что теперь все должно происходить мгновенно, но мы должны оставить себе время, чтобы подумать, поразмышлять. Современные технологии нам этого больше не позволяют.
Но я настроен оптимистически и не думаю, что человечество желает своей собственной смерти. Мы должны что-то делать, и я чувствую, что действительность сейчас способствует распространению философии Эрнесто. У него было много мыслей, но он не успел проверить свои фундаментальные принципы на практике, и теперь я должен, по крайней мере, попытаться сделать их более известными.
Че обладал потрясающим даром мотивации. Поэтому мы должны вывести его на передний план.
Че продолжает жить
«Почести меня бесят!» – воскликнул мой брат в один прекрасный день в 1960 году, после операции в заливе Кочинос. Он говорил это по-французски, чтобы не оскорбить сотрудников министерства промышленности, которые пришли сказать ему о своем желании публично воздать ему должное «за великолепную подготовку членов «ejercito rebelde».
Эрнесто не любил похвалы. Он посмотрел на своих сотрудников и сказал: «Мне кажется, вы не понимаете, что я уже устал повторять в своих книгах и лекциях. Здесь нужны не почести, а работа. Вы считаете себя революционерами? Тогда я поищу для вас боевой пост… на заводе».
Мой брат не искал славы и ненавидел любую фривольность. Что бы он подумал о рекламной кампании «Мерседес-Бенц» 2012 года? Это очень спорная кампания, которая имела смелость заменить звезду с его берета на логотип немецкого производителя автомобилей… Когда это было представлено на Всемирном салоне электроники в Лас-Вегасе, репортер захотел узнать мое мнение. Я вижу тут две вещи, – сказал я. – Первая: «Мерседес-Бенц» производит фантастические автомобили. Второе: если Германия станет коммунистической завтра, «Мерседес-Бенц» окажется на переднем крае! А если серьезно, что здесь важно понять, почему «Мерседес-Бенц» выбрал из всех образов именно образ Че. Креативщик, которому пришла в голову эта идея, – гений. Он затронул две противоположные цели: антикастристов из Майами (которые, кстати, аж задохнулись, увидев «Мерседес-Бенц», связавший свой имидж с имиджем «серийного убийцы и садиста»); других возмутило то, что «Мерседес-Бенц» использовал образ чистого человека в вульгарных коммерческих целях, как дополнение к продвижению автомобилей класса «люкс»! В любом случае, кампания вызвала некий сейсмический шок. В день ее запуска в Лас-Вегасе руководитель компании «Даймлер» Дитер Цетше ходил по сцене под огромным портретом Че. Это было совершенно невероятное шоу. До такой степени, что, столкнувшись с общественным резонансом, Цетше вынужден был свернуть кампанию и извиниться.
Почему он способствует продажам? Почему люди выбирают этот имидж, а не какой-то другой, чтобы выразить свое несогласие, свой вызов?
Ни один коммерсант в мире не хочет тратить свои деньги. Наоборот. Для них Че – это прежде всего бизнес, как это стало для некоторых жителей Ла-Игеры, превратившихся в экскурсоводов. Так что вопрос не в том, что есть продавец, а что есть покупатель. Диего Марадона и Майк Тайсон имели татуировки с Че, один – на руке, а другой – на груди. И что это значит? А то, что Че присутствует в их жизни, что это довольно мощный символ, ради которого стоит попортить железом свою кожу.
Я не признаю гиперкоммерциализацию моего брата. В то же самое время я знаю, что она облегчает мне задачу. В самом деле, семена посеяны, люди уже реагируют на изображение. Не имея представления о его мыслях, они, по крайней мере, знают, кто он такой. Мне остается только передать эти мысли. Сомневаюсь, что Майк Тайсон и Диего Марадона изучали философию Че, но я точно знаю, что она их затронула. Если они считают, что она согласуется с их собственными мыслями, они сохранят татуировки. В противном случае они всегда могут их удалить.
Власти пытались раздавить Че всеми средствами, выбрав убийство, а не тюремное заключение, а затем уничтожив и его труп с тем, чтобы полностью истребить его мысли, его борьбу, его идеалы. Они убили его. Тем не менее он выжил. Сколько раз они изображали кубинскую революцию как иностранное вторжение, как наступление Советов, вместо того, чтобы признать, что это национальный и патриотический проект? Не они ли представляли Эрнесто убийцей, дикарем, ужасным марксистом? Клевета также не сработала. Люди продолжают сочинять песни (около пятидесяти, по крайней мере, баллад были посвящены Че), писатели пишут книги, а поэты – стихи, уличные художники рисуют его на стенах и так далее. Таким образом, Че упорно продолжает жить, он сейчас с нами даже более, чем когда-либо, и попытки его уничтожить выглядят совершенно бессмысленными.
Стратегия заключалась в том, чтобы мистифицировать его, распять, чтобы человечество перестало рассматривать его как нечто реальное, осязаемое. Конечно, если он миф, то как следовать его примеру? Это уже не человек из плоти и крови, а фигура фантасмагорическая, непостижимая, и на нее невозможно равняться. По мере того как предание возвеличивается, мысли отходят на второй план. Он стал похож на раковину, очень красивую, но пустую. И как вы думаете, это случайно? Безусловно, нет.
Проводят параллель между Христом и Че. Они действительно похожи в своей смерти. Я говорил в первой главе этой книги, что знаменитая фотография Эрнесто, лежащего на цементной стяжке в прачечной госпиталя в Валлегранде, устрашающе напоминает картину «Оплакивание Христа» итальянского художника Андреа Мантенья. Эту аналогию, которую я нахожу ненужной и даже опасной, использовали для преобразования Эрнесто в Святого Эрнесто Ла-Игерского. А затем за легендой скрылись его мысли, его решимость, его боевые качества. Эрнесто стал ничем, осталась одна мистика, хотя он сам определял себя как «странствующего пророка». Но это не мешает ему иметь много общего с Христом: гуманизм, постоянная забота об угнетенных, восстание против власть имущих, отказ от богатства, отсутствие жадности. Иисус пожертвовал собой ради людей, и Че сделал то же самое.
В июле 1959 года, находясь с официальным визитом в Индии, он написал моей матери слова, проливающие свет на образ его мыслей:
«Сбывается моя давняя мечта увидеть мир, да только мне от этого не много радости. Я должен все время разговаривать о политике и экономике, устраивать приемы, на которых мне только смокинга недостает, и при этом лишать себя самых чистых удовольствий: пойти и помечтать в тени пирамиды или над саркофагом Тутанхамона. Более того, я тут без Алейды[95], которую я не взял с собой из-за кое-каких психологических комплексов (sic), о которых предпочитаю умолчать […] Египет стал выдающимся дипломатическим успехом; посольства всех стран договорились о встрече на прощальном вечере, организованном нами, и я имел возможность понаблюдать за тонкостями дипломатии. Например, я увидел Апостольского нунция, с блаженной улыбкой протягивающего руку атташе из России. А теперь – Индия, и новые протокольные осложнения, которые вводят меня во все ту же инфантильную панику; люди повторяют одни и те же формулы вежливости для приветствия и т. д. Один из моих коллег изобрел следующую штуку: отвечать на все с joinch-joinch; и это успешно работает. Кроме того, даже если я наделаю глупостей со своим кубинским[96], мой испанский собеседник все равно ничего не поймет.
Во мне развилось чувство общности в противовес индивидуальности; я по-прежнему одиночка, ищущий свой путь без чужой помощи, но теперь у меня возникло чувство исторического долга. У меня нет дома, нет женщины, нет детей, нет родителей, нет братьев и сестер, я верен дружбе, пока мои друзья придерживаются тех же политических убеждений, что и я, и все же я доволен, я чувствую, что что-то представляю собой в жизни. Во мне живет не просто мощная внутренняя сила, которую я всегда чувствовал, но также и сила влиять на других. Есть абсолютно фаталистичное ощущение избранности, что избавляет меня от всякого страха».
Че боролся за народ, он отдал свою жизнь за него. Поэтому, без всякого сомнения, его образ и вырос настолько быстро, всего за пятьдесят лет. В наше время информация передается с феноменальной скоростью. Она становится глобальной, распространяясь всего за пару секунд. Тем не менее нам еще много нужно узнать о нем. Например, как он будет восприниматься через два тысячелетия? Я очень надеюсь, что он не превратится в религиозную фигуру. Приоритетом для людей должен быть гуманизм, а не религиозность.
Фигура Че преобразовалась. Он здесь, сейчас, и мы не можем от этого избавиться. Он продолжает представлять реальную опасность. Молодежь всего мира воспринимает его как бунтаря, ассоциирует его с целостностью, борьбой, справедливостью и идеалами. Вот несколько современных иллюстраций: когда боливийский президент Эво Моралес встречался с папой Франциском, у него на куртке была вышита фигура Че. У него также висит его портрет в президентском кабинете. А в Ливане демонстранты протестуют против Сирии перед могилой премьер-министра Рафика Харири в футболках с изображением Че; французский футболист Тьерри Анри приезжает на праздник, организованный ФИФА, в красно-черной рубашке Че; в Ставрополе, в России, манифестанты, требующие льгот и недовольные социальной политикой правительства, идут с красными флагами с изображением Че; в Дхейшехе, в лагере беженцев из сектора Газа, плакаты с Че украшают стены в память жертв интифады[97]; в Китае левый радикал и депутат из Гонконга Квок-Хун бросает вызов Пекину, надев футболку с портретом Че; в Голливуде Карлос Сантана, исполнивший песню из фильма «Дневники мотоциклиста», носит рубашку с Че и распятие в руке. Че олицетворяет собой неповиновение центральным властям.
Один год. Уже так давно
Через год после смерти Че одно аргентинское издание попросило Берту Хильду «Титу» Инфанте, его лучшую подругу, написать о нем. Лично для меня из этого вышло, как я уже говорил, самое красивое, самое волнующее из когда-либо написанного об Эрнесто. Вот почему я хочу закончить эту книгу так.
Тита и Эрнесто встретились на медицинском факультете в 1947 году, через три года после моего рождения. Я лично не знал Титу, или, может быть, все же знал, ибо она иногда приходила к нам в дом, просто я был слишком молод, чтобы помнить об этом сегодня. По сути, мне рассказали все то, что я знаю о ней.
Тита прибыла в Буэнос-Айрес с матерью и братом Карлосом из Кордовы за несколько месяцев до поступления на факультет и через три года после смерти отца, адвоката и политического деятеля. Став также адвокатом, Карлос сам потом был близок к Эрнесто на Кубе, когда руководил радио «Ривадавия». Он был для него главным поставщиком мате, который привозился из Буэнос-Айреса килограммами.
Тита был на два года старше Эрнесто. Она была худой девушкой, с большими глазами и короткими волосами. Она не выглядела красивой и не отличалась особой разговорчивостью, но она была очень нежная, образованная и политизированная. Она входила в состав организации молодых коммунистов. Моя сестра Анна-Мария однажды сказала, что Тита играла огромную роль в жизни нашего брата, она была очень интересным человеком, очень эрудированной и духовно богатой. С момента их первой встречи они стали близки, испытывая друг к другу чувство глубокого уважения. Она представляла собой тип женщины, интересовавший Эрнесто. Семья никогда не была в курсе, какой степени близости достигли их отношения, но мы считаем, что Тита была влюблена в Эрнесто. Он писал ей из всех стран, которые посещал, и Тита ему всегда отвечала. Это была систематическая переписка.
Тита считала своим долгом посещение стран, повлиявших на Эрнесто: Перу, Венесуэлы, Гватемалы, Мексики и Франции, где она провела десять лет, изучая, как и он, французский язык. В своих письмах Эрнесто доверял ей свои сомнения, успехи, печали и даже некоторые свои романтические приключения. Кто-то отметил, что он считал ее «своим спутником в интеллектуальных приключениях». Их переписка часто переходила в идеологические дискуссии.
Тита Инфанте покончила с собой 14 декабря 1976 года. Говорили, что она не смогла пережить смерть человека, которого так любила, которым восхищалась. Вот ее текст Evocación de Tita Infante a un año de la muerte del Che (Воспоминания Титы Инфанте через год после смерти Че), опубликованный в 1968 году:
[…] Вызывать в памяти великого человека всегда трудно. А если этот человек сегодня, в 1968 году, – Эрнесто Гевара, это вообще кажется невозможным […] Один год. Уже так давно […] Эрнесто умер, но он возродился в вечности. Он жил, беспечно следуя по направлению к трагедии. Смерть стояла на этом пути, но она открыла ему двери в другую жизнь, которую он так любил. Воспоминания о его личности и его борьбе будут жить вечно в сердцах народов мира, так как Эрнесто Гевара был одним из тех редких людей, каких судьба порой дарит человечеству.
В течение этого года он стал предметом многочисленных работ. Книги, статьи, исследования, эссе, биографии… Что я могу к этому добавить? Сильная дружба связывала нас на протяжении многих лет: почти шесть лет шло прямое общение лицом к лицу, а затем было еще много лет эпистолярного общения.
Эта дружба зародилась в 1947 году. На кафедре анатомии, на медицинском факультете […] В его речи улавливался провинциальный акцент. Это был красивый беспечный парень… Его поведение, представлявшее собой смесь застенчивости и надменности, возможно с примесью безрассудства, маскировало глубокий интеллект, огромную жажду понимания и спрятанную в глубине души бесконечную способность к любви.
Мы никогда не принадлежали к одной культурной или политической группе, не имели общего круга друзей. Мы оба были, по разным причинам, немного чужды этому факультету. Что касается его, то это, вероятно, потому что он знал, что сможет найти там слишком мало из того, что ему было нужно. Поэтому мы с ним и сошлись. На факультете, в кафе, дома, очень редко у него… а также в Музее естественных наук, где мы встречались каждую среду, чтобы «изучать филогенез нервной системы»; мы тогда отдавали все время рыбам, и у нас шла бесконечная череда вскрытий, препаратов, парафинов, микротомов[98], разрезов, микроскопов и т. д. – и все это порой под руководством пожилого немецкого профессора. Общение с Эрнесто ускоряло часы, которые в противном случае могли бы показаться безмерно долгими. Он никогда не пропускал встречи и всегда был предельно пунктуален. Он никогда не забывал позвонить. Такой вот странный богемный тип!
Всякий раз, когда нам сопутствовал успех, мы повторяли фразу Гутьерреса[99], которую мы оба запомнили:
Не пой победные гимны В пасмурный день битвы.[…] Я часто видела его озабоченным, серьезным или задумчивым. Но никогда – по-настоящему грустным или охваченным горем. Не помню ни одной встречи, когда он не одарил бы меня улыбкой и теплой нежностью, что так ценили те, кто его знал. В разговорах не было места презрению; короткой фразой он мог серьезно покритиковать, но за этим всегда следовала какая-то позитивная ремарка, чтобы продолжение оставалось продуктивным. Он был не столько против, сколько за. Поэтому, без всякого сомнения, от общения с ним никогда не оставалось ни малейшего следа злобы.
Он умел использовать каждую свободную секунду, и даже в общественном транспорте у него всегда была книга в руке […] У него никогда не бывало слишком много денег, совершенно наоборот […] Но слабые экономические ресурсы никогда не были его главной заботой, они никогда не мешали ему выполнить то, что он считал себя обязанным сделать. Ни его очевидная небрежность, ни невнимательность к собственной одежде никогда не могли затмить достоинства его личности.
[…] Будучи студентом, он работал не слишком много, но всегда хорошо. Внутри этого молодого человека вечно жила готовность к «приключению», которая «часто отдавалась зудом под каблуками этого бродяги», зовя его в путь, и под всем этим скрывалась глубокая жажда знаний. Не ради собирания сокровищ, а ради неутомимого поиска истины, а вместе с этим и своего собственного предназначения.
Все в нем было последовательным, и каждый опыт или любого рода знания дополняли его личность […] У него был дар к обучению. Он шел к сути вопроса и всегда старался посмотреть на него шире, когда его многочисленные проекты позволяли это сделать. Он был способен остановиться для того, чтобы серьезно обдумать проблемы, увлекавшие его: проказа, аллергия, нейрофизиология, новейшая психология […] Он преодолевал практические и теоретические препятствия с одинаковой легкостью. Когда он давал слово, он держал его любой ценой […]
Он с преданностью и усердием культивировал дружбу, вскармливая ее своим глубоким гуманизмом. Для него дружба была священной обязанностью и точно таким же правом. Для него важно было и то, и другое. Он одинаково естественно как требовал, так и давал. И он вел себя так во всех аспектах своей жизни.
Расстояние не означало, что Эрнесто отсутствует. В каждой его поездке письма – более или менее регулярные, в зависимости от ситуации или состояния его финансов – продолжали дружеский диалог […] Он хранил письма от своих друзей и никогда не было такого, чтобы он не ответил.
По возвращении из своего предпоследнего путешествия он заявил, что двадцать дней, проведенные им в Майами (я перехожу к деталям, которые имеются во всех биографиях), можно считать самыми тяжелыми и неприятными в его жизни, причем не только из-за экономических трудностей, которые ему пришлось перенести! […] До того дня, как мы попрощались (на встрече у него с его ближайшими друзьями), я видела исключительно его удивительную воздержанность: он не курил, не пил ни алкоголь, ни кофе, и его режим питания всегда отличался строгостью. Это астма навязывала ему условия жизни, которым он отдавался с характерной для него дисциплинированностью.
Каждое письмо Эрнесто было страницей литературного произведения, полной нежности, грации и иронии; он рассказывал о своих приключениях и злоключениях с тем комизмом, который сводил на нет любую серьезность даже в самые трудные времена. В каждой стране он искал то, что там было самым интересным, и любопытство приводило его то на руины древних инков, то в лепрозории, то в медные, то в вольфрамовые рудники. Он быстро интегрировался в деревенскую жизнь и легко позиционировал себя в местном политическом и социальном контексте. Его рассказы были великолепны, это была легкая проза, но при этом очень чистая и элегантная. Он рисовал реальность и людей реалистично, без эвфемизмов и весьма объективно. И когда он затрагивал свою интимную жизнь, будь то с печалью или радостью, он всегда делал это осторожно, с абсолютной сдержанностью.
Уверена, что даже в самые тяжелые моменты его любовь к жизни была настолько велика, что ему удавалось сохранить оптимизм с той логикой, что была для него типична: «Когда дела идут плохо, я утешаю себя тем, что все могло бы быть гораздо хуже, и, кроме того, что все еще может улучшиться». В августе 1958 года, когда я готовилась к отъезду, один молодой журналист, которого я не знала, позвонил мне, чтобы назначить мне встречу в кафе: это был Масетти. Он только что провел два месяца в Сьерра-Маэстре […] Масетти мне долго и подробно рассказывал обо всем и обо всех, о Фиделе, Рауле, полевых лагерях… но ничто для него не имело таких масштабов, как Эрнесто, как его человеческие качества, его мужество, его многогранность. Если нужно было организовать что-то – открыть школу, наладить производство хлеба или ремонт и изготовление оружия, – Эрнесто оказывался на месте, чтобы заняться этим и взять на себя инициативу. И в вооруженной борьбе он тоже всегда был первым.
Уже много говорили о его легендарной храбрости, и его история создается постепенно: благодаря показаниям молодых гватемальцев, знавших его, – тех, что нашли убежище в Аргентине после падения Арбенса […]
Я имела невероятную честь общаться с ним близко, доверять ему, разделять с ним крепкую дружбу, не знавшую ни забвения, ни недоверия. Я познакомилась с ним, когда он был очень молодым, когда он был просто Эрнесто. Но уже тогда он носил в себе будущего Че Гевару. С этих юношеских лет я постоянно наблюдала прогресс на его личном пути, он всегда двигался вперед; он никогда не останавливался, и те, кто его хорошо знал, понимали, что не только «у противников не было никакой возможности остановить его», но что он сам двигался навстречу своей судьбе […]
Я чувствую себя так близко и в то же время так далеко от этой гигантской фигуры, достойной славы полубогов из греческих легенд, славы настоящего средневекового героя.
Трудно объединить в себе столько великодушия, столько чувствительности и нежности, столько человеческого богатства.
Он был слишком горяч, чтобы остаться вытесанным из камня. Слишком велик, чтобы считать его своим. Эрнесто Гевара, аргентинец до мозга костей, возможно, был самым подлинным гражданином мира.
Приложение 1 Отрывки из алжирской речи
Дорогие братья!
Куба участвует в этой конференции, чтобы был услышан голос народов Латинской Америки. Она так же, как мы уже неоднократно подчеркивали, выражает точку зрения слаборазвитой страны и одновременно страны, строящей социализм. Не случайно, что нашей делегации предоставили право высказать свое мнение здесь, в кругу народов Азии и Африки. Общие чаяния объединяют нас в стремлении к будущему – поражению империализма; общее прошлое борьбы с одним и тем же противником объединило нас на этом пути.
Эта конференция – собрание борющихся народов, и борьба наша протекает на двух равно важных фронтах, требующих от нас сосредоточения всех наших сил. Ведущаяся политическими, военными методами или их комбинацией борьба против империализма, за освобождение от колониальных и неоколониальных цепей, неотделима от борьбы с отсталостью и бедностью. И та, и другая – это этапы одного пути, ведущего к созданию нового общества справедливости и изобилия.
С тех самых пор, как капиталистические монополии захватили власть во всем мире, они держат большую часть человечества в нищете, распределяя все прибыли между самыми сильными странами. Уровень жизни в этих странах обеспечивается за счет исключительной бедности наших стран. Значит, для того чтобы повысить уровень жизни в слаборазвитых странах, нужно бороться с империализмом. И каждый раз, когда какая-нибудь страна отсекается от ствола империализма, это не только победа в отдельной битве с главным врагом, это также вклад в реальное ослабление противника, еще один шаг к окончательной победе. Эта смертельная борьба не признает границ. Мы не можем относиться безразлично к тому, что происходит в других частях мира, поскольку победа любой страны над империализмом – это наша победа, точно так же как поражение любой страны – это поражение для всех нас. Практика пролетарского интернационализма – не только долг народов, борющихся за лучшее будущее, это и неизбежная необходимость […]
Из всего этого должен быть сделан вывод: социалистические страны обязаны финансировать развитие стран, вставших на путь освобождения. Мы утверждаем это без каких бы то ни было стремлений к шантажу или театральности, как не ищем мы и легких путей сближения с афро-азиатскими народами; это – наше глубочайшее убеждение. Социализм не может существовать без изменения сознания, выражающегося в новом, братском отношении к людям, как на индивидуальном уровне, внутри обществ, строящих социализм, так и в масштабах всего мира, в отношении всех народов, страдающих от империалистического гнета […]
Мы считаем, что именно в таком духе следует рассматривать обязательства оказания помощи зависимым странам. Надо раз и навсегда прекратить разговоры о развитии взаимовыгодной торговли, основанной на ценах, навязанных отсталым странам законом стоимости и международной системой неэквивалентного обмена, порожденного законом стоимости.
Как можно называть «взаимовыгодной» продажу по ценам мирового рынка сырья, которое стоило слаборазвитым странам потоков пота и неизмеримого страдания, а также покупку по ценам мирового рынка оборудования, произведенного на больших современных автоматизированных заводах?
Если мы установим такого рода отношения между этими двумя группами наций, мы должны будем согласиться с тем, что социалистические страны являются, в определенном смысле, пособниками империалистической эксплуатации. Тут можно возразить, что объем обмена со слаборазвитыми странами составляет лишь незначительную часть в общем объеме внешней торговли социалистических стран. Это факт, но это не меняет аморальной сути такого обмена.
Социалистические страны имеют моральный долг – положить конец их молчаливому пособничеству эксплуататорским странам Запада. Тот факт, что сегодняшний объем торговли мал, ничего не значит. В 1959 году Куба лишь изредко продавала сахар некоторым странам социалистического блока при посредничестве английских брокеров или брокеров других национальностей […]
Для нас нет другого корректного определения социализма кроме ликвидации эксплуатации человека человеком. И если это еще не достигнуто, если мы думаем, что строим социализм, но вместо прекращения эксплуатации дело борьбы с ней приостанавливается или, что еще хуже, обращается вспять, мы не можем даже говорить о построении социализма.
Предложенный набор мер, однако, не может быть реализован в одностороннем порядке. Социалистические страны должны помочь оплатить развитие слаборазвитых стран, мы согласны с этим. Но и слаборазвитые страны также должны собрать свои силы, с железной решимостью встать на путь построения нового общества – как бы они ни называли его, – в котором машина, орудие труда, больше не является орудием эксплуатации человека человеком.
Нельзя ожидать доверия социалистических стран к тем, кто балансирует между капитализмом и социализмом, пытаясь использовать обе силы в качестве противовесов, чтобы извлечь какие-то выгоды из подобной конкуренции. Новая политика абсолютной серьезности должна царить в отношениях между этими двумя группами обществ.
Следует подчеркнуть еще раз, что средства производства по возможности должны находиться в руках у государства, чтобы следы эксплуатации могли постепенно исчезнуть […]
Первоначально неоколониализм появился в Южной Америке, на всем континенте, а сегодня он все сильнее и сильнее чувствуется в Африке и Азии. Его проникновение и развитие может принимать различные формы. Одну из них – грубую форму – мы наблюдаем в Конго […]
Неоколониализм обнажил свои когти в Конго. Но это признак не силы, а слабости. Он вынужден был обратиться к силе, своему главному оружию, как к экономическому аргументу. Это вызвало крайнюю степень недовольства.
Но в то же время гораздо более скрытые формы неоколониализма практикуются в других странах Африки и Азии. Это быстро приводит к тому, что называют «южноамериканизацией» этих континентов; то есть к формированию паразитической буржуазии, которая не вносит ничего в национальное богатство своих стран, а напротив – вкладывает свои огромные неправедные доходы в иностранные капиталистические банки и заключает сделки с другими странами в погоне за еще большими прибылями, абсолютно не заботясь о благосостоянии народа […]
Например, наши народы страдают от тягот иностранных баз, расположенных на их территориии, или же вынуждены нести тяжкое бремя иностранных долгов невероятных размеров. История этих пережитков всем нам хорошо известна. Марионеточные правительства, правительства, ослабленные длительной борьбой за освобождение, или действие законов капиталистического рынка привели к подписанию соглашений, опасных для нашей внутренней стабильности или угрожающим нашему будущему […]
Вопрос освобождения от политической власти угнетателей путем вооруженной борьбы должен решаться в соответствии с приципами пролетарского интернационализма. В социалистической стране, во время войны, было бы абсурдом представить себе директора предприятия, требующего гарантированной оплаты, прежде чем он отгрузит на фронт построенные танки. Не меньшим абсурдом должно считаться и выяснение, могут ли люди, сражающиеся за свое освобождение или нуждающиеся в оружии для защиты свободы, гарантировать оплату. В нашем мире вооружения не могут быть товаром. Они должны предоставляться народам, нуждающимся в них для борьбы с общим врагом, бесплатно и в количествах, требуемых и доступных. Это тот дух, в котором Советский Союз и Китайская Народная Республика предложили нам свою военную помощь. Мы социалисты; мы даем гарантии надлежащего использования этих вооружений. Но мы – не единственные, и каждый из нас заслуживает такого же обращения […]
Мне не хотелось бы завершать эти замечания, это повторение известных вам всем принципов, без заострения внимания этого собрания на том факте, что Куба – не единственная страна Латинской Америки; она лишь единственная, имеющая возможность сегодня обратиться к вам. Хочу напомнить, что другие народы проливают свою кровь для завоевания прав, которые есть у нас. Когда мы шлем наши приветствия отсюда, со всех других конференций и из мест, где они могут быть собраны, героическим народам Вьетнама, Лаоса, так называемой Португальской Гвинеи, Южной Африки и Палестины – всем эксплуатируемым странам, сражающимся за свое освобождение, – мы должны одновременно обратиться со словами дружбы, протянуть руку братским народам Венесуэлы, Гватемалы и Колумбии, которые сегодня с оружием в руках говорят свое решительное «Нет!» империалистическому врагу.
Приложение 2 Письмо архиепископа Комодоро-Ривадавии монсеньора Моуре
Комодоро-Ривадавия, 27 июня 1983 года
Сеньору Хуану Мартину Гевара
Хункаль 3786—11-B
1425 Буэнос-Айрес
Дорогой Хуан Мартин!
Я знаю, что ты простишь мне задержку с ответом на твое письмо от 3 июня 1983 года: последние недели сильно осложнили мое существование, помешав выполнить мою обязанность поддерживать переписку.
Осознание того, что ты на свободе, наполняет меня радостью. Я уверен, что первый шаг по выходе из U6 [часть 6 в тюрьме Роусон] был сделан с правой ноги (без идеологических намеков, пожалуйста!) и что чудесная ясность взглядов, которой Господь наделил тебя, сразу же и как всегда честно начнет служить обществу.
Я должен быть в Буэнос-Айресе в середине июля по пути в Боготу, на заседание СЕЛАМ[100] – организации, к которой я принадлежу. Я тебе обязательно позвоню: надеюсь, что у нас найдется время, чтобы поговорить, я хотел бы сохранить нашу с тобой дружбу.
По просьбе многих заключенных 8 августа монсеньор Кастагна из епископской и социальной пастырской команды проведет день с заключенными U6. Я передал ему эту просьбу с большим удовольствием, и он охотно принял приглашение, отложив другие мероприятия на более поздний срок. Мне кажется, будет очень полезно, если все те, кто имеет серьезные намерения реорганизовать страну, будут слушать друг друга для всеобщего блага. Когда мы увидимся, эта встреча с заключенными уже состоится. Я расскажу тебе, как там все прошло.
Я по-прежнему с радостью остаюсь в твоем распоряжении с большим желанием увидеться и поговорить. В Буэнос-Айресе мой адрес будет такой: Областной Дом Салезианцев Дона Боско[101] 4002, TЕ 981—2619.
До скорой встречи. Искренние объятия от твоего покорного слуги и друга.
Библиография
Boorrego Orlando. Che El camino del fuego. Hombre Nuevo, 2001.
Constenla Julia. Che Guevara La vida enjuego. Edhasa, 2006.
Gambini Hugo. El Che Guevara. Stockcero, 2002.
Gonzalez Froilán/Capull Adys. Amor revolucionario. Txalaparta, 2004.
Guevara Ernesto. Che desde la memoria. Ocean Sur, 2004.
Guevara Ernesto. Diarios de Motocicleta. Planeta, 2004.
Guevara Ernesto. La Guerra de Guerrillas. Ocean Sur, 2006.
Guevara lynch Ernesto. Mi hijo El Che. Sudamericana-Planeta, 1984.
Guevara lynch Ernesto. Aquíva un soldado de América. Plaza Janés, 2000.
Larraquy Marcelo. Los 70 una historia violenta. Aguilar, 2013.
Маrch Aleida. Evocación, Mi vida al lado del Che. Ocean Sur, 2011.
Masetti Jorge Ricardo. Los que luchan y los que lloran. Nuestra America, 2006.
Peredo Guido. Mi campaña junto al Che y otros documentos. Paraninfo Universitario, 2013.
Благодарности
Всем моим товарищам, верным духу Че, которые имели мужество продолжать борьбу за «создание нового общества, богатого и справедливого».
Тому случаю, что помог мне встретить Армеллу и таким образом получить возможность написать эту книгу, передаваемую в дар молодежи с уверенностью, что мир даст нам еще других Че, которые на самом деле только и ждут момента, чтобы появиться.
Фотографии
1902 г. Семейство Гевара Линч, отцовская линия, в Аргентине
1908 г. Семейство де ла Серна Льоса, материнская линия, на бальнеологической станции Ла Перла в Мар-дель-Плате (Аргентина)
1928 г. Молодожены Эрнесто Гевара Линч и Селия де ла Серна в Росарио (Аргентина)
1928 г. Первое фото Эрнесто с родителями в Росарио
1928 г. Семейство Гевара де ла Серна в Мисионесе (Аргентина). Слева направо: два друга, Эрнесто Гевара Линч (отец), Селия де ла Серна (мать) и Эрнесто в своей качалке
1929 г. Эрнесто со своей кормилицей Кармен Ариас, молодой испанкой из Сарриа
Эрнесто и его мать на лошади в горах Кордовы (Аргентина)
1935 г. Эрнесто на велосипеде в Иренео Портела (провинция Буэнос-Айрес)
1939 г. Летние каникулы в Мар-дель-Плате. Слева направо: Эрнесто, Анна-Мария и Селия (сестры). Сверху: Эрнесто Гевара Линч
1935 г. Чтение детям в Альта-Грасия (провинция Кордова). Слева направо: Роберто (брат), Эрнесто, Селия, Анна-Мария и Селия де ла Серна
1938 г. Семейный отдых в Мар-дель-Плате. Слева направо: Роберто, Селия, Эрнесто, Анна-Мария и их мать
1928 г. Первый дом молодой пары Гевара (Ла Калесита) в Мисионесе. Эрнесто сделал там первые шаги
1938 г. Эрнесто и его сестра Анна-Мария, играющие с голубями в Альта-Грасии
1940 г. Эрнесто, Анна-Мария и Роберто с их друзьями из квартала в Альта-Грасии
1940–1941 гг. На прогулке в горах Кордовы. Слева направо: Кармен Кордова (кузина), Роберто Гевара (кузен), Фернандо Кордова и Эрнесто. Сверху: Кармен де ла Серна (тетя) и их мать
1940–1941 гг. Эрнесто, Селия, Анна-Мария и Роберто в Альта-Грасии
1943 г. Хуан Мартин на руках у своего брата Эрнесто под внимательным взглядом родителей в Кордове
1945 г. Чета Гевара де ла Серна на отдыхе в Мар-дель-Плате с их пятью детьми. Слева направо: Хуан Мартин, Эрнесто-отец, Эрнесто, Селия-мать, Анна-Мария, Роберто и Селия
Фрагмент газеты «Эль-Графико», опубликовавшей письмо, отправленное Эрнесто управляющему компании «Аремимекс», где он хвалил качество двигателя «Микрон», позволившего ему проехать более 4000 км через самые бедные провинции на севере Аргентины
Первая статья с упоминанием Эрнесто в момент его прибытия на мопеде «Солекс» в Сантьяго-дель-Эстеро
1949–1950 гг. В Кордове. Снизу вверх: Эрнесто, Селия, Карлос Феррер, Роберто и неизвестный друг
1952 г. На балконе дома на улице Араос в Буэнос-Айресе с Хорхе де ла Серна (дядей), Карлосом Фигуэроа (другом), Роберто, Луисом Родригесом (другом), Хуаном Мартином и Эрнесто
1953 г. В Гватемале во время второго путешествия Эрнесто по Латинской Америке с Гуало Гарсией
1953 г. Хуан Мартин в доме на улице Араос
1960 г. Фидель Кастро наносит визит семейству Че в Буэнос-Айресе
1961 г. Селия де ла Серна в окружении своей дочери Анны-Марии и сына Хуана Мартина держит на коленях своего внука в доме на улице Араос в Буэнос-Айресе
Объявление о смерти Че в аргентинской газете «Кларин»
1976 г. Листовка, созданная Селией (сестрой), с требованием освобождения Хуана Мартина, политического заключенного аргентинской хунты, схваченного за его деятельность в рамках Революционной партии трудящихся (PRT)
Примечания
1
В 1998 году, когда была опубликована его книга «Журнал Конго: воспоминания о войне за независимость».
(обратно)2
Им потребовалось больше месяца, чтобы пробраться сквозь сети боливийской армии и добраться до города незамеченными. Гидо «Инти» Передо будет пойман и убит в 1969 году.
(обратно)3
С началом репрессий в Аргентине понятие «подрывной элемент» (исп. «subversivo») вошло в постоянный обиход, и мы будем использовать его в этом смысле.
(обратно)4
Революционной армии.
(обратно)5
Vieja, viejo («старая», «старый») – в испаноязычных странах это мягкий способ обращения к своим родителям.
(обратно)6
Все французские переводы в этой книге принадлежат Армелле Венсан.
(обратно)7
«Te podría decir que te extraño». Vicent Mauricio. El País, 7.10.2007.
(обратно)8
Че – это урезанная форма от глагола «escuCHE» (послушайте), то есть аналог русского «слышь». Эрнесто повторял это постоянно, и за это кубинцы прозвали его «Че». – Прим. пер.
(обратно)9
Построенной в XVIII веке для защиты Гаваны от английских пиратов.
(обратно)10
March Aleida. Evocación, Mi Vida al Lado del Che. Ocean Sur, 2011.
(обратно)11
Братец.
(обратно)12
Llanes Julio. Che entre la literatura y la vida. Editions Corpus, 2010.
(обратно)13
Отец.
(обратно)14
Черт побери!
(обратно)15
Бойца, погибшего в бою в Сьерра-Маэстре, товарища Фиделя Кастро.
(обратно)16
Йерба-мате («трава мате» или «зелье мате») – так называют высушенные листья падуба. Сам напиток имеет то же название, сосуд для его приготовления также называется мате, но в российской практике прижилось название калабас (или калебас), что означает по-испански «тыква». – Прим. пер.
(обратно)17
Caudillo (исп.) – каудильо, букв. «вождь». Принятое в Латинской Америке название военных диктаторов». – Прим. ред.
(обратно)18
Этот бригадный генерал, бывший губернатором провинции Буэнос-Айрес в 1833–1846 годах, использовал своеобразную милицию, которую называли «Масорка», чтобы утвердить свою власть.
(обратно)19
«Золотой штат» – распространенное название Калифорнии. – Прим. ред.
(обратно)20
Хуан Доминго Перон – аргентинский диктатор, президент страны в 1946–1955 и в 1973–1974 годах. – Прим. ред.
(обратно)21
Безумный старик.
(обратно)22
Капернаум, Кафарнаум – древний город, располагавшийся на северо-западном побережье Тивериадского моря, в Галилее, в Израиле. Он упоминается в Новом Завете. Иисус Христос проповедовал там и совершил много чудес. – Прим. пер.
(обратно)23
Франсиско Франко – испанский диктатор в 1939–1975 годах. – Прим. ред.
(обратно)24
Битва при Дьенбьенфу – решающее сражение Первой Индокитайской войны 1946–1954 годов между французскими колониальными войсками и войсками Демократической республики Вьетнам. – Прим. ред.
(обратно)25
Название жителей Буэнос-Айреса.
(обратно)26
Безумный, бешеный.
(обратно)27
Буквально «вся упаковка сразу», что эквивалентно словам «все вместе», «все в одном флаконе» в русском языке.
(обратно)28
Мы воспроизвели отрывки из него в последней главе этой книги.
(обратно)29
Север. – Прим. ред.
(обратно)30
Бомбардировка Пласа-де-Майо (Площади Мая) – один из самых кровавых эпизодов противостояния Перона и военной верхушки Аргентины, завершившегося переворотом, на 18 лет установившим в стране военную диктатуру. – Прим. ред.
(обратно)31
Gambini Hugo. El Che Guevara. Stockcero, 2002.
(обратно)32
Национальный герой Мексики, один из лидеров повстанцев во время Мексиканской революции 1910–1917 годов.
(обратно)33
Область на юге острова.
(обратно)34
Брак был заключен 18 августа 1955 года в мексиканском городе Тепоцотлан.
(обратно)35
«Монтонерос» (Montoneros или Movimiento Peronista Montonero) – аргентинская левоперонистская партизанская организация, созданная в 1960-х годах и начавшая вооруженную борьбу против диктаторских режимов в Аргентине. – Прим. пер.
(обратно)36
Его личность так и осталась скрытой с момента первой публикации этого письма.
(обратно)37
Очевидно, он намекает на монастырь Святого Сердца, в котором моя мать провела свое детство.
(обратно)38
Guevara Lynch Ernesto. Aquí va un soldado de América. PlazaJanés, 2000.
(обратно)39
Прозвище, которое было известно только в семье.
(обратно)40
Режим Батисты убивал журналистов, пытавшихся освещать жизнь партизан.
(обратно)41
Masetti Jorge Ricardo. Los que luchan y los que lloran. Nuestra America, 2006.
(обратно)42
Constenla Julia. Che Guevara La vida en juego. Edhasa, 2006.
(обратно)43
Прозвище Фернандо Чавеса, полученное им за его небольшой рост.
(обратно)44
Прим. ред.
(обратно)45
Исп. букв. «отдал тело», т. е. отдал всего себя. – Прим. ред.
(обратно)46
«Un mate en la habana, y la Argentina en los sueños». Rogelio García Lupo. Clarín. 15.11.2002.
(обратно)47
На самом деле африканское турне Че, в ходе которого он посетил в том числе Алжир и Египет, состоялось в 1964–1965 годах. – Прим. ред.
(обратно)48
Состоявшаяся в 1961 году неудачная военная операция правительства США с целью свержения Фиделя Кастро. – Прим. ред.
(обратно)49
«Trece días entre espías y traficantes de armas». Rogelio García Lupo. Clarín, 19.08.2001.
(обратно)50
Типичный аргентинский сэндвич, состоящий из стейка или сосиски в булке типа французского багета, который обычно продается на улицах.
(обратно)51
«Deformatorio» на испанском языке. Это игра слов с «reformatorio» – «исправительный дом». Такого слова нет в словарях.
(обратно)52
Лео Губерман – американский писатель-социалист. Пол Суизи – американский экономист левого толка, популяризатор марксизма. – Прим. ред.
(обратно)53
Аргентинский писатель-социалист. – Прим. ред.
(обратно)54
См. Приложение 1.
(обратно)55
Guevara Ernesto. El socialismo y el hombre en Cuba – эссе, отправленное Карлосу Кихано, директору уругвайского обозрения «Марча» 12 марта 1965 года.
(обратно)56
Современный Бенин. – Прим. ред.
(обратно)57
Карибский кризис – один из наиболее напряженных моментов «холодной войны», произошедший в октябре 1962 года и связанный с размещением советских ракет на Кубе.
(обратно)58
Даты приводятся различные.
(обратно)59
Чтобы дезориентировать секретные службы, они прошли через несколько стран.
(обратно)60
Ее подозревали в том, что она агент восточногерманской «Штази» и советского КГБ.
(обратно)61
Режи Дебре – французский журналист и философ, соратник Че Гевары в Боливии. Был арестован боливийскими властями и четыре года провел в тюрьме. – Прим. ред.
(обратно)62
Автору биографии Che Guevara, A Revolutionary Life. Grove Press, 1997.
(обратно)63
Guevara Ernesto. El socialismo y el hombre en Cuba, op. cit.
(обратно)64
Peredo Guido. Mi campaña junto al Che y otros documentos. Paraninfo Universitario, 2013. Первая публикация была в 1970 году в виде памфлета.
(обратно)65
Ее настоящее имя – Мария Эстела Мартинес Картас де Перон. Первая жена Перона, Аурелия Габриэла Тизон, умерла от рака матки 10 сентября 1938 года, через девять лет после их свадьбы. Его вторая жена, знаменитая Эва (Эвита), также умерла от рака матки в 1952 году, в возрасте 33 лет.
(обратно)66
Confederación general del trabajo de los Argentinos (Всеобщая конфедерация труда аргентинцев).
(обратно)67
Не имело никакого отношения к французской CGT.
(обратно)68
Указ диктатора Алехандро Агустина Лануссе помешал самому Перону баллотироваться на президентских выборах.
(обратно)69
Они оба якобы принадлежали к масонской ложе P2.
(обратно)70
Провинция Чубут.
(обратно)71
См. Приложение 2.
(обратно)72
Нестор Киршнер – президент Аргентины в 2003–2007 годах. Его супруга Кристина Фернандес де Киршнер была президентом страны в 2007–2015 годах. – Прим. ред.
(обратно)73
Другое название Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские (в Аргентине и ряде других стран – Мальвинские) острова. – Прим. ред.
(обратно)74
Рейнальдо Биньоне был последним президентом военной хунты. Его сменил Рауль Альфонсин. После отставки Рафаэля Виделы четыре президента поменялись в течение двух лет.
(обратно)75
Матери Пласа-де-Майо (Площади Мая) – общественное движение, ассоциация аргентинских матерей, чьи дети исчезли во время проведения политики «Грязной войны» в период военной диктатуры в Аргентине, что именовалось «Процессом национальной реорганизации». – Прим. пер.
(обратно)76
«Une affaire de famille, où en est Cuba? Che Guevara a répondu à Jean Daniel». Jean Daniel. L’Express. 25.07.1963.
(обратно)77
Аргентина пережила 17 военных диктатур, начиная с 1854 года.
(обратно)78
Сын Теодоро Рока, знаменитого адвоката, журналиста, университетского руководителя и активиста борьбы за права человека.
(обратно)79
Partido de acción nacional – Партия национального действия.
(обратно)80
Синдром Гийена-Барре (острый полирадикулоневрит) – острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия (множественное поражение периферических нервов), проявляющаяся вялыми парезами (снижением силы из-за поражения двигательного пути нервной системы), нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами. – Прим. пер.
(обратно)81
Массачусетский технологический институт в Бостоне, США.
(обратно)82
Алейда родилась в 1960 году, Камило – в 1962-м, Селия – в 1963-м, а Эрнесто – в 1965 году.
(обратно)83
Guevara Ernesto. Obras. Tomo II. Casa de Las Americas, 1970.
(обратно)84
Че Гевара называл этот мотоцикл «La Poderosa» (мощный), и он теперь выставлен в музее Че в Альта-Грасии. – Прим. пер.
(обратно)85
Кубинцы всех испанцев называют «Пепе».
(обратно)86
Название жителей Буэнос-Айреса.
(обратно)87
Аргентинская разведка (Coordinación de Informaciones de Estado – Координация государственной информации). CIDE до 1956 года, SIDE после 1956 года. Была создана в 1946 году по инициативе президента Хуана Перона. – Прим. пер.
(обратно)88
Фернандо де ла Руа (с 10 декабря 1999 по 21 декабря 2001 года), Рамон Пуэрта (с 21 по 23 декабря 2001 года), Адольфо Родригес Саа (с 23 по 30 декабря 2001 года), Эдуардо Каманьо (с 30 декабря 2001 по 2 января 2002 года), Эдуардо Дуальде (со 2 января 2002 до 25 мая 2003 года).
(обратно)89
В его съемках я участвовал в качестве консультанта.
(обратно)90
Из Санта-Клары.
(обратно)91
Guevara Ernesto Che. Apuntes críticos a la economia política. 1966. Centro de estudios Che Guevara.
(обратно)92
Guevara Ernesto. Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. Obras completas. Legasa, 1960.
(обратно)93
Это «стратегическое отступление» в строительстве социализма: «Нам тоже не хватает цивилизации для того, чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем для этого политические предпосылки», – сказал тогда Ленин, чтобы оправдать НЭП.
(обратно)94
Письмо, адресованное кубинскому министру образования Армандо Харту.
(обратно)95
Эрнесто не захотел, чтобы Алейда сопровождала его, хотя она и была его личным секретарем даже в большей степени, чем молодой женой, ибо его сотрудники приехали без жен, и он не захотел единственным иметь эту привилегию.
(обратно)96
Точно так же квебекский язык отличается от французского, а кубинский – от мексиканского, аргентинского и т. д.
(обратно)97
Интифада (от араб. «восстание») – арабское вооруженное движение, направленное на захват территории Палестины. – Прим. пер.
(обратно)98
Микротом – инструмент для приготовления срезов фиксированной и не фиксированной биологической ткани, а также небиологических образцов для оптической микроскопии толщиной 1–50 микрометров. – Прим. пер.
(обратно)99
Рикардо Гутьеррес – аргентинский врач и поэт XIX века. – Прим. ред.
(обратно)100
Латиноамериканский Епископальный Совет (Consejo Episcopal Latinoamericano), созданный в 1955 году в Рио-де-Жанейро. – Прим. пер.
(обратно)101
Салезианцы Дона Боско (SDB) – католическая монашеская конгрегация (организация монастырей) папского права, основанная Святым Иоанном Боско 18 декабря 1859 года в Турине (Италия). Конгрегация названа в честь Святого Франциска Сальского. – Прим. пер.
(обратно)


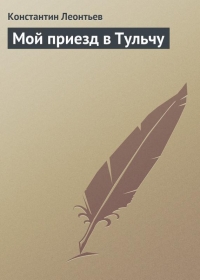




Комментарии к книге «Мой брат – Че», Хуан Мартин Гевара
Всего 0 комментариев