А. НОЙМАЙР МУЗЫКАНТЫ В ЗЕРКАЛЕ МЕДИЦИНЫ
*
Серия «СЛЕД В ИСТОРИИ»
© Copyright by Pichler Verlag GmbH, Vienna, 1995
© А. Ноймайр, 1995
© Перевод: Самойлович E. C., 1997
© Художник С. Царев, 1997
© Оформление, изд-во «Феникс», 1997
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга посвящена трем выдающимся представителям славянской музыки XIX века — Фредерику Шопену, Бедржиху Сметане и Петру Ильичу Чайковскому, а также Густаву Малеру, который в равной степени принадлежит уже и XX столетию. В этой книге предпринимается попытка реконструировать с использованием всех доступных биографических и медицинских источников заболевания и причины смерти великих композиторов, и, очистив их от спекуляций, романтически и политически окрашенных легенд, установить диагнозы, представляющиеся бесспорными с точки зрения современной медицинской науки. При этом неизбежно приходится пересматривать, а порой вообще выбрасывать за борт некоторые устоявшиеся представления, вошедшие даже в новейшую литературу. Так, некоторые привычные клише переживают совершенно неожиданные метаморфозы.
При медицинском анализе особенностей личности и характера великих творцов музыки неизбежно приходится учитывать исторический и общественно-политический фон их жизни, а также глубоко интимные личные обстоятельства, ибо только при этом условии можно построить психограммы этих людей, установить и объяснить читателю факторы, оказавшие определяющее влияние на их духовную жизнь и претворившиеся в музыку. Потребовалось также установить взаимосвязь между различными медицинскими аспектами, поскольку без этого многие диагностические выводы и терапевтические мероприятия медиков того времени могут показаться непонятными с современной точки зрения. Я и теперь не сумел избежать искушения и вновь попытался установить связь между страданиями и творчеством в тех случаях, когда тому есть автобиографические подтверждения или имеется возможность правдоподобной интерпретации биографических данных. Сколь бы проблематичными ни казались подобные попытки, я все же надеюсь, что они помогут читателю составить новое и, возможно, лучшее представление об отдельных произведениях этих мастеров.
Я приношу самую глубокую благодарность Национальной библиотеке Австрии и Институту истории медицины Венского университета за предоставленные первоисточники и графические материалы, доктору Зелински за материалы нью-йоркской больницы Маунт Синай, а также многолетней сотруднице Музея П. И. Чайковского в Клину г-же А. Орловой.
Автор Вена, май 1991 г.ФРЕДЕРИК ШОПЕН
Шопена следует отнести к той категории художников, которых Фридрих Шиллер назвал «сентиментальными». В отличие, например, от Ференца Листа, в музыке которого прослеживается более или менее явная связь с литературой, Шопена редко вдохновляли непосредственно литературные произведения. Однако в музыкальном творчестве Шопена есть многочисленные косвенные указания на связь с литературными прообразами, и современные исследователи считают, что Шопен занимает прочное место в культуре музыкально-литературного романтизма.
К сожалению, почти вся музыкально-историческая и биографическая литература, посвященная Шопену, не свободна от субъективных представлений. Это идет еще от эпохи романтизма, в традициях которой было идеализировать жизнь и творчество художников. В результате возникли трогательные легенды, в которых Шопен предстает чуть ли не узником, и это порой препятствовало правильному пониманию его произведений будущими поколениями музыкантов и слушателей. Ярким примером создания такого идеализированного образа является исследование Ференца Листа о Шопене, опубликованное в 1851 году, в котором великий композитор предстает нежным и хрупким, как «прекрасные цветы на необычайно тонких стеблях». Подобные образы соответствовали общественным вкусам того времени, но они способствовали возникновению грубо искаженных представлений о человеке и художнике. Это было понятно и современникам — возлюбленная Листа графиня Мари д’Агу с присущей ей иронией назвала это «пересахаренной устрицей». Подобный поверхностный, расплывчатый подход привел к тому, что биографы полностью упустили важные грани личности Шопена, явившиеся причиной порой обуревавших его взрывов бурных страстей и «творческих противоречий» души великого художника.
К сожалению, мы не располагаем письменными документами, раскрывающими творческую идеологию Шопена, как это было в случае Вебера и Шумана. Очевидно лишь то, что он был одним из наиболее последовательных композиторов романтического направления, несмотря на то, что самый продуктивный музыкальный жанр этого направления — вокальный — остался практически за пределами его творчества. Эти романтические черты в творчестве Шопена имеют, безусловно, немецкое происхождение, что отмечал еще Гейне в «Парижских письмах об искусстве», сказав, что «Германия дала ему романтическую глубину». Это не значит, что Шопен школярски подражал какому-то немецкому мастеру — первые творческие импульсы дали ему польская народная музыка и воспринятый во время учебы фортепианный «stil brillant» («блестящий стиль»), излюбленный в те времена. Юного Шопена вдохновляла в первую очередь виртуозная фортепьянная техника Гуммеля, Фильда или Вебера, и вскоре он начал трансформировать и совершенствовать эту технику. Если влияние Фильда, обогатившего «высокую» салонную музыку жанром лирического, мечтательного ноктюрна, осталось в основном внешним, то Гуммель оказал влияние на технику фразировки Шопена. В первых произведениях очень сильно влияние классики, чем юный композитор был обязан в первую очередь Гуммелю, произведения которого постоянно лежали на пюпитре фортепиано Шопена в варшавский период его жизни. Пристрастие к классическим формам было столь же характерным и для польских предшественников Шопена: Лесселя, Огинского, Купринского, которые, в свою очередь, не могли не оказать влияния на Шопена. Однако, вне сомнения, наиболее сильное влияние оказали на него такие великие предшественники, как И.-С. Бах, Моцарт и Бетховен, с творчеством которых юного Шопена познакомил его учитель, прекрасный педагог Эльснер. Так, в частности, проблему логики Шопен всегда неразрывно связывал с именем Баха, который являлся для него идеалом совершенной формы. Строя особую циклическую форму своих прелюдий, Шопен руководствовался «Хорошо темперированным клавиром» Баха. Созданием крупных циклов миниатюр Шопен отдал дань господствующей в то время идеологии романтизма, что нашло свое отражение также в произведениях других современных ему композиторов, например в «Карнавале» и «Бабочках» Шумана. Однако в контрапункте и полифонии явно проявились слабости Шопена — в своих немногочисленных камерных и оркестровых произведениях он значительно уступает Баху, Бетховену и Шуману.
Достижения Фильда, Гуммеля и Вебера в области фортепианной техники послужили лишь исходным пунктом для композиций Шопена, и очень скоро его творческий дух ощутил необходимость применить освоенный технический арсенал для достижения новых художественных высот и превратить его в настоящее искусство. Прежде всего это относится к орнаментике, широко применявшейся Фильдом и Гуммелем для более эффектного украшения мелодии, что диктовалось потребностями зарождающейся в Европе буржуазной культуры. В первых произведениях Шопена ощущается «гуммелевское влияние, выразившееся в пристрастии к пассажам», еще отчетливо видно его увлечение «stil brillant», но уже через очень короткое врет функция орнамента у Шопена меняется, и он используется для придания мелодии большей динамики. У Гуммеля и Калькбреннера, равно как и у польских композиторов начала XIX века, орнамент присутствует исключительно для придания мелодии внешнего блеска. Шопен эмансипировал эти элементы, превратив их из чисто декоративного дополнения к мелодии в несущую, существенную часть композиции, положив тем самым начало новому направлению в инструментальной музыке, решительно порывающему с ранее существовавшей традицией.
Эта традиция уходит корнями в XVIII век, когда композиторы в основном стремились приносить жертвы «привычному бульканью» примадонн, оснащая мелодии искусными украшениями, как остроумно заметил Моцарт в письме отцу 26 сентября 1781 года. С наступлением в XIX веке эры виртуозов орнаментальные изыски стали применяться уже не только певцами, но и инструменталистами, и в конце концов орнаментика превратилась в самоцель и стала важнее мелодии. Естественно, что немецкие романтики отвергли эту тенденцию и отдали предпочтение простым, лишенным почти всяких украшений формам, следуя известному высказыванию Э. Т. А. Гофмана: «Чего стоят все эти роскошь, сияние и блеск, если они всего лишь окружают мертвое тело». Такие же чувства должен был испытывать и Шопен во второй период своего творчества, когда завершилось формирование его индивидуальности и он нашел собственный звуковой язык с неиссякаемым богатством фигур и арабесок, ставших неотделимым колористическим элементом мелодии, язык художника, которого уже ни с кем невозможно спутать. Тем не менее элементы шопеновской орнаментики третьего, позднего периода творчества остались для Шумана всего лишь украшениями, пусть даже такими, которые «подчеркивают просвечивающее сквозь них благородство поэзии». Шуману эта орнаментика казалась уступкой виртуоза мещанству пресыщенной парижской публики, и он никогда не считал, что она имеет право на существование в качестве самостоятельного средства выражения идеи музыкального произведения.
Однако не только классические образцы давали Шопену импульсы в его композиторском творчестве. В его напевной мелодике отчетливо чувствуется влияние итальянского бельканто в стиле Россини или Беллини. Для творчества Шопена характерна не только орнаментика, это тот тип инструментальной музыки, который вырастает как бы прямо из человеческого голоса, это кантилена в переложении для фортепиано. Совокупность этих признаков и определила неповторимость музыкального языка Шопена.
Однако своим истинным очарованием произведения Шопена обязаны в огромной степени влиянию польской народной музыки, которое проглядывает в тональных и гармонических реминисценциях. Музыка Шопена, вышедшая из польской музыкальной традиции, явилась результатом того романтического течения, которое возвело элементы национального искусства и национальной литературы в число своих важнейших принципов и составных частей. До этого времени музыкальные произведения с элементами польской народной музыки носили в основном примитивный характер, что соответствовало низкому культурному уровню польского мелкопоместного дворянства XVIII века, представителей которого называли «сарматами». Шопен поднял польскую музыку на невиданную высоту. Спроецировав стихию национальных выразительных средств на свое личное восприятие и собственные выразительные средства, Шопен пришел к столь гармоничному сплаву различных элементов польского фольклора и собственного индивидуального стиля, что его музыка представляется нам сегодня прежде всего его личным звуковым языком и лишь затем уже польской музыкой, подобно тому, как музыка Бетховена не воспринимается нами как типично немецкая музыка, а, прежде всего, как звуковой язык Бетховена. Несмотря на то, что в музыке Шопена явно слышится пламенное признание в любви родной Польше, в ней, в отличие от национально окрашенной музыки Дворжака, Грига или Альбениса, на первом плане находится его индивидуальный стиль. При этом Шопен сумел придать польской народной музыке во многом совершенно новое звучание, как это случилось, например, с его мазурками. Место Шопена в истории мировой музыки поистине уникально, ибо ему удалось в единственном лице представить музыку целой страны и «уравнять Польшу в правах с другими великими музыкальными державами мира».
Может показаться странным, но истоки творчества Шопена лежат в так называемой «салонной музыке». Вначале это было высшее варшавское общество двадцатых годов XIX века, перед которым одаренный мальчик выступал с импровизациями в популярном в то время салонном стиле. Двери аристократических и буржуазных салонов Парижа также не являлись непреодолимым препятствием для цветущего дилетантства, дань которому отдал не только юный Шопен, всю жизнь протестовавший против «пустого бренчания» и «романсовой заразы» парижского света эпохи июльской монархии, но и такие признанные пианисты-виртуозы, как Лист, Калькбреннер и Тальберг. Однако с первых дней Шопена отличала от других виртуозов «в высшей мере музыкально клаузулированная форма, одновременно сочетавшая в себе и приспособление, и неприятие», в которой он вращался в парижских салонах, причем не только в музыкальном, но и в социальном плане. Салонный мотив можно считать одним из видимых выражений сложного переплетения социальных интересов и противоречий, существовавших во французском обществе времен июльской монархии. В этих условиях Шопен мог рассматривать исполнение своих вальсов в парижских салонах как некий эксперимент, призванный выяснить возможности, присущие атмосфере салонов, и рамки правил и предрассудков, свойственных этой среде. Действительно, шопеновские вальсы устроены так, что их поверхностное восприятие единственно ради услаждения слуха практически исключено, ибо в этих произведениях достаточно часто отсутствуют все черты, свойственные традиционным вальсам.
Как композитор Шопен является создателем дотоле совершенно неизвестного жанра, нового фортепианного стиля. Лист воспринял этот стиль, но ничего нового внести в него уже не смог. Смелость в гармонии, исключительно богатый хроматизм, в котором Шопен не останавливался даже перед вопиющими диссонансами, новые средства орнаментики, неизвестная до него форма гармонического аккомпанемента, как, например, подчеркивание выразительных средств левой рукой, широта и красота мелодических линий, и, прежде всего, национальные элементы, проникнутые личностью художника, — вот что создало новый, оригинальный фортепианный стиль Шопена. Этот стиль отличает органическое единство меланхолии и демонической страсти, полностью погруженной в море звуков.
Фортепианный стиль Шопена неотделим от его исполнительского мастерства, которому были свойственны напевность и выразительность вплоть до мельчайших оттенков, точно выверенная динамика и знаменитый шопеновский tempo rubato, которые позволяли ему целиком и полностью завоевать слушателей свой элегантной, прозрачной манерой исполнения и необычайно насыщенным, исполненным красоты звучанием — прославленным «голубым звуком». И в чисто технической области его необычайная одаренность исполнения на фортепиано, ставшего вторым его «я», выразилась в полном совершенстве фортепианной фразы. Это позволило ему достичь непревзойденного «слияния играющей руки с клавиатурой», которое в сочетании с беглостью и тонким владением педалями положило начало новой фортепианной культуре, как в смысле звучания, так и в чисто техническом смысле. Сегодня Шопен по праву считается наиболее выдающейся фигурой в фортепианной музыке XIX века, по большому счету ни один из композиторов XIX века в своем творчестве не избежал влияния Шопена. Стиль Шопена и его революционная техника оказались решающими для развития фортепианной музыки, что нашло свое отражение в творчестве Падеревского и Шимановского, Скрябина и Рахманинова, Цезаря Франка, Форе, Дебюсси и Равеля, а также Ференца Листа и Адольфа Гензельта, которого называли немецким Шопеном. Нам сейчас трудно поверить, что из современников Шопена только Берлиоз и Шуман смогли осознать революционное значение его музыки. В 1831 году, сразу после выхода из печати вариаций для фортепиано с оркестром на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан», ор. 2, Роберт Шуман опубликовал в берлинской газете «Альгемайне музикалише Цайтунг» рецензию, в которой представил миру молодого поляка такими пророческими словами: «Шляпы долой, господа, это — гений».
Определение истинного места Фредерика Шопена в истории музыки потребовало относительно большого времени, ибо далеко не сразу удалось отделить правду от поэтического вымысла и развеять туман, окружавший его личность. Для того, чтобы построить надежный мост между художником и человеком, необходимо не только критически осмыслить его биографию, но также попытаться найти факты, подтверждающие синхронную связь между событиями жизни и физическими и психическими страданиями человека, а также указывающие на возможную связь между событиями и страданиями человека и творчеством художника.
Между Францией и Польшей — происхождение и детство
Романтические легенды окутывают не только творческую карьеру Шопена-художника. Подобные легенды оказали серьезное влияние на исторические исследования происхождения его семьи. К этому следует добавить также исторически обоснованные эмоциональные факторы, глубоко пронизывавшие польское общество. Польша, до 1772 года великая держава, после поражения отчаянного героического восстания против русского узурпатора и последовавшего за ним третьего и окончательного раздела в 1795 году, исчезла с карты Европы. Однако именно вследствие вынужденной утраты государственности высшим идеологическим законом для польского народа стало сохранение национального самосознания, и польская нация продолжала играть в Европе важную политическую и культурную роль. Поэтому неудивительно, что, несмотря на однозначно французское происхождение отца композитора, предпринимались упорные попытки обнаружить у него польских предков. Так, например, в наиболее подробной трехтомной биографии Шопена, опубликованной Фердинандом Гезиком в 1912 году в Варшаве, попытка доказать польское происхождение Шопена начинается словами: «Существуют предания, согласно которым в жилах этого француза из Лотарингии текла польская кровь, потому что прародителем лотарингской семьи Шопен был поляк Миколай Шоп, придворный несчастного короля Станислава Лещинского, который, будучи наместником Лотарингии, завоевал симпатии местного населения… В те времена было обычным делом, что польские дворяне, селившиеся в Лотарингии, переделывали свои труднопроизносимые фамилии на французский лад. Так сын этого Миколая Шопа — Шопена стал уже Жан-Жаком Шопеном…». В настоящее время безосновательность таких предположений уже бесспорно доказана, хотя в генеалогии Шопена еще многое остается неясным. Лишь после второй мировой войны путем кропотливой работы удалось собрать воедино многочисленные документы, рассеянные по различным архивам Лотарингии, и с их помощью полностью проследить отцовскую линию до XVII века. Что же касается матери-польки, то подобное исследование ее происхождения до сих пор еще не проведено.
Самый дальний известный предок — Антуан Ша-пен, прадед деда Фредерика, жил во французской провинции Дофине и в 1683 году вместе с семилетним сыном Франсуа оставил семью, очевидно, для того, чтобы заняться выгодной контрабандой табака. Когда в 1714 году Франсуа умер, у его жены осталось семеро детей, младший из которых родился в 1712 году и при крещении получил имя Никола. Этот Никола жил в дальнейшем в городе Амбакуре, был трижды женат и имел в общей сложности 12 детей. В третьем браке у него родился сын Франсуа, фамилия которого была уже не Шапен, а Шопен. Его воспитателями были дядя, известный мастер музыкальных инструментов, и настоятель амбакурского собора, в домике которого в Маренвиле часто бывал Франсуа. Женившись на Маргерит Дефлен, он перебрался на постоянное жительство в Маренвиль, где супруги купили небольшой дом. У Франсуа и Маргерит было пятеро детей, из которых Никола, родившемуся в 1771 году, суждено было стать отцом Фредерика Шопена.
В судьбе Никола, в частности в его последующем переселении в Польшу, значительную роль сыграл Маренвильский замок. В 1769 году, когда Франсуа Шопен поселился в Маренвиле, это графство уже перешло в руки графа де Рютана, камергера несчастного короля Польши Станислава I Лещинского, который с 1737 года был герцогом Лотарингским. Граф де Рютан умер в 1779 году, не оставив прямых наследников, и было принято решение продать замок. Единственным заинтересованным лицом оказался некий граф польского происхождения Жан Мишель Пак.
Граф Пак когда-то был камергером польского короля Станислава II Августа Понятовского, бывшего любовника русской императрицы Екатерины И, которая в 1764 году возвела его на польский престол после смерти предшественника, саксонского короля Августа III. Во время первого раздела Польши генерал литовской армии Пак командовал силами распущенной Барской конфедерации, а затем эмигрировал во Францию.
Приезд графа Пака в Маренвиль привел к тому, что семья Шопен установила связи, оказавшие решающее влияние на ее последующую жизнь. Речь идет не столько о самом графе, который, оказавшись за границей, продолжал ревностно служить делу своей родины, сколько о польском дворянине Яне Адаме Вейдлихе, наместнике графа и управляющем всеми делами графства. Франсуа Шопен был старостой общины, и в его обязанности входило представление ежегодных отчетов. Благодаря своему положению, а также с помощью местного священника, учителя, управляющего и его жены, с разрешения графа ему удалось обеспечить сыну Никола более высокое образование, нежели то, на которое он мог бы рассчитывать. В 10 лет Никола, выросший в бедном доме, был допущен в блистательную резиденцию, где говорили по-французски, по-польски и по-немецки и уделяли достойное место музыке и пению. Жена управляющего с каждым днем все больше становилась для него «второй матерью», и теперь уже 14-летний Никола относился к ней с нескрываемым почтением и любовью.
Мы столь подробно останавливаемся на событиях, составлявших общественно-политический фон детства Никола Шопена (он родился в 1771 году, всего через пять лет после присоединения Лотарингии к Франции), потому, что считаем необходимым правдиво и логично объяснить обстоятельства, при которых он попал в Польшу, очистив все данные от наслоений из политических и романтических легенд и спекуляций. В 1785 году граф Пак вынужден был расстаться с замком Маренвиль и переехать в Страсбург, где и умер два года спустя. Вслед за графом покинул замок и его управляющий Вейдлих вместе с женой и двухлетним ребенком. Естественно, он взял с собой и уже 15-летнего Никола. Последовали ли они за графом в Страсбург — неизвестно, так как нам вообще ничего не известно об их жизни в период с 1785 по 1787 годы. Однако совершенно точно известно, что Никола Шопен вместе с бывшим графским управляющим Вейдлихом и его супругой, «благородной дамой, к которой он до конца своей жизни сохранил истинно сыновние чувства», выехал в Польшу. Они прибыли в Варшаву в Рождество 1787 года. Скорее всего, родители Никола, которых он посетил перед отъездом, не были согласны с этим его шагом, что следует из его письма к ним, написанного в Варшаве и датированного 15 июля 1790 года. Из этого письма также видно, что на протяжении целых двух лет он не получал никаких известий от родителей. Наряду с привязанностью к Вейдлихам и лучшими профессиональными перспективами, открывшимися перед ним благодаря многочисленным связям Вейдлихов в Варшаве, его отъезд имел еще одну очень важную причину: в Лотарингии всех мужчин, начиная с 18 лет, насильно забирали солдатами во французскую армию, и эта перспектива его никак не устраивала.
В Варшаве с 1787 по 1790 год Никола работал бухгалтером на табачной мануфактуре и принимал очень близко к сердцу деятельность Великого Сейма. Из дому он взял с собой только томик вольтеровского «Кандида», скрипку и флейту. У нас нет никаких оснований предполагать, что он проявлял интерес к философским или религиозным проблемам. Горячий интерес проявлял он к политическим событиям в Польше. Действительно, Великий Сейм 1787–1792 годов, уже в какой-то мере под влиянием французской революции, сумел провести огромную реформаторскую работу, пользуясь тем, что руки России были связаны войнами с Турцией и Швецией. Важнейшим элементом этой работы явилась майская конституция 1791 года, разработанная при непосредственном участии короля Станислава II Августа Понятовского. Эта конституция заменила выборную монархию наследственной, отменила право «liberum veto» и объявила палату депутатов «средоточием высшей власти народа». Сначала Австрия и Пруссия объявили себя гарантами этой конституции, но уже в мае 1791 года Пруссия и Россия договорились о вводе войск в Польшу. После ожесточенных боев Польша была вынуждена отменить майскую конституцию и на «немом сейме» 1793 года в Гродно уступить России и Пруссии значительные территории в рамках второго раздела Польши. Эта национальная катастрофа вызвала взрыв пламенного патриотизма. Вспыхнуло восстание под руководством испытанного полководца Тадеуша Костюшко. Крестьянам, вооруженным в основном косами и вилами, удалось даже освободить значительные территории от превосходящих по численности и вооружению сил русской армии. Однако с помощью вступивших в Польшу прусских войск после жестокой резни восстание все же было подавлено.
Несмотря на то, что Никола Шопен, как видно из его письма к родителям, не питал особого пристрастия к военной службе, за годы, прожитые в Варшаве, он так вжился в польское общество и настолько почувствовал себя поляком, что воспринял трагедию Польши как позор своей родины и не пожелал быть безучастным свидетелем событий. Он вступил в ряды польской национальной гвардии и плечом к плечу со своими польскими друзьями сражался против московитских узурпаторов. Здесь, по всей видимости, сыграла свою роль и личность Костюшко, генерала американской Войны за независимость, противника рабства, личного друга Вашингтона и Джефферсона и почетного гражданина Французской республики. Никола Шопен всем сердцем был предан делу свободы Польши, что подтверждают изданные позднее дневники Фридерика Скарбека, где, в частности, говорится: «Никола Шопен уважал поляков и был благодарен стране и людям за оказанное гостеприимство и возможность вести достойную жизнь… Он много лет прожил в нашей стране, поддерживал дружеские отношения со многими польскими семьями, женился на польке и благодаря семейным и дружеским связям превратился в истинного поляка».
После поражения восстания и третьего, окончательного, раздела Польши в 1795 году Никола Шопен какое-то время обдумывал возможность возвращения в Лотарингию. Однако незадолго до уже намеченного отъезда он заболел. Нам точно неизвестна природа этой болезни, имеются лишь сведения о том, что это было «астматическое» заболевание легких. Выздоровев, он убедился в том, что после третьего раздела Польши и аннексии Варшавы Пруссией он уже не сможет зарабатывать на жизнь в качестве домашнего учителя в богатых семьях, как это было в 1790–1794 годах. Осмотревшись, он решил переселиться в деревню и принял предложение молодой вдовы своего погибшего боевого товарища Лашинского стать учителем четверых ее детей. Мария, младшая его ученица, позднее сыграла заметную роль в жизни Наполеона. Будущая графиня Валевская привела императора в изумление не только знаниями французского языка, истории и географии Франции, почерпнутыми ею у Никола Шопена, но и своими музыкальными дарованиями — молодая прекрасная полька очаровала Наполеона, хотя и приняла его пламенную любовь лишь после того, как с польской стороны ей дали понять, что эта связь сможет принести большую пользу ее угнетенной родине.
В те времена, когда Никола Шопен исполнял обязанности учителя у Лашинских, в имении часто бывал и играл с маленькой Марией Фридерик Скарбек, сын разведенной графини Скарбек, хозяйки имения Желязова Воля. У графини создалось столь благоприятное впечатление об учителе, что она решила поручить ему воспитание своих пятерых детей. В 1802 году Никола переселяется в имение графини, где исполняет обязанности не только домашнего учителя, но и бухгалтера, учителя танцев, аптекаря и домашнего медика. До его прихода графине в воспитании детей помогала в качестве экономки ее дальняя родственница-сирота Текла Юстина Кжижановская. Юстина играла на чембало, и у нее было красивое сопрано. Никола сам играл на скрипке и флейте, и теперь ему было с кем музицировать долгими зимними вечерами. Очаровательная, скромная, спокойная девушка, к тому же еще и благородного происхождения, покорила Никола, и вскоре он решился предложить ей руку и сердце. Венчание состоялось 2 июня 1806 года в брохувской церкви.
Молодая пара поселилась в домике в окрестностях замка. В это время Никола при посредничестве графини познакомился с ректором Варшавской французской гимназии, и это знакомство впоследствии сыграло очень важную роль в жизни его и его семьи. В том же 1806 году армия Наполеона после побед под Аустерлицем и Йеной вступила в прусскую провинцию Варшау (так называлась эта часть Польши после раздела). Поляки встречали французов как освободителей. Наполеон провозгласил создание «Великого герцогства Варшавского». В такую, французскую, Варшаву Никола готов был возвратиться с огромным удовольствием. Поэтому в 1810 г. он с готовностью принял предложение ректора французской гимназии занять в ней должность учителя французского языка.
Однако за полгода до переезда супругов Шопен в Варшаву в Желязовой Воле произошло событие, весьма знаменательное не только для родственников и современников — рождение мальчика, получившего при крещении имя Фредерик Францишек, которому дано было стать крупнейшим фортепианным композитором XIX века.
Точная дата рождения Фредерика Шопена одно время была предметом длительной полемики несмотря на то, что и в свидетельстве о рождении, и в свидетельстве о крещении указано, что он появился на свет в 6 часов вечера 22 февраля 1810 года. Позднее сам Шопен якобы утверждал, что он на самом деле родился 1 марта под знаком Рыб, и говорил, что эта дата известна ему от родителей, «которые, может быть и ошиблись один раз, но не захотели совершать вторую ошибку». Все же дата 22 февраля стоит в свидетельстве о рождении, скрепленном подписями отца, священника и муниципального чиновника, а также в свидетельстве о крещении, под которым стоят подписи крестных родителей, поэтому трудно предположить, что все эти люди допустили случайную или умышленную ошибку. Таким образом, эту дискуссию следует признать раз и навсегда оконченной и впредь исходить из того, что датой рождения Фредерика Шопена является 22 февраля 1810 года. В октябре 1810 года семья Шопен переселилась в Варшаву, и вскоре Никола получил от дирекции лицея разрешение открыть частный пансион для детей из дворянских и буржуазных семей, многие из которых впоследствии стали близкими друзьями Фредерика: Титус Войцеховский, Ян Матушинский, Юлиан Фонтана, Ян Бялоблоцкий, брат и сестра Водзинские.
Выдающиеся педагогические способности Никола Шопена были оценены по достоинству, и в 1812 году он получил должность профессора французского языка в Варшавском инженерно-артиллерийском училище. Теперь он получал жалованье в двух местах, жена его держала уже известный нам пансион. В результате экономическое положение семьи заметно укрепилось, и рождение дочерей Изабеллы в 1811 и Эмили в 1813 году не создало заметной финансовой нагрузки на семейный бюджет. Теперь у Фредерика было уже три сестры (старшая Луиза родилась в 1807 году). В семье царили очень гармоничные отношения и ее душой была милая, заботливая и незаметная Юстина, которую Фредерик называл лучшей из матерей. Жорж Санд говорила, что мать была его «единственной любовью».
К сожалению, нам почти ничего неизвестно о первых годах жизни Шопена, за исключением того, что кроме очень здоровой и крепкой Луизы (Людвики), все остальные дети в семье часто болели и постоянно обеспокоенная мать все время обращалась к услугам доктора Мальча и доктора Ремера. Современники свидетельствуют, что Фредерик был очень нежным и болезненным ребенком, однако кроме зубной боли и частого отсутствия аппетита никакие другие подробности до нас не дошли. Известно лишь, что хрупкая и болезненная конституция мальчика доставляла родителям немало забот и любой, даже мельчайший знак того, что он чувствует себя хорошо, приносил им огромное облегчение и радость — так, например, было воспринято письмо, написанное Фредериком во время школьных каникул, где он сообщал что «ест с небывалым аппетитом». Тем не менее можно сделать вывод, что заболевания, перенесенные Шопеном в детстве и ранней юности, не сыграли существенной роли, поскольку его письма заполнены рассказами об обычных мальчишеских проделках, радостных каникулярных впечатлениях и музицировании. Все же стоит обратить внимание на то, что и возрасте 14 лет он продолжал регулярно принимать лекарства, например желудевую эссенцию, и ему рекомендовалось воздерживаться от употребления ржаного хлеба.
Музыкальная одаренность Фредерика проявилась очень рано. Будучи совсем ребенком, он не мог сдержать слез, услышав за стеной звуки фортепиано, и едва достигнув школьного возраста уже умел воспроизводить на инструменте все мелодии, которые играла мать, и выражать собственные чувства в свободных импровизациях. В этих упражнениях на клавиатуре, кроме матери, ему помогала старшая сестра Людвика, которая, таким образом, стала учительницей музыки до того, как научилась читать и писать.
Когда родители обратили внимание на интерес сына к музыке и его «явную музыкальную одаренность», они решили обучать его игре на фортепиано. Первый учитель музыки, чех Войцех Живный, начал заниматься с Фредериком, когда тому едва исполнилось семь лет. Живный получил музыкальное образование в Лейпциге в духе традиций Иоганна Себастьяна Баха. Его методика преподавания была несколько старомодна и педантична, и поэтому, а также из-за его невзрачной и несколько странной внешности, большинство биографов Шопена дает Живному не слишком лестную оценку, однако этот педагог сыграл решающую роль в музыкальном образовании Фредерика. Ученик очень скоро превзошел учителя в техническом отношении, однако заслуга Живного состоит в том, что он обучил мальчика главным основам игры на фортепиано, благодаря чему тот уже в очень раннем возрасте приобрел способность к самосовершенствованию. Поэтому Фредерик до конца своей жизни не переставал благодарить своего первого учителя.
Уже в возрасте семи лет проявились творческие способности Фредерика, выразившиеся в сочинении маршей, вальсов и полонезов. На публикацию первого полонеза маленького Шопена «Варшавские ведомости» отозвались следующими восторженными словами: «Это истинный музыкальный гений, ибо он не только исполняет сложнейшие музыкальные произведения с удивительной легкостью и большим чувством, но он к тому же и композитор, перу которого принадлежат несколько танцев и вариаций, вызвавших немалое восхищение у любителей музыки». Действительно, этот, недавно найденный, полонез, вполне может выдержать сравнение с полонезами Огинского или Курпинского. Неудивительно, что Клементина Гофманова в вышедшей в 1819 году «Памятке хорошей матери» пишет о ребенке, еще не достигшем девяти лет, «который, по мнению знатоков искусства, обещает стать вторым Моцартом». Вскоре имя Шопена стало широко известно в Варшаве, а после того, как 24 февраля 1818 года он впервые публично выступил в рамках благотворительного вечера с ми-ми-норным концертом для фортепиано модного в то время композитора Адальберта Гировца, перед ним открылись двери салонов таких вельможных семейств, как Чарторыйские, Радзивиллы и Потоцкие, а также многих других высокопоставленных семейств. Маленький Шопен стал любимцем даже русского великого князя Константина Павловича, сына императора Павла I, который был наместником в бывшем Великом герцогстве Варшавском (эта область после четвертого раздела Польши в 1815 году превратилась в русскую провинцию). Фредерик даже посвятил Константину военный марш, написанный в 1818 году. Великий князь приказал аранжировать этот марш для духового оркестра, и утверждают, что ему нравилось, когда это произведение исполняли во время военных парадов. Говорят также, что маленький Шопинек, как в те времена ласково называли Шопена, был единственным человеком, умевшим своей игрой на фортепиано усмирять приступы ярости Константина, которых боялись все окружающие. В Бельведере, резиденции наместника, он познакомился с дочерью гувернера, графа де Мориолля. Позднее он называл ее «Мориолька», и до самого конца варшавского периода его жизни их связывала искренняя дружба.
До двенадцати лет Фредерик не посещал школу, единственным учителем его был отец. В 1823 году он успешно сдал вступительные экзамены в Варшавский лицей, где получил основательное и обширное образование. Наряду с этим большое влияние на его развитие оказали многочисленные приглашения в различные салоны и дворцы. Французскому языку его обучил отец. Кроме того, он изучал латынь, греческий, немецкий, итальянский и английский языки, прослушал курс ораторского искусства и получил солидное образование по естественным предметам, истории литературы и рисованию. Подобно Мендельсону, он обладал необычайным талантом рисовальщика, а с Робертом Шуманом его роднили богатая фантазия, поэтические способности и актерский дар, в котором прежде всего проявлялась его способность к имитации. В общем и целом, можно, не боясь ошибиться, сказать, что едва ли какой-либо другой музыкант получил столь же благородное воспитание, как Шопен, и прозвище «юный князь» вполне соответствовало действительности, тем более, что он с юности отдавал предпочтение аристократическому обществу, не из снобизма, а потому, что считал себя здесь духовно равным.
Но совершено особое место занимают занятия техникой игры на фортепиано, буквально захватывавшие его. Под руководством своего чудесного учителя Живного он ежедневно часами упражнялся за инструментом, причем уделял особое внимание растяжке своих пальцев. Подобно Роберту Шуману, он пытался достичь наибольшего эффекта с помощью особого приспособления, а именно самостоятельно вырезанных кусочков дерева, которые на ночь закреплял между пальцев. Однако когда стало ясно, что Живный едва ли сможет научить его еще чему-либо, отец в 1822 году поручил дальнейшее музыкальное образование высокоодаренного и прославившегося в качестве «вундеркинда» сына своему другу Йозефу Эльснеру, который к этому моменту стал директором Варшавской консерватории. Эльснер, родом из Гроткау в Немецкой Силезии, был разносторонним музыкантом. Он не только играл на скрипке и дирижировал, но также плодотворно сочинял и мог преподать своему ученику гармонию и контрапункт, что называется, из первых рук. В юном ученике он мгновенно распознал гения и позволил ему идти собственным путем, естественно, под бдительным и направляющим оком опытного учителя. Критикам такой методики он говорил: «Оставьте его в покое! Он идет необычными путями, ибо обладает необычайным талантом. Он не придерживается испытанного метода, но у него есть собственный метод, и в его произведениях обнаружится нечто столь оригинальное, чего вы не найдете ни у кого другого». Собственно, в исполнительском мастерстве Шопен многое почерпнул у Вильгельма Вюрфеля, выдающегося пианиста, который в 1826 году покинул Варшаву для того, чтобы занять должность капельмейстера венского театра «Ам Кернтнертор». Вюрфель также познакомил Шопена с игрой на органе.
Успехи Шопена в игре на фортепиано были феноменальны. Уже в четырнадцать лет он усовершенствовал технику Гуммеля и Вебера, с поразительной легкостью покоряя всю клавиатуру фортепиано и, кроме того, применяя орнаментику как важное выразительное средство. О его фортепианном мастерстве того времени можно судить по газетным заметкам, согласно которым он с легкостью исполнял столь сложные в техническом отношении фортепианные концерты Гуммеля, Мошелеса и Калькбреннера. За время учебы в Варшавском лицее он сочинил также немало произведений, преимущественно мазурок и полонезов. Если в ранних полонезах он в основном подражал современным ему польским композиторам, то теперь его образцом стали полонезы Вильгельма Фридемана Баха, которые в творчестве Шопена получили дальнейшее развитие. В это время он начинает писать мазурки, то есть впервые вступает в пределы той художественной танцевальной формы, которая навсегда будет связана с именем Шопена, ибо до него этого жанра вообще не существовало. Наибольший успех в те годы принесло ему рондо до минор, написанное в 1825 году. Позднее он счел, что это произведение достойно открыть собрание его сочинений как op. 1.
Решающим событием его жизни, в том числе и в художественном отношении, следует считать каникулы 1825 года, которые он провел в Шафарне, в имении родителей своего друга Доминика Дзевановского. Фредерик посетил немецкие города Данциг и Торн, что существенно расширило его кругозор. В своих письмах он сообщает о многочисленных новых впечатлениях, например о посещении дома Коперника. Однако самое важное в этих письмах — признание в том, что уже в это время в душе его пробудился страстный интерес к польским народным песням. При этом он сообщает весьма интересные детали инструментального и вокального их исполнения: «Мы сидели за ужином, и когда почти все, что было на столе, уже было съедено, вдалеке раздалась песня. Пели высоким дискантом, бабы пели в нос, по-гусиному, девушки пели на полтона выше, чем надо, немилосердно визжа, все это под аккомпанемент скрипки аж с тремя струнами, которая после каждого куплета повторяла мелодию на низких тонах…». В мазурках Шопена эти народные истоки угадываются повсюду.
Во время этих каникул Фредерик по предписанию врачей должен был постоянно есть ячменный отвар, пить настой из поджаренных желудей, проводить много времени на свежем воздухе и много спать — типичные в те времена рекомендации пациентам, склонным к бронхиальным катарам. Действительно, в своих письмах Шопен часто жаловался на насморк, простуды и воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Не исключено, что именно по причине слабого здоровья ему долго не разрешали посещать школу и до 13 лет он обучался дома. Однако было бы неверным представлять себе маленького Фредерика несчастным болезненным дитятей — по воспоминаниям современников, он был веселым мальчиком, которого все любили и который ни в чем — будь то театральные представления в пансионе пани Шопен или мальчишеские забавы на природе во время каникул — не уступал своим сверстникам.
В 1826 году он впервые заболел серьезно. После многодневного карнавала у него сильно заболела голова и отекли шейные лимфатические узлы, вследствие чего он на много дней оказался в постели, чему имеется письменное подтверждение. Доктор Ремер прописал пиявки на шею, доктор Мальч — рвотное и различные диетические мероприятия, выполняя которые, Фредерик «как лошадь набивал брюхо овсяной кашей». Не подлежит сомнению, что сопротивляемость его организма в это время оставляла желать лучшего. В этом сыграли свою роль и ночные занятия композицией, и частые приглашения в варшавские салоны, и напряженная подготовка к выпускным экзаменам в лицее. Хрупкая конституция Фредерика уже сама по себе была источником постоянных волнений отца, так как «он был очень нежным и по малейшему поводу проливал слезы».
12 февраля 1826 года Фредерик написал своему другу Яну Бялоблоцкому, прикованному к постели неизлечимым костным туберкулезом: «Все болеют, и я тоже. Ты, быть может, думаешь, что все это я нацарапал, сидя в кресле; это не так, все это происходит на одеяле, голова втиснута в ночной чепец, потому что она болит уже четыре дня, не знаю почему. На шею мне поставили пиявки, потому что у меня отекли железы, и наш доктор Ремер говорит, что это катаральное раздражение». Похоже, однако, что меры, принятые домашними врачами, оказались не слишком эффективными, поскольку и четыре месяца спустя юный пациент писал о том, что он «болен». После того, как Фредерик успешно сдал выпускные экзамены в лицее, серьезно заболела его сестра Эмили, и было решено направить Фредерика и Эмили под присмотром матери и сестры Людвики на курорт Бад-Райнерц в Нижней Силезии. Судя по всему, болезнь Эмили к этому моменту достигла уже весьма опасной стадии, и в Бад-Райнерце у нее имели место симптомы открытого туберкулезного процесса. Фредерик же поехал на курорт в роли выздоравливающего и сопровождающего. Именно об этом свидетельствуют два концерта, данные им в пользу детей-сирот, принесшие ему значительное признание публики. С другой стороны, врачи запретили ему принять участие в восхождении на близлежащую невысокую гору — это свидетельствует о том, что состояние его здоровья в целом было не на высоте. Был ли Шопен к этому моменту болен туберкулезом, мы уже никогда с полной достоверностью не узнаем, однако это вполне вероятно, тем более, если принять во внимание близкий контакт с сестрой, у которой в то время процесс принял открытую форму. В пользу такого предположения говорит и отек шейных лимфатических узлов зимой того года.
Хотя Фредерик не чувствовал себя явно больным, но с 3 августа по 11 сентября 1826 года он прошел курс водолечения и лечения молочной сывороткой в Бад-Райнерце. В то время лечение туберкулеза сывороткой было очень популярно, и мы располагаем описанием этой процедуры, принадлежащим перу самого Шопена:
«Уже две недели я добросовестно пью сыворотку и местную воду. Наверное, я теперь должен выглядеть немного лучше, так как стал жирным и ленивым. Совсем рано, не позднее шести, все больные собираются к источнику. Здесь гуляющих курортников… встречает жалкий духовой оркестр. Лечебница (Сывороточная лечебница Марголла) связана с городом прелестной аллеей, и прогулка продолжается часов до восьми, в зависимости от того, сколько кружек кому положено выпить с утра. Затем следует завтрак, после завтрака я иду на прогулку, гуляю до 12, а затем, пообедав, вновь иду к источнику — значит, снова мерзкая музыка — вот так и проходит день до вечера. Мне полагается после обеда только два стакана воды из горячего источника, поэтому я возвращаюсь рано, ужинаю и ложусь спать».
Похоже, что лечение все же пошло ему на пользу. Вот что Шопен написал в августе 1826 года своему учителю Йозефу Эльснеру: «Свежий воздух и сыворотка, которую я усердно поглощал, настолько восстановили меня, что я теперь совсем не тот человек, каким был до отъезда из Варшавы». В Варшаву он возвратился отдохнувшим и заметно окрепшим, но, тем не менее, ему по-прежнему приходилось принимать лечение, назначенное доктором Мальчем. Это лечение предусматривало преимущественно неспецифические общеукрепляющие мероприятия: физические движения на свежем воздухе, овсяную кашу и минеральную воду. На будущий год была запланирована еще одна поездка на курорт, что не представлялось Фредерику особенно заманчивым, как можно судить из его письма Яну Бялоблоцкому от 26 ноября 1826 года: «Мне сказали, что в будущем году мне придется снова съездить на воды, по меньшей мере pro forma, до этого, правда, еще далеко, но по мне лучше бы, скажем, в Париж, чем на богемскую границу».
Сестра Эмили так и не поправилась, несмотря на лечение. Примерно через пять месяцев после возвращения из Бад-Райнерца ее состояние резко ухудшилось, о чем пишет Фредерик 14 марта 1827 года в письме своему к тому времени уже также смертельно больному другу Яну Бялоблоцкому: «Моя сестра Эмилия уже четыре недели не встает с постели. Сначала у нее начался кашель, потом кровохаркание. Мама в ужасе. Мальч приказал пустить кровь. Пустили раз… потом другой: бесконечные пиявки, нарывной пластырь, горчичный пластырь, красавка, авантюра за авантюрой. Она все это время ничего не ела, осунулась так, что ее невозможно узнать. Теперь она понемногу начинает приходить в себя. Можешь представить себе, что у нас творилось…». Но врачи уже не могли ей помочь — Эмили так и не поправилась и умерла уже 10 апреля 1827 года. Через несколько месяцев не стало и Яна Бялоблоцкого. Эти медицинские процедуры, выглядящие варварскими, да к тому же еще и бесполезные, вне сомнения, явились причиной того, что Шопен до конца жизни относился с опаской и недоверием к подобным рекомендациям врачей и отдавал предпочтение гомеопатии.
По возвращении из Бад-Райнерца на семейном совете было принято решение о том, что теперь Фредерик будет в основном заниматься музыкой. Он поступает в Варшавскую центральную музыкальную школу. После восстановления ее возглавил Йозеф Эльснер, который, естественно, охотно принял Фредерика под свое попечение. По его руководством Шопен изучает основы техники композиции и построения форм различных музыкальных произведений. Знаменательно, что под влиянием Эльснера он начинает уделять внимание произведениям для фортепиано с оркестром. Так возникают вариации для фортепиано с оркестром ор. 2 на тему «Là ci darem la тало» на тему из «Дон Жуана» Моцарта, трио для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 8, и вершина: фортепианные концерты фа-минор ор. 21 (1829 год) и ми-минор ор. 11 (1830 год). Наряду с этим он продолжает сочинять вальсы, мазурки и полонезы — лишь позднее его друг Фонтана присвоил номера этим произведениям.
Потеря младшей сестры была огромным потрясением для дружной семьи, и приглашение в замок князей Радзивиллов Антонин во время летних каникул траурного 1827 года явилось для Фредерика желанным поводом отвлечься от тяжелых мыслей. Сам князь был большим любителем музыки, играл на виолончели и даже пытался пробовать свои силы в композиции — его музыкальное сопровождение к «Фаусту» Гете получило высокую оценку Листа. Этот выдающийся человек, женившись на прусской принцессе, добился в качестве свадебного подарка освобождения всех польских солдат, которых удерживали в плену в Силезии. Шопен посвятил князю фортепианное трио и, гостя у князя, написал, по всей видимости, с учетом его вкусов, Alla polacca для виолончели.
В это же время в Варшаве бурно продолжалась карьера Шопена — исполнителя-виртуоза, но чем ярче были его успехи как пианиста, тем меньше времени и сил оставалось на творческую деятельность. Поэтому отец старался использовать любую возможность для продолжения всестороннего музыкального образования сына, который к тому времени начал интенсивно заниматься оперным жанром. В Польше такие возможности были ограничены и поэтому пришлось искать контакты за рубежом. Возможность для таких контактов появилась в 1828 году во время работы международного зоологического конгресса в Берлине под председательством Александра фон Гумбольдта. Для участия в конгрессе был приглашен польский зоолог Яроцкий, друг семьи Шопен. Яроцкий взял Фредерика с собой в Берлин, в надежде на то, что его знакомый зоолог Лихтенштайн, который был управляющим делами конгресса, познакомит юного Шопена с музыкальными знаменитостями прусской столицы, тем более что Лихтенштайн был близким другом покойного Карла Марии фон Вебера. К сожалению, этим надеждам не суждено было осуществиться и желанные контакты установлены не были. В письме родителям от 20 сентября 1828 года Шопен с грустью написал: «Здесь был и Спонтини, и Цельтер, и Мендельсон-Бартольди, но я не нашел удобной возможности представиться никому из этих господ, так что поговорить ни с кем не удалось». В эти дни Шопен запечатлел участников конгресса в карикатуре и поиздевался над их манерами в следующей жанровой сценке, которую мы приводим из его письма к родителям: «Вчера состоялся торжественный обед всех ученых, которых я раньше уже разделил на три класса. Председательствовал не Гумбольдт (ведь у него хорошие манеры!), а какой-то другой важный чин научного цеха… За столом я сразу же заметил, что мой сосед меряет меня (чужака!) косыми взглядами. Это был профессор ботаники из Гамбурга. Его могучая фигура не могла не вызвать у меня зависти. Мне приходилось разрывать булочку двумя руками, он же одной свободно сплющивал ее, настоящая лягушка с медвежьими лапами. Он разговаривал с Яроцким через мою голову и увлекся беседой до того, что залез рукой в мою тарелку и стал собирать на ней крошки в кучку… Пока он хозяйничал в моей тарелке, я сидел, как на иголках, потом вытер тарелку салфеткой».
Тем не менее в Варшаву Шопен вернулся с массой музыкальных впечатлений. В Берлине он не жалел времени на посещение театров и Певческой академии. В конце своего пребывания в Берлине он написал домой: «Я здоров и посмотрел все, что здесь можно увидеть. Я возвращаюсь домой, к вам… Но это путешествие пошло мне на пользу». Уже летом 1829 года он закончил свое обучение в музыкальной школе. После выпускного экзамена Эльснер выдал Шопену диплом с восторженной характеристикой: «Блестящий талант, музыкальный гений». В знак благодарности Шопен посвятил учителю фортепианную сонату ор. 4 до-минор.
Весной 1829 года настало время его первой любви, которую он вначале хранил в строгой тайне ото всех. В конце концов Фредерик поделился своей тайной в письме Титусу Войцеховскому: «Уже прошло шесть месяцев, а я еще не обменялся ни единым словом с той, которая снится мне каждую ночь. Это мыслями о ней навеяно адажио в моем концерте (имеется в виду концерт фа-минор ор. 21 — прим.), она вдохновила меня на этот вальс, который я высылаю тебе (здесь Шопен имеет в виду вальс ор. 70, № 3, опубликованный в ре-диез-мажор — прим. автора). В этом письме от 3 октября 1829 года имени своей возлюбленной он не указывает. Стремление скрыть свой внутренний мир от окружающих — очень характерная черта, которую Шопен сохранил до конца своих дней. По всей видимости, этой таинственной возлюбленной была Констанция Гладковская, с которой он познакомился в Варшавской консерватории. Позднее она пела в Варшавской опере. Однако в пользу этого предположения говорят только весьма туманные намеки в письмах к Войцеховскому, причем нигде — ни в этих письмах, ни венских письмах, ни в штутгартском дневнике Шопена имя Констанции напрямую не упоминается. Таким образом, версия о «большой любви Шопена к Констанции», присутствующая во многих биографиях, документально ничем не подтверждается. И признание в его дневнике за 1830 год носит анонимный характер: «Ее образ не покидает моих мыслей. Мне кажется, что я не люблю ее, но все время думаю о ней».
Этот вопрос к тому же очень осложняет необычайно сильное дружеское чувство, связывавшее Фредерика с Титусом Войцеховским, поскольку при чтении писем создается впечатление, что их автор признается в любви не столько к Констанции, сколько к своему другу и адресату. Даже с учетом цветистого и экзальтированного стиля эпистолярного романтизма письма Шопена к друзьям, и, прежде всего, к Войцеховскому, заставляли и заставляют биографов задуматься: «Мой любимый», «Мой возлюбленный», «Протяни другу свои губы», «Я целую твои губы, ты разрешаешь?». Хотя известно, что у славянских народов существует обычай поцелуев между мужчинами, все же столь страстные выражения привязанности между друзьями одного пола не могли не вызвать у некоторых биографов подозрений в наличии гомоэротических моментов. Это подозрение не смог полностью развеять даже тот доказанный факт, что среди друзей Шопена не было ни одного гомосексуалиста. Более того, столь горячо любимый Титус не раз ставил друга на место словами: «Я не люблю, когда меня целуют». Здесь мы сталкиваемся с той же ситуацией, что и у Роберта Шумана — проявление с его стороны страстных дружеских чувств к скрипачу Йозефу Иоахиму и к Иоганнесу Брамсу заставляло биографов предполагать присутствие гомоэротических мотивов. Однако в обоих случаях не может быть речи о выраженной гомосексуальной ориентации. В свете современной психоаналитической «теории нарциссизма» здесь имеет место стремление к нарциссическому слиянию с партнером мужского пола, который в глазах данного индивидуума является воплощением иного идеала: силы, решимости, порядочности. От подобного слияния он ожидал, по всей видимости, укрепления мужского начала в собственной личности — действительно, по сравнению с Титусом, который давно стал мужчиной и очень энергично управлял своими имениями в Потожине, Шопен выглядел мальчишкой.
К этому времени родители и учитель пришли к единому мнению, что Фредерику пора уже обогатиться опытом в музыкальных столицах Европы, для того чтобы в дальнейшем использовать этот опыт в собственном творчестве. Отец направил польскому правительству прошение о предоставлении для сына стипендии в 5000 гульденов для учебы за границей в течение трех лет. Ответ был неутешителен: «Непозволительно тратить деньги на художников такого рода». Шопену пришлось отправиться в Вену, «трамплин для прыжка в мир», на собственные средства. Действительно, пребывание в столице Австрии, куда он прибыл 31 июля 1829 года, открыло его миру как пианиста-виртуоза и композитора. Незадолго до отъезда у него возникли некоторые осложнения со здоровьем, о чем он писал в одном из писем: «Кажется, поездка за границу в этом году мне не светит, а светит мне лихорадка, вот так все и пройдет». Однако, вопреки опасениям, он прибыл в Вену «счастливым, радостным и здоровым» и единственным обстоятельством, омрачившим недели, проведенные здесь вплоть до отъезда 19 августа 1829 года, был сильно заложенный нос. Эльснер снабдил его многочисленными рекомендательными письмами, которые возымели действие и облегчили Шопену доступ к ведущим венским музыкантам. Известный издатель Хаслингер вскоре нарек его титулом «Новая северная звезда», и многие заверили Шопена, что его концертное выступление «произведет фурор». Бывший его учитель Вацлав Вюрфель сумел устроить для его выступления с оперным оркестром 11 августа собрание «музыкальной академии» («nota bene без всякого гонорара», — как написал он в письме родителям). Ровно через неделю он выступил в другой «музыкальной академии» с еще более громким успехом. Об этом выступлении он писал так: «Уже в первый раз меня приняли хорошо, но вчера еще лучше. Трижды мое появление на сцене было встречено аплодисментами». Лейпцигская «Альгемайне музикалише Цайтунг» за 18 ноября 1829 года писала о нем, как «об одном из ярчайших метеоров на музыкальном горизонте».
На чужбине — Штутгартский дневник
По возвращении в Варшаву Шопену стало ясно, что продолжение столь успешно начатой музыкальной карьеры возможно лишь в одной из музыкальных столиц — Вене, Париже или Лондоне. Кроме того, Шопен отдавал себе отчет в том, что ему следует совершенствовать композиторское мастерство в области крупных форм, и за короткое время завершил два концерта: «Большой полонез с оркестром» и «Фантазию на польские темы». Чтобы выяснить, какое впечатление эти сочинения произведут на публику, 17 марта 1830 года он организовал публичный концерт, на котором в сопровождении оркестра под управлением Курпинского наряду с аллегро из концерта фа-минор впервые исполнил «Фантазию на польские темы». Варшавская публика была в восторге, а критики дали этому выступлению столь блестящую оценку, что спустя пять дней состоялся повторный концерт, также завершившийся триумфальным успехом.
В мае 1830 года в связи с открытием сейма в Варшаву прибыл российский император Николай I, и на торжествах по этому поводу Шопен познакомился с известной певицей Генриеттой Зонтаг и увлекся не только ее исполнительским мастерством. «В пеньюаре она в тысячу раз Ире лестнее, чем в вечернем платье», — написал он в письме Титусу. Возможно, эта связь помогла ему и дальше оставаться лишь тайным воздыхателем и музыкальным помощником Констанции Гладковской во время ее дебюта в Варшавской опере.
После окончания концертного сезона Шопен сравнительно быстро заканчивает работу над концертом до-минор и отправляется отдыхать в Потужин к Титусу Войцеховскому. К этому времени он уже принял решение совершить более продолжительную зарубежную поездку, а Титус решил сопровождать его хотя бы до Вены. Какое-то время казалось, что простудное заболевание, осложнявшееся высокой температурой, помешает этим планам, но вскоре выяснилось, что эти опасения были напрасными. Последние месяцы перед окончательным прощанием с любимой родиной, семьей и друзьями оказались для молодого художника тяжелым душевным испытанием — уезжая в добровольное изгнание, он испытывал страх перед одиночеством. В беседах с Титусом он жаловался на «невыносимую меланхолию», которая «иссушает его и делает холодным, как камень», и снова и снова откладывал дату отъезда. «Я все еще сижу здесь, у меня нет сил назначить день, мне кажется, что я уезжаю, чтобы умереть Как страшно умереть на чужбине, а не там где родился, как страшно, умирая, видеть у своей постели не родных людей, а равнодушного доктора или наемного слугу». Эти слова однозначно свидетельствовали о депрессивном настроении, но многие исследователи значительно позже истолковали их как предчувствие Шопеном собственной судьбы.
11 октября 1829 года, незадолго до отъезда, состоялся его прощальный концерт. Шопен впервые исполнял концерт ми-минор, в создании которого немалая роль принадлежала Констанции. 2 ноября после трогательного прощания с друзьями он отправился в путь. Согласно легенде, он получил в подарок серебряный кубок, наполненный родной землей, которую должны были положить в его могилу, как будто уже тогда всем было ясно, что на родину он не вернется никогда и судьба его — быть похороненным в чужой земле. Бронарский и Хедли уже давно однозначно опровергли эту красивую легенду, хотя она из-за своей трогательности до сих пор не дает покоя отдельным биографам. Куда меньше ясности существует в вопросе об истинных мотивах, заставивших Фредерика Шопена все-таки преодолеть колебания и наконец-то отправиться в путешествие. Безусловно, основной причиной здесь явилась воля отца дать возможность сыну завершить музыкальное образование, что вполне совпадало и с его собственными амбициями. Второй, пожалуй, не менее важной причиной явилась Июльская революция во Франции, которая вызвала брожение по всей Европе, готовое вот-вот переброситься на Польшу — к моменту отъезда Шопена варшавяне чувствовали себя, как на пороховой бочке. Скорее всего, Никола Шопен, учитывая слабое здоровье сына, настоял на том, чтобы тот ускорил свой отъезд из Польши.
Итак, молодой Шопен отправился в путь, вначале в Вену, куда он прибыл 30 ноября 1830 года. По пути к нему присоединился Титус Войцеховский, и, как только он оказался рядом с Фредериком в карете, горечь изгнания постепенно начала слабеть. В Дрездене он принял участие в вечере, состоявшемся в доме известного врача Фридриха Крайсига, услугами которого пользовались многие русские и поляки. Доктор Край-сиг вошел в историю медицины как автор фундаментального труда «Болезни сердца». К сожалению, второе посещение Вены принесло Шопену разочарование, хотя рядом с ним были друзья его отца. Прежде всего он посетил своего варшавского учителя Вацлава Вюр-феля, который, начиная с 1826 года, исполнял обязанности директора театра «Ам Кернтнертор». У Вюрфеля был туберкулез легких, и к этому времени его состояние серьезно ухудшилось. Тем не менее он хотел немедленно приступить к организации концертов своего ученика. 1 декабря 1829 года Шопен писал родителям: «Когда я пришел к нашему другу Вюрфелю, он сразу же заговорил о том, как устроить мой концерт. Необыкновенный человек: тяжело болен, не может выходить из дому — и продолжает давать уроки у себя на квартире. Харкает кровью, из-за этого очень слаб и говорит о концерте». Могли ли стать частые визиты к Вюрфелю причиной заражения Шопена туберкулезом, сейчас уже установить невозможно, но это вполне вероятно.
Другим знакомым отца был доктор Иоганн Мальфатти, лейб-медик австрийского императора и лечащий врач Людвига ван Бетховена. Он ввел Шопена сразу же по прибытии в Вену во влиятельные музыкальные круги дунайской метрополии. Модный врач баловал своего молодого гостя, не только угощая его блюдами польской кухни, но и давал ему ценные медицинские советы, о чем Шопен так рассказывал в своих письмах: «Мальфатти меня по-настоящему любит, и я немало этим горжусь… Я здоров, как лев, говорят даже, что я растолстел. В общем же у меня все в порядке, и я надеюсь, что с помощью Бога, пославшего мне Мальфатти, великолепного Мальфатти, дальше пойдет еще лучше». Последнее замечание показывает, что уже тогда Шопен полностью осознавал, сколь слаб он здоровьем. Это следует также из первого письма, которое он отправил из Вены своему другу и товарищу по несчастью Яну Матушинскому — тот изучал медицину и позднее умер от туберкулеза легких. Шопен писал: «Ради Бога, не перегибай палку, ты же знаешь, из какой глины мы оба вылеплены и сколько раз я уже разваливался».
В это время до Вены дошла весть о том, что 29 ноября в Польше началось долгожданное восстание. В отличие от Александра I, император Николай I проводил политику жесткого угнетения не только русских, но и всех прочих народов своей империи. Под влиянием французской революции польское офицерство и интеллигенция поднялись против русского господства. Их поддержали польская армия, дворянство и демократы. Революция началась в Варшаве с поджога старой пивоварни на берегу Вислы и с попытки убийства тирана — великого князя Константина, которого спасло своевременное бегство из Бельведерского дворца. Вначале русских удалось изгнать из Польши, но повстанцы не приняли своевременных мер к освобождению крестьян, и сельское население не приняло участие в борьбе против России, так что, несмотря на мужественное сопротивление поляков, русская армия в сентябре 1831 года смогла взять Варшаву и подавить восстание. После введения так называемого органического статута Польша вновь стала частью России. Однако патриотические чувства поляков не были сломлены, и те участники восстания, которым удалось бежать в Швейцарию или во Францию, не давали этим чувствам угаснуть.
Весть о революции, разразившейся в Варшаве через несколько дней после прибытия друзей в Вену, явилась для обоих душевным потрясением. Титус немедленно отправился домой, чтобы с оружием в руках принять участие в восстании. Нерешительный Шопен не мог сразу отважиться на это, да и отец наверняка объяснил ему, что при подобных обстоятельствах возвращаться не следует. Итак, он остался в Вене один, и известия о ходе революции в Польше ложились на него двойным грузом. Прежде всего, это была тревога о судьбе семьи и друзей, опасность для которых росла день ото дня. Подавленное настроение усугублялось укорами совести за то, что он не уехал домой вместе с Титусом. Последнее ясно видно из письма к Яну Матушинскому, которое было написано в день Рождества 1830 года: «Как я хотел бы привести в движение те звуки, которыми наполняет меня слепое, яростное, все переворачивающее чувство, чтобы записать хотя бы часть тех песен… которые пели воины короля Яна… Если бы я сейчас не был обузой для отца, я бы вернулся сегодня. Будь проклято то мгновение, когда я решил уехать». Дело усугубилось тем, что революция в Польше вызвала растущую враждебность населения Австрии к его родине, и ему довелось почувствовать антипольские настроения в венском обществе. Несмотря на многочисленные приглашения, не доставлявшие ничего, кроме скуки, он чувствовал себя одиноким и покинутым. Его мучила тоска по родине, и в таком настроении он в сочельник пришел около полуночи в собор Святого Стефана. Вот как он описал это событие в одном из писем: «Величие и благородство этого огромного купола передать невозможно… Позади меня могила, подо мной могила, не хватает только еще одной — сверху. Во мне возникли печальные звуки, и я больше, чем когда-либо, почувствовал одиночество…» В медицинском отношении основным фактором во время пребывания в Вене следует считать постоянно прогрессирующее ухудшение его душевного состояния, о чем можно судить из письма другу Яну, написанного 26 декабря 1830 года: «Для меня здесь все печально, мрачно и уныло». Похоже звучит и примечание, сделанное в нотной тетради: «Как все здесь мне чуждо и печально — я не знаю, что мне делать, почему я так одинок». Грусть, овладевшая им, ощущается и в созданном в это время скерцо си минор, ор. 20. К этому печальному настрою все в большей степени примешивалось подлинное отчаяние, порой доходившее до настоящей усталости от жизни с суицидальными идеями: «Жить, умереть — сегодня мне все кажется неважным» или «Сегодня Новый год. Как печально я начинаю этот год! Наверное, я его не переживу». Эти фрагменты из писем вполне оправдывают высказанные выше предположения. Важнейшим причинным фактором возникновения чувства одиночества и отчаяния явилась, по всей видимости, разлука с семьей, о чем можно судить на основании цитаты из другого письма: «Мне хочется умереть, но до этого я еще раз хотел бы увидеть родителей».
Тем не менее в последние месяцы пребывания в Вене он принимал активное участие в венской музыкальной жизни. 4 апреля 1831 года он выступил с фортепианным концертом ми-минор ор. 11, однако встретил весьма сдержанный прием. То обстоятельство, что его второе посещение Вены не принесло ему как музыканту ожидаемого признания, стало причиной глубокого кризиса самооценки. В эти месяцы все чаще в его письмах слышатся упреки и обвинения в собственный адрес и мысли о том, что жизнь не удалась: «У меня есть полное право быть недовольным тем, что я появился на свет. Зачем мне позволили появиться там, где я обречен на бездеятельность? Какой толк здесь от моего присутствия? Людям нет от меня никакой пользы», — такие жалобы появляются в это время в письмах Шопена к друзьям. Наряду с этим в письмах продолжает звучать мотив самообвинения в том, что он стоит в стороне от участия в борьбе за свободу своего народа: «Ты мой самый лучший друг на свете. Ты добился, чего хотел — ты в армии… Вы построили укрепления? Бедные мои родители. Что делают мои друзья? Я с радостью отдал бы жизнь за тебя, за вас!… Если бы я мог служить хотя бы барабанщиком!». У него не доставало внутренней решимости изменить свое положение, и из-за этого его терзало беспокойство и душевное напряжение. Посещая венские салоны, он должен был выглядеть спокойным и уравновешенным, но внутреннее напряжение было столь сильным, что, возвратившись в свою квартиру, он всю ночь терзал рояль. Так возник ор. 10, цикл из 12 этюдов, написанных попеременно в мажоре и в миноре. Последний этюд этого цикла, так называемый «Революционный», наиболее ярко передает душевное состояние Шопена в этот период.
Сколь чуждой казалась ему в то время ментальность венского общества, можно судить по высказываниям о вальсах Лайнера и Штрауса. Шопен вообще пришел к выводу о том, что у венцев испортился музыкальный вкус, что они не менее вежливы, чем поляки, и не умеют поддержать беседу. Он писал домой, что за прошедшие месяцы вообще не научился ничему венскому: «Я, например, не умею как следует танцевать вальс — ведь мой рояль не слыхал ничего, кроме мазурок». К этому добавилось и то, что в городе, где блистал Иоганн Штраус, перспективы для музыкальной карьеры Шопена выглядели отнюдь не радужно. Венские музыкальные издатели считали публикацию произведений малоизвестного польского композитора чрезмерным финансовым риском. Последний его концерт — бенефис в театре «Ам Кернтнертор» — состоявшийся 11 июня 1831 года, местной прессой вовсе не был замечен, лишь 21 сентября появилась доброжелательная рецензия в лейпцигской «Альгемайне музикалише Цайтунг». Понятно, таким образом, что мысль о скором отъезде из Вены приобретала все более зримые очертания. Так как в это время в Италии также начались волнения, Шопен принимает решение ехать в Париж. В этом настойчивее всех убеждал нерешительного художника доктор Мальфатти: в то время Париж был европейской столицей искусств, и только там существовали условия, в которых такой гений, как Шопен, мог проявить себя во всем блеске. Мальфатти снабдил его рядом рекомендательных писем, важнейшее из которых было адресовано Фердинандо Паэру, крупному музыкальному авторитету и многолетнему директору Итальянского театра в Париже. Мальфатти рассчитывал, что это письмо, подобно волшебной палочке, откроет перед его молодым другом двери в высшие сферы Парижа. В знак благодарности 22 июня 1831 года, в день Ивана Купала, Шопен дал прекрасный праздничный концерт в роскошном загородном доме Мальфатти.
Однако в посольстве России возникли непредвиденные трудности с получением заграничного паспорта, в связи с чем Шопен последовал совету друга и запросил паспорт для поездки в Лондон, собираясь на самом деле остаться в Париже. Вторая задержка была связана с тем, что не только в Вене, но и в Баварии боялись распространения эпидемии холеры, свирепствовавшей в то время в Польше. Для проезда через Баварию требовался так называемый санитарный паспорт. Но, наконец, все эти препоны остались позади: 20 июля 1831 года Шопен сел в дилижанс и через Зальцбург, Мюнхен и Штутгарт направился в Париж. Восемь месяцев, проведенных в Вене, принесли ему лишь тяжелые разочарования — он не достиг ни славы, ни богатства. Австрийская столица принесла ему лишь неудачи, и расставался он с нею без сожаления. Во время вынужденной остановки в Мюнхене, которая потребовалась для того, чтобы получить паспорт для проезда в Париж, он согласился дать концерт в местном филармоническом обществе, где с большим успехом исполнил фортепианный концерт до-минор и Фантазию на польские темы. Через несколько дней он был уже в Штутгарте, и здесь его застало убийственное известие о том, что 7 сентября 1831 года варшавское восстание потерпело окончательное поражение и мужественные польские бойцы были вынуждены капитулировать перед превосходящими силами русской армии, которая вела войну, не останавливаясь ни перед какими жестокостями. Неудачи и разочарования, пережитые еще в Вене, вызвали у Шопена депрессивное состояние, и теперь на этом фоне произошел подлинный душевный срыв. Если о венском периоде его жизни с ноября 1830 по июль 1831 года, то есть до дня его нерадостного прощания с Веной, мы знаем очень много из подробных писем к родителям и Яну Матушинскому, записей в нотной тетради и дневнике, то в последующий период, вплоть до прибытия в Париж он, похоже, вообще не подавал о себе вестей. Из этой пустоты до нас дошел единственный собственноручный документ, так называемый «Штутгартский дневник» — крик измученной, отчаявшейся души. Этот документ, передающий мысли и чувства человека, стоящего на краю пропасти, записан в нотной тетради. Он столь важен для медицинской характеристики личности Шопена, что мы считаем необходимым привести здесь его полностью.
«Штутгарт — как странно! Сейчас я лягу в кровать, где до меня наверняка умер не один человек. Сегодня эта мысль меня нисколько не тревожит. Наверняка здесь, и подолгу, лежал не один труп. А чем этот труп хуже меня? Ведь труп также не может ничего знать ни об отце, ни о матери, ни о сестрах, ни о Титусе! У трупа нет возлюбленной, и он не может говорить с окружающими на их языке! Труп так же бледен, как я, так же холоден ко всему, как я сейчас. Труп перестал жить, и я уже живу с отвращением. До отвращения? Разве труп получил от жизни все? Если бы это было так, то труп выглядел бы довольным, а все они выглядят несчастными. Разве жизнь столь сильно влияет на черты, на выражение лица, на физиогномику человека? Почему мы живем столь жалкой жизнью, которая пожирает нас и существует лишь для того, чтобы превращать нас в трупы? Часы на штутгартской башне бьют час. Ах! Сколько людей на Земле сейчас умирает? Дети теряют матерей, матери теряют детей. Сколько мыслей превращается в ничто, сколько рождается грусти и утешений! Сколько умирает нечестных покровителей и сколько угнетенных! Мертвы и добрый, и злой, доблесть и преступление. Все братья во смерти»’.
Рядом с этими жуткими картинами и фантазиями о смерти, навеянными чувствительной душой художника, проходят мысли о личном крушении и фрустрации. Этот документ снова и снова поражает подробностью описания чувств и внутренней жизни, исполненной небывалого напряжения.
«Ясно, что самое лучшее — это смерть. Что же тогда самое худшее? Рождение, ибо оно противоположность наилучшего. Значит, я с полным правом могу сетовать на то, что пришел в этот мир. Почему мне не запретили явиться сюда, где я обречен на бездеятельность, чего тогда стоит моя жизнь? Я не могу принести пользы людям, потому что у меня нет ни длинных ног, ни клыкастой пасти. Ну, а если бы я и имел все это, то что бы я от этого выиграл? У трупа есть лодыжки? Не более, чем у меня, всего лишь подобие. Значит, мне осталось совсем немного, чтобы почувствовать себя братом смерти. Сегодня я еще не жажду ее лишь потому, что это сделает несчастными вас, дети мои, и потому, что и вы не желаете ничего более страстно, чем смерти! А если это не так, то я бы хотел еще раз повидаться с вами. Не для того, чтобы стать счастливым самому, а лишь потому, что вы меня так любите… отец, мать, дети, все мои самые дорогие, где вы? Может, вас уже нет? Может быть, москаль сыграл со мной злую шутку? Ох! Подожди, подожди… Что это, слезы? Так давно они не лились из моих глаз. Почему? Уже давно мною овладела сухая грусть, столько дней я не могу заплакать. Что это за чувство. Такое доброе и тоскливое. Плохо предаваться тоске, зато как приятно! Странное состояние. Но ведь и мертвый чувствует себя сразу и хорошо, и плохо. Мертвый уходит в более счастливую жизнь, и поэтому ему хорошо, но ему жаль расставаться с прошлым, и он грустит. Труп должен себя чувствовать, как я, после того как перестал плакать. Нет сомнения, что все мои чувства на короткое время отмерли — какое-то мгновение я был мертв для моего сердца. Или, скорее, мое сердце для меня. Почему же не навсегда? Наверное, тогда бы мне было легче. Один, один.
Ах, невозможно описать, как я несчастен! Мои чувства едва могут это вынести. «Радости» и «удовольствия», выпавшие на мою долю за прошедший год, едва не разорвали мне сердце. В следующем месяце истекает срок моего паспорта, и я больше не смогу жить за границей, по крайней мере, легально. Тогда я буду похож на труп еще больше».
Под влиянием страха за свою семью и Варшаву после разрушительной войны его воображение рисует ужасные картины, а тревога за судьбу близких разжигает чувство мести к победоносным москалям и порождает сомнения в существовании Бога. Читаем записи Штутгартского дневника, сделанные после 8 сентября.
«Я писал предыдущие страницы, не зная, что враг уже в доме. Предместья разрушены и сожжены. Увы! Вилюе (друг юности Вильгельм Кольберг — прим. автора) наверняка погиб, защищая стены города! Я вижу, что Марсель в плену. Храбрый Совинский (композитор и музыкальный литератор, друг Шопена — прим. автора) в руках этих преступников! Боже, есть ли Ты вообще? Да, Ты есть, и Ты не мстишь нам! Что, москали совершили еще недостаточно злодеяний, а может, Ты сам москаль? Мой бедный отец, мой храбрый отец, он, наверное, голодает и не может купить хлеба для матери? Может, и мои сестры стали жертвами ярости москальской солдатни! Паскевич (русский генерал, командовал операцией по взятию Варшавы — прим. автора), этот могилевский пес, устраивается в резиденции первых монархов Европы! Москаль — повелитель мира? О, отец, вот радость твоей старости! Мама, моя нежная страдалица мама! Ты пережила свою дочь для того, чтобы увидеть, как москаль топчет ногами ее прах! Ах, Повонзки (варшавское кладбище, где похоронена Эмили — прим. автора). Разве они пощадили ее могилу? Ее затоптали ногами и завалили тысячами трупов. Они сожгли город. Ах, Боже, почему Ты не позволил мне убить хоть одного москаля! О, Титус, Титус!»
Далее он вновь упрекает себя за то, что издалека безучастно наблюдал за трагическими событиями на родине, в отчаянии жалуется на то, что в трудный для своего народа час был обречен на бездействие и анонимность, и к этим чувствам примешивается тревога за судьбу «тайной возлюбленной’’ Констанции Гладков ской.
«Штутгарт. Что с ней (Констанцией — прим. автора)? Где она? Бедняжка! Может быть, она попала в руки москалей? Москаль давит, душит, убивает ее! Ах, любимая, я осушу твои слезы, я излечу раны сегодняшнего дня, напомнив тебе о прошлом, о том времени, когда не было никаких москалей. Тогда некоторые москали из всех сил старались тебе понравиться, а ты издевалась над ними. И тогда с тобой был я, а не Граб (Грабовский, будущий муж Констанции Гладковской — прим. автора).
У тебя есть мать, но она злая. У меня добрая мать, а, может быть, ее у меня уже нет. Может быть, ее убил, прикончил москаль. Мои пугливые сестры должны сами себя защищать. Мой отец в отчаянии и не знает, что предпринять, и рядом никого, кто мог бы поддержать маму, а я бесцельно сижу здесь, время от времени вздыхаю и изливаю мое отчаяние роялю. Зачем это все? Боже, мой Боже, сотряси землю, чтобы она поглотила людей этого века и пошли самые страшные кары французам за то, что они не поспешили нам на помощь».
Как ни странно, этот документ, несущий на себе столь явные признаки депрессивных реакций Шопена, не нашел совершенно никакого отражения в его патографиях, хотя несомненно то, что эти события оказали самое серьезное влияние на его развитие как человека и художника. Аксель Каренберг был первым, кто усмотрел причинно-следственную связь между этими событиями и последующими изменениями психики Шопена по типу реактивной депрессии. Каренберг изложил свои доводы в интересном исследовании, где в качестве доказательств воспользовался венскими письмами Шопена и Штутгартским дневником. Опыт подобных событий, похоже, явно превосходил силы молодого человека, которому едва исполнился 21 год, и, естественно, наложил печать на все его последующее творчество, в котором, начиная с этого времени, превалирует мотив «страдания и борьбы». Биографы Шопена сходятся на том, что уже не раз упомянутый нами «Революционный» этюд до-минор ор. 10 № 12, а также прелюдии ор. 28 си-минор № 2 и ре-минор № 24 наиболее ярко выражают его душевное состояние в то время. Скорее всего, они правы, и это действительно так, хотя такая трактовка ничем не подтверждается и ее, строго говоря, следует признать лишь гипотезой, в пользу которой говорят отдельные места из писем Шопена и его Штутгартский дневник.
Париж — вторая родина
Впервые Шопен смог вздохнуть спокойно, когда, прибыв в Париж в середине сентября 1831 года, наконец получил радостную весть о том, что его семья и друг Титус живы и здоровы. В политическом смысле в Париже наступило время, когда после Июльской революции король Луи-Филипп закрепил свое положение. Однако и при «короле-гражданине», получившем корону из рук буржуазно-либерального большинства в парламенте, основная масса французов по-прежнему была лишена избирательного права, и плодами революции воспользовалась в основном крупная буржуазия. Стремясь удержать расположение последней, правительство создавало новые экономические возможности. Под лозунгом «Обогащайтесь!» в короткое время некоторые семьи сколотили огромные состояния. Такая политика создавала не только политическую, но и социальную напряженность, ставшую питательной средой для раннего социализма. Уже в одном из своих первых писем Титусу из Парижа Шопен так описал здешнюю обстановку: «Знай же, что здесь царит страшная нужда… Низший класс стонет под непосильной ношей и постоянно думает о том, как бы изменить свою судьбу, но… достаточно появиться на улице даже малейшему скоплению народа, как тут же появляется конная полиция и разгоняет его».
Несмотря на признаки подспудного волнения, Шопен нашел в Париже, этом «лучшем из миров», оживленную творческую жизнь. Полученные в Вене рекомендательные письма Мальфатти позволили ему вскоре завязать знакомства с музыкальными знаменитостями французской столицы: «Через Паэра я познакомился с Россини, Керубини, Байо. Ему же я обязан знакомством с Калькбреннером. Ты не можешь себе представить, как интересно было узнать Герца, Листа и Хиллера, но они все ничто рядом с Калькбреннером». Шопен настолько увлекся Калькбреннером, что даже хотел на три года стать его учеником. Этому, однако, решительно воспротивились отец Шопена и его учитель Эльснер, который заподозрил, что за этим стоит интрига Калькбреннера, желавшего использовать гениального ученика в собственных целях.
Конкуренция была в Париже столь сильна, что быстрый прорыв Шопена стал явлением поистине исключительным. Уже в конце февраля 1832 года ему удалось выступить с фортепианным концертом фа-минор и вариациями на тему «Lâ ci darem» в салонах владельца известной фортепианной фабрики и своего будущего друга Камиля Плейеля. Выступления прошли с большим успехом, как писал Лист, «бурных аплодисментов было недостаточно для того, чтобы выразить тот энтузиазм, который вызвал у нас этот гениальный музыкант, открывший с помощью удачных формальных нововведений новую фазу поэтического восприятия». Однако в те времена успех музыканта в Париже определяли не только публичные концерты, но и, как минимум в той же степени, выступления в частных салонах, куда Шопен был очень скоро допущен, причем как в салоны Чарторыйских и других поляков, так и в салоны парижской аристократии и буржуазии. Безусловно, здесь сыграла свою роль популярность и симпатия, которой в то время пользовались поляки у французского народа, отчасти из-за сочувствия героическому восстанию, отчасти из-за участия многочисленных польских эмигрантов в Июльской революции плечом к плечу с французскими студентами, журналистами и рабочими. Уже в январе 1833 года Шопен с гордостью писал своему другу Доминику Дзевановскому: «Мне открылся доступ в высшее общество, я сижу между послами, князьями и министрами и сам не знаю, как это получилось, потому что не стремился к этому. Но для меня важнее всего то, что оттуда распространяется хороший вкус». Его положение во французском обществе способствовало тому, что вскоре у него появились ученики из высшего общества, желавшие обучаться игре на фортепиано, и он уже мог позволить себе требовать за урок весьма приличную сумму в двадцать франков. Это настолько упрочило поначалу весьма шаткое материальное положение, что вскоре его уже можно было причислить к состоятельным представителям мира искусства. Сам он был, очевидно, иного мнения, о чем так писал другу своей юности Доминику: «У меня сегодня пять уроков. Ты, наверное думаешь, что я с этого разбогатею. Но здесь ты ошибаешься: кабриолет и белые перчатки стоят больше, чем я зарабатываю, но без них я не буду соответствовать ‘хорошему вкусу’».
Не стоит обольщать себя мыслью, что начало карьеры в Париже для неизвестного чужака из Польши было таким уж легким делом. Хотя с самого начала пресса давала хвалебные отзывы исполнительскому мастерству Шопена, а потрясающие импровизации и гениальные сочинения быстро создали вокруг него круг поклонников, и в первую очередь поклонниц, на первых порах он был лишь одним из многих в музыкальной жизни Парижа. Даже первое публичное выступление в салонах Плейеля 26 февраля 1832 года не позволило ему совершить столь необходимый прорыв ни в художественном, ни в материальном смысле. В связи с этим отец не раз выражал озабоченность сложным финансовым положением сына. К этому добавился тяжелый экономический кризис, вызванный Июльской революцией, который, в свою очередь, вызвал безработицу и перечеркнул надежды на скорое приобретение платежеспособных учеников. Положение стало еще менее перспективным, когда летом 1832 года над столицей нависла угроза эпидемии холеры, в результате чего состоятельные дворянские и буржуазные семьи поспешили уехать в свои сельские имения. Друг Шопена Антон Орловский так описал ситуацию в начале лета 1832 года: «Дела здесь плохи; все, кто живет искусством, терпят нужду и лишения. Холера заставила богатых удрать в деревню». Шопен был настолько подавлен, что всерьез задумывался о том, чтобы переселиться в Америку и попытать счастья там. «Завтра я отправлюсь за океан», — писал он в то время. Случаю было угодно, чтобы именно этот замысел круто изменил жизнь Шопена в искусстве. Когда он встретил только что прибывшего в Париж князя Валентина Радзивилла и поведал ему о своем плане, он в тот же вечер взял Шопена с собой на прием, который устраивал барон Ротшильд. Игра Шопена настолько потрясла всех присутствовавших, что баронесса Ротшильд немедленно выразила желание брать у него уроки, став, таким образом, его первой ученицей. Аристократия немедленно последовала этому примеру, и через несколько недель он был одним из самых модных людей французской столицы. Свою роль в том, что он стал любимцем дам в самых изысканных салонах Парижа, сыграла, безусловно, и его внешность. Вот как описывает Ференц Лист Шопена, художника и человека: «Его личность и внешность столь гармоничны, что любые комментарии были излишни. Его голубые глаза были скорее одухотворенными, нежели мечтательными, улыбка тонкой и мягкой, но никогда горькой. Цвет лица был нежен и прозрачен, светлые волосы шелковисты, нос выразительно изогнут. Он был среднего роста и хрупкого телосложения. Движения его были исполнены грации. Голос его звучал немного приглушенно, а иногда почти глухо. Он держался с таким благородством, что с ним непроизвольно обращались как с князем». Теперь Шопен располагал надежными источниками средств, мог себе позволить одеваться с подчеркнутой элегантностью и таким образом уйти от небрежного стиля поведения богемы. Затем он с необычайным вкусом оборудовал себе квартиру, получившую среди друзей название «Олимп», еще через короткое время у него появился собственный экипаж с кучером и штат прислуги.
Одновременно, начиная с 1832 года, стали систематически публиковаться его произведения, которые он начал сочинять в Варшаве и теперь делал окончательную редакцию. Этим объясняется, в частности, то, что более поздние произведения получили более ранние номера в перечне его произведений, нежели завершенные в Варшаве. За ним начали охотиться издатели, предлагая ему за вальсы такие гонорары, которые всего лишь несколько лет назад платили Бетховену за монументальную Девятую симфонию. Пресса отзывалась о концертах Шопена рецензиями, исполненными энтузиазма, примером чему может служить следующая цитата из «Газетт Мюзикаль»: «Легче описать тот прием, который был ему оказан, тот восторг, который он вызвал, чем описать и проанализировать тайны его игры, равной которой нет в наших земных пределах».
Вообще же Шопен неохотно выступал публично, что, по всей вероятности, было связано со слабым туше.
В этом упрекали его еще в Вене, но дело было в том, что критики и публика не поняли специфической манеры его интерпретации, которой больше всего восхищались знатоки, такие как Берлиоз: «В мазурках есть невероятные тонкости, и Шопен знает, как сделать их вдвойне интересными для нас. Он передает их с величайшей нежностью, на пределе пиано, когда молоточки едва касаются струн. Так и хочется подойти к инструменту, чтобы ничего не упустить, как если бы это был концерт с участием фей и эльфов». Но и среди музыкантов находились те, кто открыто не признавал интерпретацию Шопена. Джон Фильд говорил о «таланте для больничной палаты», а Мендельсон и Мошелес считали, что мазурки Шопена «аффектированы почти невыносимо» и говорили об их «сентиментальности, недостойной культурного человека и музыканта». Берлинский редактор и издатель журналов Людвиг Рельштаб говорил даже о «вандализме по отношению к мелодиям Моцарта» и о «музыке грубого славянского племени». Лишь после многочисленных положительных отзывов критики, и прежде всего Роберта Шумана, Рельштаб признал, что стиль концертов Шопена удивительно благороден. Полностью признавая искусство Шопена как пианиста, практически все критики были едины в том, что основной его дар лежит в области композиции.
Его туше было недостаточно сильным для выступлений в больших залах и отчасти поэтому он предпочитал интимную атмосферу салонов. Это повлекло за собой еще одно недоразумение: за Шопеном закрепилась слава «салонного и дамского музыканта». Он же просто чувствовал себя комфортнее и увереннее в кругу почитателей и верных поклонников. Основной же причиной, заставлявшей его избегать публичных концертов, были волнение и боязнь сцены, о чем он еще в 1830 году писал Титусу: «Ты не представляешь себе, какие муки испытываю я в эти три дня, оставшиеся до публичного концерта». Из-за этих трудностей при выступлениях перед широкой публикой он за 18 лет, прожитых в Париже, дал всего 19 публичных концертов — мизер по сравнению с Тальбергом или Листом. Шопен мог себе позволить такое лишь потому, что доходы от публикации произведений и от дорогих уроков избавляли его от необходимости зарабатывать на жизнь виртуозным исполнительским мастерством.
Мы не располагаем собственноручными свидетельствами Шопена о том, что он в той или иной степени чувствовал себя нездоровым в первые парижские годы, если не считать депрессивного состояния, столь угнетавшего его в Штутгарте, которое постепенно уходило в течение первых месяцев пребывания в Париже. Это предположение подтверждает письмо к Титусу, написанное 15 декабря 1831 года: «Здоровье мое отвратительно, внешне я демонстрирую радость, но внутри меня что-то мучает. Предчувствия, беспокойство, сны, безразличие, желание жить и потом снова жажда смерти, сладкий покой, оцепенение, рассеянность». С учетом совсем не радужных перспектив в области музыкальной карьеры и в чисто материальном отношении подавленное настроение сохранялось у Шопена еще в течение некоторого времени. Физическое же его состояние было хорошим, потому что в последующие два года сообщения о каких-либо нарушениях здоровья отсутствуют. Более того, в сентябре 1833 года он написал известному виолончелисту Огюсту Франшому: «Говорят, что я потолстел и выгляжу хорошо». В том же духе высказывались и его друзья. Композитор Антон Орловский примерно в 1834 году после встречи с Шопеном написал, что тот «здоров и крепок» и «кружит головы всем француженкам», а Ян Матушинский в том же году писал своему зятю: «он так вырос и окреп, что я его едва узнал». Тем не менее, нам известно, что состояние Шопена было вовсе не таким безоблачным, как можно было бы предположить на основании этих высказываний. Каждую зиму его посещали заболевания верхних дыхательных путей, которые существенно отражались на общем самочувствии, в связи с чем он решил в 1835 году отдохнуть на курорте Энгиен-ле-Бен, а еще летом 1833 года вместе с Франшомом провел летние месяцы в Кото, департамент Турен. На выбор в качестве курорта Энгиена повлияло, очевидно, и то обстоятельство, что поблизости поселился высоко почитаемый Шопеном как композитор Винченцо Беллини, который умер в том же году, будучи еще совсем молодым. Однако важнейшим событием этого лета стало известие от родителей о том, что они собираются провести несколько недель на курорте в Карлсбаде. Шопен немедленно прервал свой отдых в Энгиене и сразу же отправился в Карлсбад, где 15 августа 1835 года впервые после пятилетней разлуки смог заключить родителей в объятия.
«Моему счастью нет границ… До сих пор я мог только надеяться, а теперь это счастье стало действительностью! От радости я готов задушить в объятиях вас и моих шуринов как самых близких мне людей в этом мире», — писал он, исполненный радости, и никто из них не знал тогда, что эта встреча будет последней. В радостном карлсбадском настроении он сочинил вальс си-бемоль-мажор ор. 34 № 1, мазурку до-мажор ор. 67 № 3 и полонез до-диез-минор ор. 26. Через три недели безоблачного семейного счастья он распрощался с родителями и сначала на неделю поехал в Дрезден, где встретился со своим школьным товарищем Феликсом Водзинским, который в то время жил в этом городе с родителями и сестрой Марией. Так в доме Водзинских произошла встреча, в результате которой возникло более тесное его знакомство с Марией, единственной дочерью графа. Насколько это очаровательное интермеццо, получившее романтический оттенок во многих биографиях, соответствует истине, сейчас с полной определенностью сказать уже нельзя. Точно известно лишь, что Шопен, вдохновленный впечатлениями этой недели, решил в следующем году провести месяц в Мариенбаде и в Дрездене. Этим временем датируют якобы имевший место «роман Шопена и Марии Водзинской», в результате который будто бы даже «в некий предрассветный час» состоялась помолвка. Младшая дочь Водзинского Юзефа Кошцельская подтверждает этот факт в своих воспоминаниях, но в письмах пани Терезы Водзинской об этом говорится куда более расплывчато, почти таинственно. Вот что она писала Б1опену в 1836 году: «Не думай, что я отказываюсь от того, что сказала, но нам надо было выбрать тот путь, по которому мы хотели идти. Пока я прошу тебя о молчании. Следи за своим здоровьем, потому что от этого зависит все». Прежде всего бросается в глаза то, что Шопен переписывался с матушкой Терезой, причем письма эти были очень сердечными, можно даже сказать, нежными, в то время как немногие письма к Марии выдержаны в самом обычном стиле. Пусть даже центральной фигурой в письмах Терезы была не Мария, а ее сын Антоний, не отличавшийся хорошим характером, которого Шопену не раз приходилось спасать в Париже от финансовых трудностей, тем не менее отношения между Терезой и Шопеном наводят на определенные размышления. Повторяющиеся просьбы хранить в тайне некий «предрассветный час», равно как и содержание некоторых писем уже не молодой, а зрелой женщины к молодому Шопену нельзя интерпретировать только с той точки зрения, что пани Тереза видела в молодом музыканте своего четвертого ребенка, пусть даже она именно так выразилась в одном из писем. Но как тогда понимать следующие слова из другого ее письма: «Я очень жалею, что ты покинул нас в субботу. Я неважно себя чувствовала себя в этот день и не могла в достаточной мере посвятить себя «предрассветному часу», о котором мы говорили. На следующий день я была бы более прилежной… Будь уверен, что я к тебе очень расположена. Для того, чтобы проверить мои желания и чувства, в любом случае необходима осторожность».
Что же касается якобы обещанного брака между Шопеном и Марией, то с учетом нравов и обычаев аристократического общества можно полностью исключить, что о подобном союзе кто-либо мог говорить всерьез. Ни в одном из существующих источников нет даже намека на то, что между ними существовала настоящая любовь, и последовавшая разлука не вызвала ни у Марии, ни у Шопена видимого душевного потрясения. Вероятно, мы никогда не узнаем, что имел в виду Шопен, написав «Мое страдание» на пачке писем после окончательного разрыва всех контактов с семьей Водзинских. Ясно лишь то, что ни дрезденский, ни мариенбадский эпизоды не оставили следов в его творчестве, если не считать вальса ор. 69 № 1, так называемого «Прощального вальса», который он посвятил Марии перед отъездом из Дрездена в сентябре 1835 года.
Еще по пути из Дрездена в Париж Шопен заболел. В ноябре 1835 года лечащий врач доктор Рациборский поставил диагноз «грипп с высокой температурой». Начиная с 1834 года в одной квартире с Шопеном жил его старый друг Ян Матушинский, который к тому времени закончил курс обучения медицине и работал преподавателем в Высшей медицинской школе в Париже. Через несколько лет Матушинский умер от туберкулеза легких — к этому, времени ему исполнилось только 33 года. Некоторые биографы Шопена полагают, что этот тяжелый грипп, сопровождавшийся высокой температурой, сильным кашлем и, по некоторым сообщениям, кровавой мокротой, являлся ничем иным, как началом туберкулеза легких у самого Шопена. Эта гипотеза, впервые высказанная Вержинским в 1949 году, не доказана, но имеется ряд фактов, говорящих в ее пользу. Во-первых, заболевание Шопена зимой 1835/1836 годов было столь серьезно, что среди польских эмигрантов даже распространились слухи о его смерти, которые достигли Варшавы. К великому облегчению до смерти перепуганных родителей, «Курьер Варшавский» в номере от 8 января 1836 года опроверг эти слухи. Во-вторых, сам Шопен находился в эти недели в состоянии подавленности, у него случались слуховые галлюцинации и он слышал звон колоколов на собственных похоронах. Депрессия была столь сильной, что он даже составил завещание. Когда стадия обострения миновала, он поправлялся медленно; голос его стал хриплым, он сильно потерял в весе. Даже летом 1836 года, которое Шопен провел в Мариенбаде вместе с семьей Водзинских, младшая дочь Юзефа Кошчельская обратила внимание на плохое состояние его здоровья: «Он очень много играл, невзирая на то, что каждый раз вставая из-за фортепиано бледным и усталым, не понимая, что происходит вокруг, у него не оставалось сил на то, чтобы хоть единым словечком ответить на восторженную похвалу присутствующих, он просто не слышал, что ему говорили. Ему требовалось немало времени, чтобы успокоиться и вернуть утраченное душевное равновесие.
Вообще он выглядел больным и нервным и глядя на него невольно закрадывалась мысль, что он один из тех, кому Богом суждено умереть молодым».
Существует также свидетельство самого Шопена, касающееся тяжелого «гриппа», перенесенного им зимой 1835/1836 годов. В письме Антону Водзинскому в мае 1837 года Шопен рассказывает о «повторном» гриппе, которым он переболел зимой 1836/37 годов: «Зимой я опять болел гриппом. Меня посылают в Бад-Эмс, но я пока об этом не думаю».
Относительно этой болезни зимой 1836/37 годов мы располагаем документами, из которых бесспорно следует, что, начиная как минимум с этого момента, у Фредерика Шопена имел место туберкулез легких. Первые достоверные указания на это содержатся в двух письмах графини д’Агу, спутницы жизни Ференца Листа, от 26 марта и 8 апреля 1837 года, адресованных Жорж Санд: «Даже кашель Шопена бесконечно привлекателен… Шопен неотразимый мужчина; он только все время кашляет». Второе свидетельство принадлежит самому Шопену и содержится в письме Антону Водзинскому, написанном в мае 1837 года, где упомянут курорт Бад-Эмс, который часто посещали люди, страдающие туберкулезом. В это время врачи также уже признали, что он болен туберкулезом. Весь февраль он был прикован к постели, и его сильно ослабили лихорадка и кровохаркание. То, что в это время он действительно страдал от серьезных легочных кровотечений, подтверждает и рекомендация его друга, врача Яна Матушинского, глотать кусочки льда во время кровотечения. Кроме того, лечившие его врачи назначали банки и нарывной пластырь.
Теперь ситуация изменилась по сравнению с прошлой зимой, и после этого «гриппа» он выздоравливал долго и тяжело. Поэтому вполне понятен совет врачей поехать на курорт в Бад-Эмс — этим они хотели избавить Шопена от жаркого и сухого парижского лета. Однако он не отказался от привычек, явно не способствовавших укреплению его здоровья, и вместо поездки на курорт принял в июле приглашение Камиля Плейеля поехать с ним в Лондон. Поездка оказалась, судя по всему, совершенно бесполезной, так как, по его собственным словам, он «бесцельно провел там 11 дней». Тем не менее, он был введен в дом владельца фортепианной фабрики Джеймса Бродвуда, где выступил в узком кругу, после чего газета «Мьюзикл Уорлд» за 23 февраля 1838 года весьма хвалебно отозвалась о совершенстве его импровизации и необычайном исполнительском мастерстве, назвав Шопена «самым потрясающим из всех салонных пианистов». К этим дням относятся некоторые весьма важные документы истории болезни, которые показывают, что его заболевание начало принимать более серьезные формы. Так, известный пианист-виртуоз и композитор Игнац Мошелес в июле 1837 года записал в дневнике: «Шопен был единственным из иностранных музыкантов, кто никому не нанес визита и не желал, чтобы кто-либо посетил его, потому что любой разговор усугублял его грудное заболевание». Аналогично высказался и Феликс Мендельсон в письме, отправленном из Лондона 24 августа: «14 дней назад здесь неожиданно появился Шопен. Он, похоже, все еще очень болен и страдает». А 1 сентября Мендельсон написал: «Он все еще очень болен и несчастен».
Парижский период вплоть до 1837 года оказался для Шопена весьма плодотворным. Несмотря на влияние «stil brillant», он уже в первые парижские годы достиг полного расцвета как композитор. Шопен однозначно начинает отходить от традиционных классических форм и все больше обращается к традиционной для своего стиля форме ноктюрна. При этом то здесь, то там проявляется влияние польской народной музыки, как например, в ноктюрне соль-минор ор. 15 № 3. Но в наибольшей мере печатью его индивидуальности отмечены мазурки, в которых польские народные мелодии трансформируются в стилизованный танец, причем их ограниченная мелодическая основа легко интерпретируется как отражение пережитых чувств грусти или одиночества. Если мазурки являются лирическим жанром, то форма полонеза, достигшая у Шопена подлинной художественной зрелости, носит героический характер и является «символом национального духа и патриотической борьбы за свободу», выражая не только национальные традиции, но и передавая трагические события истории родины. Шопен обращался также и к другим жанрам фортепианной музыки, типичным для эпохи романтизма — экспромту и балладе, которая, будучи произведением фантастическим, не подчинялась никаким ограничениям. И, наконец, наиболее ясно изменение стиля Шопена в первые парижские годы выразилось в форме скерцо. Действительно, именно скерцо си-минор ор. 20 принадлежит к первым произведениям, символизировавшим перелом в композиторском творчестве Шопена. Наиболее типичным для разрыва с классическими основами и нового метода построения сонатного цикла является, без сомнения, опубликованное в 1837 году скерцо си-минор ор. 31. На оригинальность, проявленную Шопеном в композиции и в исполнении, первым обратил внимание его немецкий друг Фердинанд Хиллер, вместе с которым он в мае 1834 года ездил на музыкальный фестиваль в Ахен, столь же рано на нее обратили внимание Феликс Мендельсон-Бартольди и Роберт Шуман. Шуман, одной фразой своего «Карнавала» создавший вечный памятник Шопену, лично встречался с ним в 1835 и 1836 годах. Он восхищался не только лирикой в произведениях Шопена, но и могучей драматической силой некоторых его композиций. Часто цитируют фразу о «пушках, спрятанных под цветами», которой Шуман хотел сказать, «сколь опасный враг могучего царя и самодержца скрывался за кажущейся простотой мелодий шопеновских мазурок».
Однако он далеко еще не достиг вершины своего композиторского творчества, ибо ему только предстояло создать две трети полного собрания сочинений, приходящихся на период с 1838 по 1847 год. Эти девять лет творчества, на протяжении которых увидели свет его лучшие произведения, полностью прошли под влиянием известной французской писательницы, роль которой в жизни Шопена подобна некоему символу. Настоящее имя этой женщины — Аврора Дюдеван — известно лишь немногим, однако ее псевдоним — Жорж Санд — и сегодня известен всем. Не так много было в мире писателей, о которых сказано было бы так много отрицательного, как об этой женщине. Ее называли лживой, безнравственной, аморальной, да к тому же еще и болтливой, а некоторые врачи в ученых выражениях распространялись о сексуальной анафродизии, нимфомании и многом другом. За прошедшее с тех пор время найдены новые, пока еще не опубликованные документы и тексты, которые открывают нам более правдивый образ этой «великой женщины», как ее назвал французский эссеист и философ Алэн. Современные историки литературы также внесли свой вклад в создание более объективного образа этой писательницы и поставили под сомнение многие сенсационные разоблачения, связанные с жизнью «роковой женщины».
Годы с Жорж Санд
Жорж Санд родилась 1 июля 1804 года в последний год Республики и первый год Империи в семье наполеоновского офицера по фамилии Дюпен в Париже. По отцовской линии она была правнучкой фельдмаршала Морица Саксонского, внебрачного сына Августа Сильного, короля Польши и Саксонии. Итак, будучи настоящим отпрыском королевского рода, что само по себе уже необычно, она по материнской линии была к тому же двоюродной сестрой Людовика XVI и Карла X, и, мало того, состояла в родстве с германским императором Вильгельмом I, и, следовательно, с его внуком Вильгельмом II. При крещении она получила имя Аврора, воспитывалась в монастыре и в возрасте всего лишь 17 лет по завещанию бабушки стала наследницей феодального имения Ноан, а также значительного состояния в наличных. У нее возникли нелады с матерью и она посчитала единственно возможным выходом из этой ситуации скоропалительное замужество. Так в 18 лет она вышла замуж за г-на Дюдевана, молодого человека, который хотя и был образован, но характер имел весьма грубый. Вскоре ей стало ясно, что этот брак был тяжелой ошибкой и в духовном, и, прежде всего, в физическом смысле. «Мое сердце преодолевало чувства, и я отдавалась, бледнея и закрыв глаза», — писала она в философском романе «Лелия», который представляет собой не что иное, как крик души фригидной женщины. Удовлетворение, которое ей не дано было получить в браке, она начала искать вне брака, но за 11 лет, перепробовав любовь во всех ее формах, пришла к тому же разочаровывающему результату: «Как мне освободиться от мрамора, в который я замурована до колен?». Через восемь лет, став уже матерью двоих детей, она решила, наконец, освободиться от уз брака, который, собственно, уже перестал быть таковым, и ей удалось добиться развода. Ей были оставлены ее дети, владения в Париже и Ноане, и вскоре она смогла полностью отдаться своим литературным занятиям, доказав всем присутствие литературного таланта. Первая ее книга, автобиографический роман «Индиана» был опубликован в 1832 году в Париже под псевдонимом Жорж Санд. Выбрав себе мужское имя Жорж, она, начиная с этого момента, стала носить мужскую одежду, мужскую шляпу, в которую было удобно прятать длинные волосы, и с удовольствием курила сигары. Так баронесса Аврора Дюдеван превратилась в буржуазную Жорж Санд, наиболее известную французскую писательницу XIX столетия.
С Шопеном она познакомилась на вечеринке у Листа в начале декабря 1836 года. К этому времени она уже развелась с мужем, с которым фактически рассталась еще в 1831 году. Подчеркнуто мужской имидж и сигарный дым, который Шопен не переносил, вызвали у него поначалу резкое отторжение, которым он поделился по пути домой с Фердинандом Хиллером: «Какая несимпатичная женщина эта Санд! А вообще-то она женщина? Я бы, пожалуй, усомнился!». Но уже через очень короткое время он сам попал в сети этой непостижимой «женщины с ночными глазами», как называл ее Альфред де Мюссе, молодой талантливый поэт, с которым у нее в 1833–1835 годах был бурный, хотя и неоднозначный роман. Вначале Шопен не предпринимал попыток к сближению. Возможно, его сдерживали различные порочащие ее намеки и слухи, циркулировавшие в дворянских и буржуазных кругах Парижа. Наряду с длинным списком друзей и поклонников Жорж Санд, где были столь блистательные имена, как «король критиков» Сент-Бёв, литератор Проспер Мериме, поэт Альфред де Мюссе, которого считали самым ярким представителем французского романтизма, предметом этих разговоров была также тесная дружеская связь. Жорж Санд с актрисой Мари Дорваль, о чем писатель Арсен Уссэ написал так: «В то время Сафо воскресла в Париже. Каждый вечер, когда актриса заканчивала покорять сердца зрителей своей игрой… там, в задрапированной голубым комнате, в облаках табачного дыма, уже сидела женщина в ожидании своей жертвы». Вполне вероятно, что страстная натура Жорж Санд время от времени вступала также и на тропу, ведущую в лесбийский сад, но подобные увлечения носили у нее лишь мимолетный характер и всегда прекрасно уживались с любовными отношениями с мужчинами. В те времена общество относилось к подобным вещам как к извращениям, хотя даже в самых изысканных салонах многие дамы сгорали от любопытства и были бы не прочь сами испытать пароксизм, описанный Бодлером в «Проклятых женщинах».
Неудивительно, что Бальзак, побывавший в 1837 году в Ноане, посчитал, что «тот тип мужчины, который ей нужен, найти трудно». В этом году сама Жорж Санд переживала сложный душевный кризис. После многочисленных разочарований она искала совершенной любви, мечтала об идеальном возлюбленном и, вопреки отрицательному опыту, верила, что это возможно. Незадолго до этого она заметила: «Если бы я могла покориться мужчине, я была бы спасена». Теперь, побывав на нескольких вечерах, где играл Шопен, она ощущала все возрастающее влечение к грустной красоте и своеобразной прелести гениального польского музыканта. К моменту знакомства с Жорж Санд Шопен еще очень страдал физически и духовно от последствий недавно перенесенного «гриппа». Это вызвало в ее душе что-то вроде материнских чувств, которые она выразила такими словами: «Я должка о ком-то страдать. Я должна вскормить в себе эту материнскую тревогу, которая побуждает заботиться о страдающем, слабом существе». Ему же в его незавидном положении как раз и нужна была женщина, испытывающая материнские чувства и, тем более, как будто способная понимать язык музыки, которым он изливал свое страдание. Но, несмотря на то, что его чувства к Жорж Санд постепенно менялись, он на протяжении всего 1837 года не изменил сдержанного отношения к ней. Лишь в 1838 году он окончательно воспламенился, хотя оба долго еще не могли ни на что решиться. Лист в своем интересном психологическом исследовании характера Шопена утверждает, что тот вообще никогда не позволял себе ни единым словом выдать то, что происходило у него внутри. Он мог смертельно побледнеть от возбуждения, но всегда до конца держал себя в руках. Наконец он преодолел свою нерешительность и объяснил ей причины, заставившие его медлить. Так, он сообщил Жорж Санд, что презирает чувственное влечение из боязни, что сексуальные искушения могут осквернить их счастье.
Томимая мучительной неизвестностью, Жорж Санд обратилась к ближайшему другу Шопена графу Альберту Гжимале, который во время революции 1830 года был направлен польским правительством в Париж с дипломатической миссией и остался там после поражения восстания. В своем письме она с удивительной силой и откровенностью изложила все подробности развития своих отношений с Шопеном — она ясно отдавала себе отчет в том, что эта связь не может долго оставаться платонической. Имея в виду колебания Шопена, она писала: «Кто та несчастная, что внушила ему такие представления о физической любви? Наверное, у него была возлюбленная, недостойная его?». Есть основания полагать, что такая «недостойная возлюбленная» действительно существовала, и общение с ней оставило в душе Фредерика горький осадок. В архиве Шопена есть письмо Кумельскому, в котором идет речь о некоей Терезе, которая, по его собственным словам, добилась того, что он теперь не скоро отважится вновь вкусить от «запретного плода». Возможно, это случилось во время пребывания Шопена в Мариенбаде или Дрездене, но мы уже никогда не сможем получить исчерпывающего ответа на этот вопрос. Мы не знаем также, что ответил Гжимала на требование Жорж Санд, чтобы «этот ангел, по ошибке оказавшийся среди нас,» вновь согласился принять земную любовь. Однако, судя по всему, ответ был для нее вполне утешительным, ибо уже в июне 1838 года она написала Гжимале: «Приходите ко мне, только так, чтобы ‘Малыш’ об этом не узнал, мы устроим ему сюрприз». Спустя короткое время Шопен и Жорж Санд, судя по всему, уже стали любовниками, потому что в сентябре 1838 года она так писала своему другу, известному художнику Эжену Делакруа: «Если Богу будет угодно в одночасье послать мне смерть, то я не буду роптать, ибо уже три месяца наслаждаюсь ничем не омраченным счастьем». Они решили соединиться в «поэме свободного содружества», которое быстро вернуло Шопену утраченное душевное равновесие. Вообще же бурный ритм парижской жизни не оставлял особого времени на размышления. Появление Шопена в жизни Жорж Санд вернуло и ей душевный покой, какого она не знала на протяжении многих лет.
В октябре им представилась возможность совершить длительное совместное путешествие. В «Истории моей жизни» Жорж Санд писала, что первоначально эта идея возникла потому, что врачи порекомендовали ее сыну Морису, жаловавшемуся на ревматические боли, провести зиму в более благоприятном климате Балеарских островов. Далее она пишет: «Шопен, которого я видела ежедневно и чей гений и характер искренне любила, узнав об этом плане и увидев приготовления к поездке, сказал, что сразу выздоровел бы, окажись он на месте Мориса». Действительно, друзья Шопена, опасаясь чахотки, советовали ему провести зиму на солнечном юге. Эти опасения были вполне обоснованны, так как прошлой зимой он страдал от хронического кашля, обильного кровохаркания и усиливающихся затруднений дыхания. Приглашая его в путешествие, Жорж Санд также рассчитывала, что пребывание на Балеарских островах принесет пользу его здоровью. Будучи, однако, заботливой матерью, она перед поездкой обратилась к своему домашнему врачу доктору Пьеру Марселю Гоберу, который, обследовав Шопена, заверил ее в том, что тот не болен чахоткой, но все же заметил: «Вы всегда сможете его спасти, обеспечив ему свежий воздух, покой и много движения». Это явное противоречие между диагнозом и рекомендациями показывает, что доктор Гобер хотел, наверное, всего лишь успокоить Жорж Санд.
18 октября 1838 года Жорж Санд в обществе сына Мориса и дочери Соланж выехала из Парижа, и 30 октября они благополучно достигли Перпиньяна. Шопен отправился вслед за ними только утром 27 октября и уже вечером 31 октября прибыл в Перпиньян. При этом он, судя по всему, чувствовал себя вполне нормально — был «свежим, как роза, и розовым, как репа». То, что он без видимого ухудшения состояния перенес 900 километров непрерывной, более чем четырехсуточной езды курьерской почтой по ужасным дорогам, усеянным многочисленными колдобинам! — факт удивительный, но в любом случае это было серьезным испытанием для его хрупкого и болезненного организма. Чтобы стало понятнее, чего стоил подобный «рекордный результат» Шопену, больному открытой формой туберкулеза легких, следует несколько подробнее остановиться на работе тогдашней французской курьерской почты. Для пассажиров обычных почтовых карет были предусмотрены возможности ночного отдыха, но для почтальонов курьерской почты существовал лишь один закон — строжайший график доставки. Через каждые 12 километров почти загнанных лошадей меняли, на эту процедуру отпускалось не более 2 минут. На разгрузку и погрузку почтовых мешков отпускалось столь же малое время, за которое практически невозможно было поесть, не говоря уже о том, чтобы поспать. Я столь подробно останавливаюсь на этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, какую силу и выносливость пробудило у больного туберкулезом Шопена ожидание предстоящего свидания с любимой женщиной.
1 ноября маленькое общество почтовой каретой прибыло в порт Вандр, откуда на судне «Фенисьен» отправилось в Барселону. Расписание рейсов было составлено так, что лишь 7 ноября они смогли на судне «Мальоркин» попасть в город Пальма на острове Мальорка, где их ожидало первое разочарование. Как ни странно, в городе не нашлось ни одной гостиницы, которая бы захотела их принять, и им пришлось на первый случай удовлетвориться двумя комнатами в частном доме, под которыми была расположена шумная бондарная мастерская. Лишь вмешательство французского консула позволило уговорить некоего сеньора Гомеса сдать им целый дом и найти дополнительную квартиру, о которой Жорж Санд так писала своей подруге графине Марлиани; «Кроме того, в двух милях отсюда у меня есть убежище — три комнаты и сад лимонных деревьев, принадлежащие крупному местному монастырю Вальдемоса; это обойдется мне в 530 франков в год».
Шопен, казалось, тоже чувствовал себя прекрасно, о чем писая своему другу Юлиану Фонтане, который после бегства из Варшавы в 1830 году жил в Париже, зарабатывая на жизнь уроками музыки: «Я живу в Пальме в окружении пальм, кактусов, алоэ, оливковых, апельсиновых, лимонных, фиговых и гранатовых… и других деревьев, которые можно увидеть в оранжереях ботанического сада. Небо здесь ярко-голубое, море цвета ляпис-лазури, горы изумрудные, а воздух райский… О, друг мой, я просто ожил! Меня окружает самое прекрасное, что есть в этом мире. Я чувствую себя лучше». Однако уже через несколько дней появились первые признаки приближающейся драмы. Напряжение последних недель и ливневые дожди, непрерывно продолжавшиеся два месяца, привели к тому, что у Шопена возобновились «бронхитные явления», сопровождавшиеся мучительным кашлем, который не прекращался ни днем, ни ночью. Жорж Санд, похоже, еще не осознавала всей серьезности положения, так как в постскриптуме письма Гжимале от 3 декабря 1838 года написала: «Последние дни Шопен болел. Теперь ему значительно лучше, но он по-прежнему немного страдает от сильных скачков температуры». В действительности все было куда хуже, о чем мы узнаем из письма Шопена к Фонтане, написанного в тот же день: «Обе прошедшие недели я был болен, как собака. Несмотря на то, что на улице 18 градусов тепла и вокруг растут розы, апельсины, пальмы и фиговые деревья, я ухитрился простудиться. Трое самых известных на острове врачей собрались на консилиум. Первый понюхал то, что я выхаркиваю, другой постучал по тому месту, откуда я харкаю, а третий послушал, как я это делаю, и ощупал меня. Потом первый заявил, что я должен подохнуть, второй сказал, что я подыхаю, а третий — что я уже издох. Я же чувствую себя как обычно. Не могу только простить Яну (Матушинскому — прим. автора), что он мне не дал указаний о том, как вести себя при остром бронхите, которого у меня всегда можно ожидать». Сказанное свидетельствует о том, что врачи, вызванные Жорж Санд в связи с плохим общим состоянием Шопена, лежавшего в постели с высокой температурой и непрерывным кашлем, скорее всего, были знакомы с современными методами — перкуссией и аускультацией, то есть простукиванием и прослушиванием, но наверняка не знали, как распорядиться результатами обследований. Иначе невозможно объяснить, почему после тщательного обследования пациента они диагностировали не туберкулез легких, а глоточную чахотку. Этих врачей в какой-то степени оправдывает то обстоятельство, что потребовалось несколько десятилетий для того, чтобы метод перкуссии грудной клетки, изобретенный австрийским врачом Леопольдом Ауэнбрутгером в 1761 году, пробил, наконец, стену молчания и возражений. Ауэнбруггер был сыном простого кабатчика из Штирии, и метод перкуссии был подсказан ему тем способом, которым трактирщики проверяют запас вина в бочке, простукивая ее. По всей видимости, он не обладал достаточной силой убеждения для того, чтобы заставить таких ученых мужей из венской Медицинской школы, как ван Свитен или де Хан, поверить в действенность этого метода. Лишь после того, как французский клиницист Жан Никола Корвизар опубликовал на французском языке работу Ауэнбруггера «Inventum novum», дело сдвинулось с места. Скорее всего, испанские врачи ознакомились с французским изданием этого труда со значительным опозданием и не обладали достаточным опытом применения данного метода. То же самое можно сказать и об аускультации. Этот метод был разработан известным французским врачом Рене Теофилем Ясентом Леннеком и опубликован в виде научного труда под названием «De l’auscultation médiate» («Об опосредованном прослушивании») в 1819 году. В то время, когда испанские врачи обследовали Шопена на Мальорке, этот метод делал первые шаги, поскольку необходимы были десятилетия сравнительных патолого-анатомических исследований для выявления соответствий между патологическими изменениями в легком и результатами прослушиваний.
Однако Шопена насторожили не только недостаточные знания методов обследования, обнаруженные врачами, но и предложенные ими методы лечения: диета, вытяжные пластыри, припарки и в первую очередь кровопускания. Он воспротивился прежде всего кровопусканию и применению нарывных пластырей, о чем также говорится в цитированном выше письме к Фонтане: «С большим трудом мне удалось удержать их от того, чтобы пустить мне кровь, поставить нарывной и вытяжной пластырь, и, слава Провидению, сегодня я чувствую себя как обычно». Причина отказа Шопена заключалась в том, что в юности ему пришлось наблюдать, как его сестру Эмилию, больную туберкулезом легких, пиявками и кровопусканиями залечили до смерти в буквальном смысле этого слова. Однако и здесь в оправдание испанских врачей следует предположить, что они находились под влиянием французской медицины и были убежденными приверженцами так называемого «бруссеизма». Франсуа Жозеф Бруссе, умерший в 1838 году, был фанатичным приверженцем применения пиявок для отбора крови при самых различных заболеваниях и оказал сильнейшее влияние на медицинское образование во Франции. Рекомендованные им массивные кровопускания принимали порой угрожающие размеры, и их последствия для многих больных оказались фатальными. К счастью, эта мода вскоре была сведена к разумным пределам победным шествием гомеопатии. Жорж Санд также стойко сопротивлялась кровопусканиям, руководствуясь при этом, правда, не столько научно-медицинскими соображениями, сколько инстинктом. Даже после того, как врачи заявили, что кровопускание спасет пациента, в противном же случае он умрет, она категорически настояла на своем решении отказаться от этой терапии. В книге «Зима на Мальорке» она пишет об этом так: «Я все время как будто слышала голос, который говорил мне даже во сне: «Кровопускание убьет его. Если ты этого не допустишь, то он не умрет. Я уверена, что это был голос провидения».
На состоянии Шопена отрицательно сказалось то обстоятельство, что «Дом ветров», как называлась вилла, арендованная у сеньора Гомеса, имел хлипкую конструкцию и в дождливое время продувался холодными сквозняками, а при сильном дожде стены начинали обрастать плесенью. В доме не было ни печей, ни каминов, приходилось пользоваться угольными жаровнями, удушливый дым которых только усиливал кашель несчастного больного. Поэтому жаровни убрали, и полный покой в сочетании с припарками постепенно способствовал снижению лихорадки. Несмотря на страшную слабость, Шопен все же благополучно пережил этот первый серьезный кризис.
Вскоре, однако, последовало новое несчастье. Местным жителям от врачей стало известно, что Шопен болен туберкулезом, и их отношение стало подозрительным и даже враждебным. Когда сеньор Гомес узнал, что на его вилле поселился туберкулезный больной, его охватила настоящая паника, и он написал недвусмысленное письмо с требованием в кратчайший срок покинуть его дом, возместить ему расходы на ремонт всего дома и стоимость использованного белья. Столь грубое выдворение Гомес оправдывал тем, что Шопен болен отвратительной заразной болезнью и тем самым угрожает жизни его детей. Под влиянием страха он даже пытался заставить Жорж Санд заплатить за мебель, которую собирался сжечь. Жорж Санд так описала реакцию на известие о туберкулезе Шопена: «С этого момента мы начали внушать местным жителям ужас и отвращение. Они поняли, что мы больны легочной чахоткой, а для испанцев, на памяти которых много эпидемий, это все равно, что чума». Весть эта распространилась потому, что после обследования больного врачи направили официальный доклад алькальду. Здесь следует добавить, что в те времена любой испанский врач под угрозой запрета врачебной практики, большого денежного штрафа и даже тюремного заключения был по закону обязан «докладывать о всех пациентах, больных чахоткой или об умерших от чахотки».
Теперь у них не было надежды ни за какие деньги найти пристанище даже на одну ночь, и французский консул Флери предоставил им временное убежище в своем доме до тех пор, пока не прекратятся проливные дожди и они не смогут перебраться в Вальдемосу. Счастливому случаю было угодно, чтобы супружеская пара, проживавшая в этом монастыре, должна была покинуть страну, скорее всего, по политическим соображениям, и поэтому продавала за тысячу франков свою мебель, куда, к великой радости, входило жалкое фортепиано местного производства. О предстоящем переселении в монастырь Вальдемоса Шопен так написал в письме Фонтане: «Через пару дней я буду жить в самом красивом месте мира, море, горы… все, что только можно пожелать. Мы будем жить в большом старом ветхом картезианском монастыре… недалеко от Пальмы, более чудесное место трудно себе представить: монастырские коридоры, очень поэтичное кладбище. Короче, я чувствую, что там мне снова будет хорошо».
К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться. Вскоре вновь пошли проливные дожди, и вызванная этим сырость в сочетании с каменными полами бывших монашеских келий отнюдь не способствовала улучшению состояния здоровья Шопена. Ко всему прочему, свежеоштукатуренная печь при попытке обогреть помещение распространяла отвратительную вонь, раздражавшую дыхательные пути и заставлявшую Шопена еще сильнее кашлять. Вдобавок возникли трудности со снабжением продуктами. Местные крестьяне быстро сообразили, что существование новых обитателей уединенного монастыря находится в их руках, и, кроме того, стало известно, что эти люди не посещают церковь. В связи с этим крестьяне решили воспользоваться трудным положением приезжих и сбывать им все необходимое для жизни по астрономическим ценам. Будучи убежденными христианами, местные жители не могли усмотреть в подобных действиях ничего греховного.
Все эти осложнения и следующие друг за другом невзгоды быстро ухудшили состояние здоровья Шопена. Высокая температура, кашель и кровохаркание ослабили его настолько, что он почти не мог выйти из своей кельи: «Не могу спать, кашляю и уже давно обложен пластырями (вытяжными пластырями — прим. автора)», — писал он Фонтане 14 декабря 1838 года. Все же он сумел поправиться настолько, что мог играть на имевшемся там фортепиано и стал даже подумывать о сочинении. Об этом кажущемся улучшении он сообщил Фонтане в письме от 28 декабря: «Я не могу послать тебе прелюдии. Они еще не готовы. Здоровье мое улучшилось». Непросто представить себе, в сколь неблагоприятных условиях, несмотря на сильно подорванное здоровье, он начал работу над прелюдиями. Жорж Санд оставила яркую картину тех дней: «Он мужественно переносил боль, но с беспокойством, овладевшим его духом, он не мог справиться. Ему казалось, что монастырь полон ужасов и привидений… Когда я возвращалась по вечерам после прогулки с детьми по развалинам монастыря, он сидел за инструментом бледный, с опустошенными глазами, волосы буквально дыбом. Ему требовалось некоторое время, чтобы понять, кто перед ним… Так он создал самые прекрасные из тех маленьких пьес, которые скромно назвал прелюдиями. Это шедевры… Среди прелюдий есть одна, сочиненная им в мрачную дождливую ночь, эта вещь потрясает душу ужасом. В этот день он чувствовал себя немного лучше, и мы с Морисом рискнули оставить его, чтобы купить в Пальме некоторые необходимые нам вещи. Шел страшный ливень, ручьи вышли из берегов… Кучер бросил нас на произвол судьбы, и в конце концов мы с неимоверными трудностями, босиком, поздно ночью добрались до Вальдемосы… Когда он увидел нас, подскочил с громким криком, потом с искаженным лицом и каким-то чужим голосом он сказал: «Ах, я был уверен, что вы погибли…». Потом он признался, что, ожидая нас, видел что-то вроде сна. Перестав различать сон и явь, он успокаивал себя игрой на фортепиано и тем усыпил себя. Ему показалось, что он тоже умер. Ему снилось, что ой утонул и лежит на дне озера, и на его грудь в равномерном ритме падают тяжелые ледяные капли воды». Специалисты считают, что речь может идти об одной из трех прелюдий: № 6 си-минор, № 8 фа-диез-минор и № 15 ре-бемоль-мажор, причем наиболее вероятной представляется последняя. В Вальдемосе он работал не только над прелюдиями, но и над второй балладой, третьим скерцо и над двумя полонезами: фа-диез-минор и ля-бемоль-мажор. Жорж Санд вскоре стало ясно, что замысел, связанный со столь желанной жизнью в Вальдемосе, «для всех ее участников во многих отношениях потерпел фиаско», и она полностью отдавала себе отчет в фатальных последствиях такой жизни для физического и психического состояния Шопена: «Наше пребывание в монастыре Вальдемоса стало для Шопена и для меня сплошным мучением… В мире не существует более благородного, деликатного, самоотверженного, верного и преданного друга, чем он… но при этом, к сожалению, нет другого человека, который был бы столь же неуравновешен, капризен и столь же исполнен невероятных фантазий… Во всем этом он не виноват, ибо это последствие его болезни. Казалось, что с его души живьем содрали кожу». Во всех этих сложных ситуациях Жорж Санд была образцом преданности, ее любовь и забота о Шопене во время его болезни заслуживают самой высокой оценки. В Вальдемосе впервые сбылось ее большое желание стать его защитницей и второй матерью.
Смертельно опасное состояние, в котором Шопен находился последние недели, и практически полное отсутствие медицинской помощи заставляли искать любую возможность для немедленного возвращения во Францию. Жорж Санд было ясно, что тяготы предстоящего путешествия связаны с огромным риском, ее терзали угрызения совести: «Казалось, что наш больной не в состоянии выдержать переезд, но он был столь же не в состоянии выдержать еще одну неделю на Мальорке. Положение было ужасным, случались дни, когда надежда и мужество оставляли меня». Когда 12 февраля 1839 года погода улучшилась, она, наконец, решилась уехать в Пальму, откуда должны были возобновиться еженедельные рейсы в Барселону. Уже короткая поездка на расстояние в три мили по непроезжим дорогам оказалась сопряженной с огромными трудностями, так как «… никто не хотел дать нам коляску. Нам пришлось ехать на наемной телеге без рессор, и когда мы прибыли в Пальму, Шопен харкал кровью». Но и морское путешествие на утлом торговом суденышке представляло собой авантюру ввиду и без того уже катастрофического состояния пациента. Капитан «Мальоркина», узнав о болезни пассажира, убоялся заразы не менее, чем в свое время сеньор Гомес, и выделил Шопену самую плохую и самую удаленную каюту — отсутствие выбора заставило смириться с этим. Ко всему еще перед отплытием на судно погрузили свиней, которые распространяли неимоверное зловоние и страдали от морской болезни. Поэтому, следуя испанскому обычаю, матросы во время всего перехода хлестали их бичами, так как считалось, что свиньям нельзя давать ложиться и расслабляться, потому что это вредно сказывается на них. Зловоние, шум и визг истязаемых животных были почти непереносимы для чувствительного Шопена, и он, по словам Жорж Санд, «нахаркал полный умывальник крови». По прибытии в гавань Барселоны она, движимая страхом, попросила у командира стоявшего там на якоре французского военного корабля «Мелеагр» разрешения доставить Шопена на борт, с тем, чтобы его мог осмотреть корабельный врач. И капитан, и корабельный врач отнеслись к нему с поистине трогательной заботой. В результате кровотечение удалось остановить и через несколько дней больной оправился от их последствий. В письме, отправленном в Париж, Жорж Санд писала: «Корабельный врач осмотрел Шопена и успокоил меня относительно его кровохаркания. Он сказал, что у Шопена очень слабые легкие, но причин для отчаяния нет — покой и хороший уход позволят ему быстро восстановить здоровье». Это письмо графине Марлиани было написано 15 февраля 1839 года в барселонском отеле, где они вынуждены были в течение еще десяти дней дожидаться прибытия судна «Фенисьен», которое должно было доставить их в Марсель. Правда, на испанской земле их ожидала еще одна неприятность, на сей раз виновником ее стал хозяин гостиницы. Тот, как в свое время сеньор Гомес, решил погреть руки на болезни своего постояльца и пытался включить в счет стоимость кровати, на которой тот спал. Вне себя от гнева, Жорж Санд поклялась, что до конца своих дней не будет разговаривать ни с одним испанцем. «Если человек кашляет, — писала она, — то в Испании его считают чахоточным, а с чахоточными обращаются, как с чумными, чесоточными, прокаженными… ибо они думают, что чахотка заразна и больных следует убивать, как двести лет назад истребляли душевнобольных. Я говорю истинную правду. На Мальорке мы оказались париями». Эти горькие слова вызваны прежде всего теми оскорблениями, которым они подверглись на Мальорке, где во время прогулок в них действительно бросали камни. Однако она не учитывает, что в то время, и не только в Испании, царил страх перед заражением легочной чахоткой. Врачи были бессильны перед этой болезнью, которая уносила массу людей в самом цветущем возрасте. Лишь после того, как в 1882 году Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, этот бич человечества постепенно удалось взять под контроль.
Наконец, 25 февраля 1839 года они смогли пуститься в обратный путь во Францию. Переход до Марселя продолжался 36 часов, и Шопен перенес его хорошо. На марсельской набережной их уже ожидал Франсуа Ковьер, профессор медицинского факультета Марсельского университета и главный хирург местной больницы. Ковьер, который пользовался репутацией отличного клинициста, поначалу был очень обеспокоен серьезным состоянием пациента. Однако это состояние с каждым днем заметно улучшалось, и профессор подумывал даже о том, чтобы исключить диагноз туберкулеза легких. Окрыленная надеждой, Жорж Санд писала 5 марта графине Марлиани: «Шопен чувствует себя уже намного лучше… Кровохаркание прекратилось, он хорошо спит, кашляет мало, и, самое главное, он во Франции! Здесь никто не будет жечь кровать только потому, что он на ней спал. Никто не прячется, когда он подает ему руку… Ваш чудный доктор Ковьер принял его как родного сына, и я уверена, что он его вылечит… По его лицу я поняла, что он не особенно обеспокоен и не сомневается в успехе лечения».
Шопен также был настроен оптимистично и 7 марта написал Юлиану Фонтане: «Обними Яна и скажи ему… что я немного кашляю только рано утром и меня уже не считают чахоточным. Я не пью ни кофе, ни вина, только молоко, постоянно пребываю в тепле и выгляжу, как девица». Эти строки показывают, что план лечения, выработанный Ковьером, предусматривал в основном диетические, гидротерапевтические и медикаментозные мероприятия, которые наряду со строгим постельным режимом должны были нормализовать состояние сильно ослабленного пациента. Об этом свидетельствует также письмо Шопена Гжимале от 12 марта: «Состояние моего здоровья улучшается с каждым днем. Вытяжной пластырь, диета, пилюли, ванны и, самое главное, бесконечная забота моего ангела (Жорж Санд — прим. автора) поставили меня на ноги, пока, правда, немного худые». Он постоянно с благодарностью пишет о самопожертвовании своего «ангела». В этом смысле характерны следующие строки того же письма, посвященные ужасному времени в Вальдемосе: «Ей пришлось одной ухаживать за мной, ибо избави нас Бог от тамошних врачей! Она стелила мою постель, убирала в комнате, готовила лекарства и отказалась ради меня от всего». Непрофессионализм врачей на Мальорке, судя по всему, действительно был ужасен, потому что из книги Жорж Санд «Зима на Мальорке» мы узнаем об ассистенте одного из этих врачей, который был настолько нечистоплотен, что Шопен ни разу не позволил ему послушать себе пульс!
Через несколько недель недуг Шопена заметно отступил. У него улучшился аппетит, и он с удовлетворением констатировал устойчивое прибавление веса, о чем уже в конце марта писал Фонтане: «Мне намного лучше, я начинаю играть, есть, ходить и говорить, как все остальные люди». Примерно так же он выразился и в письме к Гжимале. Все это свидетельствует о том, что тяжелому состоянию на Мальорке в значительной степени способствовали отрицательные психические переживания, вызванные унижениями, глубоко ранившими его душу. Теперь он находился в приятном окружении, вновь обрел духовные интересы, будь то идеи музыкальных композиций или участие в работе Жорж Санд, которая в Марселе занималась очень интересным исследованием о Гете, Байроне и польском поэте Мицкевиче. Улучшение состояния Шопена носило устойчивый характер, и в конце концов он окреп настолько, что в мае решился даже совершить экскурсию в Геную, которую перенес на удивление хорошо, несмотря на шторм, настигший их на обратном пути. Единственным душевным потрясением за эти три месяца в Марселе стало для Шопена известие о смерти его друга, певца Адольфа Нурри, который добровольно ушел из жизни в Неаполе. Во время заупокойной мессы Шопен сам играл на органе.
И вот в конце мая доктор Ковьер разрешил продолжить путешествие в Париж с тем, однако, строгай условием, что лето 1839 года Шопен проведет в Ноане, имении Жорж Санд в провинции Берри. Когда 1 июня они прибыли в Ноан, встречать их приехали все соседи, большинство из которых видели нового гостя, знаменитого Фредерика Шопена, впервые. На него же самого, после неописуемых страданий последних месяцев, за высокими деревьями похожего на парк сада вокруг этого уютного сельского дома снизошел, наконец, благотворный и немного грустный мир.
Ноан. Разлука
Учитывая состояние здоровья Шопена, соответствующее хронической стадии заболевания, в Ноане его лечением занялся деревенский доктор Гюстав Папе, домашний врач и друг Жорж Санд. Папе был весьма зажиточным человеком и лечил только бедняков и своих друзей. Он отнесся к Шопену с необычайным участием и заботой. После первого обследования он успокоил Жорж Санд, сообщив ей о том, что у пациента нет никаких признаков легочного заболевания, а имеется всего лишь незначительное хроническое воспаление гортани. Трудно предположить, что Папе не был убежден в наличии у Шопена туберкулеза легких, и поэтому столь безобидный диагноз объясняется, по всей видимости, его желанием успокоить хозяйку Ноана. Ведь тихая сельская жизнь, вновь обретенная радость труда и прогрессирующее выздоровление Шопена являлись достаточными основаниями для того, чтобы оптимистически смотреть в будущее. В первый раз в жизни у Шопена появилось что-то наподобие собственного дома, в котором он чувствовал себя защищенным. Он много гулял, усердно музицировал и участвовал в развлечении, заключавшемся в спектаклях импровизированного на скорую руку театра, где он мог вновь, как в юности, проявить свои таланты имитатора и актера.
Единственной ложкой дегтя в этой идиллии, по крайней мере для Жорж Санд, стало ясное осознание того факта, что отчаянные поиски совершенной любви вновь грозили обернуться неудачей. Хроническая болезнь Шопена потребовала от нее сдержанности на грани полного воздержания, что явилось серьезным испытанием для молодой страстной женщины. Нам известно, что в течение восьми лет совместной жизни с Шопеном она любила его и была ему верна. Это дает основания предположить, что ее материнские чувства взяли верх над страстью: «После времени, проведенного на Мальорке… меня очень беспокоила серьезная проблема. Я спрашивала себя, должна ли я свыкнуться с мыслью о том, что моя жизнь связана с жизнью Шопена… Я не была ослеплена страстью. Я испытывала к нему своего рода живое, истинно материнское обожание». Вчерашний возлюбленный должен был, таким образом, стать в семье третьим ребенком, которого следовало баловать, которому следовало создать домашний уют, где бы он мог реализовать свои мечты и творческие идеи. Похоже, что Шопен согласился с таким изменением положения, так как с этого момента он называл Жорж Санд почти исключительно «хозяйка», «госпожа» или просто «мадам Санд». Вероятно, решение изменить образ жизни было принято уже через 18 дней после их возвращения с Мальорки, о чем красноречиво свидетельствует надпись «19 июня 1839 года» в их комнате на стене слева от окна. Жорж Санд сожгла все свои любовные письма, а Шопен не оставил ни одной строчки, посвященной их связи, и поэтому уже невозможно выяснить, действительно ли она отныне исполняла лишь роль по-матерински заботливой медсестры, которая должна быть сексуально «неприступной», что, по ее собственным словам, доставляло Шопену немало мучений. Последнее, правда, выглядит не слишком правдоподобно, поскольку известно, что Шопен никогда не принадлежал к категории художников, мучимых сексуальным голодом. Скорее, он относился к одухотворенным, по выражению Генриха Гейне, «ангелоподобным» поэтам.
Пользуясь уединенностью деревенской жизни в Ноане, Шопен полностью отдался занятиям композицией. Прежде всего он начал работу над сонатой си-минор ор. 35. Это произведение у французских исполнителей получило название «Sonate funèbre» (Траурная соната), поскольку его ядром и исходным пунктом является траурный марш, созданный Шопеном еще в 1837 году. Говоря о траурном марше в сонате Бетховена ля-бемоль-мажор ор. 26, мы точно знаем, кого в этом произведении оплакивал автор. У Шопена отсутствует даже малейший намек на предмет его скорби, но вряд ли далеко ушли от истины те, кто полагает, что траурный марш Шопена навеян патриотическими мотивами. Привычка Шопена скрывать серьезные внутренние переживания от окружающих и в этом случае оставляет место лишь для неясных предположений. Это подтверждает и Жорж Санд: «О своем искусстве Шопен говорит редко и мало…. даже в кругу самых близких людей он остается замкнутым и полностью раскрывает себя только роялю». После сонаты Шопен закачивает ноктюрны ор. 37 и мазурки ор. 41, но в это время он уже начинает тяготиться однообразностью деревенской жизни. В октябре 1839 года, окрепнув физически и желая вернуться к привычному стилю жизни, он отправляется в Париж, где друг Фонтана уже снял для него квартиру.
Сразу же по прибытии в столицу он вновь попадает в круговорот жизни парижского общества, и у него остается совсем мало времени для личных контактов с Жорж Санд, снявшей квартиру поблизости от него.
Вскоре, однако, разлука стала для них невыносимой и Шопен переселился в один из занимаемых ею павильонов на улице Пигаль. Жорж Санд много работала, принимала у себя выдающихся деятелей литературы и искусства, таких, как Оноре де Бальзак и Эжен Делакруа, в это время ее захватила новая страсть — социалистический мистицизм. Не исключено, что причиной ее увлечения политикой стал вынужденный сексуальный «пост», связанный с хронической болезнью Шопена. «Она не могла испытать абсолютную любовь к другому человеку, поэтому она любила человека вообще, любила человечество». Здесь следует напомнить, что еще в юности ее привлек мир идей Жан-Жака Руссо.
Наряду с участием в жизни парижских салонов Шопен также возобновил и преподавательскую деятельность. Однако из такой его активности не следует делать вывод о том, что состояние его здоровья в этот период было идеальным. В течение этой зимы его самочувствие вновь существенно ухудшилось и вновь в полную силу проявились уже хорошо знакомые нам клинические симптомы. Его немецкая ученица Фридерике Штрайхер в своем дневнике вполне однозначно описала его состояние в октябре 1839 года: «Он назначил два урока в неделю, заранее извинившись за то, что, возможно, будет вынужден часто переносить уроки на другие дни по причине болезни», и, далее: «Ах, он выглядел таким больным, таким слабым и бледным, он так кашлял, что вынужден был часто принимать опиумные капли с сахаром или с сиропом, протирать лоб одеколоном, и несмотря на это преподавал так выдержанно, терпеливой старательно, что я не могла им не восхищаться». И сам Шопен сообщал об утренних приступах кашля с выбросами слизи и гноя, причиной которых мог быть попутный неспецифический бронхит. Иногда этот кашель становился совершенно невыносимым, хотя Шопен не придавал этому обстоятельству серьезного значения: «Я страдаю от невыносимого кашля, но в этом нет ничего необычного». Трудно понять, как он в таком состоянии мог продолжать преподавание, которое доводило его почти до предела физических сил. Кароль Микули, известный польский пианист и издатель произведений Шопена, также бывший в то время его учеником, писал: «Его сжигал огонь святой любви к искусству, каждое слово, слетавшее с его губ, воодушевляло и звало за собой. Иногда его уроки продолжались несколько часов подряд, до тех пор пока уже и учитель, и ученик не валились с ног от усталости».
Вопреки всему он находил время и силы для сочинения музыки. В период с 1839 по 1841 год возникли произведения, начиная с сонаты си-минор, ор. 35, до мазурок, объединенных общим заголовком ор. 51. В этот список входят такие вещи, как вторая и третья баллады, три полонеза, третье скерцо и различные ноктюрны и мазурки. Он также изредка выступал с публичными концертами, всегда встречавшими доброжелательный прием критики. При этом рецензенты обратили внимание на своеобразие манеры исполнения Шопена: в отличие от таких виртуозов, как Тальберг или Лист, стремившихся к достижению на фортепиано оркестровых эффектов, Шопен добивался в первую очередь тончайшей нюансировки и неповторимого тембра звука.
Начиная с 1839 года Шопен зиму и осень проводил в Париже, а весной и осенью предпочитал жить в Ноане, где ничего не мешало ему сочинять. Летом 1841 года Жорж Санд писала, что «Шопен потихоньку кашляет». Он сам замечал, что лишь к 10 часам утра ему удавалось как следует прокашляться. Тем не менее нельзя говорить, что в этот период он уже был хронически тяжело больным: продолжительные фазы относительной ремиссии, когда его самочувствие было в целом благополучным, примерно уравновешивали фазы обострения, сопровождавшиеся тяжелыми проявлениями болезни. Фазы обострения были отмечены прежде всего кровохарканием, о чем Шопен в 1841 году писал своему банкиру Огюсту Лео: «Я харкаю кровью, и врач запретил мне разговаривать». Все же его хроническая болезнь устойчиво прогрессировала, хотя это происходило медленно и малозаметно.
Как следует из многочисленных высказываний самого Шопена, до этого времени он, в основном, следовал медицинским рекомендациям друга своей юности Яна Матушинского. Начиная с 1842 года он поступает под наблюдение парижского доктора Адама Рациборского, известного специалиста по легочным заболеваниям. Дело было в том, что Матушинский, с 1841 года проживавший вместе с Шопеном на улице Пигаль, к этому времени сам уже был тяжело болен. Зимой 1841/ 1842 года Шопен писал Плейелю: «Мне лучше, но я ощущаю слабость и должен лечь в постель», что указывает на ухудшение его состояния. Из письма Гржимале, написанного в апреле 1842 года, мы узнаем, что в это время ему самому не стало существенно лучше, а также, что и его друг Матушинский лежал в постели: «Я должен целый день лежать, так у меня болят железы и глотка. Если Рациборский завтра разрешит мне выйти (Ян лежит, ему пустили кровь), то я обязательно к тебе приеду». Какого труда ему в то время стоило подобное предприятие, показывает следующее письмо к тому же адресату: «Я бы приехал к тебе, но это возможно только ранним утром, а пока я выкашляюсь с утра, уже 10». Тем не менее в художественном плане 1842 год начался для Шопена под счастливой звездой. 21 февраля Шопен с большим успехом выступил в концерте совместно со своим другом виолончелистом Франшомом и певицей Полиной Виардо, которая незадолго до этого вышла замуж. Тем тяжелее был удар, постигший его 20 апреля, когда после сильного кровотечения умер его ближайший друг Ян Матушинский. Столь сильное душевное потрясение не только серьезно ухудшило общее состояние здоровья Шопена, но и стало причиной глубокой душевной депрессии, и Жорж Санд решила, что пришла пора немедленно перебираться в Ноан, рассчитывая на то, что смена обстановки отвлечет его от ужасного события. Потеря Яна, одного из тех немногих, с кем его связывали воспоминания детства и годы, совместно прожитые в Варшаве, вновь пробудили фантазии о смерти, что уже случалось раньше. 11 августа 1842 года он пишет Фонтане из Ноана: ‘‘Мне снилось, что я умер в больнице, и эта картина все еще стоит перед моим взором, как будто это случилось вчера». В Ноан приехали друзья: Делакруа, Витвицкий, Полина Виардо-Гарсия, и под их влиянием Шопен вновь постепенно обрел душевный покой и вновь стал усиленно сочинять. Этим летом были созданы мазурки ор. 50, баллада фа-минор ор. 51, полонез ля-минор ор. 52, экспромт соль-бемоль-мажор ор. 53 и скерцо ми-мажор ор. 53.
Тем не менее осенью он все еще был не в состоянии вернуться в свою парижскую квартиру и Фонтане пришлось подыскивать для него другое жилище. Эта квартира находилась от квартиры Жорж Санд всего лишь через дом, в котором жила ее подруга Шарлотта Марлиани, жена испанского консула. Если в Ноане Шопен в основном сочинял, то в Париже большую часть времени отнимали уроки музыки и общественные обязанности, которые он ревностно выполнял. Однако болезнь его прогрессировала в такой степени, что теперь даже малейшая физическая нагрузка вызывала одышку и зимой 1843/1844 года его приходилось вносить на лестницу собственного дома. По словам свидетельницы, сестры его ученика Гутмана, «он уже не мог подняться по лестнице даже с посторонней помощью». Состояние его здоровья было очень тревожным, и, как писал Гейне в «Левальдс Театерревю» за 1847 год, в эту зиму его вообще никто не видел.
1844 год, как будто, принес улучшение, о чем мы можем сделать вывод из записи в дневнике все той же его ученицы Фридерики Штрайхер: «В конце 1844 года я несколько раз побывала в Париже и мне показалось, что Шопен выглядит как-то покрепче… Тогда друзья Шопена надеялись, что его здоровье восстановится или, по меньшей мере, улучшится». Колыбельная ор. 57 никоим образом не говорит о том, насколько уже болен и слаб был автор в момент ее создания. Ленц, ставший по рекомендации Листа учеником Шопена, так описывал своего учителя: «Молодой человек среднего роста, худощавый, снедаемый грустью и невероятно по-парижски элегантный». Он не знал, что от слабости маэстро иногда вынужден был давать уроки, даже не сидя, а лежа на диване, перед которым стоял рояль. Если его что-то не устраивало в исполнении ученика, то он вставал, сам играл это место, а затем снова возвращался на диван.
3 мая 1844 года Шопена постиг еще один тяжелый удар судьбы — смерть отца. В лице отца он потерял опору и друга, к которому всегда мог обратиться за советом и помощью. Подавленность и отчаяние Шопена в эти недели очень ярко передает Жорж Санд в книге «История моей жизни»: «Несчастью его не было предела, я отчаялась найти средство, способное остановить нарастающую нервозность. Смерть его друга, врача Яна Матушинского, а вскоре и смерть отца, явились для него страшными ударами. Он не был способен представить себе эти чистые безгрешные души в лучшем мире, его мучили лишь кошмарные видения. Я вынуждена была проводить все ночи в соседней комнате… чтобы прогонять призраков, которые мучили его во сне и в бреду. Мысль о собственной смерти ассоциировалась у него с суеверными представлениями славянской мифологии… Его окружали призраки, они звали его… его приводили в ужас их бесплотные лица, он пытался защититься от их ледяных рук, душивших его». Когда Жорж Санд стало ясно, что Шопен потрясен настолько, что даже не может написать письмо родным в Варшаву, она сама написала его сестре Людвике Еджеевичовой и просила ее приехать в Ноан. До этого Жорж Санд, правда, написала успокоительное письмо матери Шопена, но в письме Людвике она была более откровенна: «Вы увидите, что мое дорогое дитя очень страдает и найдете его совсем не таким, как в прошлый раз. Только, прошу Вас, не ужасайтесь так уж состоянию его здоровья — за те шесть с лишним лет, что я его знаю, он, в основном, всегда был таким: каждое утро у него случается довольно сильный приступ кашля; каждую зиму случаются два или три более серьезных кризиса, но такой кризис продолжается лишь несколько дней; время от времени он испытывает невралгические боли — это его обычное состояние. В остальном легкие здоровы и его нежная конституция серьезно не пострадала. Я надеюсь, что со временем он окрепнет, и уверена по меньшей мере в том, что при правильном образе жизни и хорошем уходе он сможет прожить не меньше, чем любой другой». Шопен смотрел на вещи примерно так же: «Я пережил столько более здоровых и молодых людей, что кажусь себе почти бессмертным». Радость встречи с сестрой придала ему новые силы. В августе и сентябре 1844 года Людвика и ее муж провели несколько недель в Ноане и на обратном пути в Варшаву проводили Фредерика в Париж. Шопен пребывал в наилучшем расположении духа, что следует из его письма Жорж Санд, отправленного в Ноан 23 сентября: «Добавлю лишь, что чувствую себя хорошо и остаюсь Вашим искренне окаменелым ископаемым Шопеном».
По-видимому, в этот период, его туберкулез затаился. Скорее всего, мягкий, умеренный климат Ноана благотворно сказался на течении болезни, что не раз подчеркивала Жорж Санд: «Две недели благотворного тепла дают ему больше, чем любые лекарства». Однако заключение доктора Папе, сделанное после обследования в 1845 году, согласно которому все внутренние органы Шопена здоровы, а его жалобы «несут на себе печать ипохондрии», безусловно, не соответствовало действительности. Правда, бесспорно и то, что субъективно его физическое самочувствие существенно зависело от психического состояния. Это видно хотя бы из того, что достаточно было приехать сестре, чтобы он вновь обрел силы и мужество. Жорж Санд писала Людвике: «Заверяю тебя, что ты — самый лучший врач, какого он только может себе пожелать. Достаточно заговорить о тебе, чтобы он тут же вновь обрел волю к жизни».
Зимние месяцы в Париже все больше превращались для Шопена в непосильную нагрузку. Он с тревогой стал ощущать внутренний холод. Как-то, пребывая в меланхолическом настроении, он сказал по этому поводу: «Наверное, я смогу согреться только в могиле». Врачи строго предписывали ему тепло одеваться, и, похоже, он тщательно выполнял эти рекомендации. В письме от 5 декабря 1844 года он так повествовал об обеде с друзьями, куда один из них привел своего толстого сынишку: «Он был розовый, свежий, теплый и с голыми ножками. Я же сидел желтый, вялый, замерзший и в трех парах фланелевых кальсон под брюками». Зима 1844/1845 года в Париже было особенно суровой и холодной. В столице свирепствовал грипп, и Шопен заболел тяжелым бронхитом, который можно интерпретировать как результат неспецифической вирусной инфекции.
После того как доктор Папе, по словам Жорж Санд, «тщательно прослушав и простукав» Шопена, признал, что все его внутренние органы здоровы, она утратила доверие к этому врачу. Шопен же обратился к доктору Молену, гомеопату, пользовавшемуся его особым доверием. В это время основоположник гомеопатической школы Самуил Ганеман жил в Париже и популярность этого направления медицины достигла во французской столице высшей точки, хотя серьезные врачи, такие, например, как Габриель Андраль, сомневались в том, что разведение полезного лекарства до бесконечно малых концентраций повышает его эффективность. Однако в творческих кругах об этих разногласиях ничего не было известно и вера в гомеопатию не только не была поколеблена, но, с началом увлечения магнетизмом, даже укрепилась. Магнетические методы лечения весьма успешно применялись в то время в Париже, причем в наибольшей мере на этой ниве преуспел шарлатан Корефф. Даже если эти методы и не могли объективно ничего исправить, то они, по крайней мере, и не приносили вреда, чего совсем нельзя сказать о парижской школе Бруссе с лечением голодом и массивными кровопусканиями. Есть основания полагать, что назначенные Моленом лечебные мероприятия все же приносили какое-то облегчение — в противном случае Шопен и Жорж Санд едва ли столь часто стали бы прибегать к его помощи. Наскоро составленные записки, которые приносили Молену посыльные вплоть до 1848 года, были примерно такого содержания: «Дорогой доктор, пожалуйста, загляните к Шопену. У него не такой тяжелый кризис, как в прошлом году, но он сильно страдает от кашля и удушья» или «Дорогой доктор, Шопен страшно простудился и уже два дня кашляет самым ужасным образом. Принесите что-нибудь, что облегчит его страдания и приходите сегодня с утра!». Бывало, что и сам больной царапал несколько слов на клочке бумаги послание доктору Молену: «Дорогой доктор, будьте так добры и придите ко мне. Мне плохо». Мы не знаем, какие лекарства назначал своему пациенту доктор Молен, но, судя по всему, он не отменил опиумных капель, как средства от кашля. Об этом можно судить по двум фрагментам из писем. Письмо к Жорж Санд от 26 ноября 1843 года: «Мне кажется, что это лекарство слишком меня расслабляет; я попрошу у Молена другое». Этот фрагмент подтверждает, что доктор Молен уже в это время консультировал Шопена. А в записке к доктору Молену Жорж Санд написала: «Доктор, мы просим Вас о помощи. Сегодня г-н Шопен послал за бутылочкой своего лекарства, но аптекарь отказываемся ее налить без Вашего разрешения».
Летом 1845 года Шопен написал несколько мазурок и баркаролу ор. 60, в которых нет и намека на предчувствие смерти — напротив, эти произведения насквозь пронизывает радость жизни. Четкий ритмический рисунок и название последнего их этих произведений, побуждают к попыткам разглядеть за музыкой живописные образы, например, взмахи весел, но это вопрос субъективного восприятия. На самом же деле нам известно так же мало о мотивах композиций Шопена, как и о самом процессе его творчества. Если верить Жорж Санд, то его творческая «технология» была полна мук и сомнений: «Творческий процесс протекал у Шопена непосредственно и таинственно. Идеи приходили к нему непрошено и внезапно когда он сидел за роялем, или начинали звучать в его мозгу во время прогулки и ему приходилось спешить домой, чтобы озвучить их на инструменте. Затем начиналась кропотливая работа, которую мне не раз приходилось наблюдать: ряд усилий, сомнений, нетерпеливых попыток воспроизвести и записать какие-то подробности подсказанного внутренним слухом… Он на целые дни запирался в своей комнате, плакал, бегал взад и вперед, ломал перья, сотни раз повторял и менял один и тот же такт… Вот так он мог потратить шесть недель на одну страницу, чтобы, в конце концов, записать ее в том же виде, в котором наскоро набросал ее в первый день». Если отбросить поэтические детали, то создается впечатление, что Шопен относился к своему творчеству весьма критически, постоянно подвергая сомнению уже созданное.
Столь прекрасного лета, как в 1846 году, в Ноане не помнили уже давно, и Шопен, казалось, чувствовал себя в полном соответствии с этим, хотя в большинстве случаев ощущал себя слишком слабым для того, чтобы принимать участие в прогулках в окрестностях замка. «Я не принимал в этом участия, потому что такие развлечения утомляют меня больше, чем они того стоят», — писал он 11 октября 1846 года родным в Варшаву. Похоже, что он с определенной тревогой ожидал грядущей зимы, как это видно из того же письма: «Сейчас я чувствую себя вполне хорошо. Похоже, что зима начинается неплохо, и, если я поберегусь, то она пройдет так же благополучно, как и прошлогодняя. Дай Бог, чтобы она не оказалась хуже!». Возвращаясь в ноябре в Париж, как всегда в одиночестве, он еще не мог знать, что это было последнее лето, которое он провел в Ноане. В эти месяцы положение в доме Жорж Санд решительно изменилось в худшую сторону. Из пансиона вернулась ее дочь Соланж, которой в то время исполнилось 16 лет. Тогда же она ввела в дом дальнюю родственницу, некую Огюстину Бро, которая тут же обручилась с ее 24-летним сыном Морисом. В результате возникли два враждебных лагеря — Жорж Санд всегда нежно любила Мориса и отдавала во всех случаях предпочтение ему, Шопен же, прожив столько лет рядом с Жорж Санд, посчитал, что обязан вмешаться в семейные дела, и встал на сторону темпераментной Соланж. К этому добавились повышенная ранимость и ревность Шопена, который желал быть для Жорж Санд всем и не мог примириться с тем, что «истинным источником ее силы был сын», а также постепенное охлаждение ее чувства к Шопену. Как бы там ни было, хронически больной, нервный, постоянно кашляющий и обильно харкающий мокротой человек, пусть даже внешне очень элегантный, не мог со временем не превратиться в обузу, хотя ее нежная материнская любовь к нему еще была жива и глубока, и, несмотря на многолетнее воздержание, она продолжала оставаться его верной спутницей. Это не было для нее жертвой, как видно из весьма откровенного письма, которое она в 1847 году написала Гжимале: «Уже семь лет я девственница и для него, и для всех остальных. Я состарилась раньше времени, и мне это не стоило ни жертв, ни труда, настолько я устала от страстей и лишилась иллюзий… Я знаю, что многие меня обвиняют, одни — за то, что я истощила его своей чувственностью, другие — за то, что довела его до отчаяния своими дикими выходками… Он сам, опять же, винит меня за то, что я погубила его, отдалив от себя, но я бы умышленно убила его, поступив иначе».
В это время, когда над Ноаном собирались темные тучи, был опубликован роман Жорж Санд «Лукреция Флориани», вызвавший неоднозначную реакцию публики и критики. Кое-кто пытался истолковать автобиографические моменты этой книги как попытку оклеветать личность и характер Шопена. Более того, Жорж Санд даже обвиняли в том, что, раскрывая столь вольно тайные подробности своей личной жизни, она пытается спровоцировать разрыв с Шопеном, которым уже пресытилась. Подобные домыслы лишены всякой объективной основы. От Делакруа мы знаем, что Жорж Санд создавала этот роман, названный Гейне «божественно написанным романсом», в то время, когда ее совместная жизнь с Шопеном еще ничем не была омрачена, и полностью прочитала ему текст перед публикацией. Ни в один момент ему не пришла в голову мысль о том, чтобы усмотреть здесь своего двойника. Итак, мы вправе полностью поверить Жорж Санд, когда она утверждает, что образы этого романа не имеют отношения ни к ней, ни к Шопену.
Нет сомнения в том, что ее великая любовь охладилась под влиянием противоречий и семейных неурядиц. Постоянно происходили стычки между Шопеном и Морисом, будучи судьей которых она неизменно принимала сторону сына. Все же главную роль в том, что разрыв между Шопеном и Жорж Санд стал неизбежным, суждено было сыграть Соланж. Она обручилась с Фернаном Прео, небогатым дворянином из окрестностей Ноана, и весной 1847 года вместе с ним и матерью прибыла в Париж, где должна была состояться свадьба, против чего Шопен также не имел возражений. Но здесь появился Огюст Клезинжер, «отставной кирасир, ставший великим скульптором», который пожелал вылепить бюсты матери и дочери. По ходу дела Соланж стала его любовницей, а когда Жорж Санд не сразу согласилась на их брак, Клезинжер вынудил ее дать согласие, грубо пригрозив похищением. Морис, живший в Париже и поддерживавший регулярные контакты с Шопеном, получил от матери следующие инструкции: «Ни слова Шопену об этих делах, они его не касаются». Свадьба состоялась 6 мая, но уже на следующий день молодожены так поскандалили с Жорж Санд, что она их выгнала из дому. Когда они после этого появились в парижской квартире Шопена, тот был неприятно удивлен, узнав, что его попросту проигнорировали и ни о чем не поставили в известность. Шопен всегда симпатизировал Соланж, она также отвечала ему взаимностью, и он написал письмо Жорж Санд, в котором открыто принял сторону дочери. Это привело к окончательному разрыву в августе 1847 года. Как следует из различных писем Жорж Санд, она уже давно была убеждена в том, что за этим покровительством в действительности стояла зарождающаяся любовь Шопена к Соланж. «Стоит ему ее увидеть, и он готов на все, он не моргнув глазом разнесет все на своем пути», — писала она Эманюэлю Араго. При такой интерпретации событий она воспринимала поведение Шопена как духовное предательство. Ее резкое прощальное письмо заканчивается такими горькими словами: «Прощайте, друг мой, желаю Вам поскорее излечиться от Ваших страданий и искренне надеюсь на это. Я буду благодарить Бога за столь гротескный финал такой исключительной дружбы. Давайте иногда знать о себе. Ко всему же остальному еще раз возвращаться не имеет смысла». Шопен оставил это письмо без ответа. Тайна любви к Жорж Санд в сердце Шопена навсегда останется для нас нераскрытой. Ясно лишь то, что встав на сторону эгоистичной и корыстной Соланж, которая, возможно, ради собственной выгоды сумела опутать его чарами кокетства, Шопен потерял в лице Жорж Санд верного и преданного друга. На этом также завершился самый счастливый период его жизни, когда он мог свободно заниматься музыкальным творчеством — после разрыва с Жорж Санд его жизнь превратилась скорее в существование. Примечательно, что Жорж Санд продолжала им интересоваться и очень тепло вспоминала о нем. И Шопен не мог забыть о ней — локон ее волос он постоянно перекладывал из старой записной книжки в новую, в том числе и в 1849 году, последнем году своей жизни…
Последние годы
Теперь состояние здоровья Шопена ухудшалось непрерывно. Уже зимой 1846 года появились основания серьезно опасаться за его жизнь. В начале мая 1847 года произошло новое опасное обострение. Делакруа записал в своем дневнике за 9 и 10 мая: «Бедное дитя болеет уже восемь дней и очень тяжело… Заходил сегодня к Шопену, но он меня не принял». Эти приступы, которые называли то «гриппом», то «астмой», раньше проходили через пару дней. Однако теперь обострение продолжалось больше недели без видимого улучшения. Похоже, что он уже начал к этому привыкать, так как в декабре 1847 писал родным в Варшаву: «Эта зима не столь неприятна Многие болеют гриппом, но мое покашливание уже стало для меня привычным и я боюсь гриппа меньше, чем холеры. Я время от времени отхлебываю из бутылочки с гомеопатическим лекарством, даю много уроков музыки дома и пока держусь на поверхности». Примерно так же он писал Соланж: «Я кашляю и очень много времени уделяю урокам. Я редко выхожу на улицу, потому сейчас для меня там слишком холодно. Кроме того, у меня моя привычная одышка». После разрыва с Жорж Санд он на всю оставшуюся очень недолгую жизнь остался в подобном положении. По свидетельству его ученика Матиаса, вид Шопена в то время был «жалок». Он волочил ноги при ходьбе, «спина его был сгорблена, голова наклонена вперед». Если во время урока с ним случался приступ кашля, он терял способность разговаривать. Ему становилась все более ясной вся безнадежность положения, он начинал понимать, что смерть близка. В ноябре и декабре 1847 года в письмах Соланж он все чаще жалуется на одышку: «Я задыхаюсь, у меня болит голова» или «Я задыхаюсь и желаю вам всего мыслимого счастья». Все биографы сходятся на том, что решительное ухудшение его здоровья совпадает по времени с окончательным разрывом с Жорж Санд, и считают, что, начиная с этого момента, его жизненный путь круто пошел под уклон.
В феврале 1848 года произошло новое обострение, о чем мы узнаем из письма Шопена к Соланж: «С тех пор как я получил Ваше последнее письмо, я лежал в постели с отвратительным гриппом и выступил с концертом у Плейеля». Этот концерт, состоявшийся 16 февраля, был последним концертом Шопена в Париже. Концерт принес ему творческий триумф, но потребовал, в буквальном смысле, запредельного напряжения физических и душевных сил: «Маэстро играл с прежней силой и прежним блеском, однако после выступления он был настолько физически и душевно истощен, что с ним едва не случился обморок в артистической уборной». Но в марте он настолько окреп, что мог выходить на улицу и с помощью слуги даже подниматься по лестнице к себе в квартиру. Об этом мы можем судить по случаю, который произошел 4 марта 1848 года. В этот день Шопен в последний раз в жизни увиделся с Жорж Санд. Встреча эта произошла случайно в приемной их общей подруги графини Марлиани. Вот как описал ее Шопен в письме к Соланж: «Я сказал Вашей матушке «Доброе утро» и сразу же спросил, как давно она не получала от Вас писем. Она ответила «Неделю»… «Тогда должен Вам сообщить, что Вы стали бабушкой: Соланж родила дочурку…». После этого я распрощался и начал спускаться вниз по лестнице… Правда, я забыл сообщить Вашей матушке, что Вы чувствуете себя хорошо… а так как я не в состоянии сам карабкаться вверх по лестницам, то попросил Комбса (слугу — прим. автора) сходить к Вашей матушке и сообщить ей о том, что и Вы и ребенок чувствуете себя хорошо». Это письмо говорит также о том, что он мог подниматься по лестнице лишь с помощью слуг, да и то с большим трудом.
Постепенно начинает ощущаться нехватка денег: счета врачей и аптекарей, слуги, выезд, салонная жизнь требовали значительных расходов. Теперь все его надежды были связаны с Англией: ввиду сложного политического положения во Франции он видел в поездке в Англию единственный шанс поправить свои пошатнувшиеся финансовые дела. В апреле 1848 года он бросился в «пропасть, имя которой Лондон». До этого, уже в марте, поляки покинули Париж в надежде, что пробил час освобождения их родины. После катастрофы 1831 года последним оплотом польской государственности оставалась Краковская республика. В 1846 году в Галиции и Познани (Позен) началось восстание. Вследствие социальных противоречий и недостаточных сил повстанцев это восстание не только не увенчалось успехом, но и привело к тому, что колыбель польской революции, Краковская республика, утратив последние остатки независимости, была присоединена к Австрийской империи. Очагом европейской революции в эту эпоху, безусловно, был Париж. Завершение Июльской революции сопровождалось двумя моментами, которые несли в себе зародыш будущей оппозиции. Во-первых, в последний момент развитие политических событий сошло с республиканского пути, который тогда был вполне возможен. Во-вторых, монархический режим короля Луи-Филиппа создал едва ли превзойденный впоследствии пример господства класса крупной буржуазии. Для революции нужны революционеры, и в Париже, городе якобинцев и их наследников, любая революция могла найти и находила достаточное количество приверженцев в лице рабочих, которые, следуя якобинской традиции, придавали элемент непредсказуемости любому перевороту. Подобное непредсказуемое вмешательство широких народных масс в февральские события 1848 года привело к тому, что после кровавых столкновений с войсками 24 февраля восстание окончательно вышло из-под контроля и Луи-Филипп вынужден был бежать за границу. В созданное после этого временное правительство наряду с левыми республиканцами вошел Луи Блан, представлявший социалистов, которые ставили своей целью осуществление социальной революции. Однако мелкобуржуазные массы не были заинтересованы в социалистических экспериментах и, когда на выборах 23 апреля две трети голосов получили умеренные республиканцы, казалось, что социальная революция потерпела крах. Это привело в июне к новому восстанию рабочих и ремесленников Парижа — первому вооруженному выступлению под социалистическими лозунгами в Европе. 26 июня 1848 года восстание было жестоко подавлено войсками и обошлось в 300 убитых, став, таким образом, и самым кровавым событием в истории революций XIX века.
По причине этих бурных политических событий, которые захватили пол-Европы, не затронув лишь глухую периферию и, как всегда, Великобританию, все больше людей покидали Париж. Наряду с политиками столицу покидали деятели искусства. Путь их лежал в Англию. К этому потоку присоединился и Шопен в обществе «шотландок» — своей ученицы Джейн Стирлинг и ее сестры леди Кэтрин Эрскин, уговоривших его совершить это путешествие, которое, ввиду сложной обстановки во Франции, и без того было для него желанным. Преодолев пролив без морской болезни, он уже 20 апреля 1848 года оказался в Лондоне.
Джейн Стирлинг и леди Эрскин занимают особое место в ряду тех женщин, на долю которых выпала роль защитниц и покровительниц Шопена. Сразу же после разрыва с Жорж Санд Джейн Стирлинг трогательно заботилась о нем и не оставила его даже тогда, когда большинство его друзей покинули Париж, спасаясь от эпидемии холеры летом 1847 года или от революции в феврале 1848 года. В эти периоды Шопен чувствовал себя очень больным и несчастным и тем более ценной была для него такая поддержка. И теперь обе дамы по мере сил стремились сделать его пребывание в Англии максимально приятным. 21 апреля, на следующий день после прибытия в Лондон, он писал Гжимале: «Дамы Эрскин подумали обо всем, даже о шоколаде, но, главное, о квартире, которую я все же собираюсь сменить». Причина, по которой Шопен постоянно менял квартиры, состояла в том, что в Лондоне все было очень дорого. Дамы тут же занялись организацией его выступлений в салонах. Эти выступления приносили Шопену не только гонорары, но и богатых учеников. Джейн Стирлинг заботилась также о том, чтобы в квартире Шопена всегда стоял хороший инструмент — иногда у него стояло сразу три рояля: Плейель, Эрар и Бродвуд. Следует ли удивляться, что вскоре стали поговаривать о том, что Шопен собирается жениться на Джейн Стирлинг. По этому поводу он писал Гжимале: «С таким же успехом меня можно было бы женить на самой смерти… В одиночку еще можно быть нищим, но вдвоем — это уже страшное несчастье. Я не боюсь умереть в больнице для бедных, но не могу оставить в нищете жену. Правда, я сейчас чувствую себя ближе к гробу, чем к брачному ложу. Я капитулировал… я даже забыл, как поют у нас дома». Капитуляция означала, что иссякли его творческие силы, источником которых до сих пор были воспоминания о родной Польше. Дополнительным толчком для этого послужило крушение новой попытки его народа добиться независимости. Вот что писал он Гжимале 13 мая 1848 года: «До меня здесь дошли ужасные известия о событиях в Великом герцогстве Позен (Познань — прим. перев.)… Трагедия за трагедией! Моя душа уже ничего не хочет».
Из письма к Гжимале от 2 июня 1848 года мы узнаем, с какой непосильной нагрузкой для его ослабленного и истощенного болезнью организма было сопряжено исполнение публичных обязанностей, которые он взвалил на себя в Лондоне: «Если бы не кровохаркание, начавшееся у меня несколько дней назад, я бы чувствовал себя моложе, воспоминания о прошлом не угнетали бы меня до такой степени и, возможно, я бы еще мог начать новую жизнь… Обе мои шотландские дамы относятся ко мне весьма дружелюбно. Но они привыкли целый день мотаться по Лондону с визитными карточками и очень хотят, чтобы я нанес визиты всем их приятелям — а ведь я еле живой». В июле он написал еще два письма тому же адресату. Эти письма пронизывает такое же безутешное настроение: «Иногда в течение нескольких часов я чувствую себя лучше, но по утрам мне часто кажется, что вот-вот выкашляю душу из своего тела… Я уже не могу ни злиться, ни радоваться, я полностью исчерпал свои чувства, я только существую и хочу, чтобы этому скоро наступил конец».
В таком состоянии он принял приглашение Джейн Стирлинг поехать в Шотландию, где гостил в различных семьях, а 27 августа 1848 года выступил с концертом в Манчестере. После концерта газета «Манчестер Гардиан» писала: «Ему чуть больше тридцати лет. Он выглядит очень болезненным, походка и весь его вид выдают серьезный упадок физических сил, что порой оставляет даже неприятное впечатление. Однако стоит Шопену сесть за рояль, как слабость мгновенно улетучивается. Пока он играет, он выглядит румяным и сильным». Это описание довольно точно характеризует состояние Шопена в тот месяц, когда он гостил у родственника Джейн Стирлинг лорда Торпхичена в поместье Колдер Хаус под Эдинбургом. Об этом он писал Гжимале 18 августа: «Здешний климат мне не очень подходит. Вчера и сегодня я харкал кровью, но ты знаешь, что для меня это не имеет особого значения». В тот же день он пишет Фонтане: «Я уже не могу вздохнуть, приходит, видно, время подыхать… Ты, наверное, уже совсем облысел и у тебя будет возможность склонить свою лысую башку над моей могилой… Пока я существую и терпеливо жду зимы». В Эдинбурге он охотнее всего проводил время в доме доктора Лышчинского, гомеопата, который очень заботливо к нему относился. В этом доме Шопен был желанным гостем и всегда находил столь необходимый ему покой. Лышчинский приехал в Англию как польский эмигрант, изучал медицину в Эдинбурге, здесь же женился и превратился в настоящего англичанина. Если даже лечение и не принесло положительных результатов, то, по крайней мере, это было единственное место, где Шопен мог по-настоящему отдохнуть во время путешествия по Шотландии. В это время Шопен уже настолько ослабел, что доктору приходилось нести его вверх по лестнице, правда, это не составляло большого труда, поскольку весил пациент едва ли сто фунтов. Шопен дрожал от холода даже перед зажженным камином и мог согреться, только играя на рояле. В Эдинбурге он вновь встретился с семьей Чарторыйских. Княгиня Марцеллина пользовалась полным его доверием, ее общество оказывало благотворное влияние на его душевное состояние и помогало мобилизовать немногие еще оставшиеся силы перед концертными выступлениями. Тем не менее публика и критика отметили тихую и вялую игру Шопена во время концертов в Манчестере, Глазго и Эдинбурге — его выступления уже не вызывали у аудитории прежнего воодушевления. Желая избавить Шопена от унизительного зрелища полупустого зала, Джейй Стирлинг перед концертом в Эдинбурге выкупила непроданные билеты и раздала их друзьям. Постоянные странствия из города в город, из замка в замок — за время путешествия с «шотландками» Шопен сменил более 60 квартир — были для ослабленного болезнью организма почти непосильной нагрузкой. Трудно даже понять, как он, находясь в таком состоянии, все это выдержал, включая встречи, которые невозможно было отменить, выступления на вечерах в шотландских светских салонах и тяжелую дорожную аварию, куда он попал во время одного из многочисленных переездов. Преувеличенная участливость и забота людей тяготили его. Но больше всего его тяготило ощущение собственного бесконечного одиночества. Он не мог свободно вздохнуть, о сочинении музыки не могло быть и речи. Кашель и кровохаркание, с которыми он пытался бороться, глотая лимон и лед, сопровождались постоянно усиливающейся одышкой. 1 октября 1848 года он так описывал свое состояние Гжимале:
«Я чувствую себя все слабее и уже не могу сочинять. Всю первую половину дня, до двух часов, я ни на что не способен. Потом, после того как я оденусь, мне все мешает. Я с трудом дышу до обеда, где должен отсидеть два часа в обществе посторонних людей… Потом мой добрый Дэниэл затаскивает меня по лестнице в спальню, раздевает меня, зажигает свечу — и теперь я могу дышать и видеть сны, пока завтра не начнется все сначала».
В конце октября Шопен возвратился в Лондон, где его сразу свалил «приступ катара». 30 октября 1848 года за день возвращения он писал из Эдинбурга: «На обратном пути из Хэмилтон Пэлес… я простудился и больше пяти дней не выхожу на улицу. Я здесь живу у доктора Лыщинского, который лечит меня гомеопатическими методами. Я не хочу делать больше никаких визитов». О том, как дальше протекал этот катар, мы узнаем из письма Гжимале, написанного 18 ноября: «Я болен и уже 18 дней не выходил из дому, у меня очень сильный катар — с головной болью, одышкой и прочими моими ужасными симптомами. Меня каждый день посещает врач (доктор Мэллан, гомеопат). Он так подлечил меня, что я даже смог сыграть на польском концерте и бале (блестящий был бал!), но, отыграв, сразу поехал домой и не мог заснуть всю ночь. Теперь кроме кашля и одышки у меня еще и сильно болит голова. Большие туманы здесь еще не установились, но несмотря на холод, мне приходится с раннего утра открывать окна, чтобы глотнуть немного воздуха». Доктор Мэллан был знаком с «шотландками» и его женой была племянница леди Гейнсборо. Насколько плохо уже тогда чувствовал себя Шопен, показывают следующие строки из того же письма: «В тот день, когда я получил твое милое письмо, я составил список всего, что насочинял, на тот случай если где-нибудь сдохну».
После возвращения из Шотландии появились новые симптомы, возвещавшие о том, что болезнь вступила в завершающую стадию. Это был прежде всего отек ног, который Шопен считал последствием «невралгии». Незадолго до отъезда в Париж, 22 ноября 1848 года, он писал Соланж Клезинжер: «Завтра я еду в Париж. Я с трудом ползаю и слаб более чем когда-либо раньше. Здешние врачи гонят меня вон. От невралгии я весь отек, не могу ни дышать, ни спать и с 1 ноября не выходил из комнаты». В связи со столь острым ухудшением состояния Шопена перед отъездом во Францию обследовал сэр Джеймс Кларк — лейб-медик королевы Виктории и крупный специалист по туберкулезу легких. Похоже, что до того он обращался к нескольким лондонским врачам. Шопен так сообщает об этом визите доктора Кларка: «Перед тем меня посетил сэр Джеймс Кларк, лейб-медик королевы, и дал мне свое благословение. Я задыхаюсь в этой стране Вальтера Скотта — возможно, здоровье еще вернется ко мне». Последнее предложение говорит о том, что Шопен недооценивал серьезность своего состояния и надеялся на выздоровление, что вообще характерно для чахоточных больных. Он писал Гжимале: «Еще один день здесь, и я, если не задохнусь, то сойду с ума. Мои шотландки действуют мне на нервы… Сегодня я почти весь день провалялся в постели, но послезавтра я наконец уеду из Лондона, этого собачьего города… Прошу тебя, проследи, чтобы простыни и подушки были сухими и я мог согреться, когда приеду… И пошли в пятницу купить букет фиалок, чтобы в салоне приятно пахло». 23 ноября Шопен выехал из Лондона и на следующий день был в Париже. Он был потрясен, узнав, что во время его путешествия в Англию скончался доктор Молен. Именно к этому гомеопату Шопен испытывал наибольшее доверие. Судя по всему, доктор Молен нашел прежде всего правильный психологический подход к своему пациенту. О чем можно сделать вывод из письма Шопена к Соланж Клезинжер от 30 января 1849 года: «В последние дни я был очень болен и не мог Вам писать… У нас погода совсем мартовская, а мне приходится по десять раз на день укладываться в постель. Только Молен владел тайной, которая позволяла ему ставить меня на ноги. Два месяца меня лечили г-н Луи и доктор Рот; теперь этим занимается г-н Симон, очень известный гомеопат. Но они только дают советы, а помочь ничем не могут. В отношении климата, покоя и осторожности у них полное единство. Но покой я в один прекрасный день обрету и без их помощи!… Надеюсь, что после очередных сульфатов, которые меня заставит вдыхать доктор Симон, мое следующее письмо будет более жизнерадостным».
Среди всех перечисленных выше врачей, к которым следует добавить еще некоего доктора Френкеля, наиболее серьезным врачом был несомненно доктор Пьер Шарль Александр Луи, крупный специалист по туберкулезу легких. Когда Шопен рассказал ему, каким образом доктор Молен облегчал его страдания, доктор Луи сказал, что это достигалось не за счет эффективности собственно медицинских мероприятий, а, в основном, потому, что Молен не применял кровопусканий, которые в то время рекомендовала господствующая медицинская школа. Однако когда даже такой авторитет, как доктор Луи, не смог ему помочь, Шопен вновь традиционно обратился к гомеопатам. Но постепенно он начал утрачивать доверие и к представителям этого направления. Вот как описывал Шопен неуверенность доктора Френкеля: «Он снова отменил свой tisane (настой лечебных трав — прим. автора) и назначил другое лекарство, и я снова не хочу его принимать, а когда спрашиваю его о гигиене, он отвечает, что правильный образ жизни для меня не обязателен. Короче говоря, место ему в сумасшедшем доме. Шутки в сторону, возможно, он столь хороший медицинский консультант, как и Корефф, но ему недостает suite (последовательности — прим. автора) мышления Кореффа. Эти строки свидетельствуют о том, что к числу «не менее, чем 50 врачей, пекшихся о слабом здоровье Шопена на протяжении его короткой жизни», принадлежал также серапионов брат и магнетизер Давид Фердинанд Корефф. В рассказе Шопена о лечивших его гомеопатах далее говорится: «Уже неделя, как моего еврея Френкеля здесь нет. Да и зачем — он уже даже перестал бросать бумажки в мочу, а лишь рассказывал мне о том, как спас какого-то англичанина от холеры при помощи лекарства, которое реакционное французское правительство не позволило ему ввезти во Францию». Когда же Френкель окончательно вышел из игры, Шопен объяснил это тем, что тот «наконец смирился с тем, что на свете есть вещи, выходящие за пределы его знаний. Сам по себе я выкарабкаюсь скорее».
Среди гомеопатов, лечивших Шопена, было немало немецких врачей, в частности доктор Груби и уже упоминавшийся выше доктор Рот, которым не раз приходилось выслушивать не всегда приятные шутки своих пациентов. Так, доктор Рот попал на язык самому Генриху Гейне. Однажды Гейне должен был ехать из Лиона в Париж, и один из знакомых Рота, скрипач Эрнст, попросил «лионского насмешника» захватить батон лионской салями в подарок доктору. В дороге Гейне и его попутчики с аппетитом слопали прекрасную колбасу, оставив от нее лишь крохотный прозрачный ломтик, который Гейне торжественно вручил доктору Роту со словами: «Своими исследованиями Вы доказали, что наибольшее действие оказывают миллионные доли.
Прошу Вас принять миллионную долю батона лионской салями, которую меня просил передать Вам господин Эрнст. Если гомеопатия не противоречит истине, то эта доля должна оказать такое же действие, как и целый батон!».
О динамике состояния тяжело больного Шопена в зимние месяцы 1848/1849 года мы узнаем из многочисленных записей в дневнике Эжена Делакруа и из письма певицы Полины Виардо к Жорж Санд, в котором говорится: «Вы спрашиваете меня о самочувствии Шопена: его здоровье медленно ухудшается. Бывают дни, когда ему лучше и он выезжает на прогулку в экипаже, они сменяются днями, когда его мучают удушающие приступы кашля и он харкает кровью. По вечерам он больше не выходит из дому. Тем не менее он еще в состоянии давать пару уроков, а в хорошие дни бывает даже весел. Вот так обстоят дела, хотя я его не видела довольно давно». На дагерротипе того времени мы видим усталое и подавленное выражение лица, глубоко запавшие глаза, бессильные руки и осанку, видим, что из-за потери веса одежда уже не подходит ему по размеру и свисает на нем — все это свидетельствует об ужасном состоянии здоровья Шопена. На этой фотографии бросается в глаза вертикальная складка на лбу, характерная для депрессивных людей.
«Из-за своих страданий Шопен перестал интересоваться чем-либо, не говоря уже о том, что он не в состоянии работать», — записал Делакруа в своем дневнике 29 января 1849 года. Действительно, в последние годы жизни Шопену становилось все труднее сочинять музыку. Он уничтожил все созданное в этот период и в конце признался, что «не может написать ни единой ноты». Уцелели лишь две мазурки: ор. 67 № 2 соль-минор и ор. 68 № 4 фа-минор. Он все больше терял надежду когда-либо выздороветь. В такой период отчаяния он писал: «Моя жизнь уже подходит к концу. Я попал уже к четвертому врачу — они требуют 10 франков за визит, являются иногда по два раза на день, но большого облегчения это не приносит. Я думаю, что весеннее солнце станет моим лучшим доктором». И солнце действительно совершило маленькое чудо. Из своей новой квартиры недалеко от Елисейских полей, откуда открывался прекрасный вид на Париж, он даже смог несколько раз выехать на прогулку в Булонский лес. У него вновь появился оптимизм: «Я чувствую, что окреп, потому что хорошо ем и выбросил к черту лекарства». Особенно благотворное действие оказывали на него посещения друзей: Гжималы, княжеской четы Чарторыйских, семьи Франшом, Гутмана, Плейеля, Делакруа. Случалось, что он, сияя радостью, сообщал им: «Сегодня, слава Богу, меня не лихорадит, что должно разочаровать и раздосадовать всех настоящих врачей!» и строил планы будущих гастрольных турне.
Понятно, что при его теперешнем состоянии нечего было и думать о каких-либо концертных выступлениях или гастролях. К этом у добавилась новая трудность: иссякали запасы денег и впереди замаячила финансовая катастрофа. Джейн Стирлинг, узнав о денежных затруднениях Шопена и справедливо полагая, что гордость не позволит ему принять от нее прямую денежную помощь, дипломатично попыталась передать ему через квартирную хозяйку 25 000 франков. Как и следовало ожидать, к адресату эти деньги по легко понятным причинам не попали. Лишь после вмешательства ясновидца Алексиса удалось обнаружить местонахождение этой весьма значительной суммы и передать ее Шопену. Как и ожидалось, поначалу Шопен отказался ее принять, но позднее все же согласился взять половину, в надежде, что позднее сможет возвратить ее.
Летом 1849 года в Париже разразилась эпидемия холеры. Почти все друзья Шопена спасались в деревне и он остался почти совсем один, лишь в обществе своего слуги. Соланж, с которой он вел оживленную переписку, узнав о его тяжелом состоянии, пригласила его погостить у себя в Гюильри. Шопен не смог воспользоваться этим приглашением, так как был уже физически не в состоянии покинуть Париж. В июне у него вновь началось сильное кровохаркание, о чем он 22 числа сообщал в письме Гжимале: «Сегодня ночью у меня опять дважды было кровотечение. Я ничего не предпринимал против этого, и сегодня оно уже не столь сильно». В это же время у него сильно отекли ноги, но отек держался недолго. Уже 2 июля он написал Гжимале: «С позавчерашнего дня я уже не харкаю кровью, отек ног прошел, но я очень слаб и ленив, не могу ходить, дышу с трудом и — эти лестницы!!». Учитывая неблагоприятную динамику своего состояния, Шопен в конце июня решился, наконец, известить родных в Варшаве о серьезном характере своей болезни — до сих пор в своих письмах он приукрашивал положение. Предчувствуя близкую смерть, он 25 июня 1849 года так писал сестре Людвике (Луизе), буквально умоляя ее приехать в Париж: «Жизнь моя, приезжайте, если можете! Я чувствую себя плохо, и не один врач не сможет мне помочь так, как Вы… если у вас нет денег, то займите. Когда мне станет лучше, я смогу их без большого труда заработать и выслать Вам…. Мои друзья и все, кто доброжелательно относятся ко мне, считают, что приезд Луизы будет для меня лучшим лекарством… Я сам не знаю, почему мне так необходимо увидеть рядом с собой Луизу, можно подумать, что я в положении… А теперь похлопочите о паспорте и о деньгах! Не теряйте времени, но действуйте осторожно!… Я надеюсь, что это письмо придет ко дню ангела матушки и тоже буду как бы присутствовать среди Вас. Я больше не буду об этом думать, потому что меня и так уже прихватывает лихорадка… Ваш верный, но, увы, слабый брат».
Людвика немедленно подала прошение о выдаче паспорта, но дело затянулось и лишь 19 августа она с мужем и дочерью прибыла в Париж. Перед этим у Шопена появился новый тяжелый симптом, предвещающий близкий конец — диарея. Этот понос был не столь массивным, чтобы его можно было отнести на счет холеры, эпидемия которой в то время все еще продолжалась в Париже. Об этом свидетельствует письмо Шопена Гжимале от 10 июля: «У меня понос. Вчера меня посетил Крювейе. Он почти ничего не прописал, лишь велел сидеть спокойно». Жан Крювейе, один из наиболее знаменитых врачей XIX века, прославился прежде всего как специалист по заболеваниям желудочно-кишечного тракта, действительно прописал Шопену покой и безобидную серную микстуру. Он также объяснил больному характер его недуга и наилучшие методы лечения. Сказал ли он, что диарея может быть вызвана тем, что туберкулезный процесс захватил и кишечник, нам неизвестно. Нам лишь точно известно, что доктор Крювейе сказал Шопену, что он болен чахоткой.
Через несколько недель Шопен уже не мог громко и понятно говорить и объяснялся только знаками и жестами. Возможно, что туберкулез захватил гортань, что в те времена нередко случалось при длительном открытом легочном процессе. Не исключено, что потере способности говорить способствовало и обезвоживание организма и высыхание гортани, что также случалось при устойчивой диарее, тем более, если к этому добавилось действие дополнительных факторов, таких, как обильное потоотделение, имевшее место у Шопена в эти безумно жаркие дни. В это время он лежал с высокой температурой в постели, «обливаясь потом под тяжелым пологом».
Прибыв в Париж, Людвика быстро поняла безнадежность положения брата и предприняла последнюю отчаянную попытку его спасти. Она созвала на консилиум трех виднейших французских врачей того времени: Жана Крювейе, Пьера Луи и Жан-Гастона Бляша, специалиста по детским болезням. Именно на него Шопен возлагал наибольшие надежды: «Скорее всего, именно он те поможет, ведь во мне есть что-то от ребенка». Результаты этого консилиума известны из письма Франшому от 17 сентября 1849 года, которое было, по-видимому, последним письмом Шопена: «Что до меня, то я чувствую себя скорее хуже, чем лучше. Г-да Крювейе, Луи и Бляш провели консилиум и решили, что путешествовать мне нельзя и следует переехать в квартиру с окнами на юг и оставаться в Париже… Я люблю тебя, и пока это все, что я могу тебе сказать, ибо близок к обмороку от усталости и слабости». Врачи пришли к выводу, что состояние больного безнадежно.
В конце сентября состоялся переезд в «более дорогую, но зато соответствующую всем условиям» квартиру, где отныне за ним заботливо и неустанно ухаживала сестра Людвика. Ей помогали в этом княгиня Марцеллина Чарторыйская и Адольф Гутман. Очень многие из круга его знакомых проявляли сердечное участие и дружески предлагали свои услуги. Болезнь прогрессировала и в первые дни октября он уже не мог сидеть в постели без подушек или посторонней помощи. Он был так слаб, что не мог писать письма знакомым и друзьям, голос его все больше превращался в беззвучный шепот.
Существует несколько идеализированных и во многом противоречивых версий происходившего в последние часы жизни Шопена. Эти версии основаны почти исключительно на более или менее сомнительных высказываниях современников. Причина этих противоречий состоит, по всей видимости, в том, что в последние часы доступ в его комнату был открыт для огромного числа людей, что дало очень многим из них повод рассказывать о том, как близки они были к маэстро при жизни и сколь жаждал он их присутствия в свои последние мгновения. Были среди них и такие, кто в этих сообщениях стремился выпятить собственные заслуги перед покойным, будь то заслуги дружеского или духовного свойства. Итак, смерть Шопена превратилась в событие общественной жизни, которое нашло наибольший отклик в дамских сердцах, что можно заключить из письма Полины Виардо к Жорж Санд: «Все гранд-дамы Парижа сочли своим долгом упасть в обморок в его комнате, множество художников лихорадочно делало эскизы, а дагерротипист пытался переставить его кровать к окну для того, чтобы солнце осветило умирающего».
По этой причине сегодня не представляется возможным реконструировать последние дни и часы жизни Шопена достоверно и во всех подробностях. Наверняка известно лишь то, что 17 октября 1849 года в третьем часу утра перестало биться сердце великого сына Польши. Его ученик Гавар, автор также противоречивого в нескольких пунктах, но все же, пожалуй, наиболее близкого к истине отчета об этом событии, писал: «Весь вечер 16 октября прошел в молитвах, Шопен хранил молчание. Лишь по содроганиям его груди можно было понять, что он еще жив. В этот долгий вечер его посетили два врача. Один из них, доктор Крювейе, поднес свечу к лицу Шопена, которое почернело от последнего приступа удушья, и сказал нам, что чувства уже оставили больного; когда он спросил Шопена, страдает ли он, мы услышали совершенно отчетливый ответ: «Уже нет». Это были его последние слова. Он умер без мучений между тремя и четырьмя часами утра в окружении верных друзей, графинь и княгинь».
Куда менее правдоподобно письменное сообщение священника Александра Еловицкого жене своего знакомого, богатого помещика, опубликованное в «Иллюстрирте Цайтшрифт» в 1897 году. Автор этого сообщения стремился в первую очередь подчеркнуть собственные заслуги. Состояли эти заслуги в том, что он смог уговорить Шопена, который вначале отказывался от исповеди и причастия, все-таки принять причастие на смертном одре. Цветистые подробности и чудесные истории, которыми нашпиговано это сообщение, призваны были доказать потомкам, что Шопен окончил дни свои в лоне католической церкви, преисполненный счастья и благодарности, и что его единение со Всевышним не оставляло желать большего.
Еще более странное впечатление оставляет описание последних минут жизни Шопена, сделанное его учеником и другом Гутманом в письме одной маннгеймской певице: «В последнее, торжественное мгновение, когда его душа уже была обращена к лику Всевышнего и у него не было больше сил открыть глаза, он спросил: ‘Кто поднимет мне руку? Узнав мой голос, он попытался поднять мою руку к губам, мы обнялись, он попрощался со мной, поцеловав меня в обе щеки, со словами: Cher ami!!! Его голова опустилась и душа отлетела». Версия священника Еловицкого совершенно неправдоподобна, если исходить из замечания Полины Виардо, сделанного вскоре после смерти Шопена, согласно которому, «когда бедный мальчик умирал, его мучили священники, на протяжении шести часов, до последнего вздоха заставлявшие его целовать святые мощи». Версия же Гутмана выглядит совершенно странно. Из письма племянницы Шопена Людвики Цехомской от 7 августа 1882 года следует, что Шопен не мог умереть в объятиях Гутмана уже хотя бы потому, что того в эти дни вообще не было в Париже. Версия Еловицкого также разоблачается в этом письме как фальшивка, по меньшей мере в той части, которая относится к последним словам Шопена. Согласно Еловицкому, эти слова звучали так: «Я счастлив! Я чувствую, что смерть близка. Молитесь за меня. Мы встретимся на небесах». На самом же деле в последние мгновения Шопен обратился к матери со словами: «Мама, моя бедная мама!». Этими словами племянница Людвика подтвердила рассказ леди Эрскин из ее письма к сестре Шопена: «Я уверена, что разрывающий сердце возглас «Мама, моя бедная мама!», услышанный мною в ту последнюю ночь, навеки останется в моих воспоминаниях». И, наконец, это письмо опровергло некоторые данные относительно графини Дельфины Потоцкой, принадлежавшей к кругу тех светских дам, чьей милости добивался Шопен при жизни и кому он посвящал свои сочинения. Незадолго до смерти Шопена она примчалась к нему из Ниццы, и известно, что весьма музыкальная и обладавшая чудесным голосом Дельфина пела умирающему его любимые мелодии. Конечно, это происходило не в его смертный час, как полагают многие, а за несколько дней до его смерти, о чем сообщает Людвика Цехомская в упомянутом выше письме. Из-за значительного разнобоя в рассказах свидетелей мы уже не узнаем, какие именно песни она пела, но то, что Дельфина пела у постели умирающего Шопена, не подлежит сомнению, ибо эта сцена увековечена на картине французского художника Барриа.
Современные исследования поставили по сомнение еще одну деталь, связанную с опубликованной в 1904 году запиской Шопена, согласно которой, он, опасаясь быть похороненным заживо, якобы, умолял вскрыть его тело. На самом деле, на этом листке написаны слова: «Так как этот кашель убьет меня, заклинаю вас, вскройте мое тело, чтобы меня не похоронили заживо». Автором этой записки вполне мог быть и отец Шопена, который также умер от туберкулеза легких. Он публично высказывал такого рода опасения и желание, чтобы его тело после смерти подвергли вскрытию, что по меньшей мере ставит под сомнение подлинность этой записки. После того, как Клезинжер снял посмертную маску, а Э. Барриа, А. Грефле и Т. Квятковский запечатлели в своих рисунках Шопена на смертном ложе, Крювейе произвел вскрытие. К сожалению, очень подробный протокол вскрытия погиб при пожаре полицейского архива, копия изготовлена не была, и поэтому мы можем опираться лишь на устное сообщение, сделанное доктором Крювейе в беседе с Джейн Стирлинг. Согласно этому сообщению, вскрытие не дало оснований для каких-либо дополнительных выводов «относительно принципа его смерти», но совершенно неожиданно оказалось, что болезнь в значительно большей степени поразила сердце, чем легкие. Однако это сообщение звучит не слишком правдоподобно, ибо вполне можно предположить, что Джейн Стирлинг не хотела волновать свою семью, на протяжении нескольких месяцев находившуюся в контакте с Шопеном, реалистичным описанием туберкулезных изменений в его легких. Покойный выразил пожелание, чтобы его сердце было погребено в Варшаве. Во время вскрытия сердце Шопена было извлечено из его тела, после чего сестра Шопена доставила его в Варшаву, где оно с тех пор хранится в церкви Св. Креста. Тело Шопена было забальзамировано и доставлено в склеп парижской церкви Св. Магдалины. Лишь 13 дней спустя, 30 октября 1849 года, Шопен был похоронен на кладбище Пер-Лашез. Эта задержка была вызвана желанием Шопена, согласно которому похоронный ритуал должен был открываться Реквиемом Моцарта. Исполнение этого произведения обязательно предусматривает участие солисток, однако в то время лицам женского пола не было разрешено даже входить в церковь Св. Магдалины и для этого потребовалось специальное разрешение, что потребовало времени.
В похоронной процессии приняло участие множество парижан. Во главе шли князь Чарторыйский и Джакомо Мейербер. Рядом с могилами Беллини, Керубини и других выдающихся музыкантов гроб с телом Шопена опустили в землю той страны, которую он так любил и которая стала его второй родиной. Комитет по сооружению памятника Шопену под председательством его друга Эжена Делакруа на другой день после похорон постановил: скульптору Клезинжеру создать достойный мраморный монумент композитора. Этот памятник был торжественно открыт 17 октября 1850 года в первую годовщину смерти Шопена.
Окончательный диагноз
Первое, что бросается в глаза при изучении биографии Шопена с медицинской точки зрения — то, что он происходил из казалось бы совершенно здоровой семьи. Если учесть, что в 1800 году среднестатистическое ожидание продолжительности жизни составляло примерно 40 лет, то можно считать, что его родители достигли весьма почтенного возраста (отец умер в 73 года, а мать — в 80 лет). Судя по письмам, мать Шопена всю свою долгую жизнь оставалась практически здоровой, если не считать «ревматических симптомов» и ухудшения зрения в пожилом возрасте. Отец же, напротив, в последние годы жизни жаловался на сердце, а также сильно кашлял, и умер, скорее всего, от туберкулеза легких. Сестры Шопена, Людвика и Изабелла, достигли 70-летнего возраста, и в их биографиях отсутствуют какие-либо особенности медицинского характера. Поэтому представляется непонятным, почему Дж. Виллмс и Ф. Блюме связывают заболевание Шопена с генетической отягощенностью.
Различные исследователи по-разному оценивают значение заболеваний, перенесенных Шопеном в юности. Тем не менее детальное изучение его биографического анамнеза позволяет с достаточно большой вероятностью интерпретировать эти заболевания как начальную стадию туберкулеза легких, ибо нам известно, что в XIX столетии более 90 процентов молодых людей еще до достижения 18 лет переносили туберкулезную инфекцию. Врачи того времени интерпретировали симптомы этой инфекции как проявления неспецифических воспалений глотки и верхних дыхательных путей. И Шопен в юности многократно перенес бронхиальный катар, в связи с чем ему уже в возрасте 14 лет было предписано регулярно есть овсяную кашу, пить желудевый отвар, часто и помногу бывать на свежем воздухе и много спать. Нам неизвестно, подозревали ли семейные врачи Шопенов Ремер и Мальч наличие у Фредерика туберкулезной инфекции в детском и юношеском возрасте.
Велика вероятность того, что они впервые всерьез рассматривали такую возможность во время первой серьезной болезни Шопена. В это время у него на фоне «катарального поражения», по причине которого он должен был длительное время оставаться в постели, развился «отек шейных лимфатических узлов», для лечения которого врачи применили пиявки. Скорее всего, это не было побочным явлением, сопутствующим безобидному ларингиту. Такой вывод следует, во-первых, из примененной врачами терапии, и, во-вторых, из того обстоятельства, что даже летом этого года он чувствовал себя больным и слабым и врачи рекомендовали ему избегать физических нагрузок. Таким образом, напрашивается вывод, что причиной отека лимфатических желез в области шеи могла быть туберкулезная инфекция, и семейные врачи также не исключали эту возможность. В пользу этого предположения говорит также то, что Шопен и его сестра Эмили, к тому времени уже явно больная туберкулезом, были направлены на лечение на курорт Бад-Райнерц. Лечение в курортном заведении доктора Маголлы заключалось, наряду с прочим, в питье молочной сыворотки, что в те времена считалось весьма полезным для больных туберкулезом. Если предположить, что у Шопена имело место туберкулезное поражение лимфатических узлов, то такой инфекции должно было предшествовать первичное поражение легких, которое могло произойти на много месяцев или даже лет раньше. Обычно развитию туберкулезного процесса предшествует проникновение туберкулезных бактерий в легкие путем так называемой капельной инфекции через вдыхание, кашель или через контакт с мокротой больного, у которого имеет место открытый туберкулезный процесс в легких. После этого в легком возникает ограниченный очаг воспаления, так называемый первичный комплекс. При нормальном иммунитете организма этот процесс затухает через несколько недель, и пациент может его даже не заметить по причине незначительности симптомов. При таком исходе, как правило, не остается даже заметного рубца. Однако если иммунитет понижен или происходит реинфицирование, то инфекция распространяется по лимфатическим или кровеносным сосудам, в результате чего возникают множественные туберкулезные очаги. Одной из возможностей подобного распространения является туберкулез шейных лимфатических узлов, который в наше время встречается редко и подробно описан только в старых учебниках. При таком развитии болезни первичный очаг в легких может в основном зарубцеваться, в то время как поражение лимфатических желез продолжает прогрессировать и может захватить целые группы таких желез, превращая их в крупнобугристые образования. Если этот процесс не ограничивается лимфатическими железами, расположенными вдоль больших бронхов и гортани, а захватывает также шейные и подчелюстные лимфатические железы, то в наиболее тяжелых случаях это может даже изуродовать внешность больного. В результате такого уродства шея больного становится похожа на голову свиньи, и возникло даже специальное название этого заболевания: скрофулез (scrofa по-латыни «свинья»). В большинстве подобных случаев образуются фистулы или происходит медленное заживление шрамов, но при достаточном иммунитете иногда имела место необычайно быстрая ремиссия отека желез, особенно если этот отек не зашел слишком далеко. Это значит, что у Шопена могла быть, таким образом, лишь относительно легкая форма туберкулеза шейных лимфатических желез.
По-видимому, именно в этом состоит причина того, что после возвращения из Бад-Райнерца осенью 1826 года Фредерик относительно быстро поправился, в то время как состояние его младшей сестры Эмили быстро и резко ухудшалось. Кашель становился все более мучительным, кровохаркание более интенсивным, и всего за несколько месяцев она полностью обессилела, что в сочетании с полным отсутствием аппетита привело к крайнему истощению. Совокупность этих симптомов не оставляет никаких сомнений в том, что Эмили угасла вследствие скоротечной легочной чахотки. Под этим термином в то время понимали прогрессирующее туберкулезное поражение легких, при котором пораженная легочная ткань разрушается и ее омертвелые частицы выбрасываются с кашлем по бронхиальным путям. При этом в легких появляются пустоты большего или меньшего размера, так называемые каверны, куда происходит кровотечение из также разрушаемых кровеносных сосудов. Следствием этого процесса является выхаркивание больших количеств крови, называемое также «кровотечением». Быстрая смерть Эмили, последовавшая уже в апреле 1827 года, позволяет предположить, что у нее имело место распространение туберкулеза по кровеносным сосудам (по типу так называемого «милиарного высева»), которое могло захватить легкие целиком и привести к поражению других органов, прежде всего мозговых оболочек. Вне всякого сомнения, смерть его сестры ускорили врачебные мероприятия в форме обильных кровопусканий, банок и пиявок. С этих дней, когда Шопену довелось быть свидетелем применения варварских на вид, к тому же совершенно бесполезных методов лечения, у него развилось чувство глубокой антипатии к подобным процедурам тогдашней официальной медицины, в связи с чем он позднее всегда предпочитал обращаться к врачам гомеопатического направления.
Сейчас не представляется возможным точно установить источник реинфицирования Шопена туберкулезом ввиду массовости распространения этого заболевания в то время. Однако в семье жила сестра Эмили, больная открытой формой туберкулеза, в связи с чем представляется вероятным, что он заразится от нее в 1826 году. Возможно также, что источником заражения послужил капельмейстер Вюрфель, с которым он многократно встречался во время второй поездки в Вену в 1830–1831 годах: в это в время у Вюрфеля открытая форма туберкулеза зашла уже довольно далеко. И, наконец, в парижской квартире Шопена длительное время проживал его друг Матушинский, который в 1842 году умер от туберкулеза легких. Едва ли имеет смысл далее заниматься поиском конкретной причины заражения, поскольку имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют лишь строить предположения на этот счет.
Не подлежит сомнению тот факт, что вследствие достаточного иммунитета у Шопена, в отличие от его младшей сестры, болезнь приняла хроническую форму и на протяжении ряда лет протекала в малозаметной для самого пациента форме. Согласно всем без исключения источникам, в первые парижские годы Шопен выглядел здоровым и крепким и даже прибавил в весе. Однако содержащееся в большинстве патографий утверждение о том, что в период 1832–1837 годов Шопен вообще ничем не болел, не соответствует действительности. Более тщательное изучение источников позволяет установить, что практически каждую зиму он страдал от простудных заболеваний, в 1833 году с целью оздоровления провел лето в деревне, в 1835 году лечился на курорте Энгиен-ле-Бен, куда обычно направляли лиц, больных туберкулезом.
Первое прямое указание на заболевание туберкулезной природы относится к зиме 1835/1836 года, когда Шопен в результате длительного «гриппа», протекавшего при высокой температуре и осложненного бронхитом, должен был длительное время пролежать в постели. В этот раз у него впервые появилось кровохаркание, он чрезвычайно исхудал и общее состояние настолько ухудшилось, что даже распространились слухи о его смерти, которые достигли Варшавы. Зимой 1836/1837 года Шопен вновь слег от гриппа е высокой температурой, мучительным кашлем и кровохарканием, который он пытался облегчить, глотая кусочки льда. После этого обострения он оправлялся уже значительно медленнее. Мендельсон-Бартольди, встречавший Шопена в Лондоне, в августе 1838 года писал, что тот выглядел «несчастным и больным». Таким образом, можно с достаточными основаниями утверждать, что в 1836 году хронический туберкулез легких зашел у Шопена настолько далеко, что специфические симптомы этого заболевания проявились в явном виде. Неоднократно наблюдавшееся в этот период кровохаркание говорит о том, что в легких Шопена уже началось образование каверн. Стоит однако обратить внимание на то, насколько хорошо ему удается в это время восстанавливаться после подобных обострений заболевания, хотя от кашля ему не удастся освободиться уже до конца жизни.
Предпринимались неоднократные попытки выяснить, что послужило причиной обострения туберкулезного процесса у Шопена в 1836 году. Вне зависимости от природы собственно пускового механизма — то есть повторного заражения или реактивации старого туберкулезного очага (у взрослого человека второй путь наиболее вероятен) — следует в первую очередь остановиться на тех факторах, которые способствовали снижению сопротивляемости организма и повышению вирулентности туберкулезных бактерий, на протяжении многих лет таившихся в старом очаге. Если не принимать во внимание непосредственные контакты Шопена с больными, то в гигиенических условиях его личной и профессиональной жизни в первые парижские годы нельзя усмотреть ничего такого, что могло бы способствовать внезапной повторной вспышке заболевания. Попытки отнести причины такой вспышки на какие-то особенности личности Шопена также представляются более, чем сомнительными. Да, по свидетельствам современников молодой Шопен был бледен, хрупок и чрезвычайно худощав, что соответствует описанию в паспорте, выданном ему перед поездкой в Англию в 1837 году: «Рост 1,70 м, вес 97 фунтов». Повышенное утомление и недостаточное питание, конечно же, ослабляют конституцию и способствуют реактивации туберкулезного очага, но попытки усмотреть причину такой реактивации в какой-то особой болезненной предрасположенности личности Шопена до сих пор не имели успеха. Каренберг пытается искать причину обострения заболевания Шопена в потрясении, вызванном крушением его любви к Марии Водзинской, которое привело к снижению иммунитета его организма. На это можно возразить, что обострение латентно протекавшего туберкулеза произошло у Шопена еще зимой 1836/1837 года, то есть за год до разрыва этой связи, в связи с чем психосоматическая гипотеза Каренберга не представляется состоятельной.
Все же можно почти с полной достоверностью утверждать, что первичное инфицирование Шопена туберкулезом произошло в ранней юности, а в 1826 году имело место обострение, причиной которого могли быть либо повторное инфицирование со стороны смертельно больной сестры, либо реактивация старого первичного очага. Это обострение клинически проявилось в туберкулезном отеке шейных лимфатических желез. Зимой 1835/1836 года произошло еще одно обострение туберкулеза, но на этот раз оно уже сопровождалось образованием каверн.
Эта реактивация старого туберкулезного очага сопровождалась обострениями в зимние месяцы 1835/1836, 1836/1837 годов, а зимой 1838/1839 года на острове Мальорка очередное обострение протекало столь тяжело, что едва не загнало Шопена в могилу. Пусковым механизмом данного обострения послужили тяготы этого путешествия, начавшийся сезон дождей и вызванная им простуда, сопровождавшаяся высокой температурой и воспалительными явлениями в бронхах. Уже в Пальме состояние Шопена, который страдал от лихорадки и непрерывного мучительного кашля, вызывало тревогу, но после переезда в монастырь Вальдемоса оно еще больше ухудшилось. Высокая температура, кашель и потеря крови при кровохаркании ослабили его настолько, что он уже был не в состоянии покидать свою келью. Угрожающее состояние вынудило его и Жорж Санд при первой же возможности отправиться в обратный путь, во время которого в феврале 1839 года у него произошло массивное кровотечение из легочной каверны — Шопен, по его собственным словам, «выхаркал полный умывальник крови».
Когда Шопен наконец добрался до Франции, казалось, что он уже отмечен печатью смерти, однако благодаря усилиям главного хирурга тяжелый кризис был неожиданно быстро преодолен. Примечательно, сколь разнятся между собой различные медицинские интерпретации кризиса, произошедшего у Шопена на Мальорке. Некоторые авторы полагают, что заболевание Шопена вообще впервые явно дало о себе знать лишь во время его пребывания на острове. Такого мнения придерживаются французский врач и исследователь жизни Шопена Э. Ганш и, прежде всего, его австралийский коллега К. Барри, который утверждает: «Примечательно, что до бронхита или воспаления легких, перенесенного Шопеном в Пальме, ни один из обследовавших его врачей, не находил у него даже следов туберкулеза. Вплоть до пребывания Шопена в Пальме мы не располагаем никакими доказательствами наличия у него туберкулеза». Подобные утверждения полностью игнорируют историко-медицинский аспект данной проблемы, поскольку врачи того времени располагали лишь весьма несовершенными методами прослушивания и выстукивания грудной клетки, которые не позволяли им правильно диагностировать органические изменения в легких. Поэтому дальнейшее обсуждение такого рода утверждений представляется нам бессмысленным.
В последующие годы уже заметно развившийся хронический туберкулез легких у Шопена вел себя относительно спокойно, если не считать повторяющихся приступов лихорадки и непрерывного кашля. В этом многолетнем затишье основная заслуга, без сомнения, принадлежит Жорж Санд, которая наряду с самоотверженной заботой предоставила ему возможность проводить летние месяцы в тиши и покое своего поместья в Ноане. Однако после кризиса на Мальорке состояние здоровья Шопена уже не восстановилось до уровня, на котором оно было в первые парижские годы. Он стал хроническим больным, нуждавшимся в постоянном лечении и распорядок его дня отныне определялся течением медленно прогрессирующего туберкулеза. Его день, как правило, начинался многочасовым приступом мучительного кашля, при котором он выплевывал значительные количества слизи и гнойного секрета. Время от времени при кашле выходила кровь. Все же нельзя говорить, что в этот период Шопен был постоянно тяжело болен. Длительные периоды ремиссии перемежались фазами обострения, которые, прежде всего в зимние месяцы, сопровождались тяжелой симптоматикой. При этом не следует упускать из виду хроническое развитие заболевания, при котором в процессе расплавления тканей в легких возникали новые каверны, из которых по бронхиальным путям инфекция скачкообразно распространялась в другие области легких.
Такие скачки проявлялись в форме «гриппа», а образование каверн сопровождалось кровохарканием. На фоне этих явлений возник также процесс уменьшения объема легких, который впервые явно проявился в 1847 году.
Некоторые биографы обвиняют врачей, лечивших Шопена, в профессиональной некомпетентности, что, как справедливо замечает Франкен, не только несправедливо, но также свидетельствует об элементарной неосведомленности авторов биографий в истории медицины. Во времена Шопена не существовало эффективных методов лечения туберкулеза. Медики не знали причин возникновения этого заболевания и лечение ограничивалось так называемыми очистительными мероприятиями, призванными освободить организм больного от вредных веществ и соков. К числу таких мероприятий принадлежало назначение потогонных, рвотных и слабительных средств, а также кровопускания и применение пиявок. Мероприятия последнего типа особенно активно пропагандировались и применялись во Франции доктором Бруссе и его экстремистскими последователями. Это направление получило название «бруссеизма». Для подавления кашля применялись опиаты и другие алкалоиды, а также рекомендовалось питье минеральных вод, содержащих щелочи, сульфаты и соединения сурьмы. Существенное место в терапии туберкулеза занимали диетические рекомендации, связанные с молочным питанием, преимущественно с употреблением сыворотки и ослиного молока. И, наконец, значительное место принадлежало климатологическим и бальнеологическим курортам. При таких исходных условиях огромная заслуга врачей, лечивших Шопена, а среди них было немало светил медицины того времени, состояла уже в том, что они уберегли его от столь обычных в то время кровопусканий и пиявок, которые не только не приносили пользы, но чаще всего наносили вред состоянию пациента. Этим они, несомненно, продлили ему жизнь. Кроме того, со времени смерти сестры Эмили Шопен испытывал глубокую антипатию к любого рода кровопусканиям, что не могло не сказаться на методах, применявшихся лечившими его врачами, и выразилось также в его пристрастии к гомеопатии. В то время во Франции именно гомеопаты решительно выступили против школы Бруссе, и примечательно, что даже такой авторитет, как Крювейе, признал, что этим они спасли множество людей от преждевременной смерти. Шопен выражал свою благодарность гомеопату Молену за то, что тот не пичкал его лекарствами и больше полагался на мудрость природы.
В 1847 году произошло новое обострение туберкулеза. Мы не будем задаваться вопросом, в какой степени решающему ухудшению состояния Шопена способствовали психические нагрузки, сопутствовавшие его окончательному разрыву с Жорж Санд, который произошел в это время. С клинической точки зрения наиболее важным обстоятельством в этот период явилось то, что на фоне тех симптомов, которые наблюдались у него уже давно, все в большей степени стала проявляться одышка. Причиной этого явления явилось сокращение площади дыхательной поверхности легких за счет уничтожения функциональной легочной ткани в результате прогрессирующего каверноматозного процесса. В последней стадии болезни одышка существенно усилилась за счет разрастания соединительной ткани и образования рубцов в легких, которые накапливались за многие годы туберкулезного процесса. В результате возникла перегрузка правого желудочка сердца, отвечающего за кровоснабжение легких.
Неудивительно, что во время второго путешествия в Англию летом 1848 года непосильные физические нагрузки настолько усугубили дыхательную недостаточность, что Шопен теперь уже не мог подняться по лестнице даже с помощью слуги, его приходилось носить. Это сопровождалось также ухудшением деятельности сердца, и прежде всего правого желудочка. После возвращения из Шотландии у Шопена впервые наступил отек ног, который типичен при недостаточности деятельности правого желудочка сердца. В эту картину полностью вписывается «водянка живота», то есть накопление жидкости в брюшной полости, которая якобы наблюдалась в последний год его болезни. Наконец, требует объяснения устойчивая головная боль, от которой Шопен страдал в заключительный период болезни. Причина этой боли заключается, по-видимо-му, в прогрессирующем нарушении газового обмена в легких. Известно, что при снижении давления кислорода в артериальной крови в ней повышается содержание двуокиси углерода, что часто вызывает головную боль. У Шопена нехватка кислорода объяснялась не только так называемой «респираторной недостаточностью», то есть недостаточной эффективностью дыхательной функции, но также и сильно выраженной анемией, порожденной многократными «кровотечениями» и частым кровохарканием.
Устойчивая диарея, наступившая за три месяца до смерти, была вызвана, скорее всего, туберкулезным поражением кишечника. В XIX столетии, когда не существовало еще методов медикаментозного лечения туберкулеза, подобное туберкулезное поражение кишечника встречалось довольно часто, в то время как современным врачам оно уже практически незнакомо. В учебнике по болезням кишечника, изданном в конце XIX века, мы можем прочитать следующее: «Туберкулез желудка встречается чрезвычайно редко, но туберкулез кишечника представляет собой обычное явление и принадлежит к наиболее часто встречающимся инфекционным поражениям кишечника. Это объясняется широким распространением туберкулеза легких, при котором туберкулез кишечника является частым осложнением… В подавляющем большинстве случаев причиной возникновения туберкулезных язв кишечника является проглатывание выходящей из дыхательных путей слизи, содержащей туберкулезные бациллы… Если у больного туберкулезом наблюдаются признаки кишечного заболевания, то следует с наибольшей вероятностью предполагать, что имеет место патологический процесс того же типа, что и в легких… В некоторых случаях стул остается вполне нормальным, но часто возникает неукротимая диарея… Дефекация происходит преимущественно в ночное время, в большинстве случаев безболезненно или с незначительными тянущими ощущениями, стул однородно жидкий, количество дефекаций не превышает шести в сутки… И, наконец, существует категория тяжелобольных, страдающих обильной неукротимой диареей». Таким образом, мы имеем все основания полагать, что у Шопена диарея являлась симптомом туберкулеза кишечника, осложнившего заболевание легких.
Еще через несколько недель у него возникли затруднения речи, что свидетельствует о туберкулезном поражении гортани. Шопен уже давно страдал от хронической хрипоты, но теперь голос отказал ему настолько, что он мог изъясняться лишь шепотом или даже знаками. Для объяснения этой хрипоты выдвигались различные гипотезы, в том числе и весьма причудливые. Так, например, Лонг усматривал ее причину в непрерывном кашле и выделении больших количеств слизи, а Менесес Ойос вообще ставит под вопрос наличие туберкулеза, утверждая, что Шопен страдал митральным стенозом (сужением двустворчатого клапана левого желудочка сердца), в результате которого возникло давление расширившегося левого предсердия на гортанный возвратный нерв, ответственный за деятельность голосовых связок, и это якобы привело к необратимой хрипоте. Здесь, так же, как и при интерпретации диареи, не учитываются историко-медицинские аспекты туберкулеза XIX века, когда ввиду отсутствия возможностей эффективного лечения болезнь принимала течение, почти забытое в наше время. Вновь обратимся к медицинскому учебнику XIX века: «Хронический туберкулез гортани встречается значительно реже, чем легочная чахотка. В то время как последняя чаще всего имеет первичную природу, хронический туберкулез гортани почти всегда является вторичным заболеванием и в большинстве случаев представляет собой последствие легочной чахотки. Инфекция гортани возникает, как правило, за счет того, что частицы мокроты, содержащей туберкулезные бациллы, задерживаются на слизистой оболочке гортани… Чаще всего это приводит к нарушениям звукообразования, которые могут принимать формы от глухоты и хрипоты голоса до полной его потери. При разговоре больные не только утомляются, но и во многих случаях испытывают боль в гортани… Больные круглые сутки ощущают очень сильные позывы к кашлю… Случаи излечения от туберкулеза гортани чрезвычайно редки, так что прогноз в большинстве случаев неблагоприятен». Приведенное выше подробное описание позволяет сделать вывод о том, что туберкулез гортани существовал у Шопена уже довольно давно, но в последний период болезни произошло образование туберкулезных язв и радикальное ухудшение. Таким образом, нет оснований сомневаться в том, что туберкулез гортани явился у Шопена осложнением легочной чахотки.
Итак, окончательный диагноз звучит следующим образом: хронический туберкулез легких с кавернозными изменениями и сморщиванием соединительной ткани легких, хронический туберкулез гортани, туберкулез тонкого кишечника в терминальной стадии, перегрузка правого желудочка сердца с признаками недостаточности сердечной мышцы, анемия на почве обильного хронического кровотечения.
Совершенно новая версия болезни Шопена и ее смертельного исхода была выдвинута О’Ши, но версия эта не выдерживает критики ни в одном из пунктов. О’Ши выдвинул гипотезу, согласно которой Шопен страдал так называемым муковисцидозом — врожденным нарушением обмена веществ, при котором слизистые железы поджелудочной железы и дыхательных путей вырабатывают чрезвычайно вязкий секрет, в результате чего образуется его застой с последующим воспалением и прорастанием поджелудочной железы и легких соединительной тканью. Застой в каналах желез и в ответвлениях бронхов влечет за собой также кистозное разрастание этих органов, в связи с чем принято говорить о кистозном фиброзе. Прежде всего следует указать на то, что в семейном анамнезе Шопенов отсутствуют какие-либо указания на наличие этого наследственного заболевания, и в его жизни также не было случаев расстройства функции поджелудочной железы, влекущего за собой тяжелейшие нарушения пищеварения, которое обязательно возникает при этом заболевании. Однако данная гипотеза неправдоподобна и еще по одной причине. До наступления эры антибиотиков полностью сформировавшийся синдром муковисцидоза в большинстве случаев приводил к смерти еще в раннем детстве, и даже в 1950 году четверо из пяти заболевших умирали в детстве. Лишь в слабо выраженных случаях у больных был шанс достичь взрослого возраста. Невозможно представить себе, чтобы на фоне длящихся годами лихорадочных состояний и легочных кровотечений муковис-цидоз мог протекать в столь слабо выраженной форме.
Вторым аспектом, до сих пор мало учитывавшимся в патографиях Шопена, являются различные психические ситуационные кризисы в его жизни, которые в какой-то части оказали заметное влияние на его развитие как художника. Впервые на эту связь указал Аксель Ка-ренберг. В основном здесь имеются в виду депрессивные состояния, проявившиеся в различных формах и требующие различной каузальной интерпретации.
Впервые с подобной депрессивной фазой в жизни Шопена мы встречаемся во время его второго пребывания в Вене в 1830–1831 годах и в штутгартский период осенью 1831 года. Кровавое подавление борьбы польского народа за свободу вызвало у Шопена душевное потрясение, к которому добавились угрызения совести за то, что он не вернулся немедленно в Варшаву и не встал под знамена своих соотечественников, как это сделал Титус. Этот кризис самооценки усугубился тем, что он не добился видимых успехов как музыкант, а также разлукой с семьей, друзьями, родиной и предстоящим одиночеством на чужбине. Благодаря дневнику Шопена, заметкам в нотной тетради и различным письмам, в которых он говорил о «невыносимой меланхолии», делающей его «холодным и сухим как камень», мы располагаем почти полной информацией об этом душевном кризисе Шопена. И действительно, его психическое состояние ухудшилось настолько, что у него появились признаки усталости от жизни и истинные суицидальные мысли и ассоциации. Важнейшим документом этого времени является так называемый «Штутгартский дневник», по которому мы можем судить о важнейших симптомах его психического расстройства: упреках совести, чувстве фрустрации, безнадежном отчаянии, усталости от жизни с суицидальными идеями и фантазиями о смерти, бессоннице, безразличии и безынициативности, потере интереса вплоть до притупления восприятия других людей, чувстве безутешности. С другой стороны, ему доставляли мучения внутреннее беспокойство и состояние крайней напряженности, которые он мог излить только в музыке.
Некоторые специалисты пытались объяснить эти состояния присутствием в личности Шопена циклотимоидной или шизоидной составляющей. Если не считать того, что Шопен с детства отличался повышенной чувствительностью, то в его жизни мы не обнаружим никаких признаков, которые позволили бы причислить его к категории депрессивных личностей, и, следовательно, данный тезис должен быть отвергнут. То же самое относится и к попыткам психоаналитического объяснения упомянутых выше душевных состояний Шопена тем, что они явились явным проявлением невроза, ранее существовавшего у него в латентной форме и обострившегося под влиянием событий 1830–1831 годов. Подобная интерпретация основана на гипертрофированной оценке определенных невротических черт, присущих многим творческим личностям, в том числе и Шопену, и поэтому также должна быть отвергнута как несостоятельная.
Кризис 1830–1831 годов представлял собой, по всей видимости, обратимую реакцию на конфликтную психическую ситуацию в форме реактивной депрессии. Отличие такой реакции Шопена от «нормального» горя при восприятии печального события состоит не только в интенсивности депрессивного расстройства, но и в большой его длительности. Из его писем и воспоминаний друзей-поляков мы можем узнать, что состояние душевного расстройства у него явно имело место на протяжении первых месяцев жизни в Париже и вызвано было неудачами в плане творческой карьеры. По мере интеграции Шопена в парижское общество его депрессия начала постепенно проходить.
В момент решительного обострения туберкулеза во время пребывания на Мальорке зимой 1838–1839 годов Шопен вновь впал в депрессивное состояние, характеризовавшееся бессонницей, безынициативностью, нерешительностью, грустной подавленностью типа «меланхолии» и чувством покорности неизбежной горькой судьбе. И на этот раз имело место депрессивное расстройство, но уже вторичного характера, поскольку в основе его лежала болезнь. Это расстройство было уже необратимым, ибо болезнь была хронической и неизлечимой. С этого момента проявления депрессии периодически повторялись, коррелируя по времени с обострениями прогрессирующего фонового заболевания — туберкулеза легких. Высшей точки это состояние достигло после окончательного разрыва с Жорж Санд и во время последующей поездки в Англию осенью 1848 года, когда Шопен окончательно осознал безнадежность своего положения. В это время его мучило не только чувство вины за то, что жизнь не удалась, но и чувство подавленности бессилием что-либо сделать или изменить. Безразличие и отсутствие интереса даже по отношению к людям, делавшим ему добро, вылились в чувство отчуждения от окружающего мира, которое осознавал даже он сам. Как ни странно, некоторые авторы-медики пытались объяснить эти явления органическими изменениями личности Шопена. Так, например, Ланге-Айхбаум пишет об «очень жизнеотрицающей шизоидной личности, отягощенной тяжелой физической болезнью», а Рокиетта считает возможным диагностировать у Шопена шизофрению, или, как минимум, «псевдошизофрению». При этом ни тот ни другой не приводят каких-либо доказательств в пользу подобных утверждений.
Подобные периодические реактивные депрессивные расстройства на почве хронического, неизлечимого и смертельного заболевания вовсе не являются редкостью и изначально очень чувствительному, подверженному невротической стигматизации Шопену пришлось пройти еще и через эту пытку. Тем удивительнее, что именно период с 1839 по 1846 год был наиболее плодотворным для него в творческом отношении. В этот период ни прогрессирующее органическое заболевание, ни душевные расстройства, сопровождавшие его обострения, не оказали отрицательного влияния на творчество Шопена. Не исключено, что предчувствие ранней смерти от неизлечимой болезни давало ему столь необходимое для творчества внутреннее напряжение, которое он способен был излить только в музыке. Такое предположение подтверждается высказыванием самого Шопена: «За роялем я изливаю свое отчаяние».
Его творческие силы исчерпались лишь в последние два года жизни. Со своей любимой родиной он попрощался «деревенским танцем», где еще раз выразил душу своего многострадального народа, который, по словам польского поэта Циприана Норвида, единственно Шопену обязан тем, что «пролитые на протяжении многих веков слезы польского народа стали бриллиантами в диадеме человечества».
БЕДРЖИК СМЕТАНА
Композиторская деятельность Сметаны пришлась на то время, когда чешская музыка полностью находилась в тени немецкого и итальянского музыкального творчества. Тем более сильное впечатление должно было произвести национальное своеобразие его творчества на современников. Стиль Сметаны самым непосредственным образом связан с достижениями так называемой «новой немецкой школы», прежде всего Ференца Листа и Рихарда Вагнера, и, следовательно, он не мог остаться в стороне от конфликта двух беспощадно враждовавших между собой в то время музыкальных партий — «браминов» и «вагнерианцев» — каждая из которых стремилась привлечь его на свою сторону. Результатом этого явились резкие, доходившие порой до диффамации и клеветы, нападки консервативных противников. Сметана никогда не поддерживал личных контактов с Вагнером, за приверженность которому ему больше всего доставалось от консервативной критики. Его вдохновлял драматический стиль опер Вагнера, прежде всего полифоническая интеграция оркестра и степень психологического сопереживания, воплощенная в центральных образах оперного материала, и Сметана пытался обогатить это при помощи вновь открытого мелоса чешского языка. Сметана, безусловно, не был истинным вагнерианцем, он был всего лишь художником, музыкально-драматические замыслы которого в определенной степени совпадали с замыслами Рихарда Вагнера.
Лист, в отличие от Вагнера, оставался для Сметаны на протяжении всей его жизни «мастером и недосягаемым идеалом», каким был Вагнер для Антона Брукнера. Музыкально-поэтические новации Листа, небывало обогатившие поэтичность и выразительность музыкального языка, легли в основу инструментальной музыки Сметаны, которая, в отличие от симфонизма Антонина Дворжака, никогда не была «абсолютной игрой звуков», но всегда являлась музыкальной поэзией, выражением личных поэтических идей автора. Действительно, в симфоническом наследии Сметаны нет ни одной значительной симфонии, а есть лишь симфонические поэмы в духе Листа. Без технических нововведений Листа были бы немыслимы фортепианные произведения Сметаны.
Интересно, что современная оценка творчества Сметаны за пределами его родины в значительной степени основана на трагической глубине оперы «Далибор» и обоих его струнных квартетах. Стремление к монументальности в симфонических поэмах и серьезных операх, попытка синтеза глубинных истоков чешской народной музыки с выразительной силой симфонических картин в духе Ференца Листа или музыкальной драмы в стиле Рихарда Вагнера представляются нашим современникам более важными элементами творчества Сметаны, нежели безудержная веселая буффонада «Проданной невесты», которая, собственно, и обеспечила ему прорыв в высшее музыкальное общество и мировое признание. Творчество Сметаны завоевало чешской музыке почетное место на Олимпе европейского искусства и вечную благодарность соотечественников, для которых он был и остается создателем чешской национальной музыки. Стоит обратить внимание на то, что Чехия, подобно другим пробуждающимся европейским нациям, обрела собственный музыкальный голос лишь во второй половине XIX века в симфониях Дворжака и симфонических картинах и операх Сметаны, хотя Богемия и Моравия славились своим музыкальным искусством с незапамятных времен — первые упоминания относятся к XI столетию. Еще в XVIII веке английский музыкальный писатель Чарльз Берни называл прославившуюся многочисленными музыкальными талантами Богемию «консерваторией Европы». На чешскую культуру чрезвычайно неблагоприятное влияние оказал контрреформаторский централизм Габсбургов в период после окончания Тридцатилетней войны, который привел не только к утрате чешской государственности, но и в значительной мере к утрате чешским народом свой национально-культурной самобытности. В начале XIX века, в период «домартовской реставрации», предшествовавшей вспышке революционного движения в Европе в 1848 году, начинается возрождение чешской культуры, которому, как ни странно, во многом поспособствовали немецкие общественные и культурные течения, сыгравшие в чешском национальном возрождении большую роль, нежели революционные идеи, пришедшие из Франции. На баррикадах Пражской революции 1848–1849 годов, направленной против режима Меттерниха, чехи и богемские немцы сражались плечом к плечу, но затем их пути разошлись навсегда, ибо чехи прониклись националистическим духом того времени. В ходе этой метаморфозы чехам впервые стало ясно, до какой степени над их музыкой довлеет чуждая консервативная традиция. Сметане удалось за короткое время поднять музыку посредственных провинциальных композиторов местного значения на высоту великолепного национального искусства, и это является творческим подвигом, равный которому найти в истории весьма непросто. Подобное дано совершить лишь великому художнику, движимому великой идеей. На пути к высшим художественным достижениям творчеством Сметаны двигало не только пламя, раздуваемое весенним ветром национального пробуждения, но и вполне рациональные мотивы, позволившие ему успешно адаптировать новые художественные течения того времени к собственному творческому языку. Говоря словами Вацлава Гельферта, Сметана был мыслителем, который «создавал большие художественные организмы, сочетая неустанный и строгий интеллектуальный труд с пламенем ненасытной творческой страсти».
Бедржих Сметана, родившийся 2 марта 1824 года в сонном городке Литомышль, расположенном к востоку от Праги, был одиннадцатым ребенком в семье арендатора пивоварни в местном замке Франтишека Сметаны и его жены Барбары. В его семейном кругу ведущая роль принадлежала отцу, который благодаря усердию, уму и деловой осмотрительности вскоре стал собственником дома на рыночной площади. Отец занимал видное положение в городе, был завзятым охотником и музыкантом-любителем и детство Бедржиха было не только радостным и безоблачным, но и полным музыкальных впечатлений. Отец был настроен весьма патриотически и заботился о том, чтобы у детей пробудился интерес к чешскому песенному фольклору. В доме часто музицировали, в основном в форме струнного квартета, и отец еще в раннем детстве научил Бедржиха играть на скрипке. Однако уже в скором времени он стал отдавать особое предпочтение фортепиано, о чем так написал в дневнике: «Когда мне исполнилось четыре года, отец обучил меня музыкальному такту, в пять лет я пошел в школу и в это же время научился играть на скрипке и фортепиано». Дарование пианиста Бедржих смог публично продемонстрировать уже в 6 лет, выступив перед «Академией философов», организованной в Литомышле в октябре 1830 года. Это выступление принесло ему славу вундеркинда.
Отец был бизнесменом до мозга костей и не мог даже допустить мысли о творческой карьере для своего сына. В его планы входило сделать из сына чиновника или коммерсанта, поэтому мальчик, несмотря на явную музыкальную одаренность, смог получить лишь начальное обучение игре на фортепиано. Отец был вполне доволен тем, что Бедржих умел играть и получал удовольствие от музыки. Ему предстояло стать профессиональным музыкантом и композитором, имея базовые познания, лишь несколько превышавшие уровень обычного дилетанта, и, следовательно, предстоял весьма тернистый путь, преодолеть который он смог благодаря большому природному таланту, сильной воле и выдержке.
В 1831 году в жизни Бедржиха произошли серьезные изменения в связи с переездом из Литомышля в Нойхауз (Йиндржихов Градец) в озерном краю южной Чехии, где отец арендовал процветающую пивоварню и через четыре года приобрел поместье, ставшее постоянным местом проживания семьи. До приобретения поместья Ружколхотице Бедржих провел четыре года в оживленном маленьком городке Нойхаузе (Йиндржиховом Градце), что позволило ему регулярно обучаться игре на скрипке и фортепиано, а также пению в церковном хоре. При обучении в гимназии Бедржих проявил полную неспособность к естественным наукам, и отец решил отправить сына в расположенный неподалеку город Йиглава с целью усовершенствовать его знания немецкого языка. В тогдашней Чехии продвинуться мог лишь тот, кто закончил немецкую или латинскую школу, — в первой половине XIX столетия средних учебных заведений с преподаванием на чешском языке просто не существовало. Но и здесь он смог продержаться только по л года. Лишь в Немецком Броде он проучился три года в немецкой гимназии одного из католических орденов, где его классный наставник продемонстрировал полное понимание увлечения Бедржиха музыкой. Музыкальный патер познакомил своего ученика с важными произведениями современных композиторов, в частности с оперой Вебера «Вольный стрелок». Вновь у Бедржиха появилась возможность играть в квартете со своими школьными товарищами. Так музыкальное самообразование Бедржиха смогло существенно продвинуться.
Так как большинство одноклассников Бедржиха после сдачи экзамена на аттестат зрелости переехали в Прагу, отец пошел навстречу пожеланию сына и разрешил ему также переселиться в столицу Богемии. В 1839 году Бедржих Сметана становится учеником четвертого класса Пражской академической гимназии, которую возглавлял выдающийся ученый и педагог. Однако куда больший восторг вызвали у юного Сметаны театр и концертный зал, в котором он не только прослушал несколько опер, но и впервые услышал о Ференце Листе, в 1840 году исполнявшем в Праге собственные произведения. Современные исследования не подтверждают бытовавшее в течение длительного времени мнение о том, что Бедржих лично присутствовал на одном из этих концертов Листа. Лист сыграл весьма значительную роль в творческом развитии Сметаны, но эти его гастроли Бедржих лишь с интересом наблюдал со стороны. Наряду с этими художественными впечатлениями Бедржих пережил в пражские годы свою первую романтическую любовь. Еще в Нойхаузе у него была подруга детских игр — «дикая Кати», которой впоследствии предстояло стать его женой. Однако в Праге дело обстояло совсем иначе: к своей кузине и ровеснице Луизе он испытывал куда более сильные чувства, вдохновившие его, в частности, на создание «Польки для Луизы». В 1841 году в его дневнике впервые появляется список произведений, которые он сочинил к этому времени. Из списка следует, что в этот период основное место в его творчестве занимали квартеты. Причина, по всей видимости, кроется в том, что начиная с раннего детства камерная музыка была для него важным побудительным фактором творчества. Хотя Бедржих в это время брал уроки у учителя музыки, он все же продолжал оставаться в своем творческом развитии самоучкой, у которого полностью отсутствовал систематический подход.
Все более увлеченный музыкой, Бедржих принимает решение оставить гимназию, что привело к серьезному конфликту с отцом. Когда отец после Пасхи 1840 года приехал в Прагу и от директора гимназии узнал о намерениях сына, он дал ему «увесистый подзатыльник. Первый и последний подарок такого рода, который я получил от отца за всю свою жизнь». Проявив упорное нежелание принимать участие в отцовских делах, Бедржих получил от отца последний шанс закончить школьное образование. Решающим здесь оказалось заступничество двоюродного брата Бедржиха, доктора Франца Йозефа Сметаны, который был на 23 года старше его. Франц Йозеф Сметана служил в Пльзене преподавателем гимназии той же самой католической конгрегации, которой принадлежала йиглавская гимназия, где раньше учился Бедржих, и был известным историком и естествоиспытателем. Этот высокообразованный человек и большой любитель искусств не только дал Бедржиху стимул к учебе, но и ввел его в буржуазное общество города. Музыкальная одаренность и виртуозное фортепианное мастерство юного музыканта вскоре открыли ему двери желанных салонов, где он исполнял и собственные произведения. Среди этих произведений были струнный квартет, несколько полек, а также несколько более претенциозных экспромтов, но в целом это была обычная музыка, сочиненная без теоретических профессиональных знаний, «в полном неведении духовного музыкального образования».
Музыка занимала все более важное положение в его жизни, и он твердо решил по окончании гимназии стать профессиональным музыкантом. «С Божьей помощью и милостью я когда-нибудь стану Листом в технике и Моцартом в композиции», — писал он в дневнике в начале 1843 года. Отец не разделял его честолюбивых и романтических планов, тем более, что по причине финансовых трудностей он был вынужден продать имение и вновь начал все сначала, взяв в аренду пивоварню в Ламберке к северу от Праги. Опасаясь за неясное будущее сына, он уступил желаниям Бедржиха лишь спустя длительное время, но в дорогу он смог дать ему только двадцать гульденов. В октябре 1843 года в Праге Бедржиха ожидало первое разочарование: ему было отказано в приеме в консерваторию ввиду того, что он уже перешагнул возрастной предел, установленный для абитуриентов. Второе разочарование состояло в том, что скромные доходы от уроков игры на фортепиано не могли обеспечить средств, достаточных для жизни. О своем нищенском существовании он писал так: «Я питался в гостинице, пока были деньги, стоило это 21 крону в день. Очень часто я ложился спать голодным. Как-то раз мне пришлось в течение трех дней довольствоваться маленькой чашкой кофе с булочкой утром, а потом весь день я не ел больше ничего. Я жил уже два месяца в Праге, и у меня еще не было пианино». Ангелом-спасителем явилась пани Анна Коларжова, мать «его дикой Кати», которая, однажды случайно встретив его, поняла, сколь серьезно положение. Еще находясь в Пльзене, Бедржих имел возможность увидеться с Кати, которая к тому времени стала взрослой молодой дамой и прекрасной пианисткой. Будучи восприимчивым к женской прелести, он вскоре воспламенился страстной любовью к подруге детских игр, о чем можно судить по записи в дневнике: «Это Катержина, Кати, виртуозная пианистка, пленяет меня своим искусством, пожалуй, не менее, чем своей любовью, она есть и будет». Однако эта романтическая симпатия вначале не находила должного отклика у безжалостной возлюбленной, виной чему была, по всей видимости, его неброская внешность. Тщедушный, ростом всего лишь 160 сантиметров, он был близорук еще со школьных времен и носил очки в простой проволочной оправе. Таким образом, его внешность действительно была малособлазнительной. Тем больше должны были быть его счастье и благодарность пани Коларжовой, когда при ее посредничестве он был принят учеником в известную музыкальную школу Йозефа Прокша. Прокш с тринадцати лет был слепым, что не помешало ему мгновенно распознать выдающийся талант своего ученика, которому он дал не только музыкальное образование, но и определил его дальнейшее творческое развитие как продуктивного художника. При этом он строил обучение не только на основе классических традиций, но и включал в программу произведения современных композиторов — Шумана, Шопена и Листа.
В соответствии с педагогическим принципом Прокша, согласно которому «лишь человек в целом воплощает и представляет художественную идею», образование молодого Сметаны не ограничивалось односторонним обучением виртуозной технике. Ему представилась возможность получить широкое многостороннее музыкальное образование, которое в дальнейшем позволило создать свой собственный стиль на основе синтеза классицизма и романтизма.
К радости Сметаны добавилось то обстоятельство, что в школе Прокша в качестве преподавателя фортепиано работала его обожаемая Кати. Теперь у него была возможность для ежедневных встреч с ней и совместного музицирования. Весной 1845 года состоялось его первое публичное выступление как пианиста. В этом концерте принимала участие Катержина Коларжова. Однако через несколько месяцев после поступления в школу Прокша его счастье едва не рассыпалось в прах, так как начиная с января 1844 года он оказался не в состоянии платить по гульдену за урок. Обессиленный постоянным голодом, в отчаянии от безнадежности своего положения, он думал лишь об одном — о смерти. В этот момент неожиданный поворот судьбы не мог не показаться ему чудом. Этим чудом стало предложение графа Леопольда Тун-Хоэнштайна стать учителем музыки для его пятерых детей. При этом учителю предоставлялись квартира, питание и триста гульденов в год.
Последующие три с половиной года, в течение которых Сметана был учеником Прокша и домашним учителем у графа Туна, были для него счастливым и беззаботным временем. Его «ни разу не видели в плохом настроении, он был всегда весел и готов на любые детские шалости», — писала позднее комтесса Элиза Тун. И в физическом отношении его здоровье не оставляло желать лучшего. Что касается болезней вообще, то в его дневнике имеется лишь одно упоминание о том, что в период с 1835 по 1839 год, в детстве, он перенес какие-то инфекционные заболевания, о характере которых нам подробно неизвестно. Однако речь идет, скорее всего, о чем-то серьезном, возможно, о скарлатине или дифтерии. Дневниковая запись гласит: «За это время я дважды перенес болезни, опасные для жизни».
Одновременно с занятиями у Прокша, который основывал свою методику на фундаментальном учебнике композиции А. Б. Маркса и на произведениях Баха и Бетховена, молодой Сметана черпал дополнительные импульсы для творчества в богатой событиями концертной жизни Праги. Он побывал на концерте Гектора Берлиоза, где исполнялась «Фантастическая симфония», на выступлениях встреченного с большим энтузиазмом Ференца Листа, а в доме графов Тун познакомился с супругами Шуман. Несмотря на то, что как пианист он был в основном самоучкой, Сметана уже достиг значительного уровня исполнительского мастерства, которым изумлял даже Прокша. Его музыкальные сочинения также начали принимать форму серьезных произведений для фортепиано. Здесь следует выделить цикл пьес «Листки из альбома», посвященных друзьям. Одна из этих пьес, ля-мажор, посвящена Катержине и проникнута особо интимным настроением. Очень красив также цикл «Багатели и экспромты». Этот цикл, состоящий из восьми пьес для фортепиано, опубликованный лишь после смерти Сметаны, написан в жанре программных миниатюр, напоминающих живописные миниатюры. Такие произведения были характерны для первой половины XIX века, их мы можем встретить в творчестве Шумана и Шопена. Они выражают страстную любовь и грезы, исполненные лирической романтики. Немецкое восьмистишие на оборотной стороне листка с посвящением раскрывает тайну адресата этого цикла и заканчивается такими строчками: «Свой взор ко мне ты обрати и сердцу выбери усладу». Исполнительское мастерство Сметаны и его творческий рост внушили некогда равнодушной Кати уважение к его уже явно наметившемуся творческому взлету, которое перешло в симпатию, а затем и в настоящую любовь.
В 1846 году Сметана успешно завершил свое образование у Прокша сонатой для фортепиано соль-минор. Это уже вполне зрелое по технике и композиции произведение в четырех частях. Оглядываясь на пройденный путь, он мог с гордостью констатировать: «Сегодня я не могу себе представить техническую проблему, которая могла бы доставить мне трудности». Оснащенный таким теоретическим багажом, Сметана счел, что настало время самостоятельно выйти в мир и вступить, наконец, на тот путь, о котором он мечтал в юности — посвятить себя исключительно композиторской деятельности.
Творческий взлет и удары судьбы
Сметана полностью отдавал себе отчет в том, что не сможет зарабатывать на жизнь как композитор, и поэтому вначале попытался обеспечить себе финансовые тылы деятельностью пианиста-исполнителя. Однако уже первое концертное турне по западной Чехии закончилось для еще малоизвестного музыканта тяжелым разочарованием. Не исключено, что причиной этого была неудачно подобранная программа, которая включала в себя преимущественно современную музыку, а это было, пожалуй, не по вкусу тамошней публике. Та же судьба постигла его план создания оркестра, так что очень скоро единственным источником средств снова стало для него преподавание музыки. В январе 1848 года Сметана подал прошение об открытии собственного музыкального учебного заведения. К сожалению, бюрократические процедуры потребовали длительного времени, и разрешение было получено только 8 июня 1848 года. В течение этого времени основы существования Сметаны оказались под серьезной угрозой, и он, находясь в состоянии глубокой подавленности, ухватился за безрассудную идею обратиться за помощью к Ференцу Листу, столь почитаемому и ценимому музыкальным миром того времени. 23 марта 1848 года он отправил Листу письмо, тон которого при всем преклонении и почтении к известному маэстро отличается чувством собственного достоинства и сознанием собственной ценности как художника. В этом письме нашли выражение не только материальные заботы Сметаны, но и его депрессивное состояние вплоть до суицидальных намерений. К письму он приложил рукопись своего произведения «Les six morceaux charactéristiques», op. 1 («Шесть характерных сценок»), надеясь привести маэстро в более благодушное настроение. Приводим это письмо с сокращениями: «Полностью вверяясь Вашему всемирно известному великодушию и Вашей доброте, я отваживаюсь посвятить Вам это небольшое творение моего духа… На сегодняшний день мои занятия приносят мне 12 гульденов в месяц, чего как раз хватает на то, чтобы не умереть с голоду. Я не могу публиковать свои сочинения, потому что за это нужно платить… До сего дня никто мне ничем не помог. Да, я должен сказать Вам, что был близок к отчаянию, когда получил известие о том, что мои родители почти дошли до нищенского состояния… И вот теперь я прошу Вас любезно принять это произведение и отдать его в печать! Ваше имя обеспечит этому произведению доступ к публике. Ваше имя станет основой моего будущего счастья и моей вечной благодарности… И еще я отважусь на одну просьбу:… Я мог бы очень легко обеспечить свое существование способом, который сделал бы меня счастливейшим из смертных… Речь идет об открытии музыкального учебного заведения… Поэтому я беру на себя смелость, рискуя выглядеть дерзким в Ваших глазах, просить Вас занять мне четыреста гульденов, вернуть которые я торжественно клянусь собственной жизнью… Терзаемый огромным беспокойством, прошу Вас еще раз, и надеюсь, что не напрасно, ответить мне, пусть содержание ответа будет каким угодно, пусть оно означает мое счастье или несчастье, прошу Вас не откладывать ответ и как можно скорее избавить меня от этих сомнений, ибо, возможно, через несколько недель уже вовсе не будет никакого Сметаны…».
В принципе, это письмо выглядит безумным актом отчаяния, в особенности угроза самоубийства просителя, который вообще лично не известен адресату. Но Лист во все времена был готов всем прийти на помощь. Сметана не стал исключением и уже через неделю получил следующий ответ: «Прежде всего хочу выразить Вам мою глубочайшую благодарность за посвящение, которое для меня тем более приятно, что эти пьесы действительно прекрасны, хорошо воспринимаются и отлично проработаны и вообще принадлежат к лучшему из того, что я видел за последнее время». Далее Лист извинился за то, что сам не располагает испрашиваемой суммой, но пообещал «найти хорошего издателя для хорошего произведения» и приложить все усилия к тому, чтобы «Вы получили достойный гонорар, который побудит Вас к более деятельному сотрудничеству с издателем». Таким образом, даже не имея возможности удовлетворить просьбу Сметаны о займе, Лист, признав его как художника, пробудил в нем веру в себя и оказал ему действенную помощь протекцией у издателя Ф. Кистнера, в 1851 году опубликовавшего первое произведение Сметаны в Лейпциге.
Тем временем молодого Сметану увлекла политическая буря 1848 года. То, что уже однажды произошло в июле 1830 года, повторилось весной 1848 года: Париж снова подал сигнал к большим переменам не только во Франции, но и на просторах Европы. Революционная волна распространилась столь быстро потому, что и другие страны были внутренне готовы к революции. Однако эта революция была общеевропейским событием лишь внешне и лишь в тот момент, когда она перекинулась на государства Германского союза, и прежде всего на Австрию, ибо при этом возник германский вопрос как национальная и конституционная проблема. Решающее событие первой фазы венской революции произошло 13 марта 1848 года, когда был вынужден подать в отставку государственный канцлер князь Меттерних, живое воплощение австрийской системы. С этого момента началась радикализация революционного движения в Вене. После того, как в мае император бежал из Вены и отрекся от престола, события в Чехии также начинают развиваться стремительно. Формируется гражданская гвардия, и у чехов появляется надежда на обретение государственной самостоятельности в рамках монархии. Сметана поначалу не интересовался ни политикой, ни национальным вопросом и был даже членом творческого объединения «Конкордия», в котором немцы и чехи по-прежнему поддерживали между собой дружеские отношения. Однако и его все больше увлекал всеобщий революционный энтузиазм. Он сочиняет марши для студенческого легиона и национальной гвардии, в которую в конце концов вступает сам. Но победа князя Виндишгретца над восставшей Прагой в кровавые июньские дни привела к тому, что чехи стали ассоциировать либеральных немцев, совсем недавно сражавшихся рядом с ними на баррикадах, с габсбургской монархией, и с этого момента народ Богемии навсегда раскололся на два народа: чехов и немцев.
Сметана, конечно, не стоял совершенно в стороне от этих событий, но, судя по всему, не принял непосредственного участия в боях на улицах Праги. По крайней мере, в его воспоминаниях нет ни малейшего намека на это. Однако как художник он принял в этих событиях значительное участие, свидетельством чему является «Песнь свободы», написанная непосредственно под влиянием кровавых боев. Наиболее явно внутреннее сочувствие Сметаны пражской революции ощущается в его первом крупном оркестровом произведении, «Праздничной увертюре» ре-мажор, которую он сочинил после поражения восстания, находясь в доме родителей в Ламберке. Это сильное произведение действительно является реакцией композитора на революционные события, что следует из его собственноручной надписи в конце партитуры: «Завершено в Праге 5 марта 1849 года. Начато в Обржистви (Ламберк прим. автора) после июньских событий 1848 года».
После поражения революции абсолютистский режим приступил к подавлению или полному уничтожению всего того, что было достигнуто за короткий период подъема молодой чешской буржуазии. В такой обстановке Сметана летом 1848 года возвратился в Прагу и открыл частную музыкальную школу, разрешение на это к тому времени было получено как со стороны магистрата, так и со стороны консистории архиепископа. На трех купленных в кредит роялях он начал занятия с пятнадцатью учениками. В ходе этих занятий он, следуя примеру своего учителя Прокша, стремился к всестороннему музыкальному развитию своих питомцев. Уже в следующем году учебное заведение Сметаны заняло заметное положение в музыкальной жизни Праги, что давало неплохой доход. Это позволило Сметане всерьез подумать об обзаведении семьей. 27 августа 1849 года наконец состоялось бракосочетание Бедржиха Сметаны с его юношеской любовью Катержиной Коларжовой, которая стала любящей и все понимающей подругой. Будучи замечательной пианисткой, она смогла деятельно участвовать в работе музыкальной школы.
Как пианист Сметана обладал, по-видимому, выдающимися качествами, хотя и не достиг акробатического мастерства Тальберга, Калькбреннера или Листа. Его дочь Софи позднее писала: «Конечно, верно, что он по силе своей игры не мог конкурировать с другими великими музыкантами, однако манера его исполнения и техника были совершенны и уникальны. Такого Шопена, как у отца, я не слышала больше ни у кого». Шопен для Сметаны был одним из величайших образцов, без мазурок Шопена польки Сметаны никогда не достигли бы такого совершенства. Достаточно вспомнить «Trois Polkas poétiques» («Три поэтические польки») 1855 года, которые, пожалуй, столь ярко и во всех тонкостях модуляций демонстрируют свой виртуозный и нежный шарм, что здесь речь идет уже не столько о танцевальной музыке, сколько о поэзии звуков. Из крупных оркестровых произведений в это время возникла лишь «Триумфальная симфония» ми-мажор, сочиненная в 1853 году по случаю свадьбы императора Франца-Иосифа и баварской принцессы Елизаветы. В трех из четырех частей этой симфонии использована мелодия известной «Императорской песни» Гайдна. Это произведение является единственной классической абсолютной симфонией, написанной Сметаной. Венский двор не принял посвящения этого произведения императору. Впервые эта симфония была исполнена в 1855 году, и здесь Сметана впервые выступил как дирижер.
В скором времени в семье Сметаны появились дети. Большие надежды возлагали родители на старшую дочь Фридерику, по-чешски Бедржишку, которая, казалось, унаследовала необычайный музыкальный талант, проявившийся, по словам родителей, уже в очень раннем детстве: «В три года она пела песни с очень хорошей интонацией и играла гамму до-мажор обеими руками в обоих направлениях. Она узнавала все произведения, которые исполнялись в школе, и знала их авторов», — записал в дневнике отец, исполненный законной гордости. Тем тяжелее были удары судьбы, постигшие семью в середине пятидесятых годов. В течение трех лет умерли три из четырех дочерей: в декабре 1854 года родившаяся второй Габриэла, в сентябре 1855 года старшая Бедржишка, в июне 1856 года родившаяся третьей Катержина. Причиной смерти Бедржишки стала скарлатина, а Катержины — тяжелая дифтерия.
Нам известно, что возбудителем скарлатины является микроорганизм, принадлежащий к группе гемолитических стрептококков. Болезнь проявляется в форме ангины и специфической кожной сыпи, которая проходит с образованием струпьев. Эта болезнь была известна уже в древности, о чем мы узнаем из трудов Галена, однако ее не выделяли из числа других инфекционных болезней. Точное описание скарлатины дал английский врач Сайденхэм в начале XVIII века, назвавший это заболевание, которое он вначале счел безобидным, «багряной лихорадкой» (Scharlach — нем.: багряный, ярко-красный — прим. перев.). Лишь через 15 лет, во время тяжелой эпидемии, Сайденхэм понял, что эта болезнь может протекать почти столь же злокачественно, как чума. Наиболее уязвимы к этому заболеванию дети в возрасте от трех до восьми лет. Если у ребенка болезнь принимает токсическое течение, получившее название «синей скарлатины», которое сопровождается ознобом, рвотой и высокой температурой, то больной через несколько часов теряет сознание и вскоре впадает в смертельное коматозное состояние. Будучи студентом, я мог наблюдать такие случаи в берлинской больнице Шарите в 1940 году. В подобных случаях из-за быстро наступающей сердечной недостаточности сыпь принимает синюшный оттенок. Иногда болезнь в токсической форме принимает иное, не столь молниеносное течение, и летальный исход вследствие сердечной недостаточности наступает лишь спустя несколько дней. В наше время, с открытием пенициллина, скарлатина перестала наводить ужас, так как с помощью этого препарата обычно в течение 24 часов удается удалить стрептококк из полости носа, за счет чего происходит снижение температуры и наступает существенное клиническое улучшение, и через 10 дней пенициллиновую терапию, как правило, можно отменить. В середине XIX века возбудитель скарлатины известен еще не был, и даже в самых тяжелых случаях лечение ограничивалось чисто симптоматическими мероприятиями, которые сводились в основном к холодным обертываниям и ваннам для снижения высокой температуры. Поэтому смертность при эпидемиях скарлатины в те времена была очень высокой, и в многодетных семьях смерть детей от скарлатины была вовсе не редким явлением, что мы видим на примере маленькой Катержи-ны Сметаны.
Дифтерия, от которой погибла Бедржишка Сметана, во все времена являлась чрезвычайно опасной болезнью, которая также была известна еще врачам классической древности, называвшим ее Morbus aegipticus (египетская болезнь) или Morbus syriacus (сирийская болезнь). В середине XVIII века по Германии прокатилось несколько больших эпидемий болезни, характерными симптомами которой были поражение гортани и связанное с ним удушье. Первое подробное описание дифтерии и характерных для нее поражений горла, носа и гортани было сделано в 1825 году французским врачом Бретонно, которому также принадлежит современное название этого заболевания. Впоследствии Труссо описал злокачественное течение дифтерии, при котором имеют место явления общей интоксикации. Переломный момент в истории этой болезни наступил в 1884 году, когда Леффлером был открыт ее возбудитель. С открытием возбудителя дифтерии и выделяемого им токсина стало возможным создание специфического противодифтерийного средства. Честь свершения этого медицинского подвига принадлежит Берингу. В середине XIX столетия смертность от дифтерии стала заметно возрастать, причем наиболее уязвимыми оказались дети в возрасте между третьим и пятым годом жизни. Основным болезнетворным действием дифтерийных бацилл является выделение ими отравляющего вещества — дифтерийного токсина, который поражает в первую очередь гортань и верхние дыхательные пути, но в ряде случаев вызывает также симптомы общего отравления, при котором может быть поражена сердечная мышца. При дифтерии гортани смертельный исход возможен вследствие удушья, но его, как правило, удается предотвратить своевременным рассечением гортани. При такой форме болезни может также развиться длительная дыхательная недостаточность, которая в тяжелых случаях влечет за собой углекислотную интоксикацию, кому и смерть. Однако наиболее опасное свойство дифтерийного токсина состоит в его способности поражать сердечную мышцу, что может привести к внезапной смерти больного в результате остановки сердца. В наше время судьба пациента зависит от того, когда ему был введен антитоксин, поскольку он в состоянии нейтрализовать только свободный токсин, но не токсин, связанный в тканях организма. Кроме того, в настоящее время все дети, достигшие второго года жизни, в обязательном порядке проходят активную иммунизацию против дифтерии. К сожалению, и в наше время высок процент юношей и взрослых, не обладающих иммунной защитой против дифтерии, либо обладающих такой защитой в недостаточной степени. Поэтому и сегодня смертность от первичной токсической дифтерии составляет более 30 %. В середине XIX века, когда в Германии происходили особенно тяжелые эпидемии дифтерии и маленькая Бедржишка Сметана заболела этой болезнью, дети были беззащитны против нее, а токсические формы почти всегда заканчивались летальным исходом.
Когда «Фрицхен», как называли Бедржишку, умерла в возрасте четырех с половиной лет, для ее родителей рухнул мир. Боль, вызванная потерей обожаемой дочери, вылилась в музыку Сметаны. Непосредственно под воздействием смерти Бедржишки возникло его первое значительное камерное произведение: трио соль-минор для фортепиано, скрипки и виолончели. В списке своих произведений он написал, что это трио является «воспоминанием о моем первенце, дочери Бедржишке, которая поражала всех своим музыкальным талантом, но была унесена безжалостной смертью в возрасте всего лишь четырех с половиной лет». Причинную связь между смертью дочери и возникновением трио Сметана неоднократно упоминал и в других источниках, где он, в частности, писал что его «гениальное дитя Бедржишка погибла от дифтерии». Позднее в его творчестве не было ни одного случая, когда бы музыкальное произведение столь непосредственно связывалось с каким-либо событием. Это камерное произведение Сметаны представляет собой потрясающее музыкально-поэтическое излияние пережитого страдания.
Трио стало не только новой точкой отсчета в его творчестве, но и первым произведением современной чешской камерной музыки середины XIX века.
В сентябре 1856 года в пражском соборе Св. Витта состоялась премьера «Гранской мессы» Листа, и Сметане, наконец, представилась возможность лично засвидетельствовать дружеские чувства своему кумиру. Многочасовое совместное музицирование, жаркие дискуссии с опытным и знающим мир маэстро несколько неожиданно привели Сметану к мысли о том, что творческий климат Праги не сулит ему особо заманчивых перспектив на будущее. И здесь, как по заказу, Сметана получил приглашение из шведского города Гетеборга, которое, правда, на первый взгляд также не сулило особо радужных перспектив. Предложение все же выглядело весьма заманчивым, но содержало ложку дегтя — приняв его, Сметана должен был на длительное время расстаться со своей семьей, поскольку жена к этому времени уже ощущала проявления симптомов прогрессирующего туберкулеза легких. Тем не менее он надеялся, что работа за рубежом повысит его престиж на родине и, в конечном итоге, принесет пользу семье. И он отбросил все сомнения, руководствуясь старой истиной о том, что «родина не хочет признавать собственных детей, что фактически заставляет художников завоевывать себе имя и зарабатывать свой хлеб за границей. Меня эта судьба также не миновала».
17 октября 1856 года Сметана прибыл в Гетеборг. Этот крупный шведский портовый город на последующие пять лет стал для него чем-то вроде второй родины. Финансовые мотивы были, судя по всему, не главной причиной, побудившей Сметану покинуть Прагу. Гетеборг, как музыкальный центр, конечно, нельзя было сравнить с Прагой, но зато атмосфера здесь была куда более открытой и благожелательной, и новые направления в искусстве не встречали враждебного отношения. Концертная деятельность в качестве пианиста и дирижера вскоре поставила Сметану в центр музыкальной жизни города, о чем мы можем судить по его письму датскому издателю К. В. Лосе: «После двух концертов меня буквально засыпали предложениями об уроках, мне также предложили должность руководителя музыкального объединения с твердым окладом, так что мое будущее здесь обещает быть вполне приятным». Действительно, в последующие годы, проведенные в Гетеборге, Сметана зарабатывал до 2000 талеров в год! Очень скоро он завязал многочисленные дружеские контакты. Среди его гетеборгских знакомых прежде всего следует упомянуть чешского скрипача Йозефа Чапека, А. Ниссена, кантора местной синагоги, и его молодую красивую племянницу Фрейду Бенеке. Судьба этой двадцатилетней женщины, вынужденной ухаживать за больным мужем, в чем-то была подобна судьбе Сметаны, ведь его жена была больна туберкулезом легких. Мы не знаем, как далеко зашли отношения между ними. Во всяком случае, с этой женщиной связано самое сильное любовное переживание Сметаны в гетеборгские годы, перешедшее затем в прочную дружбу, выдержавшую суровое испытание в последующие кризисные годы.
Сметана с нетерпением ждал лета и возможности посетить родину и семью. В 1857 году на 78-м году жизни умер его отец, и Сметана смог лишь проводить его в последний путь. Дома его ожидали заботы: дочь Софи заболела скарлатиной, а жена по-прежнему болела туберкулезом. Несмотря на плохое состояние здоровья, она вместе с выздоровевшей к тому времени Софи в сентябре 1857 года решила сопровождать мужа в Гетеборг. Эта поездка была прервана в Веймаре, где Сметану пригласили в княжеское имение Листа Альтенбург в качестве почетного гостя. Здесь он смог прослушать «Фауста» и «Идеалы» обожествляемого маэстро. Это не только произвело на него сильнейшее впечатление, но и дало ему новые импульсы для творчества. В октябре 1858 года он писал Листу: «Считайте меня самым верным сторонником нашего художественного направления, который словом и делом отстаивает его святую правоту». Это были не пустые слова, поскольку к этому времени уже была создана первая симфоническая поэма «Ричард III», за которой вскоре последовали «Лагерь Валленштейна» и «Хокон Ярл». Эти симфонические поэмы и ряд произведений для фортепиано, среди которых прежде всего две прекрасные польки «Souvenir de Bohême en forme des Polkas» («Воспоминания о Чехии в форме полек») являются важнейшим результатом его творческой деятельности в гетеборгский период. Эти произведения, конечно же, нельзя еще отнести к шедеврам, но они стали важным шагом в развитии индивидуального «новонемецкого» стиля Сметаны, в чем его бесспорным предшественником является Ференц Лист. Сметана всегда с благодарностью об этом помнил, о чем говорит письмо, написанное много лет спустя — 23 мая 1880 года: «Я обязан ему всем, что я до сих пор смог сделать. Именно он заставил меня поверить в себя и потом указал мне единственно верный путь, на который я должен был вступить. С тех пор он остается маэстро и примером для меня и недостижимым идеалом для всех».
За два года, которые Сметана прожил в Гетеборге вместе с семьей, болезнь его жены продолжала прогрессировать, и он вынужден был просить ее мать приехать в Швецию для того, чтобы обеспечить больной лучший уход. Единственным желанием уже смертельно больной Кати было в последний раз увидеть родину, но этому не суждено было осуществиться. Решили как можно скорее отправиться в путь, но слабость больной заставила прервать путешествие в Дрездене, где 19 апреля смерть избавила ее от страданий. В этот день в дневнике Сметаны появилась следующая запись: «Все кончено — Кати, моя дорогая, горячо любимая жена умерла сегодня утром, так тихо, что мы ничего не заметили, пока меня не насторожила необычная тишина. Прощай, мой ангел». Катержина в соответствии со своим желанием была похоронена в Праге в одной могиле с детьми. Сметана искал утешения у родственников, стремясь пережить свое горе хотя бы не в полном одиночестве. Возможно, его мучили упреки совести за то, что, находясь в Швеции, он недостаточно заботился о больной жене. Намек на это можно усмотреть в следующей дневниковой записи: «Я чувствую себя одиноким и всеми покинутым. Мне часто бывает очень, очень тяжело. Лишь теперь я понимаю, как дорога она мне была!».
Но жизнь продолжалась, и дочь требовала родительской заботы. По приглашению Листа он побывал в Веймаре, где познакомил гостеприимного хозяина с новыми симфоническими поэмами. Существенную роль для его будущего сыграл визит в Прагу к бывшему фабриканту Фердинанди и встреча с его младшей дочерью Беттиной, которую Сметана знал еще маленькой девочкой. Теперь Беттина стала обворожительной девятнадцатилетней красавицей, к тому же весьма образованной. Она владела несколькими иностранными языками, обладала красивым голосом и способностями к живописи, а также прекрасно играла в шахматы. Несмотря на то, что Беттина относилась к нему сдержанно и прохладно, Сметана, который был на 16 лет старше, возгорелся страстной любовью, о чем мы можем судить по его письму от 3 августа 1859 года: «Милая, милая Бетти! К милости и состраданию взываю я в моей беде! Позволь мне вновь лицезреть твой прекрасный лик! У меня нет других желаний в этом мире, который больше для меня не существует. Мне уже ничего не нужно, кроме покоя смерти, такого покоя в этой жизни, который покроет израненную душу ледяным могильным покровом, и я после стольких страданий наконец смогу ощутить желанный холод в моем сердце… Обожаемая! Несравненная! Ангел мой, свет мой, счастье мое, ты стала для меня всем!!! Что за преступление я совершил, за что должен так страшно страдать?». Беттина не испытывала к нему сильной любви и не скрывала этого, но уступила его отчаянному напору. Сметана получил от нее обещание стать в будущем году его женой, и обязан был этим в основном ореолу художника и добродушному и приятному характеру, но никоим образом не внешним данным. Ян Рыс, которого Сметана взял с собой в Швецию в качестве слуги, для того чтобы вести хозяйство в осиротевшем доме, так описывал своего хозяина: «Маленькая, но крепкая фигура в серо-коричневой тужурке рубашечного покроя с очень широкими рукавами… Уже в то время Сметана носил очки в золотой оправе. Каштановые волосы свисали до плеч и блестели так, как будто их смазали маслом, чего на самом деле не было. Усы его были темно-каштанового цвета с рыжеватым оттенком. Он также носил «козлиную» бородку и бакенбарды, которые в то время называли «котлетами». Внешность его могла показаться интересной, и говорили, что он даже «весьма мил», когда улыбается. Его улыбку очень украшали два ряда красивых белых зубов».
22 сентября 1859 года Сметана вместе с молодым слугой вернулся в Гетеборг, в квартиру, где всюду его преследовали воспоминания о недавно умершей Кати. Наброски к программной фортепианной поэме по мотивам «Макбета» возникли еще под впечатлением ее смерти, но после длительной паузы творчество его, вдохновляемое Бетти, вновь приняло иное направление. Уже в начале 1860 года Сметана заканчивает два больших цикла полек, первый из которых посвящает своей шведской подруге Фрейде Бенеке, а второй — Беттине. В мае 1860 года он вновь покидает Гетеборг. 10 июля в Мельнике состоялась его свадьба с Бетти, и осенью они уже вдвоем вернулись в Швецию. Прекрасная Бетти быстро завоевала все городские салоны.
В это время на родине Сметаны произошли серьезные изменения, связанные с вступлением в силу так называемой Октябрьской грамоты от 20 октября 1860 года. Теперь его желание жить и творить на родине еще более возросло. Политическое развитие позволяло надеяться на то, что чехам удастся возродить «богемскую государственность» и «земли короны Святого Вацлава» получат тот же статус, которого требовали для себя венгры. Из многих различных редакций конституции многонационального государства в Октябрьской грамоте 1860 года был выбран вариант с опорой на федерализм и сильную автономию земель.
Сметану, конечно же, больше всего интересовали изменения в культурной жизни родной страны, и когда он узнал о том, что в результате этих событий в Праге, наконец, откроется новый чешский театр и в связи с этим объявлен конкурс на новую чешскую оперу, его уже ничто не могло удержать в Швеции. 31 марта 1861 года он записал в дневнике: «Я не могу похоронить себя в Гетеборге; я должен сделать все, чтобы мои сочинения публиковались, чтобы у меня были возможности для новой деятельности и стимулы для большой работы, поэтому — в большой мир, и как можно скорее! Моя Бетти радуется, что сможет снова жить на родине, и я вместе с ней». Не вняв просьбам шведских друзей изменить свое решение, 11 мая 1861 года Сметана навсегда распрощался с Гетеборгом и 19 мая прибыл в Прагу, где начался решающий этап жизни мастера.
Однако вначале его ждало горькое разочарование. Ни первый сольный фортепианный концерт, ни первое выступление в качестве дирижера с собственными оркестровыми произведениями в январе 1862 года не были замечены публикой, о чем свидетельствует следующая дневниковая запись: «Был такой холод и пустой зал… Мне пришлось даже доплатить 208 гульденов». Вскоре он вновь вынужден был заняться педагогической деятельностью, и в августе 1863 года открыл вторую частную музыкальную школу. В работе этого учебного заведения активное участие принял дирижер и скрипач Фердинанд Хеллер, что позволило Сметане большую часть времени посвятить композиции. Созданные им в 1863 году хоры, исполненные большим хором пражского певческого союза «Глагол», свидетельствуют о том, что Сметана не остался в стороне от волны всеобщего национально-чешского энтузиазма, порожденного Октябрьской грамотой. Когда в апреле 1863 года был создан творческий союз «Умелецка беседа», Сметана возглавил его музыкальную секцию. Это расширило для него возможности в борьбе за создание новой чешской музыки. Основными видами оружия в этой борьбе Сметана считал «перо писателя и пульт дирижера». 2 мая 1864 года в крупнейшей из недавно основанных газет, пражской «Фольксблатт» появилась первая статья, в которой он впервые обсуждал оперу в амплуа музыкального критика этой газеты. Среди написанных им статей есть и такие, в которых он призывал к организации чешских абонементных концертов. В одной из таких статей, 1 октября 1864 года, Сметана писал: «Программы этих концертов должны включать в себя произведения музыкальных героев всех наций, но особое внимание должно быть уделено произведениям славянских композиторов… Как чех, я организую чешские концерты. Ведь нам, чехам, будет, наверное, дозволено иметь свои чешские концерты». Как дирижер, он провел этот план в жизнь, организовав в 1864–1865 годах три абонементных концерта. В дальнейшем, работая театральным капельмейстером, он успешно продолжил начатое дело.
Сметана, однако, твердо придерживался того мнения, что наиболее прочную основу для развития современной национальной музыки может заложить только опера. Такой постановке задачи идеально соответствовал «Конкурс Гарраха на чешскую национальную оперу». В поисках либретто, Сметана познакомился с чешским писателем Карелом Сабиной, одним из авторов самого известного чешского драматического произведения «Проданная невеста», который за пару недель написал либретто оперы «Бранденбуржцы в Чехии». Эта было весьма новаторское произведение, поскольку оно практически полностью порывало с классической концепцией оперы как «набора вокальных номеров» и в его сценически продуманной партитуре уже явно угадывается «музыкальная драма» в духе Рихарда Вагнера. В статье, опубликованной 15 июля 1864 года, Сметана писал: «Опера не должна быть музыкальным представлением, в котором поют, для того чтобы петь… Оперу необходимо поднять на высоту драмы». Позднее, возвращаясь к «Бранденбуржцам», он писал: «Вагнеровское направление тогда уже существовало, но я знал, что так начинать мне нельзя, ибо в таком случае мне перекроют путь навсегда». Премьера оперы состоялась 5 января 1866 года в первом чешском Временном театре и прошла с таким успехом у публики, что жюри Гарраховского конкурса должно было присудить Сметане премию в 600 гульденов.
В связи с этим успехом дирекция Временного театра проявила интерес к постановочным правам на первую оперу Сметаны «Проданная невеста», которую он закончил еще раньше. Первое упоминание об этом произведении в дневниках Сметаны относится еще к 1863 году. 5 июля он написал: «Получил от Сабины комическую оперетту, к которой надо написать музыку». Премьера этого произведения, ставшего позднее невероятно популярным, прошла в том же Временном театре 30 мая 1866 года и завершилось таким провалом, что после второго представления спектакль был снят с репертуара. Причины провала заключались, в первую очередь, не в качествах спектакля или в непонимании публики, а совсем в другом. К моменту премьеры над Прагой уже нависла тень австро-прусской войны. На город наступала прусская армия и пражанам было совсем не до изящного искусства вообще и веселой оперы в частности. Сметана сам бежал из Праги, опасаясь, что пруссаки расстреляют его, как автора «Бранденбуржцев». Но уже спустя 4 недели он вместе с семьей вернулся в свою квартиру и позднее подчеркивал, что поведение прусских офицеров, расположившихся в ней на постой, было в высшей степени корректным. Возвращаясь к провалу первой редакции «Проданной невесты», следует добавить, что наряду с напряженной военно-политической ситуацией, свою роль здесь сыграл и гот факт, что тогда это было простенькое двухактное произведение, в котором вокальные номера перемежались разговорными диалогами. Тем шедевром, который принято называть оперой «Проданная невеста», является ее четвертая редакция, впервые поставленная на сцене того же театра 25 сентября 1870 года.
В письме жене, отправленном в Ламберк 15 сентября 1866 года, Сметана с радостью и гордостью сообщает о своем назначении капельмейстером пражского Временного театра, пусть даже с годовым жалованием всего в 1400 гульденов. Таким образом, борьба между отсталым «феодально-клерикальным старочехом» Иоганном Майром и прогрессивным «свободомыслящим младочехом» Бедржихом Сметаной завершилась победой последнего. Последовавшая за этим «эра Сметаны», продолжавшаяся девять лет, явилась для Временного театра периодом блестящего расцвета. При этом, наряду с известными произведениями французских и немецких авторов, свой шанс получили пусть даже вначале скромные творения Антонина Дворжака или Зденека Фибиха. В дирижерском искусстве образцом для него был Ганс фон Бюлов, и Сметана подобно ему умел вдохновлять и певцов, и оркестрантов. Первые годы работы в должности капельмейстера стали самыми счастливыми в его жизни. Однако успехи Сметаны как дирижера и композитора были бельмом на глазу его консервативных противников. Самым непримиримым его врагом стал Франтишек Пивода, один из наиболее влиятельных музыкальных критиков Праги и приверженец ультраконсервативного направления. Подобно своему венскому коллеге и единомышленнику Эдуарду Ханслику, Пивода видел в современном направлении, представленном именами Берлиоза, Листа или Вагнера, угрозу существованию музыки. Поэтому он не мог не испытывать самой глубокой неприязни к зрелым произведениям Сметаны. При этом в своих критических выступлениях Пивода не останавливался перед несправедливыми и оскорбительными личными нападками. Деятельность Пиводы во многом способствовала тому, что Сметана в более поздние годы оказался в одиночестве. Пивода был человеком совсем не того масштаба, что его венский единомышленник Ханслик, и, считая, что цель оправдывает средства, без колебаний расклеивал в эстетических спорах клеветнические национально-политические ярлыки. В представлении этого старочешского реакционера приверженец Рихарда Вагнера выглядел не сторонником прогрессивного новонемецкого музыкального направления, а отщепенцем и предателем принципов исконно чешского искусства. Если бы подлинный чешский патриот Сметана хотя бы внешне дистанцировался от «вагнерианства», он был бы избавлен от многих незаслуженных обид и душевных страданий.
Война Пиводы против Сметаны началась сразу после премьеры его оперы «Далибор», которая должна была стать трагической антитезой «Проданной невесте». Эта национальная опера была завершена 29 декабря 1867 года и ее премьера приурочена к торжественной церемонии закладки первого камня Национального театра, здания, призванного символизировать грядущее обретение чехами новой самостоятельной государственности. Сама премьера, состоявшаяся 16 мая 1868 года, прошла под бурные аплодисменты, однако эти аплодисменты были адресованы, скорее всего, торжественной церемонии, а не опере как таковой, поскольку после немногих повторных представлений спектакль был снят с репертуара ввиду отсутствия к нему интереса публики. Трагическая судьба произведения, написанного кровью сердца, явилась самым тяжелым разочарованием в творческой жизни Сметаны, которое он уже никогда не смог до конца преодолеть.
Не обращая внимания на ожесточенные выпады критики, Сметана приступил к созданию «Либуше», оперы, полностью соответствующей типу торжественной музыкальной драмы. Из восьми опер Сметаны именно это произведение содержит наибольшее число элементов, стилистически присущих Рихарду Вагнеру. Но, с другой стороны, по своему тексту эта опера является наиболее чешской, «апофеозом чешского духа» в творчестве Сметаны, в которой он сознательно и решительно стремился дистанцироваться от Вагнера. Об этом Сметана писал 29 сентября 1877 года Людвику Прохазке: «Оперу «Либуше», написанную мною еще в полном здравии, я считаю наиболее удачным своим произведением в жанре высокой драмы и хочу со всей серьезностью подчеркнуть, что это совершенно самостоятельное мое произведение — без Вагнера и без Оффенбаха… И музыка и декламация занимают в нем логически положенное им место». Действительно, такое уникальное произведение невозможно отыскать ни в какой другой оперной культуре, и это на самом деле, как и задумывал Сметана, «национальная опера, предназначенная для исполнения по особым праздничным и торжественным поводам». Премьера «Либуше» состоялась почти через девять лет после завершения работы над ней, 11 июня 1881 года, по случаю торжественного открытия в Праге Национального театра. Это был самый гордый и торжественный день в жизни Бедржиха Сметаны, несмотря на то, что к этому моменту он был уже практически полностью глухим.
Тем временем продолжались нападки и измышления враждебной старочешской критики, которая поносила его деятельность как дирижера и руководителя оперного театра и заявляла, что Сметана исчерпал себя как композитор. Опера «Две вдовы», по мотивам одноактной комедии одного из любовников Жорж Санд Фелисьена Мальфиля, показала, что эти измышления лживы от начала и до конца. Элегантный, утонченный стиль этой оперы заставляет вспомнить о Моцарте. В Праге этому спектаклю не была уготована долгая жизнь, в чем есть и «заслуга» Пнводы с его отравленными стрелами, но после постановки в Гамбурге в 1881 году Ганс Рихтер назвал «Две вдовы» лучшей оперой XIX века.
Развитие смертельного недуга
Непрекращающиеся нападки со стороны представителей старочешской партии, «покушения на его честь», против которых он тщетно пытался бороться, представляли для Сметаны все возрастающую нервную нагрузку, которая, порой, становилась и вовсе непосильной. Тем не менее с конца 1872 года он работает над циклом симфонических поэм, две первые части которого получили название «Вышеград» и «Влтава». Первой реакцией переутомленной нервной системы было болезненное повышение слуховой чувствительности: если на улице появлялся шарманщик или бродячий оркестрик, Сметана вынужден был плотно закрывать все окна, так как, по его выражению, «фальшивые звуки» доставляли ему физическую боль. Нередко такой «грохот» приводил его даже в агрессивное состояние. Единственной радостью, заставившей его на короткое время отвлечься от повседневных забот, стала свадьба дочери от первого брака Софи весной 1874 года, которая вышла замуж за Йозефа Шварца, лесничего князя Турн и Таксис. Через несколько дней после премьеры оперы «Две вдовы» Сметана посетил молодоженов в лесничестве близ города Юнгбунцлау (Млада Болеслав). 12 мая он написал дочери письмо, пронизанное тоской о недоступном покое: «Я очень благодарен вам за заботу, которой удостоился во время моего визита. Хотя это длилось всего несколько дней, но мне стало так хорошо… Мое теперешнее положение очень меня ранит и угнетает, и я мечтаю о том, чтобы забиться в какой-нибудь угол, где меня не смогут найти эти «деятели искусства». Я так истосковался по миру и покою. А пока нужно бороться». Желанный покой ему не дано был обрести до конца дней. Этой весной произошло событие, которое послужило началом всей его последующей несчастной судьбы. 30 апреля 1874 года Сметана записал в дневник следующие лапидарные слова: «Двенадцатого числа у меня появилась гнойная язва». Вскоре к этому добавились неприятные ощущения, которые подробно описаны не были. Дневниковая запись от 11 июня: «Боль в горле не прекращается уже две недели». Запись от 28 июня сообщает, что он «все еще страдает от боли в горле». В июле у него появляется кожная сыпь, и он решает обратиться за консультацией к профессору Эмануэлю Цауфалю, крупнейшему в то время специалисту по заболеваниям уха, горла и носа в Праге. 14 июля он записал в дневнике: «Еду в Прагу посоветоваться с доктором. У меня появилась сыпь на теле. Доктор заверил меня, что ничего страшного у меня нет». 24 июля появляется запись о новых жалобах, которые, по всей видимости, уже весьма серьезно обеспокоили Сметану: «У меня постоянно заложены уши. Вдобавок к этом постоянно кружится голова. Эта неприятность началась после небольшой утиной охоты, когда погода внезапно переменилась. С тех пор я лечусь «ингаляциями». Сметана применял «воздушные ингаляции» по рекомендации доктора Цауфаля, который связывал жалобы своего пациента с «катаром трубки» — воспалительным процессом в слуховой трубе.
Однако в июле проявились симптомы, которые никак не вязались с катаром слуховой трубы. В это время Сметана пишет о странных слуховых галлюцинациях, которые возникали во время прогулок в форме «своеобразных и прекрасных звуков флейты». Вдобавок он с ужасом обнаружил, что ноты верхней октавы звучат в правом его ухе иначе, чем в левом, которое он до сих пор считал здоровым. Судя по всему, это расстройство слуха не имело ничего общего с тем нарушением, которое раньше случилось у него, очевидно, на нервной почве, о чем он сообщал в письме жене 12 лет назад в марте 1862 года: «Наверное, вследствие нервного переутомления я все время слышу пение двух мужских голосов в соль-мажоре под низкий аккомпанемент органа. Если я высовываю голову из экипажа, эти звуки замолкают, но тот час же возникают вновь, стоит мне как следует устроиться на сиденье». В то время это были, скорее всего, так называемые неврастенические жалобы на почве нервного перевозбуждения, вызванного профессиональными трудностями и перегрузками, возникшими в Праге сразу после возвращения из Швеции. Нынешние же затруднения носили явно органический и прогрессирующий характер. При этом его состояние ухудшалось столь быстрыми темпами, что уже в сентябре левое ухо практически перестало слышать.
Осознавая, какие сложные времена ему предстоят, он счел своим долгом обратиться с письмом в дирекцию Национального театра, в котором, выразив надежду на улучшение положения, попросил на неопределенное время освободить себя от обязанностей дирижера. Из этого письма, датированного 18 сентября, мы узнаем некоторые дополнительные подробности течения его заболевания: «Почитаю своим долгом, сообщить Вам о постигшем меня тяжком ударе судьбы: существуют основания опасаться того, что я потеряю слух. Еще в июле во время публичной репетиции я обнаружил, что в одном моем ухе звуки верхних октав звучат иначе, чем в другом, также в заложенных ушах я ощущаю шум, напоминающий звуки близкого водопада. Мое состояние постоянно менялось, однако в конце июля оно стало устойчивым. К этому добавились приступы головокружения, меня начало шатать, и при ходьбе я лишь с трудом могу удержать равновесие. Я поспешил в Прагу, с тем чтобы незамедлительно показаться доктору Цауфалю, видному специалисту по заболеваниям уха. И в настоящее время я нахожусь под его наблюдением. Он запретил мне заниматься музыкальной деятельностью: играть и слушать игру других, которую я и сам уже не слышу. Большие массы звуков переплетаются у меня в клубок и я не могу выделить отдельные голоса. Я прошу Вас, г-н директор…. разрешить мне на неопределенное время оставить мои обязанности, связанные с дирижированием и проведением репетиций, ибо в настоящее время я не в состоянии их исполнять. Если в течение ближайшего квартала мое состояние ухудшится, то, я, естественно, буду вынужден оставить должность, занимаемую мною в театре, и покориться суровой судьбе».
О личности неудавшегося музыканта, но тем более злобного критика г-на Пиводы, дает представление следующий пассаж, которым он разразился в газете при известии о глухоте Сметаны — самом страшном несчастье, которое только может поразить человека, посвятившего жизнь музыке: «Вот каково оно, наше первое лицо, считающее чешский театр богадельней, инвалидным домом, патологическим заведением!».
Бетховен, в предчувствии надвигающейся глухоты, оставил столь же потрясающий документ безнадежного отчаяния — «Хайлигенштадтское завещание» — но у него, в отличие от Сметаны, оставались еще годы до полной потери слуха. Сметану же недуг поразил, в буквальном смысле слова, за одну ночь: в эту ночь с 19 на 20 октября 1874 года внезапно перестало слышать и до того здоровое ухо. 20 октября он записал в дневнике: «Моя болезнь слуха усугубилась, левое ухо тоже не слышит». В записи от 30 октября явно просматривается недоброе предчувствие дальнейшей судьбы: «Я опасаюсь худшего, я совсем оглох, вообще ничего не слышу. Как долго это будет продолжаться?». Лишь когда глухота стала полной, Сметана капитулировал. 31 октября он окончательно оставил должность капельмейстера во Временном театре. Единственным источником существования для него теперь была пенсия в 1200 гульденов в год, то есть на пределе прожиточного минимума. Чтобы получить эту пенсию, ему пришлось уступить театру права на все созданные до сих пор оперы. Теперь он уже не мог ни выступать как пианист, ни давать уроки музыки и ему в основном оставалось лишь надеяться на помощь друзей. Согласно предписаниям врачей он неделями не выходил из затемненного помещения, стены которого были завешаны звукопоглощающими коврами, которые должны были защитить его от любых звуков. В октябре он пишет в дневнике: «Я должен заткнуть уши ватой и соблюдать полный покой». В течение последующего месяца в его состоянии ничего не меняется, о чем свидетельствует дневник: «Несчастье с моими ушами в том же состоянии, что и в начале месяца — ни правое, ни левое ухо ничего не слышит. Хоть бы шум прекратился».
Сметана принял этот трагический перелом судьбы с удивительной стойкостью. Он со страстью отдался композиторскому творчеству — болезнь еще не затронула главного, его творческих способностей. Уже в конце сентября Сметана углубился в работу над симфонической картиной «Вышеград», которая была завершена 18 ноября. Через два дня начинается работа над второй частью цикла, симфонической картиной «Влтава», которая была закончена в небывало короткий срок — за 19 дней — что явствует из собственноручной пометки композитора.
Лечебные мероприятия доктора Цауфаля не приносили облегчения. Сметане было запрещено говорить, друзьям и домашним было предписано разговаривать с ним только шепотом. Бесперспективность создавшегося положения породила решение обратиться к зарубежным светилам, с тем чтобы использовать все возможности. Сметана не располагал средствами на столь дорогостоящее предприятие, поэтому его друзья организовали благотворительные фонды и сбор пожертвований для того, чтобы оплатить путевые расходы и гонорары зарубежным специалистам. Благотворительный концерт, организованный его бывшей ученицей, дочерью графа Туна, принес 1800 гульденов. Его бывшая шведская подруга Фрейда, в замужестве Рубенсон, организовала сбор пожертвований, принесший 1244 гульдена, которые были незамедлительно высланы в Прагу. Получив собранные таким образом средства, Сметана смог в апреле 1875 года отправиться в зарубежное путешествие. Первым он посетил профессора клиники Вюрцбургского университета Фридриха фон Трельча, известного специалиста по ушным болезням, который, однако, смог ему помочь не больше, чем доктор Цауфаль. Трельч лишь предложил ему вскрыть барабанные перепонки. Затем Сметана направился в Вену к другому авторитету в области заболеваний уха, профессору Адаму Политцеру, которому так изложил анамнез своего недуга: «С июня 1874 года я страдал расстройствами слуха, временами ощущая то в левом, то в правом ухе звук в верхнем диапазоне четвертой октавы. В июле к нему прибавился сильный звук, напоминающий шум прибоя, и головокружение при любом резком повороте головы. Я стал хуже слышать, прежде всего, правым ухом. В конце июля я обратился за консультацией к пражскому профессору Цауфалю, который на основании результатов тщательного обследования констатировал поражение обоих ушей. Он порекомендовал мне соблюдать полный покой, воздерживаться от игры на фортепиано, беречь слух и ежедневно на пять минут вставлять в ухо конец каучукового шланга, название которого я забыл. Август я прожил в деревне у дочери, что обеспечивало мне спокойную обстановку. В начале сентября я вернулся в Прагу и вновь обратился к профессору Цауфалю, который назначил воздушный душ при помощи катетера. В октябре состояние левого уха улучшилось и я слышал им вполне хорошо. В конце октября оглох и на левое ухо, причем это произошло очень быстро, в течение двух-трех дней. Быть может, этому способствовало то, что я вновь стал играть на фортепиано? Или причина этого в ином? Итак, я, как говорится, оглох как пень, и оставался таким до февраля, несмотря на все примененные медицинские мероприятия. Тогда профессор Цауфаль применил воздушный душ в оба уха при помощи баллона, и, начиная с марта, наступило улучшение: я могу слышать сильные высокие звуки: свистки, высокие голоса, шипение и т. п. я слышу хорошо, все остальное имеет одинаковый тембр, как тонкое дерево. Слова я различать не могу, слышу лишь закрытые гласные: «и», «э» и шипящие «с», «ш» и т. д.».
После тщательного обследования, состоявшегося 5 и 6 мая, профессор Политцер поставил диагноз «паралич лабиринта» и в качестве терапии назначил «электризацию». Кроме этого пациенту было назначен многонедельный курс лечения смазыванием, о чем мы узнаем из записи в дневнике Сметаны, в которой, правда, ничего на сказано о составе мази. Интересно, что эта мазь должна была наноситься не только локально, в области ушей, но и на всю остальную поверхность тела — обстоятельство, к которому мы еще вернемся при обсуждении окончательного диагноза. Такое назначение говорит о том, что профессору Политцеру уже тогда было ясно, что у Сметаны поражено не среднее ухо, как тогда считалось, а внутреннее ухо и слуховой нерв.
К сожалению, и эта терапия не смогла принести существенного улучшения. Вот запись из дневника Сметаны за 30 июня 1875 года: «Проверка слуха. Я не заметил какого-либо улучшения. Доктор доволен». Ни лечение мазью, ни занятия по тренировке слуха (игра последовательностей нот на фортепиано, произнесение вслух отдельных звуков и слогов) не могли вернуть надежду отчаявшемуся пациенту. Оставался последний шанс — электротерапия, прибор для которой приобрел профессор Цауфаль. Лечение началось 25 октября. «Последняя попытка — после этого моя участь будет решена!» — записал Сметана в этот день в дневнике. Ответ был получен очень скоро и звучал как приговор: Сметана был обречен остаться глухим до конца своих дней. Его охватила глубокая депрессия. Вот дневниковая запись от 2 марта 1876 года: «Если моя болезнь неизлечима, то лучше сразу покончить с этим жалким существованием». Он удалился в деревенскую глушь, к дочери Софи в лесничество Ябкенице, где все были от души ему рады. Здесь он провел последние годы жизни.
Жизнь Сметаны в Ябкенице складывалась в основном радостно. Он очень любил двух своих дочерей и четверых детей Софи, и все обитатели дома относились к нему с любовью и уважением. И если он все чаще пребывал в подавленном состоянии духа, то виной тому была глухота, из-за которой при разговоре с ним собеседнику приходилось писать слова — процесс, известный нам по бетховевским тетрадям для бесед. К этому добавилось еще одно несчастье: растущее отчуждение между Сметаной и второй его женой Бегтиной. Вынужденная жить с глухим мужем, преодолевая постоянные денежные затруднения, она превратилась в конце концов в верного долгу, но весьма трезвого боевого товарища. Ей не было присуще сочувствие подруги страдающего гения. Сметана же не переставал надеяться на то, что любовь вспыхнет снова, и продолжал добиваться ее благосклонности. В 1875 году он завершил фортепианный цикл «Rêves» («Сновидения»), в котором совершенно отчетливо ощущается тоска по минувшим счастливым дням и страдание, порожденное отчуждением между ним и женой. Этот фортепианный цикл субъективно является антитезой большому оркестровому циклу «Моя Родина», не имеющему себе равных в мировой музыкальной литературе. Четвертую часть цикла «Из чешских полей и лесов» Сметана закончил уже в Ябкеницком лесничестве.
В конце июля 1876 года Сметана завершил работу над оперой «Поцелуй», первым оперным произведением, созданным композитором после потери слуха. Эта опера не несет на себе ни малейших следов той внутренней борьбы, которой стоило ее создание в промежутках между приступами глубокой депрессии. Из всех восьми опер Сметаны лишь на долю этой выпал бесспорный успех с первого дня, что можно видеть из записи в его дневнике от 7 ноября 1876 года сразу после премьеры: «Первое представление «Поцелуя». Полный театр, после первого акта вызывали дважды, после последнего трижды… Аплодировали». Только в ноябре опера шла семь раз при полном аншлаге, что по меньшей мере временно избавило Сметану от материальных забот. Но еще важнее для маэстро были овации той самой публики, которая с любопытством ждала, сможет ли оглохший Сметана создать оперу. По словам свидетеля, «из лож над головами партера к его ногам летели цветы, его засыпали цветами со всех сторон, это был восторг без конца», пока наконец глухой маэстро, взволнованный и беспомощный, жестикулируя, не появился на сцене.
Вскоре после завершения партитуры оперы «Поцелуй» и через два года после потери слуха Сметана начал сочинять первый струнный квартет ми-минор. Название «Из моей жизни» показывает, что это произведение автобиографическое. Программность не свойственна этому камерному жанру, и Сметана посчитал необходимым снабдить это музыкальное описание своей жизни словесными пояснениями. В апреле 1878 года он написал своему другу Йозефу Срб-Дебрнову: «Я не имел в виду написать квартет в соответствии с рецептом и обычаями общепринятых форм. У меня форма любого сочинения вырастает из его содержания. Вот почему этот квартет принял ту форму, какая есть». В состоянии глубокой душевной боли Сметана вновь ищет спасения в интимности камерной музыки, как это случилось после смерти любимой дочери, когда возникло фортепианное трио соль-минор.
Квартет ми-минор «Из моей жизни» был написан очень быстро, между октябрем и декабрем 1876 года, в уединении Ябкеницкого лесничества. Четыре части этого квартета соответствуют четырем решающим моментам его жизни. В письме Срб-Дебрнову он пишет об этом так: «Часть 1: склонность к искусству в юности, романтическое настроение, невыразимая тоска о чем-то, чего я не могу ни выразить, ни представить себе, но как бы предостережение перед грядущей бедой; длинный звенящий звук в финале возник из этого начала; это тот самый судьбоносный свист на самых высоких тонах, который в 1874 году возвестил о грядущей глухоте. Часть 2: что-то вроде польки, воспоминание о радостной жизни в юности, когда я только и делал, что сочинял танцы для молодежи. Часть 3: Largo sostenuto, напоминает мне о счастливой любви к девушке, которая затем стала моей верной женой. Часть 4: осознание элементов национальной музыки, радость найденного пути, который был прерван катастрофой; начало глухоты, взгляд в печальное будущее, слабый луч надежды, но воспоминание о начале карьеры рождает чувство боли. Вот в чем смысл этого сочинения. Это произведение личного характера, сознательно написанное для четырех инструментов, которые в кругу друзей должны говорить между собой о том, что так меня гнетет. Вот и все».
Наиболее реалистично эта программа воплотилась в финальной части, где главная тема внезапно обрывается, и поверх жуткого тремоло в басах раздается пронзительное ми четвертой октавы — мотив, который Сметана объяснил Августу Кемпелю в беседе, состоявшейся в Веймаре, следующими словами: «Я считал, что должен показать начало моей глухоты так, как это происходит в финале квартета посредством ми четвертой октавы первой скрипки. До наступления полной глухоты на протяжении многих недель каждый вечер между 6 и 7 часами вечера меня преследовал пронзительный свист, подобный ля-бемоль-мажорному аккорду в самом верхнем регистре флейты-пикколо: соль-бемоль, ми-бемоль и до. Этот звук раздавался непрерывно полчаса, порой целый час. Это происходило ежедневно и было подобно грозному предостережению о грядущей катастрофе! Поэтому я и попытался изобразить эту катастрофу пронзительным ми четвертой октавы в финале. Поэтому это ми следует всегда играть фортиссимо».
Все же не утратив еще до конца надежду на исцеление, Сметана в ноябре 1877 года отправился в Ламберк, где некий дирижер по фамилии Клима, работавший в России, пообещал ему добиться улучшения состояния, для чего он собирался применить довольно сомнительный метод. Этот шарлатан провел несколько сеансов иглоукалывания в области ушей и шеи пациента наподобие того, как это делается в настоящее время в рамках серьезной акупунктурной терапии. Результаты прокомментировал сам Сметана: «Успех был равен нулю. Слух ко мне не вернулся, зато распухла шея». В марте 1880 года для Сметаны вновь мелькнул луч надежды — это было связано с изобретением аппарата, получившего название «дентифон». Но и этот громоздкий аппарат не принес улучшения. Сметана вообще отказался иметь с ним дело из-за неудобства в использовании, объяснив это так: «Чтобы что-то слышать, я буду вынужден повсюду таскать за собой большущий ящик».
Новый 1877 год начался весело и обнадеживающе. Завершив работу над заказом Большого пражского хора, Мужским хором а капелла «Песнь к морю», который стал одним из самых значительных его хоровых произведений, Сметана, охваченный творческой эйфорией, в апреле приступил к работе над четырьмя польками, которые «записывал сразу начисто и тут лее проигрывал на фортепиано». Но вскоре возникли возрастающие трудности. Наряду с глухотой и всеми связанными с нею психологическими нагрузками в июне 1877 года появились симптомы, делавшие сочинение музыки все более затруднительным. Он записал в дневник: «Три дня я беспрерывно страдаю от приступов головокружения и рвоты… головокружение не оставляет меня с утра до ночи, силы мои уходят». До сих пор, живя в Ябкенице, он сочинял ежедневно на протяжении многих часов, распределяя нагрузку на утреннее и послеобеденное время. Теперь же, после часа работы, «шум в голове», головокружение уже больше не давали ему сосредоточиться.
Тем не менее, находясь в столь сложном физическом и душевном состоянии, он нашел в себе силы после успеха «Поцелуя» начать работу над музыкой для новой оперы, либретто которой называлось «Тайна». 2 октября он писал либреттистке: «Я работаю над нашей оперой «Тайна» по мере возможности, когда это позволяют приступы головокружения, которые меня теперь преследуют больше, чем когда-либо… С мая я не получал гонораров… Но когда я погружаюсь в мир музыкальных фантазий, я хотя бы на короткие мгновения забываю о том, что меня так жестоко преследует в старости». И все же «Тайна», первая опера, все части которой, включая увертюру, большие ансамблевые и хоровые сцены, вплоть до финала, пронизаны полифонией, стала его новым большим успехом. После премьеры 23 сентября 1878 года счастливый маэстро написал: «Переполненный зал. Цветы, несколько раз вызывали. Мои дети присутствовали при этом». Наконец Сметана завоевал пражскую публику, и даже его заклятому врагу Пиводе пришлось опубликовать слова признания в своем журнале.
Творческий родник Сметаны не иссякал. В марте 1879 года он закончил работу над симфоническими картинами «Табор» и «Бланик», завершив тем самым большой цикл «Моя Родина». Так возникла «национальная святыня чешской музыки», рисующая страну и историю народа средствами музыкальной поэзии, произведение, которого не знает никакая иная музыкальная культура. Впервые весь цикл был исполнен 5 ноября 1882 года, что явилось уникальным торжественным событием, о чем мы можем судить по рецензии в журнале «Далибор»: «С момента открытия Национального театра ни в одном чешском собрании не господствовал столь благородный дух, как в прошлое воскресенье… Как только отзвучал захватывающий финал, сотни голосов начали вызывать маэстро Сметану, который пережил в этот день один из величайших триумфов… Такая же буря аплодисментов повторялась после каждой из шести частей цикла… После «Бланика» публика вовсе вышла из себя и никак не хотела отпускать композитора, который пусть и не мог слышать свое творение, но в душе был счастлив тем, что оно делает счастливыми других».
После завершения этого грандиозного цикла Сметана закончил работу над еще одним фортепианным циклом — «Чешскими танцами», состоящим из четырех полек. В отличие от тех полек, которые он создавал во времена, когда был активно концертирующим пианистом, эти были не столь виртуозны, зато отличались большей зрелостью и поэтичностью, что подняло народный танец на более высокий уровень художественного отображения. В этом состоит принципиальное отличие произведений Сметаны от более элементарной концепции «Славянских танцев» Дворжака или «Венгерских танцев» Брамса. 2 марта 1879 года Сметана в одном из писем изложил свое глубоко личное представление о чешской польке, которое позволяет нам лучше понять это произведение: «Я хочу идеализировать именно польку, подобно тому, как Шопен в свое время сделал это с мазуркой». Вообще же он считал этот цикл лучшим из того, что он создал в своей жизни для фортепиано.
Кроме глухоты и ее удручающих психологических последствий теперь все более явно проявлялись симптомы, создававшие ему дополнительные трудности при сочинении музыки, о чем он сам писал так: «Представьте себе, что у человека, потерявшего слух, внутри бурлит музыка. Никто не имеет понятия, как разлетаются мысли у глухого. Если я их сразу же не запишу, то уже через мгновение от них ничего не останется. А ведь все считали, что у меня феноменальная память». Ослабление памяти было помехой не только в композиции, но и в личных контактах с окружающими. Когда на премьере оперы «Либуше» в Национальном театра 11 июня 1881 года ему предоставили слово для торжественной речи, он открыто сказал: «Я хочу поблагодарить вас за все и признаться, что я буквально дрожу, потому что для меня нет ничего более трудного, чем говорить связно. Стоит мне произнести фразу, как я уже забываю, о чем только что думал, потому что сам себя не слышу. Мне не хватает copia verborum (словесной копии), потому что я ее похоронил в copia tonorum (звуковой копии), которая наполняла меня на протяжении всей моей жизни». Некоторое оживление в его унылое существование в уединенном Ябкеницком лесничестве вносили наезды в Прагу, где он не только ходил в театры и на серьезные концерты, но и с особым удовольствием отдавал должное легкому жанру. На удивленный вопрос его либреттистки Красногорской он попытался так объяснить причину своего пристрастия: «Представьте себе глухую, можно сказать, мертвую голову, в которую не может проникнуть ни звук музыкального инструмента, ни человеческое слово, вообще ни один отзвук жизни! Поэтому я хочу хотя бы что-нибудь увидеть, подобно ребенку, широко раскрыв глаза, и чем более пестрым будет то, что я увижу, тем меньше я буду ощущать отсутствие слуха». Однако в наибольшей степени от жестокой судьбы его отвлекало сочинение музыки. Окрыленный успехом «Тайны», он вскоре создал план нового оперного произведения — «Чертова стена», премьера которого состоялась 29 октября 1882 года. Здесь Сметана пошел совершенно новым путем, намереваясь за счет уравновешивания вокальной и инструментальной составляющих создать «говорящее симфоническое полотно». В анализе произведения, предназначенном для дирижера, он подчеркнул «единство оперы как целого, как если бы это была одна большая симфония… пусть связанная с текстом». Как и следовало ожидать, новизна этой оперы не была понята ни публикой, ни его друзьями, и успех произведения был невелик. Эта неудача глубоко потрясла тяжелобольного Сметану. Стоя за кулисами, он сказал со слезами на глазах: «Наверное, я уже слишком стар, и пора кончать сочинять музыку. Никому уже до меня нет дела!».
Эта опера стоила Сметане особенно больших трудов, поскольку работа проходила на фоне прогрессирующего ухудшения состояния его здоровья. К шуму в ушах и приступам головокружения добавилось усиливающееся расстройство памяти, которое его очень беспокоило и удручало. Сколь тяжело ему давалось сочинение музыки, он сам написал в письме от 24 февраля 1882 года: «Стоит мне часок пописать, как у меня начинается шум в голове, все кружится в глазах — приходится бросать работу, вставать из-за стола и ждать, пока все это успокоится! Когда речь идет о столь сложном произведении, как опера, над которой я сейчас работаю, да еще если до тебя не доходит ни один звук извне, мне приходится держать связи всего организма в голове».
Во время работы над вторым струнным квартетом ре-минор Сметане приходилось вести со своей физической и психической немощью еще более тяжелую борьбу, чем при создании оперы «Чертова стена». Как и первое произведение этого камерного жанра, второй квартет также автобиографичен. Сам Сметана писал об этом так: «Второй квартет начинается там, где закончился первый, в момент сразу после катастрофы. Он представляет музыку, бурлящую в человеке, лишившемся слуха». В перечне своих произведений он его озаглавил так: «Струнный квартет (продолжение «Из моей жизни» ре-минор). Сочинен в состоянии нервного заболевания, порожденного глухотой». Работа над этим квартетом затянулась до марта 1883 года, так как творческие силы его иссякали и перерывы, вызванные плохим самочувствием, становились все более частыми и продолжительными. За несколько недель до этого, 18 февраля 1883 года, Сметана в беседе с пражским специалистом по психологии музыки Карлом Штумпфом еще раз подробно описал течение расстройства своего слуха:
«1874 год был годом, в который я полностью лишился слуха, сначала на левое ухо, а потом и на правое. Начиная с октября 1874 года я полностью глух на. оба уха…. В первое время, когда болезнь только началась и левое ухо еще продолжало слышать внешние звуки, каждый вечер снаружи, за стенами закрытой комнаты, где-то в поле мне слышался божественный звук флейты; после возвращения в Прагу этот звук пропал и уже ни разу за все эти годы не вернулся. Днем меня мучили неумолкающие аккорды на верхнем регистре флейты пикколо в соль-диез-мажоре. Это ощущение я попытался передать ми четвертой октавы в первом струнном квартете… И в этом столь плачевном состоянии мне удалось создать крупные произведения, не слыша их… Об их критике не может быть и речи. Я вижу их перед собой, но я не слышал ни одной ноты из тех произведений, о которых здесь говорю. И все же они жили во мне, и одно лишь представление о них трогало меня до слез, приводило в восхищение, изумляло и восхищало, вот что такое тайна внутреннего творчества!».
В последние годы жизни творчеству Сметаны препятствовала не только и не столько глухота, сколько возникшие у него нарушения нервной и психической деятельности. Примерно с конца 1881 года он усиленно жалуется на нервозность и невозможность сосредоточиться при сочинении музыки. Работа шла трудно и медленно, потому что он в мгновение ока забывал только что написанное и для того, чтобы восстановить логику произведения, ему приходилось читать все с начала. Тем не менее его невозможно было оторвать от работы, и он, обосновывая свое героическое упорство, писал: «Я хочу подарить моему народу, все что я ему должен и ношу в своем сердце». Эти слова, написанные 24 февраля 1882 года, свидетельствуют о все еще несокрушимой воле к творческому труду, но уже 4 декабря 1882 он написал: «Обычно работа доводит меня до полного изнеможения. Я вынужден писать очень медленно и аккуратно и все время возвращаться назад в поисках прошлых мотивов». И, наконец, в письме от 9 декабря перед нами предстает поистине потрясающая картина физического и психического состояния Сметаны, позволяющая судить о масштабах внезапного душевного крушения:
«Со мной произошла большая перемена. Примерно три недели назад я потерял голос, вернее, способность выражать свои мысли. Даже чтение давалось мне с трудом. Я был не в состоянии вспомнить имена ныне живущих и исторических личностей. Я мог лишь выкрикивать нечленораздельные звуки, делая между ними продолжительные паузы, и сидеть с открытым ртом. Никто не знал, чем мне помочь, уже хотели посылать за врачом, хотя был уже поздний вечер, но тут это наваждение постепенно прошло. Я снова смог читать, начал вспоминать имена. Через несколько дней, примерно через неделю, все это повторилось, только в большей и худшей степени — я не мог выдавить из себя ни словечка. Меня уложили в постель, и постепенно я пришел в себя. Врач запретил мне спиртное — ни капли вина и даже пива, — сказали, что это прилив крови к мозгу и что я могу потерять сознание и даже рассудок. Интеллектуальная работа над оформлением новых музыкальных идей, длительная глухота, перегрузка слухового нерва вызывают прилив крови к мозгу, и мозг как бы застывает и в такой момент ничего не воспринимает. Врач запретил мне читать дольше четверти часа и полностью запретил занятия музыкой. Мне нельзя даже думать о музыке, запрещено мысленно представлять свои или чужие сочинения, даже если такое состояние продлится целый год. Видимо, подошло уже мое время, ведь еще в Праге появились какие-то признаки — я был всегда и всем недоволен, мои новые сочинения были мне противны до такой степени, что порой я прямо трясся от злости. Все лето я страдал от ощущений холода и с каждым днем у меня оставалось все меньше желания шутить».
Но Сметана еще не сдавался. В середине 1883 года он начинает работу над партитурой оперы «Виола» по пьесе Шекспира, которая заинтересовала его пять лет назад. Друзьям он говорил: «Я еще сочиняю музыку лишь для того, чтобы люди смогли узнать, что происходит в голове музыканта, находящегося в таком состоянии, как я». Если его оставляла в покое боль и не мучили приступы нервного возбуждения, он тут же пытался продолжать работу, приводившую его с состояние настоящей эйфории. 8 января он написал своему другу Срб-Дебрнову: «О Виола, расскажи этим господам в Праге, как волнует она мне душу, слезы — слезы!», а спустя несколько дней он написал на странице партитуры оперы путаные слова: «Слава! Виола! (sic) ей суждено вечно — славно носить славу! Слава ей!».
Болезнь пока еще протекала с паузами и просветлениями, и даже с относительно продолжительными спокойными интервалами. Однако признаки душевного расстройства проявлялись все более явно. У него появились зрительные и слуховые галлюцинации, ему мерещилось, что мимо его окна ходят, кивают и моргают какие-то люди, которых не существовало в природе, он же видел их совершенно четко. В другой раз ему показалось, что «в закрытую комнату вошла большая компания различных совершенно незнакомых людей, особенно запомнилась стайка прелестных празднично одетых дам. Он не мог понять, откуда взялось это шикарное общество и что оно ищет в его уединенном убежище, и рекомендовал «гостям» поехать в Прагу, где они смогут лучше развлечься».
В первые недели 1884 года Сметана начал заметно впадать в душевную беспомощность. С жуткой наглядностью это состояние демонстрирует его письмо, написанное 19 января 1884 года частью на чешском, частью на немецком языке: «Дорогой друг! Я пишу вам в большой спешке и прошу Вас купить мне 20–30 почтовых марок, красных, с большой пятеркой. Когда я попаду в Прагу, то верну Вам те 30 гульденов, которые задолжал. Я так взбешен, что с удовольствием бы разнес все это из пушек… О Виола! Я посылаю Вам божественные мелодии первого акта, чтобы и Вы смогли насладиться нирваной от этих звуков. Многие считают, что я — ангел». Здесь он вновь упоминает фрагмент оперы «Виола», над которым продолжал работать до февраля 1884 года. Рукопись заканчивается на 365 такте, а на верхнем поле последней страницы рукой Сметаны символически написано «Последний лист». Как это ни странно, в набросках последнего произведения Сметаны не ощущается ни малейших признаков душевного расстройства автора, хотя во время работы над этим произведением он уже находился на грани полного безумия.
Сметана уже давно предчувствовал приближение грядущей беды. Еще в 1879 году, работая над симфоническим циклом «Моя Родина», он написал: «Я испытываю страх перед безумием. У меня так тяжело на душе, что я сижу часами и не могу ни о чем думать, кроме своей беды». И вот, весной 1884 года, безумие наступило и проявилось в явной и открытой форме. Его письма друзьям становились все более бессмысленными, 2 марта, по случаю своего дня рождения, он сам себе послал поздравительную открытку. Он вступил в иррациональную переписку с Моцартом и Бетховеном. Часто он писал бессмысленные наборы слов на клочках бумаги, такие, например, как: «На земле, в лесу, в пруду. Так было хорошо». Что он при этом имел в виду, никто узнать уже не мог. Он стал волочить ноги, а способность к восприятию была уже настолько нарушена, что 2 марта в Праге на посвященной его юбилею премьере «Пражского карнавала», своего последнего завершенного произведения, законченного в сентябре 1883 года, он почти не понимал, что происходит вокруг.
Вскоре он уже перестал узнавать на улице друзей и членов своей семьи. Теперь он лишь что-то невнятно бормотал себе под нос, и из этого лишь изредка удавалось разобрать слова вроде «Вагнер» и «Лист». Порой на него находили припадки возбуждения, когда он бил окна, ломал мебель в своей комнате и даже угрожал домашним револьвером. Теперь он нуждался в круглосуточном надзоре. 22 апреля, после особо тяжелого буйного припадка, семья, скрепя сердце, приняла решение поместить его в пражскую лечебницу для душевнобольных, где он мог получить требуемый уход и находился под постоянным наблюдением. Франтишек Моуха, бывший в то время слугой в доме зятя Сметаны лесничего Шварца, так описал душераздирающую сцену прощания несчастного маэстро с Ябкенице: «Наступил мрачный дождливый день 23 апреля…Перед деревянной лестницей, ведущей в прихожую, стоял готовый экипаж… Когда господин лесничий взял у меня из рук одеяла, чтобы укутать Сметану, в его глазах стояли слезы. Сметана с отсутствующим видом сидел в экипаже… Все плакали».
В последние три недели, когда разрушительная работа болезни вступила в завершающую стадию, в крошечную зарешеченную палату Сметаны допускали только самых близких родственников. Его последние дни зафиксированы в истории болезни, хранящейся в архиве больницы: «Больной истощен, все тело дрожит, ужасная слабость мешает ему стоять на ногах. Больной лежит в постели в скрюченной позе, не спит ночью, кричит и говорит что-то непонятное. Глотание затруднено, может принимать только жидкую пищу. Артикуляция затруднена, подвижность языка ограничена, голос сильный, низкий. Часто больной совершает движения, как будто дирижирует оркестром, при этом его руки дрожат. Пульс тонкий, слабый, правый угол рта несколько отвисает вниз. При разговоре и крике левая половина лица остается неподвижной. Больной слезает с кровати, с криком ползает по полу. Создается впечатление, что его мучают неприятные галлюцинации. Больной совершает необычные движения правой рукой. Речь непонятна».
Дальнейшее течение болезни вплоть до летального исхода описано лечащим врачом Сметаны доктором Вацлавом Вальтером: «В шезлонге сидит, постоянно ворочаясь, глубокий старик. Болезнь Сметаны началась уже давно, о ней возвестила его глухота. Сознание его было полностью затемнено, он вел себя беспокойно. Он не мог сам себя обслуживать и своими экспансивными аффектами не давал ни минуты покоя окружающим. Что-либо объяснить ему было невозможно. К счастью, он был слаб и с ним несложно было справиться. Он отказывался от пищи и его приходилось кормить. Речь Сметаны уже в момент поступления в клинику несла на себе следы паралитического поражения. В дальнейшем речь стала совершенно неразборчивой. Из посетителей он уже никого не узнавал. Периоды просветления отсутствовали, у больного случались обмороки и галлюцинации. Не было ни малейшей надежды на ремиссию, тем более, на выздоровление.
Физически маэстро выглядел ужасно — кожа да кости, воплощение истощения. Он отбивал такт правой рукой, что-то мычал, пытаясь, очевидно воспроизводить звук музыкальных инструментов, посреди негармоничных последовательностей звуков неожиданно раздавался сильный удар, который должен был, наверное, изображать турецкий барабан: буммм! Иногда он смеялся, это был смех паралитика, напоминавший стон. 12 мая 1884 года мы уже с утра ожидали смерти Сметаны… в пол пятого вечера его не стало».
Диагностическое заключение
С согласия родственников профессор пражского Патологоанатомического института Ян Глава и пять его ассистентов 13 мая 1884 года произвели вскрытие тела Сметаны, по результатам которого было составлено следующее заключение: «Труп 60-летнего мужчины, небольшого роста, кости тонкие, имеются признаки сильного истощения. Кожа на спине стянута, кожа лица имеет красноватый оттенок, как и слизистая губ, конъюнктива, напротив, бледная. Шея короткая, нормальной толщины; грудная клетка плоская, короткая; живот впалый; на обеих ногах ссадины вокруг коленных чашечек; череп пропорциональный, овальный, 17 см в длину, 14 в ширину, толщина примерно 1,5 см, преобладает пористость. Внутренняя поверхность совершенно гладкая. Кожа черепа сильно натянута, в верхнем канале свежесвернувшаяся кровь. Мозговая оболочка утолщена, наиболее сильное утолщение имеет место в области левой лобной доли и в области темени, где обнаружены незначительные паккионовы грануляции. Выше заднетеменной доли мягкие ткани мозга истончены. Извилины имеют следующие изменения по сравнению с нормальным мозгом: количество их явно меньше нормы и они явно более выражены; центральная мозговая извилина имеет ширину 2 см против нормальной ширины 1 см; наиболее развита третья левая мозговая извилина (locus Broci), мозговая оболочка очень плотно прилегает к поверхности мозга и в местах утолщений ее нельзя отделить от поверхности мозга. При разрезе обнаружено, что боковые желудочки расширены и заполнены чистой жидкостью. Эпендима гладкая, но прочная. Кора сильно утончена, толщина в среднем не превышает 3 мм, имеет коричневый оттенок, гладкая, почти склеротичная. Центральные ганглии сплющены, но обладают достаточной прочностью. Nucleus caudatus и Nucleus leniformis черно-коричневого цвета. Claustrum очень широк, примерно 4 мм против нормальных 2 мм. Третий желудочек увеличен. Эпендима шероховатая, зернистая, бледная, мелкие вены расширены и шероховаты. Четвертый желудочек увеличен. Эпендима шероховатая, зернистая, блестящая, коричневатого цвета. Striae acusticae очень незначительны, с левой стороны их три, с правой всего две, причем они очень тонки, цвет сероватый. Мозжечок мягкий и бледный, Pons и Medulla oblongata обладают достаточной прочностью. Серое вещество пигментировано, то же самое относится и к удлиненному спинному мозгу. Nervi acustici тоньше нормы, сероватого цвета. Атероматозные вены в основании мозга. Вес мозга 1250 г.
Лобулярная гепатизация обоих легких. Левый желудочек сердца несколько увеличен. Сильная атерома оболочки сердца и почти всех артерий. Коричневая атрофия печени и почек. Жестко закрепившийся тромб в обызвествленной бедренной артерии.
Диагноз
Хроническое воспаление мягкой мозговой оболочки, наиболее явно выраженное в области лобной доли. Частичное сращение мягкой мозговой оболочки с поверхностью мозга. Наличие жидкости в желудочках мозга. Красная атрофия мозга. Зернистое воспаление внутренней оболочки четвертого желудочка с сухоткой слуховой мозговой ткани. Паралич слуховых нервов. Двустороннее воспаление легких, рассеянное в нижних долях. Обызвествление артерий, окрашенные отложения на стенках левой бедренной артерии. Общий коллапс тела и всех органов».
Мы столь подробно воспроизвели здесь протокол вскрытия потому, что вокруг причины смерти Сметаны существовало и существует немало версий, что послужило поводом для ряда научных дискуссий. В этом смысле протокол вскрытия является исключительно важным документом для постановки окончательного диагноза болезни Сметаны. Другими источниками, позволяющими сделать объективное и не продиктованное эмоциями медицинское заключение, являются письма и дневники композитора, впервые исследованные с медицинской (отоларингологической) точки зрения Г. Фельдманом в 1963 году. Публикация этих документов положила конец не только всем спекуляциям вокруг расстройства слуха у Сметаны, но также и домыслам о причинах распада его личности в последний год жизни и о причине его смерти.
Ключевое событие, с которого берут начало все последующие симптомы, произошло в марте 1874 года. Ретроспективное изучение дневника Сметаны позволяет сделать вывод о том, что он был инфицирован болезнью, которая в то время далеко не редко встречалась в крупных городах. Называется эта болезнь сифилисом (люэсом). Инкубационный период с момента заражения до момента появления первого видимого, так называемого первичного, поражения продолжается обычно от трех до шести недель. Сметана в своем дневнике датирует первичное поражение 12 апреля 1874 года, что позволяет датировать заражение началом или серединой марта. Запись от 30 марта сообщает о, казалось бы, вполне банальном событии: «С 12 числа у меня гнойная язва». Точная локализация этой язвы нам не известна, но, учитывая однозначно гетеросексуальную ориентацию больного, можно с уверенностью предположить, что она должна была располагаться либо в области половых органов, либо в области губ или в полости рта. Первичное сифилитическое поражение вначале имеет вид безболезненной, плотной на ощупь, опухоли, которая вскоре лопается и на ее месте возникает язвочка. Эта язвочка сама собой заживает через две-шесть недель. Но еще через шесть недель наступает вторая стадия болезни — вторичный сифилис — клиническая картина которого может быть весьма разнообразной. На этой стадии сифилис может поразить самые разнообразные органы, в том числе миндалины, гортань и слуховую трубу. В таких случаях возникают затруднения при глотании, как это бывает при ангине. Наиболее частым и типичным проявлением вторичного сифилиса является, однако, кожная сыпь, которая в большинстве случаев располагается симметрично и часто распространяется по всему телу. В дневнике Сметаны есть записи, которые по времени появления и по содержанию симптомов соответствуют началу вторичной стадии болезни. И июня 1874 года: «У меня все время болит горло», 14 июля 1874 года: «На моем теле появилась сыпь».
К сожалению, люэс даже в ранней стадии может вызвать тяжелое поражение нервной системы, прежде всего оболочек и нервов головного мозга. При этом особенно часто происходит поражение восьмого нерва головного мозга или слухового нерва (Nervus acusticus). На этой стадии нередко возникают расстройства слуха, которые, в основном, протекают в легкой форме, но иногда приводят к полной глухоте, что, как правило, не наблюдается до истечения шестого месяца болезни. И вновь записи в дневнике Сметаны хронологически и содержательно соответствуют именно такому течению болезни. 24 июля он пишет: «У меня временами закладывает уши, в это время я испытываю головокружение», — типичная клиника сифилитического воспаления слуховых и вестибулярных нервов. Часто такие симптомы сопровождаются мучительным шумом в ушах, на что Сметана впервые жалуется 7 сентября: «Порой в заложенных ушах я ощущаю шум, напоминающий звуки близкого водопада». Как правило, в правом и левом ухе болезнь протекает по-разному. Об этом маэстро сообщил на консультации профессору Политцеру: «В октябре состояние левого уха улучшилось и я слышал им вполне хорошо. Правое ухо оставалось совершенно глухим». И, наконец, запись, сделанная в середине ноября, то есть, в соответствии с типичным течением заболевания, через шесть месяцев после его начала: «Я ничего не слышу ни правым, ни левым ухом». Точную дату наступления глухоты Сметана так никогда и не указал, однако, когда на премьере оперы «Либуше» по случаю торжественного открытия Национального театра в 1881 году он в антракте был приглашен в ложу кронпринца Рудольфа, он сказал: «Ваше императорское высочество, к моему великому несчастью я ничего не слышу… уже шесть лет я глух как пень». Сегодня не вызывает сомнений то факт, что Сметана заразился сифилисом в марте 1874 года, что уже в ранней вторичной стадии привело к типичному поражению улитки среднего уха, а затем — к специфическому воспалению и последующей дегенерации слухового нерва и полной глухоте. Наряду с почти классическим анамнезом такой диагноз подтверждают и результаты вскрытия, выявившие совершенно однозначную картину сухотки слуховой ткани и паралича слуховых нервов, которые приобрели «сероватый» оттенок, что говорит об их сухотке и атрофии. Следует полагать, что профессор Политцер, консультировавший Сметану в Вене, вполне отдавал себе отчет в его истинном диагнозе, о чем свидетельствует назначенное им лечение «паралича лабиринта», связанное с применением мази. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что еще в 1868 году было известно, что сифилис может являться фактором, вызывающим поражение среднего уха, сопровождающееся расстройством вестибулярного аппарата и последующей глухотой. В то время единственный эффективный метод лечения заключался в наружном применении ртутной мази. Больной должен был ежедневно принимать ванну, а затем последовательно и регулярно наносить мазь на различные участки тела. Сегодня, когда в нашем распоряжении имеются однозначные данные из первоисточников, представляются непонятными попытки объяснить отологические симптомы, имевшие место у Сметаны, двусторонней болезнью Меньера, сопровождавшейся кровотечениями во внутреннем ухе. Такая попытка была предпринята пражским психиатром доктором Геверохом в речи по случаю столетия со дня рождения композитора в 1924 году. Не говоря уже о том, что классическая болезнь Меньера всегда является односторонней, все прочие клинические симптомы никак не вписываются в эту диагностическую конструкцию.
Еще более горячая дискуссия разгорелась вокруг вопроса о том, что же явилось причиной разрушения личности Сметаны на завершающей стадии его болезни: неумолимый сифилитический процесс или атеросклеротические изменения мозга? Последняя версия получила новые импульсы после смерти дочери Сметаны Вожены, которая в 1941 году в возрасте 78 лет умерла в венской неврологической клинике с явными признаками склеротического слабоумия. При этом симптомы ее заболевания якобы весьма напоминали те, что на-6 подались у ее отца в завершающей стадии болезни. Более детальное изучение истории болезни дочери Сметаны показывает, однако, что здесь мы имеем дело с довольно часто встречающимся психическим расстройством, получившим в современной медицине название «мультиинфарктного слабоумия». Это состояние возникает вследствие множественной закупорки артерий головного мозга в результате образования в них атеросклеротических отложений, что опять же ведет к образованию многочисленных очагов отмирания мозговой ткани. Еще меньше оснований под собой имеет гипотеза так называемого вертебро-базилярного синдрома, так как она, подобно предыдущей версии, полностью игнорирует ряд фактов, содержащихся в анамнезе Сметаны.
Первым признаком изменений психики, которые наряду с глухотой существенно затруднили Сметане композиторскую деятельность, было впервые появившееся в 1880 году ослабление памяти. Если он не успевал сразу записать сочиненное, то, как он писал в то время, «сразу же забывал, каким оно было». Также и в повседневном общении с окружающими он стал сталкиваться с трудностями. В 1881 году он открыто признал, что самое трудное для него — «говорить связно. Стоит мне произнести фразу, как я тут же забываю, о чем думал». Через год его творческие возможности настолько снизились, что он был вынужден через короткое время прервать композиторскую работу. В феврале 1882 он написал: «…[я могу писать] только очень короткое время, потом в голове у меня начинается все тот же шум, перед глазами все кружится, и я вынужден… прервать всякую работу». Такой, в общем-то, нетипичный начальный период душевного заболевания, выразившийся в постепенном снижении памяти, повышенной нервозности и снижении способности к концентрации внимания, завершился в ноябре 1882 года внезапным кризисом с угрожающими симптомами: однажды вечером он совершенно внезапно полностью потерял голос и способность облекать мысли в слова. Даже чтение давалось ему с трудом и он начисто забыл имена исторических личностей. Он выдавливал из себя неартикулированные слоги и беспомощно сидел с открытым ртом. В первый раз это состояние прошло столь же быстро, как и наступило, но через несколько дней произошел новый, еще более серьезный кризис такого рода. Поначалу эти периоды беспомощности были не очень длительными и сменялись фазами просветления, во время некоторых из них больной даже не испытывал жалоб. Но уже через сравнительно короткое время психическое расстройство приняло у Сметаны угрожающие формы. У него появились оптические и акустические галлюцинации, а с начала 1884 года он вовсе впадает в слабоумие, изредка перемежающееся кратковременными ремиссиями. Через некоторое время он перестал узнавать членов собственной семьи. Теперь он лишь бормотал что-то невнятное и у него появилась склонность к физической агрессии. 22 апреля, после очередного буйного припадка, Сметану приходится поместить в психиатрическую больницу. По воспоминаниям врачей этого учреждения, «больной метался в четырех стенах как зверь в клетке», отказывался от пищи и смеялся, издавая «стоны паралитика». Он уже не мог стоять на ногах, а когда говорил или кричал, «левая половина его лица оставалась неподвижной». Его речь, «паралитически искаженная» с самого начала, теперь стала совершенно непонятной.
Эта клиническая картина заставила уже врачей Пражской психиатрической больницы заподозрить у пациента прогрессивный табопаралич, то есть сифилитическое поражение головного и спинного мозга. Это можно предположить хотя бы потому, что они несколько раз воспользовались в истории болезни словом «паралитик». Клиника этого заболевания была прекрасно известна врачам того времени. Вот фрагмент медицинского учебника XIX века, посвященный сифилитическому поражению мозга, которое принято относить к третичной стадии заболевания:
«Сифилис мозга является, к сожалению, довольно распространенным заболеванием. Опасность заболеть сифилисом мозга тем выше, чем поверхностнее было проведено противосифилитическое лечение. Как правило, внезапному появлению первых симптомов сифилиса мозга предшествует длительный полностью бессимптомный период, который может продолжаться пять, десять, двадцать и даже более лет. Сифилис мозга может проявиться либо в форме чисто функциональных нарушений, либо в форме образования гуммозных узлов на мозговой оболочке, либо в форме поражения тела мозга, либо, наконец, в форме облитерирующего артериита (воспаления внутренних стенок артерий) мозга, который сам по себе или путем образования тромбов (сгустков свернувшейся крови) ведет к закупорке артерий и размягчению соответствующих отделов мозга.
В настоящее время появляется все больше уверенности в том, что прогрессивное паралитическое безумие обусловлено ранее перенесенным сифилисом. Гуммозные образования в основании мозга часто ведут к параличу нервов, при этом чаще всего поражается зрительный, а также лицевой нерв. Эндартериит чаще всего поражает сосуды основания мозга, что почти всегда влечет за собой расстройства речи. Характерной особенностью сифилиса мозга является то, что нарушения могут попеременно исчезать и появляться».
Основным доказательством наличия у Сметаны нейросифилиса является протокол вскрытия, произведенного под руководством профессора Яна Главы, в котором зафиксировано наличие видимых невооруженным глазом патологических изменений мозга, характерных для прогрессивного паралича, что, казалось бы, сделало излишней последующую дискуссию о характере болезни Сметаны. Хроническое воспаление мягкой мозговой оболочки, сращение мозговой оболочки с поверхностью мозга, наличие жидкости в желудочках мозга, красная атрофия мозга, гранулярное воспаление внутренней оболочки четвертого желудочка с сухоткой слуховой ткани, паралич слуховых нервов — совокупность этих типичных патологических изменений дает вполне однозначную картину прогрессивного паралича на фоне третичного сифилиса. Лишь национально-политическими соображениями можно объяснить выступление главного врача Пражской психиатрической клиники доктора Гевероха, в котором он назвал врачей, отстаивающих такой диагноз, «марателями чести Сметаны». На профессора Главу, производившего вскрытие, неизвестные лица оказали столь сильное давление, что он был вынужден изменить первоначально поставленный им диагноз «сифилис».
Для того, чтобы подтвердить точность заключения профессора Главы и правильность его диагностических выводов, мы в заключение процитируем главу, посвященную интересующей нас теме, из современного руководства по патологической анатомии. Вот как описывается морфологическая картина прогрессивного паралича:
«Ясно различимо воспаление мозговых оболочек… характеризующееся помутнением и рубцовыми изменениями мягкой мозговой оболочки, в особенности в зоне выпуклостей лобных долей… Воспалительные изменения локализованы преимущественно в коре большого мозга… При далеко зашедших стадиях паралича явно различима атрофия извилин… Утолщенные мозговые оболочки лишь с трудом удается отделить от сузившихся извилин. Атрофия извилин компенсируется увеличением желудочков мозга. Наряду с атрофией мозга дополнительную роль играет регулярно обнаруживаемый Ependymitis granularis (гранулярное поражение воспаленной внутренней оболочки желудочков мозга — прим. автора)… Как осложнение Meningitis syphilitica (сифилитическое воспаление мозговых оболочек — прим. автора) развивается неврит нервов основания мозга… Наблюдаются нарушения функций, прежде всего связанных со зрительным нервом, слуховым нервом и Nervus facialis (лицевой нерв — прим. автора)». Далее при обсуждении клинической картины прогрессивного паралича в современном учебнике говорится буквально следующее: «При коллатеральном воспалении на ранних стадиях происходит поражение ганглиевых клеток, однако при этом на начальной стадии они не атрофируются и не отмирают. На этой стадии, которая может быть осложнена маниакальной сверхвозбудимостью…. творческие способности могут резко усилиться вплоть до уровня гениальности. Классическим примером является период великого философского творчества Ницше. На поздних стадиях по мере атрофии пораженных участков коры большого мозга происходит прогрессирующий распад личности и нарастание слабоумия».
Таким образом, мы можем не только реабилитировать заключение профессора Главы, но и объяснить морфологию симптомов, проявившихся на последней стадии болезни Сметаны, — утрата памяти и распад психики после предшествовавшей стадии творческого подъема до уровня гениальности, маниакальная сверхвозбудимость вплоть до буйных припадков, нарушение речи, односторонний паралич лица и, наконец, полный распад личности.
Итак, содержащееся в анамнезе указание на момент появления первичного поражения, наличие типичного временного интервала перед появлением сыпи на всей поверхности тела, типичное поражение слухового нерва и наступление двусторонней глухоты опять же по истечении типичного интервала в шесть недель и, наконец, начало спустя минимум десять лет процесса развития прогрессивного паралича в третичной стадии заболевания и страшный, полный распад личности ранее гениального композитора не оставляют никаких сомнений в правильности диагноза — это, конечно же, был сифилис, лечение которого, в довершение несчастья, было недостаточным.
Обследования населения европейских и североамериканских стран, проведенные на рубеже веков, показали, что от 10 до 15 процентов людей были инфицированы сифилисом, причем значительно чаще это происходило с представителями неимущих классов. В крупных городах Европы число инфицированных представителей состоятельных слоев общества составляло менее одного процента. В последнее время раздаются голоса о том, что сифилис эндемически встречается в Малой Азии, и предпринимаются попытки искать истоки этой болезни в азиатском регионе. В связи с этим представляется необходимым кратко вернуться к истории этой страшной инфекционной болезни.
До настоящего времени не получено окончательного ответа на вопрос о том, было ли это венерическое заболевание, получившее сначала название «французская болезнь», а с конца XVI века Lues venerea, известно в Европе до открытия Америки Колумбом. На протяжении четырех веков считалось неопровержимо доказанным, что эту болезнь завезла в Европу команда Колумба. Во втором издании книг Жана Астрюка «Венерические болезни», опубликованных в 1736 году, сказано следующее:
«Я могу доказать, что эта болезнь в древности не была известна ни евреям, ни грекам, ни римлянам, ни арабам и впервые появилась на нашем континенте в конце XV столетия. Она была, к несчастью, завезена в Европу с Антильских островов, прежде всего с острова Гаити. Испанцы, которые во главе с Колумбом посетили эти острова в 1492–1493 годах, заразились при негигиеничных половых сношениях с женщинами этой страны. Затем заразились и неаполитанцы, которые приплыли им на помощь. Из Неаполя эта болезнь во время войны передалась французам, и в конце концов зараженными оказались три народа, которые разнесли эту заразу по всей Европе и частично также по Азии и Африке. Итак, можно с полным основанием сказать, что Америка принесла несчастье своим завоевателям-европейцам, наделив их этой болезнью». Лишь в 1912 году известный историк медицины Карл Зудхофф из Лейпцига позволил себе усомниться в этом утверждении и предположил, что это заболевание, названное позднее сифилисом, существовало в Европе задолго до Колумба, и на конец XV века пришлась лишь его вспышка. К этому мнению присоединились не только выдающиеся немецкие специалисты, но и американские ученые, один из которых, Мак-Керди, даже пришел к следующему сенсационному выводу: «Нет доказательств существования сифилиса в Новом Свете до Колумба». Это утверждение, косвенно допускающее возможность переноса сифилиса из Европы в Америку, было примерно через тридцать лет однозначно опровергнуто известным патологоанатомом Людвигом Ашоффом. Ашофф обнаружил у скелетов из недавно открытых доколумбовых захоронений в Алабаме типично сифилитические изменения костей. В то же время старейшие костные останки со следами сифилитического поражения, найденные в Европе, принадлежат к постколумбовым временам. Этот результат доказывает, по крайней мере, то, что сифилис существовал в Америке до появления там Колумба.
Все еще остается открытым вопрос о том, не была ли эта болезнь распространена во всем мире до открытия Америки, но в форме, не дававшей практически никаких клинических проявлений. В 1927 году в неолитической пещере в долине Марны были обнаружены кости со следами типично сифилитических поражений. Этот факт в какой-то степени свидетельствует в пользу последнего утверждения. Однако известно, что античные врачи были великолепными наблюдателями, и очень трудно представить себе, чтобы они просмотрели столь заметные поздние патологии, каковыми являются спинная сухотка или прогрессивный паралич. То же самое можно сказать и об арабских врачах, равно как и об их коллегах эпохи европейского средневековья. Однако однозначное заключение данная тема едва ли получит даже в будущем, поскольку лишь в 1838 году врачи научились клинически отличать друг от друга четыре венерических заболевания, а точная диагностика сифилиса стала возможной только с 1905 года после того, как Фриц Шаудинн открыл возбудителя этой болезни Spirochaeta pallida, а еще через год Август Вассерман разработал серологический метод диагностики.
Первые случаи сифилиса были отмечены в Центральной Европе в 1495 году. В хронике 1510 года написано, что «этот неслыханный доселе недуг принесли с войны ландскнехты». В Германии, а затем в Испании и Италии вскоре появилась небольшая книжка, в которой описывались эти «цветы зла» и назывались самыми различными именами. Особое значение суждено было приобрести книге Джироламо Фракасторо, вышедшей в 1530 году. Эта книга была посвящена новой болезни. Она написана в форме поучительного стихотворения, которое современники даже сравнивали с «Георгиками» Вергилия, и речь в ней идет об истории пастуха Сифилуса, который столь тяжко осквернил святыни солнца, что Аполлон покарал его, наделив ужасной болезнью, которую можно вылечить только гуайаком. Значение этого литературного произведения состоит не только в том, что его герой пастух Сифилус дал имя болезни, но и в том, что в ней впервые говорится о возможности лечения этого страшного недуга.
Массовая вспышка сифилиса в Европе на рубеже XV–XVI веков заставила лихорадочно искать способы его лечения. В 1514 году из Центральной Америки впервые была привезена древесина гуайякового дерева, которая рекомендовалась в качестве специфического средства против сифилиса и в этом качестве быстро приобрело большую популярность. Вот это самое средство и упоминает Фракасторо в своей книге. Сбытом этого лекарства занимались в основном аугсбургские торговые дома Вельзеров и Фуггеров. Одним из первых благодарных пациентов, который, как считалось, излечился при помощи гуайяка, был известный немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен. Наряду с гуайяком в качестве противосифилитического средства все более прочное место занимала ртуть, введенная в медицинскую практику арабскими врачами. Несмотря на очень неприятные побочные действия, ртуть к концу XVI века почти полностью вытеснила гуайак. Одним из первых пациентов, по-видимому, успешно излеченных при помощи ртутного пластыря, был молодой ученый Йозеф Грюнпек родом из Бургхаузена, который впоследствии стал каноником и духовником императора Максимилиана и в 1503 году красочно описал свои страдания в книжке «Ментулагра, также называемая французской болезнью».
Следует проявлять осторожность и сдержанность в моральной оценке тех исторических личностей, о которых достоверно известно, что они болели сифилисом. Эту проблему мы уже затрагивали в главе, посвященной Францу Шуберту. Даже в XIX столетии не было полной ясности в вопросах происхождения этого заболевания и путях инфицирования им, и поэтому вероятность заражения сифилисом в те времена была куда больше, чем сейчас, когда практически поголовно все просвещены в этой области. Тот факт, что Шуберт или Сметана болели сифилисом, ни в коей мере не означает автоматического морального осуждения их сексуальной жизни. Эта болезнь с момента ее появления и во все времена щадила представителей состоятельных кругов, так называемое «приличное» общество, не более, чем художников, интеллектуалов или политиков. Ганс Банкль заслуживает нашей благодарности за то, что поместил музыкантов — Шуберта, Сметану, Э. Т. А. Гофмана, Паганини или Гуго Вольфа — в один ряд с другими великими сифилитиками и, кроме того, привел ряд аналогичных примеров из области литературы и живописи. Эта болезнь не обошла таких художников, как Эдуард Мане, Ганс Макарт и Поль Гоген, таких писателей и философов, как Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Артур Шопенгауэр, Николаус Ленау, Гюстав Флобер, Шарль Бодлер и Ги де Мопассан, таких великих гуманистов, как Ульрих фон Гуттен и Эразм Роттердамский. Но и такие ученые, как Земмельвейс, политики и монархи, как лорд Рэндольф Черчилль, Франциск 1 Французский и Генрих VIII Английский, также оказались в этой компании. И столпы церкви не избежали этой печальной участи, например каноник Грюнпек и даже папы Александр VI, Юлий II, Лев X. Не все перечисленные выше известные люди умерли от этой болезни, лишь на долю немногих выпала ужасная судьба, подобно Ницше и Сметане, погибнуть от прогрессивного паралича. И все же всем им довелось испытать на себе страшные физические и психические последствия этого недуга.
Изучая жизнь и смерть Бедржиха Сметаны, мы вновь сталкиваемся с трагедией, вызванной болезнью, которую современная медицина, вне всякого сомнения, могла бы излечить. Сегодня для того, чтобы вылечить эту болезнь, достаточно одной инъекции повышенной дозы пенициллина пролонгированного действия. Показатель успешности такой терапии превышает 95 %.
Сметане довелось жить в то время, когда возможности лечения сифилиса были весьма ограничены. Поэтому ему пришлось до горького конца пройти страшный путь, уготованный в те времена жертвам этой болезни. Его бренные останки нашли место своего последнего упокоения на Вышеградском холме, там, где некогда стоял замок, увековеченный в музыке создателем симфонического цикла «Моя Родина». Прежде чем гроб с телом Сметаны был предан земле, один из ораторов сказал следующие предостерегающие слова: «Гордость чешского народа — жертва чешских условий».
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
Русские современники, и прежде всего представители так называемой «Могучей кучки», считали, что Чайковский как композитор ориентируется в первую очередь на западную музыку, и его русская душа проявляется лишь в тех редких случаях, когда он обращается к родным народным мотивам. На самом же деле музыка Чайковского, в отличие от творчества членов этой почвеннической группы во главе с Римским-Корсаковым, просто не может быть измерена национальным аршином. Чайковский с самого начала своей творческой деятельности искал единения с великой европейской музыкальной традицией, и поэтому корни его как художника уходят в основном во французскую и итальянскую музыку XIX века и в музыку немецких романтиков, русские же его учителя не оказали на его творчество существенного влияния. Поэтому в наше время Чайковский считается первым значительным русским композитором, который заговорил на международном музыкальном языке, не отрицая при этом своих национальных истоков. Русский элемент в его музыке сохраняется даже там, где у него отсутствует прямое сходство с русскими народными мотивами, и потому произведения Чайковского всегда излучают атмосферу, которую слушатель воспринимает как нечто «типично русское». 17 марта 1878 года Чайковский сам так сказал об этом в одном из писем: «То русское, что повсеместно присутствует в моей музыке… обусловлено, прежде всего, тем, что меня… с самого раннего детства пронизывало очарование истинно русской народной музыки, тем, что страстно люблю все русское во всех его проявлениях, одним словом, тем, что я русский в самом истинном смысле этого слова». Того же мнения был и Игорь Стравинский, который считал Чайковского «самым русским из всех нас» и полагал, что музыка Чайковского более русская, чем та, на которую «давно уже приклеили лубочный московитский ярлык».
То, что некоторые принимают за неопределенность творческого характера Чайковского и космополитизм его музыки, на самом деле является выражением неизмеримого богатства музыкальной натуры, способной с полной эмоциональной откровенностью передавать глубоко личные переживания. Некоторые авторы придерживается даже мнения о том, что вся музыка Чайковского носит «автобиографический» характер, целиком и полностью является отображением его личности, и в музыке «он перед всем миром обнажает свое Я, которое в остальном раскрывал только перед самыми близкими друзьями». Ввиду этого должно быть понятно, почему эмоциональный элемент в музыке Чайковского, который наряду с лирическими моментами выражался порой и в мощных взрывах, подвергался столь же нелицеприятной критике, как и его якобы преувеличенная сентиментальность. Столь явно выраженные субъективные моменты в творчестве были обусловлены, как мы покажем выше, переменами в состоянии души композитора, который, обладая очень чувствительной и легковозбудимой натурой, легко терял душевное равновесие. Тем не менее представление о музыке Чайковского, как о лишенном какой-либо дисциплины излиянии чувств не только совершенно несправедливо, но и, если речь идет о критике масштаба Эдуарда Ханслика, вовсе непрофессионально и недостойно. Рецензируя скрипичный концерт Чайковского, Ханслик, в приступе «эстетического снобизма», написал: «Как-то Фридрих Вишер, говоря о непристойных картинках, заметил, что «некоторые картины воняют, когда на них смотришь». Скрипичный концерт Чайковского наводит на мысль о том, что, возможно, существуют и музыкальные произведения, воняющие при прослушивании».
Для объективной оценки музыки Чайковского принципиальное значение имеют не такие откровенно вульгарные словесные упражнения, а то воздействие, которое она оказывает на слушателя спустя много десятилетий после смерти ее создателя. Здесь прежде всего следует упомянуть Шестую симфонию, оказавшую непреходящее влияние на композиторов последующих поколений. О последней, медленной части этого произведения Дональд Тови написал так: «Совершенная простота отчаяния в медленном финале является истинным воплощением гениальности, решившей творческие проблемы, стоявшие перед всеми симфонистами со времен Бетховена». Того же мнения придерживался и Густав Малер, также завершивший свои Третью и Девятую симфонии медленными финалами. Согласно Альбану Бергу, Малер, как и Чайковский, предчувствовал близкую смерть, и это нашло свое выражение в грустной, полной отчаяния главной теме медленного финала, пронизанной безнадежной покорностью судьбе. Однако и в творчестве самого Альбана Берга мы находим такой медленный финал — Largo desolato Лирической сюиты для струнного квартета — кульминационный пункт этого произведения на грани между безнадежностью и безумием. Влияние музыки Чайковского ощутили на себе также Пуччини, Сибелиус и Стравинский, хотя между творчеством этих композиторов не так уж много общего и каждый из них весьма своеобразен. Симпатии Стравинского в значительно большей степени принадлежали Чайковскому, а не Римскому-Корсакову, чьим учеником он был в начале XX столетия. Свое восхищение великим маэстро Стравинский выразил в письме Дягилеву от 18 октября 1921 года в связи с постановкой «Спящей красавицы»: «Я был очень счастлив, узнав, что Вы возобновляете этот шедевр… Музыка Чайковского, которая, возможно, не всем кажется типично русской, в глубине своей часто куда более русская, чем та, которая уже длительное время воспринимается как лубочное представление о Москве. Эта музыка столь же русская, сколь стихи Пушкина или песня Глинки… Стоит вспомнить, кого он больше всего ценил из композиторов прошлого и своих современников! Более других он почитал Моцарта, Куперена, Глинку, Бизе. Это не оставляет сомнений в его вкусе».
В конечном итоге, мнения, подобные процитированному выше высказыванию Стравинского, нашли большее понимание у широких масс любителей музыки, нежели суждения так называемых «ученых мужей». В наше время Чайковский любим и популярен куда более, чем во второй половине XIX века, которая была временем субъектов типа Ханслика. И, к нашему счастью, теперь наряду с общеизвестными симфониями, операми, балетами, инструментальными концертами и увертюрами Чайковского исполняются и те его произведения, которые заслужили быть давным-давно представленными вниманию публики. Не подлежит сомнению, что сочинение музыки было для Чайковского единственной возможностью в какой-то мере справиться со своей неимоверно сложной внутренней жизнью или, по меньшей мере, ослабить груз психических проблем до такой степени, чтобы существование перестало быть для него невыносимым. Музыка стала для Чайковского формой, в которой он мог наилучшим образом выразить свой внутренний мир. Музыка предоставила в его распоряжение язык, выразительные возможности которого во многом превышали выразительные возможности слов, и который, в то же время заставлял его подчинять безудержные взрывы чувств строгой духовной дисциплине, присущей этому искусству. Слишком часто случалось так, что преодоление повседневных жизненных проблем мешало Чайковскому соблюдать требования этой дисциплины. Чайковский не был особым новатором в том, что касается музыкальных форм, в своем творчестве он с самого начала опирался на «классические» формы, и гармоническое соединение формы и содержания стоило ему немалого труда. «Лишь ценой железной настойчивости мне постепенно удалось достичь того, чтобы форма моих произведений соответствовала содержанию», — признавался он в письме г-же фон Мекк. Опора на классические образцы принесла пользу его музыке, ибо позволяла удерживать эмоциональные взрывы автора в рациональных пределах.
Пытаясь проникнуть в тайну этого русского художника, необходимо иметь в виду, что жизнь его была до самых краев исполнена постоянных внутренних противоречий. При анализе музыкального творчества Чайковского нельзя забывать о том, что оно всегда находилось под влиянием психических напряжений и душевных кризисов автора. Поэтому особенно интересно попытаться выявить глубинные причины этих кризисов и разобраться в своеобразных особенностях личности, характера этого человека и художника, хотя доступ к внутренней жизни этой крайне интровертной личности полностью не открывают даже письма и дневниковые записи Чайковского. Сергей Рахманинов писал, что Чайковский, по-видимому, в юности надел маску, которую уже не снял до конца жизни. Тем не менее в последнее время стали известны некоторые ранее неопубликованные документы, позволяющие получить более глубокое представление о многих психических проблемах Чайковского. Кроме того, данные, опубликованные в книге Нины Берберовой, позволяют более точно оценить медицинские аспекты смерти композитора.
Важнейшие события детства и юности
Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в небольшом городе Воткинске Вятской губернии на Урале. Его отец Илья Петрович, родившийся в 1800 году, был двадцатым ребенком в семье наместника этой губернии, которому в начале века был пожалован дворянский титул. К этому времени Илья Петрович был главным инспектором горных заводов Воткинска, крупного промышленного центра губернии. Он закончил Военную горную академию и был почтенным жителем своего города. Илья Петрович слыл честным и добрым человеком, но не обладал высоким интеллектом и не сделал большой карьеры. В юности он немного играл на флейте, но какое-либо пристрастие к музыке у него отсутствовало. Первая жена, подарившая ему дочь Зинаиду, умерла еще в 1833 году.
Вторая его жена Александра, мать Петра, была на 20 лет моложе мужа и происходила из семьи французских гугенотов, осевшей навсегда в России. Ее отец, Андре Ассье, был образованным человеком, занимал важный пост в таможенной службе, но умер еще в 1830 году. Согласно имеющимся данным, он страдал эпилепсией, которую унаследовал от своего деда. Кроме этого, известно только, что он был весьма нервным и импульсивным человеком, и не вызывает сомнений, что Петр обязан своей невротической наследственностью матери и ее предкам. Александра получила вполне приличное образование в интернате для девиц-полусирот, в программу которого наряду с арифметикой, риторикой и географией входили иностранные языки и история литературы. Она также не обладала музыкальными наклонностями, хотя, как рассказывают, у нее был неплохой голос.
В 1837 на Илью Петровича было возложено руководство воткинскими сталеплавильными заводами. Начальнику такого огромного предприятия был положен собственный комфортабельный дом, большой штат слуг и даже «личная армия» — сотня казаков. Теперь можно было подумать об увеличении семьи. За два года до рождения Петра на свет появился Николай, еще через два года — сестра Александра, Саша. Позже семья Чайковских пополнилась братом Ипполитом, который родился в 1844 году, и близнецами Анатолием и Модестом (1850).
В ноябре 1844 года для Николая была приглашена гувернантка, в воспитании участвовала также жившая в семье Чайковских кузина Лидия. С появлением гувернантки Фанни Дюрбах, протестантки из французской Швейцарии, в жизни Петра произошла первая важная перемена. Его сердце уже в то время готово было разорваться от романтических привязанностей, и, лишь увидев Фанни, он стал настойчиво добиваться права принимать участие в уроках. Будучи прекрасным, тонко чувствующим педагогом, Фанни сразу же поняла, сколь жаден до знаний и сколь чувствителен и восприимчив этот необыкновенный тихий мальчик. Фанни умела справляться с его бурными эмоциональными проявлениями и повышенной чувствительностью лучше, чем обожаемая матушка, не проявлявшая такого понимания и нередко критиковавшая гувернантку. Под покровительством Фанни «фарфоровый мальчик», как она называла Петра, на удивление быстро развивался и в шесть лет умел читать и писать не только на родном языке, но и по-французски и даже немного по-немецки. Мир эмоций грозил захлестнуть его и искал выхода, Петр пытался найти отдушину в сочинении сентиментальных русских и французских стихов. Как ни странно, Фанни Дюрбах не обратила внимания на необычайную склонность своего воспитанника к музыке, возможно потому, что сама была равнодушна к этому искусству. Он же приходил в видимое возбуждение, когда в доме пели или музицировали гости семьи Чайковских. Однажды он сказал Фанни: «Музыка сидит у меня в голове и не дает мне покоя». И родители, и семейный врач считали, что начинать занятия музыкой еще слишком рано. Поэтому единственной возможностью для Петра оставалось прослушивание фрагментов опер на имевшемся в доме оркестрионе, который, в частности, играл мелодию из «Дон Жуана» Моцарта, и воспроизведение их двумя пальцами на фортепиано. Мальчика лишь с трудом можно было оторвать от инструмента, и, если это удавалось, он продолжал отбивать такт на крышке стола или на оконном стекле. Однажды, пытаясь сыграть «форте», он даже разбил окно и порезался стеклом. Лишь в 1845 годы для него начались первые уроки музыки. Его учительницей была недавняя крепостная Мария Марковна и очень скоро он уже не хуже ее играл с листа.
8 октября 1848 года Петр испытал первое в жизни душевное потрясение. Илья Петрович вышел на пенсию в чине генерал-майора и надеялся получить достойную должность в Москве. В связи с этим семья должна была покинуть Воткинск и перебраться в Петербург. Настало время прощания с Фанни Дюрбах. Петру так и не удалось написать ей прощальное письмо, потому что слезы размыли чернила. Разлука с любимой Фанни совпала с концом привычной жизни, а душевная травма усугубилась еще и тем, что место Фанни теперь заняла неприветливая и тираничная сводная сестра Зинаида, которая должна была заниматься детьми. Поступление в подготовительный класс гимназии было связано с очень напряженным трудом, в результате чего состояние его здоровья ухудшилось настолько, что даже пришлось прекратить занятия музыкой под руководством г-на Филиппова. Если Петра брали на концерт или оперный спектакль, музыка вызывала у него настоящие галлюцинации. Он страдал бессонницей и все пережитое изменило его настолько, что этого недавно еще столь нежного мальчика невозможно было узнать.
Ко всем несчастьям в декабре 1848 года Петр одновременно с братом Николаем заболел корью. Брат быстро поправился, но у Петра болезнь приняла затяжной характер и сопровождалась осложнениями, которые, в основном, поразили нервную систему, так как врачи говорили о «сухотке спинного мозга». В биографии П. И. Чайковского, написанной его братом Модестом, сказано: «У Николая болезнь протекала нормально, у Петра же сказалась его повышенная возбудимость, которая привела к сильным нервным припадкам.
Врачи констатировали поражение спинного мозга». Семейный врач предписал полный покой на протяжении шести месяцев, из чего Модест делает вывод о том, «насколько ужасными были эти нервные припадки. Своевременно принятые меры оказали благотворное влияние на физическое состояние мальчика, но его характер уже навсегда перестал быть столь же ясным и уравновешенным, как до того».
Действительно, в июне 1849 года, когда состояние его здоровья начало быстро улучшаться, у него резко возросла нервная возбудимость, недостаточная концентрация внимания привела к трудностям в учебе, начала проявляться какая-то безучастность к окружающему миру. Это побудило мать Петра написать Фанни Дюрбах: «Он как будто переменился, бесцельно бродит, и я просто не знаю, что с ним делать. Часто мне выть хочется». К сожалению, неправильное психическое развитие чересчур чувствительного ребенка подстегнула не только длительная, тяжелая и сопровождавшаяся осложнениями инфекционная болезнь, но и позиция матери, которой, с одной стороны, была свойственна повышенная озабоченность, а с другой — неспособность по-настоящему сопереживать сыну. Лишь в конце года, с приглашением в дом новой гувернантки, г-жи Петровой, показалось, что Петр «наконец образумился», как писала его мать Фанни Дюрбах.
К этому времени Илья Петрович нашел место управляющего частной шахтой на Урале в районе Екатеринбурга и вскоре семья перебралась туда. В Петербурге остался лишь Николай, который должен был продолжать здесь учебу. В маленьком городке Алапаевске для Петра началась скучная и однообразная жизнь, которая не шла ни в какое сравнение с боткинским «золотым временем». Теперь вместо доброй и понимающей его Фанни Дюрбах с ним занималась сводная сестра Зинаида, которой он мало симпатизировал. Его душевное состояние, и без того нарушенное разлукой с Фанни и перенесенной тяжелой болезнью, становилось еще более неустойчивым. Он очень переменился — стал злобным, непослушным, ревновал к успехам брата Николая. Занятий музыкой больше не было и в наиболее грустные часы он начал играть сам для себя. В начале 1850 года он написал Фанни Дюрбах: «Я все время провожу за роялем. Здесь я нахожу утешение, когда мне грустно». Десятилетний мальчик все более замыкался в себе, теперь его погруженность в себя начинала перерастать в настоящий эгоцентризм. В отместку за равнодушие окружающих он скрывал свою страсть к музыке и первые его композиторские опыты остались для других тайной. Он все более идеализировал полтора года, проведенные в Воткинске с Фанни Дюрбах и это впечатление раннего детства оказало весьма существенное влияние на всю его последующую жизнь. Идеализации прошлого также сопутствовала идеализация окружавших его женщин — Фанни и, конечно же, матери, которую он обожествлял. Психоаналитики попытались так интерпретировать любовь Чайковского к матери: «страстность возлюбленного, которая привела к проявлению подсознательного стремления бежать из мира, возвратившись в тело матери, из которого он вышел». Даже если мы не согласимся с такой интерпретацией, то не сможем отрицать того факта, что в последующей жизни Чайковский даже и не помышлял об интимных отношениях с теми женщинами, к которым испытывал если не любовь, то, по крайней мере, глубокую симпатию. Не исключено, что здесь уже сыграла свою роль ранняя склонность к гомосексуализму, которая была замечена еще до достижения им половой зрелости, и передалась также его брату Модесту и племяннику Бобу. Возможно, что развитию этой склонности способствовал старомодный традиционный ритуал семейного воспитания.
С учетом этих особенностей становится понятнее душевное потрясение, перенесенное юным Чайковским в октябре 1850 года. В августе этого года было принято решение предпринять какие-то шаги против его повышенной нервозности и поместить его в подготовительный класс Училища правоведения в Петербурге, куда он был принят, как один их лучших. Мать сопровождала его и несколько месяцев провела в столице с тем, чтобы облегчить ему адаптацию к новой среде. Однако, когда в середине октября она собралась домой в Алапаевск, произошла душераздирающая сцена прощания. В те времена было принято, что пассажиров, уезжавших из Петербурга в Москву, родные провожали до городских ворот. И Петр поехал с матерью, крепко держась за ее юбку. Когда наступило время прощания, он полностью потерял контроль над собой. Он так уцепился за мать, что его пришлось отрывать силой, а потом крепко держать, когда ее экипаж уехал. Однако с ним происходило уже что-то типа истерического припадка, ему все же удалось вырваться, он в отчаянии хватался за спицы колес, пытаясь остановить экипаж. Воспоминание об этом страшном моменте преследовало его до конца жизни. Этот эпизод является бесспорным доказательством того, что он пламенно и страстно отождествлял себя с матерью. От этого отождествления он также не смог избавиться до конца своих дней.
За этим последовало еще одно неприятное событие, усилившее у Петра зарождающийся комплекс вины. В ноябре 1850 года в училище началась эпидемия скарлатины, и Петр временно поселился в семье своего опекуна Модеста Вакара. Петра болезнь пощадила, но старший сын Вакара 6 декабря умер от скарлатины. Петр считал себя виновным в его смерти, и все попытки убедить его в том, что это не так, были безуспешны. Лишь после возвращения в школу депрессивное состояние постепенно развеялось. Игрой на фортепиано и «колоратурной импровизацией» Петр быстро завоевал симпатии школьных товарищей. Он не хотел разочаровывать родителей, которые выбрали для сына карьеру юриста, но его склонность к музыке усиливалась и однажды Петр написал одному из одноклассников: «Я чувствую, что стану композитором!».
В 1852 году отец вышел на пенсию и семья переехала в Петербург. Петр не упоминал о музыке ни единым словом, и мать решила, что с этой проблемой покончено, и успокоилась. Этот гармоничный период жизни был прерван первым тяжелым ударом судьбы в жизни Чайковского: 25 июня 1854 года его обожаемая мать умерла от холеры, эпидемия которой в очередной раз посетила Петербург. До конца XIX века невская вода, куда попадали все городские стоки, в необработанном виде использовалась для хозяйственных нужд и питья, и двери для холеры были широко распахнуты. Врачи полагали, что худшее для больной уже позади, но на четвертый день, приняв по назначению врача ванну, она впала в кому, вывести из которой ее уже не удалось. В довершение несчастья, в день ее похорон заболел отец, но для него все закончилось благополучно. Это событие было для Петра страшным ударом. Мы не располагаем свидетельствами о непосредственных его последствиях для психики 14-летнего мальчика, но из писем Чайковского, написанных через много лет, нам известно, что он не смог справиться с этим шоком до конца своих дней. Вот фрагмент одного письма: «В этот день, ровно 25 лет назад, умерла моя мать. Это было первое большое горе, которое я пережил в жизни. Ее смерть оказала большое влияние на мою судьбу и судьбу моих близких. Она умерла внезапно, во цвете лет, от холеры, к которой прибавилась другая болезнь. Я помню каждую минуту этого ужасного дня так, как будто это случилось вчера». За два года до этого Чайковский написал письмо, в котором философствовал о бессмысленности бессмертия, а затем тут же написал нечто совсем противоположное: «Я никогда не смогу смириться с мыслью о том, что моей дорогой матушки, которую я так любил, больше нет, и я не могу ей сказать, что и теперь, через 23 года разлуки, я также искренне и горячо ее люблю».
С медицинской точки зрения весьма примечательно, что первая попытка Чайковского сочинить музыкальное произведение датирована месяцем смерти его матери. Много лет спустя он признался, что «без музыки в то время сошел бы с ума». Это высказывание, во-первых, следует понимать буквально, и, во-вторых, оно является очень убедительным примером того, как может найти выход внутренний конфликт, переведенный в творческую плоскость. Любовь к обожествляемой матери, по-видимому, была у юного Чайковского столь сильна, что ее смерть могла бы создать серьезную угрозу для его психики, если бы страстные эмоции не нашли выхода в музыке. Это предположение невозможно доказать произведением 14-летнего Чайковского, потому что оно, к сожалению, утеряно. Однако мы располагаем убедительными доказательствами того, что в более поздние периоды жизни ему удавалось преодолевать тяжелые душевные кризисы, угрожавшие устойчивости психики вплоть до реальной опасности самоубийства, путем перевода эмоций в музыку. Примерами произведений, созданных в периоды подобных кризисов, являются Четвертая симфония и опера «Евгений Онегин». Грань гениальности пролегала в духовном мире Чайковского в опасной близости от границы безумия.
Музыка была для него главным утешением не только в тяжелое время после смерти матери — на протяжении всей жизни Чайковского она была предохранительным клапаном его эмоциональной жизни и действенной заменой несбывшихся мечтаний и неутоленных сексуальных страстей. Еще осенью 1854 года он начал брать уроки пения у Гавриила Ломаткина, так как уже в то время у него появился замысел создать оперу. В начале 1855 года Чайковский, наконец, начинает серьезно заниматься игрой на фортепиано. Его учителем был пианист Рудольф Кюндингер, который не усмотрел у своего ученика особого музыкального дарования и писал его отцу, что «во-первых, у Чайковского не усматриваются черты музыкального гения, и, во-вторых, доля музыканта в России, как правило, незавидна». Тем не менее Петр, не оставляя занятий в Училище правоведения, продолжил интенсивно заниматься музыкой. В 16 лет он познакомился с итальянским учителем пения Луиджи Пиччиоли, который мало чем интересовался, кроме итальянской оперы. Пиччиоли был довольно странной личностью. Он отчаянно пытался выглядеть моложе своих лет: красил седеющие волосы, наносил грим на лицо, и теперь трудно сказать, какое влияние он оказал на личность Чайковского, только вступавшего в пору юности. Известно лишь, что юноша в это время сочинил песнь «Мой гений, мой ангел, мой друг», но позднее он заверял брата Модеста в том, что «лишь музыка была теми узами, которые нас связывали».
В 1859 году Чайковский окончил Училище правоведения, получил должность в министерстве юстиции и чин титулярного советника. Он стал молодым человеком приятной наружности. Теперь над ним более не довлели школьные ограничения и запреты и он воспользовался свободой для частых посещений оперных и драматических театров. Он также охотно принимал участие в частных вечеринках и праздниках, на которых нередко аккомпанировал танцам. Здесь представлялась масса возможностей для флирта. Согласно рассказам современников, в то время он был «франтоват на грани дендизма», но в отношениях с девицами строго держал дистанцию. Еще в Училище правоведения он научился курить и всю оставшуюся жизнь табак был для него средством успокоения.
В 1860 году сестра Саша вышла замуж за Льва Давыдова и уехала в Каменку на Украину. С этого момента начинается бурная корреспонденция Чайковского. Вначале это были письма только к сестре. 22 марта 1861 года он пишет, что уже вконец обедневший отец больше не возражает против его музыкальной карьеры и он теперь может приступить к изучению генерал-баса у близкого к немецкой теории музыки Николая Зарембы, у которого Чайковский рассчитывал научиться строгому композиционному строю. В сентябре 1862 года открылась первая в стране Петербургская консерватория, руководство которой было возложено на Антона Рубинштейна, в его класс композиции поступил в конце года Чайковский. Вскоре Рубинштейн указал своему ученику на то, что при его таланте он обязан уделять больше времени и труда учебе. К этому времени неинтересная служба в министерстве уже порядком стала ему надоедать и превратилась в тяжкую обузу. Чайковский все чаще подумывал о том, чтобы оставить карьеру чиновника. Отсутствие интереса к служебным обязанностям и рассеянность при их выполнении принимали у него порой прямо юмористические формы: однажды он, задумавшись над чем-то своим, разорвал на мелкие кусочки важный документ, скатал из обрывков шарики, а затем, по детской привычке, проглотил их. Неудивительно, что его регулярно обходили повышениями по службе. Разочарованный всем этим, Чайковский в 1863 году принимает решение окончательно оставить службу. Это его решение привело семью в отчаяние, дядя Чайковского даже заявил, что его племянник променял министерство на тромбон. Сам же Чайковский был убежден, что совершил правильный шаг и, для того чтобы успокоить сестру, написал ей: «Я, по крайней мере, уверен в том, что, закончив образование, стану хорошим музыкантом». Внешне теперь его трудно было узнать. Если еще недавно, поддаваясь влиянию и сомнительной привязанности Пиччиоли, которые, без сомнения, усиливали то, что пробудила в нем возникшая в ранней юности дружба со школьным товарищем Алексеем Апухтиным, он рьяно предавался соблазнам петербургского общества, то теперь все радикально изменилось. Зарабатывая уроками музыки всего 50 рублей в месяц, он вынужден был устраивать свою жизнь значительно скромнее. Он отпустил бороду, носил широкополую шляпу. Теперь он выглядел серьезнее и его явное равнодушие к женщинам побудило сестру Александру сделать вывод о том, что, по-видимому, в любви его постигла неудача. Теперь все интересы были посвящены музыке и страстному стремлению достичь признания в качестве композитора.
Первые годы в музыке
Решение Чайковского стать профессиональным музыкантом возмутило брата Николая. Высказывание Николая о том, что Петр Ильич никогда не станет вторым Глинкой, естественно, не прибавило тому веры в себя. Тем важнее было для него знакомство с Германом Ларошем, с которым они подружились в Консерватории. Герман умел поддержать в нем уверенность. В этой дружбе, которой суждено было сыграть важную роль в будущем, не было уже той романтичности, которая превалировала в отношениях с другом юности Алексеем Апухтиным или с учителем пения Пиччиоли, здесь на первое место вышло искреннее уважение к другу. Петр углубился в изучение теории и каждую неделю для упражнения сочинял два произведения. Сочиненный Чайковским в это время оркестровый «Танец девушек» был даже с успехом исполнен Иоганном Штраусом в Киеве. То, что Чайковский, наконец, принял окончательное решение посвятить себя музыке и обрел личную свободу, оказало положительное влияние на формирование его личности, но уже в это время стали ясно проступать первые характерные симптомы его сложной невротической предрасположенности. Ему была свойственна гипертрофированная чувствительность, причем особые страдания доставляло ему то, что он был вынужден скрывать ее от окружающих, чтобы не прослыть изнеженным, слабонервным мечтателем. Тем не менее при звуках музыки своего идола Моцарта, даже при одном упоминании его имени он был не в состоянии сдержать слезы. И вообще занятия музыкой в Консерватории, в особенности собственная композиторская работа, приводили его в странное возбуждение, которое он сам называл «шоком». При этом он перед тем, как заснуть, испытывал потерю чувствительности в руках и ногах или приступы дрожи во всем теле, страдал от переутомления и бессонницы. Порой у него случались самые настоящие галлюцинации, о которых он сообщил в письмам братьям, чем привел их в немалое волнение. Особенно тяжело ему пришлось во время сочинения Первой симфонии. В этот период у него случился полномасштабный нервный припадок, который он предчувствовал заранее. За три месяца до этого случая он писал брату Анатолию: «Мои нервы расстроены самым ужасным образом. Причины: во-первых, симфония, которая звучит неудовлетворительно, во-вторых, Рубинштейн и Тарновский поняли, что меня легко испугать, и теперь забавляются, целый день напролет вгоняя меня в шок. И, наконец, я никак не могу избавиться от мысли о том, что жить мне суждено недолго, и моя симфония останется неоконченной. Я тоскую по лету и Каменке (где жила сестра Саша — прим. автора), как по земле обетованной, и надеюсь обрести там мир и покой и забыть о моих бедах… Я ненавижу человека в массе и хочу забраться в какую-нибудь глушь, где совсем мало жителей».
Не покидавшие его страхи, делавшие общественную жизнь для него невыносимой, так же, как нерешительность и жалость к самому себе, мешали Чайковскому в полной мере воплотить свою энергию в музыку. Он продолжал мужественно бороться, но, несмотря на все старания, часть его духовных сил оставалась связанной, что не позволяло ему полностью преодолеть самые худшие из мучивших его страхов. Исходный мир его чувств, над которым столь сильно довлели ранняя гипертрофированная связь с матерью и сестрой, развился в картину, искаженную гомосексуальными конфликтами, от которой он уже так и не смог избавиться. Жизнь его была бы достаточно нелегка, даже если бы ему довелось бороться всего лишь со своей гипертрофированной страстностью художника и присущей ей постоянной опасностью безумия, но это явилось бы всего лишь неизбежной ценой творчества. Истинная же трагедия Чайковского состояла в том, что для него не была доступна нормальная любовь. Невротическая предрасположенность характера, которая уже в юности стала ясна ему самому, не только препятствовала интимным отношениям с лицами противоположного пола, но и увлекала его в гомосексуализм со всеми вытекающими из этого трудностями: необходимостью таиться и притворяться, страхом перед уголовным преследованием и комплексом вины. Творческая продуктивность Чайковского во многом объясняется, по-видимому, тем, что таким образом он сознательно ставил себя как бы под давление постоянной необходимости что-то создавать и тем самым уравновешивал трудом ненасытные и неудовлетворенные страсти. У некоторых художников невротические элементы практически не проявляются в произведениях — достаточно вспомнить нежную, изысканную и сдержанную поэзию Верлена, которая не дает никаких оснований предположить столь отвратительный невротический характер у автора, и гомосексуализм во всех его формах и при любой интенсивности совершенно не обязательно проявляется как психологическое расстройство. Однако в характере Чайковского невротические элементы неотделимо связаны с его развитием как творца музыки. Не удивительно, что невротические симптомы проявились у него при дирижировании, и преодолеть их ему удалось только спустя много лет. «По его словам, когда он находится на возвышении перед оркестром, его охватывает такой нервный страх, что появляется ощущение, будто его голова вот-вот слетит с плеч. Для того, чтобы предотвратить эту катастрофу, он левой рукой подпирал подбородок и дирижировал только правой».
Когда Чайковский после летнего отдыха у сестры в Каменке вернулся в Петербург, отец и братья собрались ехать на Урал к сводной сестре Зинаиде. Оставшись один в пустой квартире своего товарища по училищу Апухтина, он впал в глубокую депрессию. Ему казалось, что он никому не нужен, он считал себя неудачником, так как к двадцати пяти годам еще не создал ничего значительного. Под влиянием депрессии ему ночами снился пистолет, из которого он хотел застрелиться. Но случилось так, что в 1865 году в Петербург приехал Николай Рубинштейн, великолепный пианист и дирижер, брат директора Петербургской консерватории Антона Рубинштейна. Целью его приезда был набор профессоров для музыкального института, основанного им в 1860 году, который позднее стал второй русской консерваторией. Антон Рубинштейн порекомендовал брату своего ученика Чайковского, который недавно успешно закончил Консерваторию, представив в качестве выпускной работы кантату, хотя молодой приверженец национальной петербургской школы Цезарь Кюи в критическом отзыве на эту кантату пренебрежительно написал: «Чайковский — совершеннейшая посредственность. Его дарованию ни на один момент не удается разорвать консерваторские путы». Это разочарование и удручающее финансовое положение заставили Чайковского принять предложение, несмотря на неприязнь к педагогической деятельности. Вообще же его в Петербурге ничто не удерживало, если не считать младших братьев-близнецов Модеста и Анатолия, которым его любовь и симпатия в какой-то степени заменяли материнскую ласку. В последнее время этот город вызывал у него лишь чувство одиночества, мысли о непризнании его как художника и меланхолическую тоску о прошедших счастливых днях, что не только способствовало депрессивному расстройству, но и порождало разного рода психосоматические жалобы, о чем мы узнаем из письма, написанного незадолго до отъезда: «С тех пор, как я здесь живу, я все время чувствую себя плохо: то у меня болят руки, то ноги, я все время кашляю».
В Москве Николай Рубинштейн выделил Чайковскому комнату в своем доме, позаботился о питании и об одежде, достойной его положения, и уже в первые дни ввел его в круг своих сотрудников. Жалованье в пятьдесят рублей в месяц, конечно же, не позволило бы Чайковскому поддерживать тот стиль жизни, который соответствовал кругу Николая Рубинштейна, и потому маэстро, посещая оперный театр или концерты, приглашал его с собой и при необходимости занимал ему свой фрак. «Рубинштейн печется обо мне, как нянька», — писал он своим родственникам. В десяти письмах, адресованных родным в первые четыре недели жизни в Москве, отчетливо слышится тоска по дому и боль разлуки, прежде всего с братьями-близнецами. Жизнь в непосредственной близости от все-подавляющего Николая Рубинштейна, который часто поздно ночью с шумом возвращался домой из Английского клуба или ночь напролет репетировал перед фортепианным концертом, очень сильно нарушала покой, необходимый Чайковскому для сочинения музыки. К этому добавлялась слабость Рубинштейна к женскому полу, азартным играм и прежде всего к алкоголю, который он мог употреблять в невероятных количествах. Азартные игры мало привлекали Чайковского, если не считать случайных партий в Английском клубе или в кружках творческой интеллигенции, равно как и женщины, к которым он, как и прежде, был совершенно равнодушен. Однако личность Чайковского не была столь сильна, чтобы успешно противостоять соблазну алкоголя, и из его поздних дневниковых записей мы знаем, что в последнее десятилетие жизни он иногда бывал изрядно пьян, причем гораздо чаще, чем казалось окружающим.
Неудивительно, что у него начали появляться жалобы в основном психического характера, о чем он в апреле 1866 года писал брату Анатолию: «В последнее время я очень плохо сплю, мои апоплектические явления снова вернулись, еще сильнее, чем прежде, так что я теперь знаю заранее, появятся они этой ночью или нет, и в первом случае даже не пытаюсь заснуть. Так, например, позавчера я не спал всю ночь. Мои нервы снова совершенно расстроены… Со вчерашнего дня я решил больше не пить ни водки, ни вина, ни крепкого чая».
И, тем не менее, следует согласиться с Модестом в том, что «никто не сыграл большей роли в судьбе композитора, никто не способствовал в большей степени и как друг, и как художник, расцвету его славы, никто так не заботился о Петре и никто так активно не поддержал его первые робкие шаги, как директор Московской консерватории». Действительно, пожалуй, только один Николай Рубинштейн догадывался, что под приятной внешностью этого человека, нежного и красивого, развивается нечто уникальное, что безошибочно и неуклонно прокладывает свой путь. Наряду с Рубинштейном важную роль в жизни Чайковского сыграли некоторые из его коллег по консерватории, поддерживавшие в нем мужество и помогавшие ему упрочить свою репутацию композитора. Эти люди позднее стали для него неоценимой опорой в вынужденной изоляции и мучительном одиночестве, к которому в то время бывал приговорен человек с гомосексуальными наклонностями, не способный поддерживать длительную любовную связь с женщиной и создать семью и потому вынужденный из страха перед уголовным наказанием жить в атмосфере лжи и притворства. К этому узкому кругу друзей принадлежали инспектор консерватории Константин Альбрехт, будущий издатель Чайковского Петр Юргенсон, семья музыканта Николая Кашкина и приехавшие из Петербурга друзья — Герман Ларош и Николай Губерт, ставший позднее директором Московской консерватории. Близкий контакт Чайковский поддерживал также со своим любимым учеником Владимиром Шкловским, с которым он в 1868 году провел лето в Париже.
В день завершения Первой симфонии, которая носит название «Зимняя греза», Чайковский писал брату Анатолию: «Я много работаю, в основном по ночам. Сегодня я закончил Первую симфонию. Я нервничаю, меня часто мучают ужасы и страх смерти. Врач посоветовал мне поменьше работать, иначе я в конце концов могу попасть в лечебницу для нервнобольных». Модест пишет, что «ни одно из его произведений не стоило ему такого труда и таких мук, как эта симфония», и принято считать, что в дальнейшем он не написал ни одной ноты своих произведений в ночное время. О кризисах, которые он впервые испытал во время работы над Первой симфонией, но которые также повторялись и в дальнейшем — сам он их называл «апоплектическими припадками» и «сердечными приступами» — Герберт Вайншток писал: «Нам ничего не известно о том, что он страдал какой-либо серьезной болезнью… По-видимому, он был неврастеником… Факты и намеки позволяют предположить, что основной причиной переживаемых им душевных потрясений и нервных расстройств было насильственное подавление полового влечения, безуспешные попытки влюбиться, как все другие люди, и постоянный страх того, что злонамеренное и бессердечное общество докопается до его тайной натуры и его истинных эротических склонностей… В сплетнях его имя связывали с именами студентов консерватории… Однако все эти имена не в состоянии отменить важнейший факт, состоящий в следующем: эротическая природа Чайковского и его конфликт с этой природой оказали влияние на всю его последующую жизнь и придали его личности и отчасти его музыке характер, исполненный мрачности, чувственности, интроспективности и мировой скорби». Чайковский стыдился своих «противоестественных» склонностей и испытывал из-за своей «тайны» чувство вины, считая себя человеком, достойным презрения, в результате чего все чаще впадал в депрессивное состояние. Его письмо сестре Саше, написанное летом 1867 года, содержит характерные намеки на это: «Ты, наверное, и сама заметила, что я страстно тоскую по тихой, спокойной жизни на земле, в деревне. Это идет от того, что, хотя мне еще далеко до старости, я уже очень устал от жизни… Окружающие меня люди часто удивляются моей неразговорчивости и моему частому дурному настроению, хотя в принципе моя жизнь совсем не плоха… Но, тем не менее, я избегаю общества, не в состоянии поддерживать знакомства, люблю одиночество, молчалив. Все это объясняется пресыщением жизнью. Ты, наверное, подумаешь, что подобное состояние души обычно навевает мысли о женитьбе. Нет, дорогая! Усталость от жизни сделала меня слишком ленивым для того, чтобы заводить новые связи, слишком тяжел на подъем, чтобы завести семью».
Такие высказывания, записанные в состоянии депрессии, характеризуют симптомы, патогномоничные для данного заболевания. Усталость от жизни, молчаливость, беспричинная подавленность являются столь же типичными симптомами, как и безынициативность, которую Чайковский называет ленью. Тем более важно подчеркнуть, что он был в состоянии преодолевать эту латентную летаргию мощным творческим порывом. Под влиянием подсознательной тяги к самоунижению он приписывал себе неспособность к завязыванию новых общественных связей и, тем более, к созданию семьи, чему, однако, противоречит эпизод, произошедший в 1868 году. В этом году в Москве гастролировала выдающаяся певица Дезире Арто, и, хотя она не принадлежала к числу писаных красавиц, Чайковский проникся к ней столь сильной симпатией, что решил жениться, о чем 7 января 1869 года написал отцу: «Очень скоро мы воспламенились нежной взаимной симпатией, вслед за чем последовали признания. Естественно, вслед за этим сразу встал вопрос о законном браке и мы решили, что поженимся будущим летом, если этому ничего не помешает». Похоже, впервые мысли о присутствии рядом с ним женщины и даже о браке не показались ему абсурдными. Вероятно Чайковского очаровал не шарм певицы, а сила и независимость женщины, старшей его на пять лет, в профессиональных успехах и свободных нравах которой было даже что-то мужское. Он сочинил для нее романс ор. 5 и в декабре 1868 года написал Модесту, что «очень в нее влюблен». И если мадам Арто через несколько месяцев после отъезда из Москвы вышла замуж за испанского баритона Падилью, то виной тому беседа, по-видимому, состоявшаяся между нею и Николаем Рубинштейном, в которой тот поставил ее в известность о некоторых склонностях Чайковского. Петр не получал от нее писем, и похоже, что после известия о ее замужестве, его чувства к ней быстро охладели, о чем он писал брату Анатолию: «Что касается моего любовного интермеццо… то я должен тебе сказать, что не знаю, хочу ли еще вступить в царство брака; дело идет совсем не по намеченному плану». Тем не менее он обдумывал возможность интимной связи с Дезире Арно, и нам известно, что гомосексуалисты вполне способны к гетеросексуальным контактам. Сердце его, судя по всему, не было разбито известием о свадьбе «невесты», но гордость его была уязвлена, отчего он длительное время страдал.
Вскоре после истории с Дезире Арто Чайковский приступил к увертюре «Ромео и Джульетта», идею которой подал ему Балакирев. Балакирев вместе с Римским-Корсаковым, Кюи, Мусоргским и Бородиным входил в так называемую «Могучую кучку» петербургских композиторов, поставивших своей целью продолжать усилия Глинки по созданию на основе русской народной песни национального языка русского музыкального искусства. Чайковский познакомился с Балакиревым, когда тот в 1868 году, будучи председателем Русского музыкального общества пригласил на гастроли в Москву Гектора Берлиоза. Балакирев был не слишком доволен этой посвященной ему увертюрой, зато она принесла Чайковскому известность, перешагнувшую границы России. Почти в то же время он опубликовал первый сборник песен ор. 6, находящийся, как и большинство русских произведений песенного жанра того времени, под сильным влиянием Шумана. И наконец, он возглавил отдел музыкальной критики в газете «Русские ведомости», который до этого вел Ларош. Эта деятельность способствовала углубленному изучению различных музыкальных жанров. В результате ее Чайковский, в частности, основательно пересмотрел свое отношение к итальянской опере, унаследованное от Пнччиоли, и, в конце концов, даже стал воспринимать итальянскую музыку как «антимузыку».
Чайковский сочинял, не покладая рук, ему нравилась работа в таком поистине изнуряющем режиме, к этому времени он уже начал обживаться в Москве. И все же им по-прежнему владела какая-то необъяснимая меланхолия. По словам брата Модеста, «он все больше терял силы вплоть до полного истощения», а Петр Ильич сам писал: «Под влиянием серьезных нервных расстройств я стал невыносимым ипохондриком.
Не знаю, почему, но меня постоянно терзает неизъяснимая меланхолическая тоска. Я хочу сбежать в какие-нибудь недоступное, забытое Богом место». Желание освободиться становилось все настойчивее, одиночество и ощущение заброшенности в огромном мире все больше омрачало его душу. Братья-близнецы уже давно шли своими собственными дорогами, семья сестры становилась все более многочисленной и отнимала все ее время. На его долю оставались лишь встречи с друзьями в различных московских трактирах и четыре стены собственной комнаты, единственное место, где он мог не опасаться, что кто-то узнает о его склонностях и тем самым разрушит его жизнь. В мае 1870 года он так обрисовал сложившуюся ситуацию: «1. Болезнь — я становлюсь бесчувственным, мои нервы совсем ни к черту. 2. Мои финансовые дела в плохом состоянии. 3. Консерватория надоела до рвоты». Насколько он был одинок, можно судить из письма сестре, написанного в феврале, в котором он жаловался на то, что «в Москве нет никого, с кем бы меня связывала настоящая, близкая дружба. Я часто думаю о том, каким бы я был счастливым, если бы здесь была ты или, хотя бы, кто-нибудь, похожий на тебя». Учитывая издерганное состояние его нервной системы, врачи назначили Чайковскому полный покой и лечение на морском курорте или хотя бы на минеральных водах.
Во время работы над оперой «Опричник» Чайковского застала весть о тяжелой болезни его молодого друга Владимира Шиловского, находившегося в Париже. Эта дружба началась, когда его ученику Володе только исполнилось 14 лет. Чайковский очень привязался к этому «маленькому человеку, созданному для того, чтобы изумить мир», и мальчик отвечал учителю преданной взаимной любовью. Мальчик отличался весьма хрупким сложением и был очень болезненным, поэтому Чайковский сопровождал его в поездках в сельское имение Володиных родителей и даже за границу, куда врачи направляли его для лечения. В обществе Володи Чайковский всегда выглядел счастливым и во время его каникул отказывался ради него даже от общества любимых братьев. Естественно, такие случаи, когда учитель и ученик вместе без видимой причины неожиданно покидали Москву, чтобы провести вместе несколько счастливых дней, не могли не остаться незамеченными. В свете этого неудивительно, что Чайковский, узнав, что Володя заболел туберкулезом, немедленно помчался в Париж. Однако вскоре юноша поправился настолько, что в июне 1870 года смог вместе с учителем отправиться на минеральные воды в Бад-Зоден. Этот известный с XVIII века курорт, расположенный в горах Таунус в Германии, с углекислыми и солевыми горячими источниками, был популярным местом лечения пациентов, страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей и астмой. Жизнь на курорте была «жутко скучна», на что жаловался Чайковский в одном из писем: «Жизнь в Зодене очень проста. Мы встаем в шесть, Володя пьет воду из своего источника, а я (по совету врача) принимаю содовую ванну…. Я, однако, энергично борюсь против мрачных настроений и утешаю себя тем, что мое присутствие спасет Володю и самому мне пребывание в Зодене принесет пользу». Однако в это время началась франко-прусская война и им пришлось бежать в Интерлакен, в Швейцарию, откуда они через несколько недель вернулись в Москву.
К этому времени опера «Опричник» и Вторая симфония, наконец, принесли Чайковскому признание «Могучей кучки», которая объявила его первым композитором России. Состоялся концерт, программу которого составили только его произведения. Кульминацией этого концерта стал струнный квартет op. 11 с его упоительным Andante cantabile. И публика, и критика были едины в том, что Чайковский достиг творческой зрелости. Однако, несмотря на полный успех концерта, состоявшегося 28 марта 1871 года, в письмах его становятся заметными меланхолические настроения. Вновь появившиеся слухи о его наклонностях и образе жизни внушали ему чувство отторгнутости от общества. Он нс только очень страдал от одиночества и изоляции, но также стал боязливым и подозрительным. Несомненно, именно по этой причине он столь болезненно и нетерпимо относился к критике.
По возвращении в Москву Чайковский решил создать себе независимые условия для творческой и личной жизни. Жалование профессора консерватории составляло 2000 рублей в год, еще примерно тысячу давали поступления от концертов и гонорары за рецензии. Эти доходы позволили ему снять трехкомнатную квартиру. Он выехал от Рубинштейна и нанял слугу, Михаила Софронова, который в скором времени уступил эту должность брату Алексею. Согласно воспоминаниям Модеста Чайковского, «этот человек сыграл немаловажную роль в жизни Петра Ильича». Брату Николаю он писал о радости, вызванной возможностью выбраться из дома Рубинштейна: «О себе могу сообщить, что я несказанно рад своему решению наконец убраться от Н. Рубинштейна. Несмотря на всю нашу дружбу, жизнь рядом с ним была для меня очень утомительна». Тем временем его профессорский оклад был повышен и Чайковский мог бы вести вполне беззаботную жизнь, если бы менее бездумно обращался с деньгами. Стоило ему что-то скопить, как он тут же с легким сердцем начинал щедро раздавать деньги или мгновенно растрачивал их в путешествиях. Так случилось, например, во время рождественских каникул 1871/1872 года, когда он поехал с Володей через Германию в Ниццу, где они провели три недели. И летом 1873 года Чайковский предпринял продолжительное путешествие, которое привело его в различные города Германии. Во время этого путешествия произошло важное событие — он начал вести дневник. Брат композитора Модест после его смерти уничтожил много записей и документов, которые могли бы представить немалый интерес. Поэтому скупые дневниковые записи Чайковского дают неоценимый и, порой, единственный ключ, позволяющий в новом свете интерпретировать некоторые события его жизни и являются теми немногими отправными точками, на основе которых представляется возможным построить его психограмму. Прежде всего, эти записи свидетельствуют о том, сколь сильно осложняли ему жизнь проблемы, порожденные гомосексуализмом, и связанный с этим комплекс вины. Обширная переписка Чайковского позволяет заглянуть в его идейный и интеллектуальный мир, и, тем самым, представляет огромную ценность для исследователя, но она не дает представления о многих противоречиях его сокровенной внутренней жизни, об обуревавших его чувствах, принимавших порой поистине взрывной характер. Теперь он поверял свои сокровенные чувства дневнику. Это был глубоко личный документ, ни в коем случае не предназначенный для посторонних глаз и, тем более, для публикации, призванный выполнить роль предохранительного клапана. В дневнике он совершенно свободно и откровенно, без каких-либо ограничений, высказывался о себе и о «кумирах своего эстетического Олимпа» — Глинке, Толстом и Моцарте, в том числен самых интимных сферах своей жизни. Дневник содержит немало незначительных банальностей и, несмотря на это, является источником ценнейших данных.
Здесь он делал торопливые записи непосредственно под влиянием обуревавших его настроений и эмоций. В дневнике содержатся сведения и о его гомосексуальных проявлениях, при описании которых он пользовался особым шифром, и записи, позволяющие судить о роли алкоголя в его жизни — эта роль была намного более значительной, чем полагали знавшие его люди. Здесь имеется также немало указаний на физические и психические недомогания, представляющие значительный интерес с медицинской точки зрения. Первые записи, сделанные Чайковским летом 1873 года во время поездки по Германии и Швейцарии, повествуют об «ужасном состоянии нервов» и о «чрезмерных желаниях», возникших после посещения цирка в Веве, удовлетворить которые не представлялось возможным. Всеми фибрами души он рвался домой, к русским лесам и равнинам. Проезжая на обратном пути через Милан, он пишет о сильной боли в эпигастральной области, которая была особо сильна по утрам, и о том, что с трудом смог получить в аптеке болеутоляющее масло. Вернувшись в Россию в августе 1873 года, он провел несколько недель в имении Шиловских в деревне Усово, где работал над симфонической поэмой «Буря» по мотивам одноименной драмы Шекспира. Постепенно его начинают тяготить отношения с очень капризным Володей Шиловским, которые прежде всего мешали творческой работе. В декабре 1873 года он пишет Модесту о том, что нет никого, с кем бы его связывала истинная глубокая дружба, а также о том, что он прервал отношения с Володей.
Однако он недолго пребывал в подавленном настроении. В декабре с триумфальным успехом проходит премьера «Бури», в марте с таким же успехом исполняется Второй струнный квартет, премьера оперы «Опричник» приносит Чайковскому Кондратьевскую премию размером в 300 рублей, и летом 1874 года он отправляется в новое путешествие, на сей раз в Италию, где посещает Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Позднее он искренне полюбил эту страну, но первое путешествие оставило у него грустные впечатления, как видно из писем к Модесту: «… Венеция такой город, что если бы я был вынужден оставаться здесь дольше, то от отчаяния уже бы на пятый день повесился… В Неаполе дошло до того, что я, не переставая, плачу от тоски по родине… В такие моменты черной меланхолии я готов отдать все за то, чтобы увидеть рядом дорогое лицо… Рим мне ненавистен… черт бы его побрал! Во всем мире есть только один город и это — Москва!». Наверное, он думал об Алеше, 14-летнем крестьянском пареньке с круглыми глазами и торчащими во все стороны светлыми волосами, которого он взял к себе слугой. Этот мальчик с первого взгляда запал ему в сердце. Чайковский сделал ему немало ценных подарков, среди них дорогую шубу, но Алеша стал для него причиной постоянной душевной муки, ибо он был вынужден тщательно скрывать свою любовь от всего мира. Его тревожил также младший брат Модест, который и в хорошем, и в плохом был его двойником: «Меня по-настоящему тревожит то, что ты не смог избежать ни одного из моих пороков… Ты стал моим зеркальным отражением, в котором я вижу все свои недостатки».
Осенью он благополучно перенес тяжелую форму дифтерии, но в то же время симптомы психического неблагополучия проявлялись у него во все более выраженной и длительной форме. У него вновь и вновь случались приступы меланхолии, с которыми он пытался бороться напряженной работой. Он с исступлением работал над сочинением оперы «Кузнец Вакула», которую намеревался представить на объявленный в Петербурге конкурс. Первые наброски этой оперы были созданы на курорте Нисы, где он с июня 1874 года находился на шестинедельном лечении водой из Карлсбадских источников в надежде поправить свое здоровье. Эта опера появилась на сцене только в 1876 году, а девять лет спустя вышла ее новая редакция под названием «Черевички». Однако ни работа над оперой, ни лечение в Нисах не ослабили тревоживших его психогенных симптомов, на что он жаловался в письме в январе 1875 года: «Я чувствую себя одиноким и покинутым, даже испытываю страх перед людьми, мне грустно, и я все время думаю о смерти. Целый день я торчу в комнате, ломаю голову над одной темой и курю сигареты… Наверное, лучше всего для меня было бы уйти в монастырь». Депрессивному настроению, вероятно, способствовало также разочарование, которое ему пришлось испытать в связи именно с тем произведением, которому суждено было стать началом его великой карьеры — Первым фортепианным концертом си-минор. Вначале он собирался посвятить этот концерт Николаю Рубинштейну, но тот подверг произведение столь уничтожающей критике, что в конце концов Чайковский посвятил партитуру Гансу фон Бюлову, который с триумфальным успехом сыграл концерт 25 октября 1875 года в Бостоне. В это время Чайковского постиг еще один удар — смерть его друга, скрипача Фердинанда Лауба, памяти которого он посвятил Третий струнный квартет ми-бемоль-минор, превзошедший по своим достоинствам два его предыдущих камерных произведения. И, наконец, немало неприятных ощущений принесла ему критика сочиненного в 1876 году всемирно известного балета «Лебединое озеро», которая утверждала, что эта музыка, за исключением некоторых удачных пассажей, поистине «монотонна и скучна».
Психическое состояние Чайковского ухудшалось, усиливались также психосоматические симптомы, ему уже не помогал даже интенсивный творческий труд, всегда бывший для него «душевным спасением», и врачи вновь порекомендовали ему отправиться на курорт. Теперь местом лечения должен был стать «проклятый, отвратительный Виши», куда он прибыл 13 июля 1876 года. Однако уже через несколько дней минеральная вода вызвала у него понос, сопровождавшийся кишечными коликами, в связи с чем ему уже через десять дней пришлось покинуть знаменитый курорт и в качестве рецензента «Русских ведомостей» отправиться в Байрейт на Вагнеровский фестиваль. Но и впечатления от «Кольца Нибелунгов» мало способствовали положительным результатам отдыха, о чем он писал Модесту: «Возможно, «Нибелунги» — действительно великолепное произведение, но правда и то, что мир не видел еще такого бесконечного и скучного вздора… Все это утомило мои нервы до предела». В рецензиях он выражался осторожнее, но они также позволяют утверждать, что произведения Вагнера, по-видимому, имели мало общего с тем, к чему он сам стремился в музыке. Ясно, что ему непросто было объективно написать о Байрейтском фестивале. Физически и духовно разбитым он через Вену возвратился в Москву.
Две женщины в его жизни
Начиная с ноября 1875 года, Чайковский почти непрерывно находился в депрессивном состоянии, и им все более овладевала навязчивая идея о том, что для его выздоровления необходимо присутствие любящего существа, одна лишь близость которого выведет его из мучительного одиночества. Желание освободиться от «морального недуга», как назвал это состояние Модест, превратилось в отчаянную потребность, под влиянием которой Чайковский в 1877 году совершил шаг, едва не ставший для него роковым. Осенью 1876 года он сообщает Модесту о следующем окончательном и бесповоротном решении: «Начиная с сегодняшнего дня, я буду делать все возможное, чтобы на ком-нибудь жениться. Я знаю, что мои наклонности являются самым большим и непреодолимым препятствием на пути к счастью, и я обязан приложить все силы для того, чтобы их побороть. Я готов совершить невозможное для того, чтобы еще в этом году вступить в брак, и даже если у меня не хватит на это мужества, я в любом случае откажусь от моих привычек. Мысль о том, что те, кто меня любит, вынуждены порой меня стыдиться, наносит мне смертельную рану. Это случалось уже сотни раз и случится еще многие сотни раз… Женитьба или официальная связь с женщиной заткнет рот всей этой шайке. Да, я их презираю, но они приносят горе близким мне людям. Однако я слишком глубоко увяз в своих привычках и пристрастиях и не смогу отбросить их просто так и сразу, как выбрасывают старые перчатки. Мой характер не столь тверд и после последней борьбы с собой я уже трижды вновь уступал своим наклонностям».
Не исключено, что в основе этого шага лежало определенное отвращение к усилившейся в последней период сексуальности, которая, по всей вероятности, выразилась не столько в активной гомосексуальной жизни, сколько в интенсивном сексуальном самоудовлетворении. Как бы там ни было, Чайковский пришел к твердому убеждению, что невозможно дальше продолжать вести такую жизнь, ибо свойственные ей страхи, приступы меланхолии и комплекс вины все глубже загоняли его в изоляцию. О накале страстей и желаний, терзавших его в этот период, дает представление его произведение «Франческа да Римини», где он сумел потрясающе выразить в музыке самые таинственные и дикие фантазии любви, которую ему так и не дано было испытать.
Сообщив в сентябре 1876 года брату Модесту о решении «вступить в брак с кем угодно», Чайковский, по-видимому, не вполне отдавал себе отчет в том, к каким катастрофическим последствиям может привести такой шаг. Сегодня даже трудно себе представить, что бы с ним стало, если бы в этот критический период его жизни рядом с ним не оказалась очень необычная женщина — Надежда Филаретовна фон Мекк. Эта культурная дама была высока и стройна, хотя и не отличалась большой красотой, но главное состояло в том, что ее не вполне стандартная личность во многом была подобна личности Чайковского. Покойный муж Надежды Филаретовны был инженером и нажил огромное богатство на строительстве железных дорог. Своей вдове Карл фон Мекк оставил состояние, считавшееся одним из самых крупных в России. Сюда кроме двух железнодорожных линий входил роскошный дом в Москве, имение Браилов и расположенные в его окрестностях мельницы, сахарные заводы и текстильные фабрики. Гигантское состояние позволяло г-же фон Мекк вместе с членами ее семьи совершать продолжительные дальние путешествия в собственных вагонах и специальных поездах, устраивать в своем доме многочисленные приемы и другие светские мероприятия. Она происходила из музыкальной семьи, неплохо играла на фортепиано. Вообще же музыка приводила эту в остальном весьма расчетливую и деловую даму в настоящий экстаз. В 1876 году ее супруг в возрасте 45 лет при известии об измене жены скончался от «сердечного приступа». К этому моменту она была матерью одиннадцати оставшихся в живых детей, из которых семеро еще жили в ее доме. Под влиянием угрызений совести и чувства вины в смерти мужа она удалилась от света и занималась лишь воспитанием детей и управлением своим имуществом. Контакты она поддерживала только с Николаем Рубинштейном, который являлся для нее своего рода связующим звеном с музыкальным миром. Николай Рубинштейн порекомендовал ей принять в домашний штат молодого скрипача, ученика Чайковского, Иосифа Котека. Никто не мог тогда предположить, что этим началась решающая перемена в жизни Чайковского.
И г-жа фон Мекк, и Котек искренне почитали Чайковского как композитора. При прослушивании его увертюры «Буря» с Надеждой Филаретовной даже случился конвульсивный припадок, и она решила обратиться к Чайковскому с просьбой переложить некоторые небольшие его произведения для скрипки и фортепиано, с тем, чтобы она могла их исполнять с Потеком в домашнем кругу. При этом Чайковскому был обещан небывало высокий гонорар. Чайковский с радостью принял этот заказ к исполнению. Так началась продолжавшаяся 14 лет переписка Чайковского и Надежды фон Мекк, переписка, не имеющая аналогов в истории музыки, а также уникальная и с медицинской точки зрения. Из тысячи двухсот сохранившихся писем перед нами предстает картина единственной в своем роде столь же интимной, сколь и нереалистичной связи, ставшей возможной лишь потому, что оба партнера сразу приняли решение никогда не встречаться и не обмениваться друг с другом ни словом, ни даже взглядом. Можно предположить, что у Чайковского были и другие причины для столь необычной связи, неведомой со времен миннезингеров в раннем европейском средневековье. Выглядящий на первый взгляд странным эпистолярный контакт с женщиной, которая была на девять лет старше, давал ему возможность установить материнскую связь, ведь именно от материнского комплекса он страдал всю свою жизнь. В лице Надежды фон Мекк он нашел женщину, которая была внутренне близка ему, как мать, которую он мог чтить и которая чтила его, и, поскольку она всегда находилась от него на расстоянии, он мог не опасаться неприятных моментов, связанных для него с физической близостью женщины. Однако их многолетняя переписка все же не вполне свободна от неоткровенности и лицемерия, в чем можно убедиться, ознакомившись с письмами Чайковского к брату Модесту, написанными в тот же период. Сам Петр Ильич также вполне отдавал себе отчет в этом, что следует из его письма к брату, в котором говорится: «Я с сожалением должен признать, что наши отношения ненормальны, и я, порой, вполне понимаю эту ненормальность». В периоды депрессии Чайковский жаловался в письмах братьям на преувеличенную заботу Надежды о его благе, которую он воспринимал как вмешательство в личную жизнь, и даже отзывался о нежных чувствах г-жи фон Мекк в весьма нелестных выражениях. Однажды он выразил опасения в том, что она намеревается вторгнуться в границы его сугубо личной сферы и даже больше. Все это находится в вопиющем контрасте с тем, что он писал своей щедрой поклоннице — его письма к ней переполнены заверениями в любви, восхищении и признательности. Он полностью отдавал себе отчет в собственном двуличии и не делал из него секрета, что нашло свое выражении в высказывании Чайковского: «Мои мысли направлены в одну сторону, а дела совсем в другую».
В оправдание Чайковского следует сказать, что у г-жи фон Мекк, по собственной воле избравшей судьбу затворницы, развилось болезненное воображение, и она была настолько обращена в себя, что музыка Чайковского приводила ее в экстатическое состояние. Так, вскоре после начала переписки, 30 марта 1877 года, получив заказанное ею переложение арии из оперы «Опричник», она писала: «Ваша музыка столь чудесна, что приводит меня в состояние счастливого экстаза… мне кажется, что я парю над всем земным, у меня стучит в висках, сердце дико бьется, перед глазами плывет туман, мои уши утопают в волшебстве этой музыки… О Боже, как велик человек, способный дарить другим подобные мгновения счастья». Похожие признания вызвало у нее и известное Andante cantabile из его Первого струнного квартета, на премьере которого разрыдался даже Лев Толстой: «… я чувствую, как эта музыка приводит меня в состояние упоения, которое, подобно землетрясению, охватывает мое тело». Инициатива в этой уникальной эзотерической связи принадлежала Надежде, которая еще за несколько недель до этих эпистолярных «признаний в любви» 27 февраля 1877 года сделала следующее, можно сказать, вызывающее заявление: «Я хотела бы рассказать Вам о необычайной симпатии, которую испытываю к Вам, но боюсь отнимать Ваше драгоценное время. И я лишь скажу Вам, что эти чувства, пусть даже они покажутся Вам столь абстрактными, значат для меня очень много, ибо это — самое лучшее и чистое из известного человеку. Поэтому, Петр Ильич, Вы можете, если хотите, называть меня фантазеркой или даже безумной, но Вы не имеете права смеяться надо мной, поскольку все это могло бы казаться смешным, если бы не было столь откровенно и глубоко прочувствовано».
Через несколько недель после этих патетических строк она заверила его в том, что пользуется любой возможностью для ознакомления со всеми критическими отзывами и замечаниями о его сочинениях, и ему было приятно, что даже не самые удачные его сочинения всегда находили признание у этой женщины. Однако с самого начала она ясно дала понять, что о личном знакомстве любого рода не может быть и речи, даже если бы такое знакомство представлялось по каким-либо соображениям желательным. Она также недвусмысленно дала ему понять, что не считает необходимым видеть его и никогда не потребует личной встречи с ним, поскольку, как она объяснила, «Вы производите на меня настолько сильное впечатление, что я боюсь с Вами знакомиться». К счастью, они оба по причине робости и «мизантропии» очень боялись утратить иллюзии, что «часто следует по пятам за любой близостью», и поэтому их личная встреча так никогда и не состоялась, к счастью, ибо она, несомненно, привела бы к жестокому разочарованию. Надежда выразила этот страх такими словами: «Мне кажется, что я боюсь личной встречи тем больше, чем сильнее Вы меня увлекаете». Чайковский был необычайно счастлив взаимной симпатией такого рода, о чем он писал г-же фон Мекк 28 марта 1877 года: «… Я всегда ценил в Вас человека, моральные принципы и черты характера которого имеют много общего с моими. Нас привязывает друг к другу тот факт, что мы оба страдаем от одного и того же душевного состояния. Это состояние можно было бы назвать мизантропией, но это мизантропия совсем особого рода, она не направлена против людей в форме презрения или ненависти. Люди, страдающие ею, тоскуют по идеалу… и опасаются разочарования, наступающего после любого сближения. Было время, когда этот страх перед людьми охватил меня в такой степени, что я был близок к потере рассудка. Обстоятельства моей жизни сложились так, что я не мог нн скрыться, ни найти выхода. Я должен был побороть самого себя, и одному Богу известно, чего это мне стоило. Я вышел из этой борьбы победителем в такой степени, что жизнь уже давно не кажется мне невыносимой… Мне удалось добиться некоторых успехов, благодаря им я вновь обрел мужество, и состояние подавленности, доводившее меня до галлюцинаций и бредовых идей, теперь лишь редко посещает меня… Из всего этого Вы должны понять, что я вовсе не удивлен тем, что при всей любви к моей музыке Вы не испытываете потребности познакомиться с ее сочинителем. Вы опасаетесь не найти во мне тех качеств, которыми наделила меня Ваша фантазия в стремлении к идеальному. И здесь Вы совершенно правы. Я совершенно убежден в том, что при более близком знакомстве со мной Вы не найдете полного согласия и гармонии между музыкантом и человеком, о которой мечтаете… Если бы Вы только знали, сколь благодатно для художника знать, что есть на свете еще одна душа, способная столь же сильно и глубоко переживать, сколь и он сам при создании своих произведений».
Из приведенных фрагментов этих писем можно без особого труда понять, что в лице г-жи фон Мекк Чайковский нашел женщину, в определенном смысле заменившую ему мать, у которой он всегда мог найти убежище и утешение. Под ее крылом он чувствовал себя не только защищенным от страха, испытываемого перед жизнью. Щедрость этой женщины выручала его также из материальных невзгод. Уже 1 мая он получил от нее значительную сумму в 3000 рублей на покрытие своих долгов. Это побудило Чайковского посвятить ей Четвертую симфонию, о которой он писал Надежде, как о «нашей симфонии». Первая тема этого произведения, как он объяснял в письме, символизирует «силу, подобно дамоклову мечу висящую над нашими головами и омрачающую наше сердце». Небезынтересно отметить, что, развивая тему «дамоклова меча» в письме к Модесту, он намекает на страх разоблачения гомосексуальных наклонностей. Несчастный Чайковский постоянно ощущал комплекс вины за «это» (он так никогда и не решился назвать свою склонность по имени) и это жгло его душу, подобно множеству отравленных стрел.
Нетрудно ответить и на вопрос, почему именно в это время он решил, что ему необходимо заключить брак — причина кроется, вне всякого сомнения, в том же комплексе вины. Модест совершенно справедливо писал, что, намереваясь вступить в официальный брак, Петр Ильич, по-видимому «надеялся избавить душу от моральных страданий, терзавших ее на протяжении всех предшествовавших лет». 2 октября он написал брату Анатолию: «Я еще не подошел к этому поворотному пункту, я лишь думаю о нем и выжидаю чего-то, что побудило бы меня к действию».
Такого события пришлось ждать совсем недолго, и оно действительно случилось без какого-либо его участия. В конце апреля, когда Чайковский как раз работал над сценой письма в опере «Евгений Онегин», он получил письмо от некоей Антонины Ивановны Милюковой, сообщавшей, что она уже давно восхищается им в консерватории и «никогда не перестанет его любить». Поначалу он хотел просто проигнорировать это романтическое письмо, но затем все же заставил себя ответить, поскольку, как он писал г-же фон Мекк 15 июля 1877 года, это письмо было составлено в очень «открытых и искренних выражениях». Позднее не раз высказывалось мнение о том, что здесь сыграла свою роль схожесть между ситуацией, в которой оказалась девушка, написавшая письмо Чайковскому, и той, в которой оказалась пушкинская Татьяна, однако такой подход представляется чересчур упрощенным. Поначалу Антонина, подобно г-же фон Мекк, была готова довольствоваться чисто духовной, платонической связью, однако вечно жить в мире фантазий она не собиралась. Когда Чайковский принял ее приглашение и 1 июня 1877 года нанес ей визит, эта привлекательная, хорошо сложенная почти тридцатилетняя дама ясно дала понять, чего она от него ожидает. В ответ он откровенно поведал ей о своих пороках, тяжелом и капризном характере и весьма слабом здоровье. Увидев, что осуществление ее мечты находится под серьезной угрозой, Антонина ответила, что ее не пугают его недостатки, что за это она любит его еще больше, и под конец пригрозила покончить с собой, если он ее отвергнет: «Нанеся визит одинокой молодой девушке, Вы тем самым соединили наши судьбы. Если Вы не сделаете меня своей женой, я убью себя». В ответ на эту угрозу Чайковский нанес ей повторный визит и, может быть, действительно не желая уподобляться холодному и бессердечному Онегину, предложил ей выйти за него замуж.
Брак для Чайковского мог означать только платоническую связь, и он ясно дал понять, что, вступая в него, хочет раз и навсегда снять с общественного обсуждения вопросы, связанные с его гомосексуализмом. Кроме того, он был достаточно наивен для того, чтобы надеяться, что и ему самому подобным образом удастся справиться со своей ненормальной склонностью. 15 июля 1877 года он написал г-же фон Мекк, что перед ним стояла жестокая альтернатива: либо сохранить личную свободу ценой падения Антонины, либо вступить в этот брак. Кроме того, он оказался в гротескном положении жениха, который был не в состоянии испытать даже малейшее чувство любви к собственной невесте. В музыке очень ясно отразились бури, бушевавшие в те дни и недели в его душе. В финале Четвертой симфонии, которую он закончил в это время, ясно слышны вырвавшиеся на волю страсти, достигающие порой истерического накала. С другой стороны, в это же время он сумел с непревзойденным лиризмом воплотить в музыку судьбу Татьяны в опере «Евгений Онегин», с главным героем которой он себя в значительной степени отождествлял.
В июле 1877 года Чайковский после некоторых колебаний решил известить семью о своих матримониальных намерениях. Символично, что он написал об этом не брату Модесту, который также был гомосексуалистом, и не любимой сестре Саше, а только Анатолию и отцу, которому в то время исполнилось 82 года. В письме отцу от 5 июля он пишет: «Мою невесту зовут Антонина Ивановна Милюкова. Это бедная, но добрая девушка с безупречной репутацией, которая меня очень любит. Дорогой папочка, ты понимаешь, что в моем возрасте не женятся необдуманно, поэтому не беспокойся». Модесту и Саше он написал только после того, как бракосочетание, намеченное на 18 июля, уже состоялось. Родные искренне желали ему счастья, но для Надежды фон Мекк эта новость была «горькой и невыносимой», о чем она написала Чайковскому два года спустя. Ведь она любила его «больше всего на свете» и, естественно, должна была ненавидеть ставшую ему столь близкой Антонину «за то что она не сделала Вас счастливым; но я бы ненавидела ее в сто раз больше, если бы Вы были с ней счастливы».
Еще 18 октября 1876 года Чайковский впервые написал сестре Саше о своем намерении подготовиться к вступлению в брак и заверил ее в том, что «не совершит неосторожного прыжка в пропасть несчастной связи». Однако произошло прямо противоположное, ибо после «идиотской затеи» 18 июля 1877 года Петр Ильич, по словам Модеста, «с первых дней, даже с первых часов своей семейной жизни невероятно тяжело раскаивался в своем легкомысленном и неразумном поступке и был глубоко несчастен». И сам Чайковский через несколько дней после свадьбы писал брату Анатолию об «отвратительной церковной пытке» и о «гнусном плотском поведении жены» по отношению к нему. Здесь есть противоречие с принадлежащим ему же описанием первой «медовой недели»: «Мы подробно обо всем поговорили и окончательно определили наши будущие отношения. Она будет только ласкать и баловать меня… Она очень ограниченна, но это даже хорошо». Но в том же письме он пишет о том, что испытывает все более сильную неприязнь к этой женщине, о которой ему уже в первые дни все стало ясно: «Было бы непростительно и невыносимо, если бы я совершил что-либо бесчестное по отношению к моей жене, но я же совершенно откровенно поставил ее в известность о том, что с моей стороны она может рассчитывать только на братскую любовь. В физическом отношении она стала для меня совершенно отвратительна». Все более очевидными становились результаты «идиотской затеи», с помощью которой он рассчитывал предстать перед обществом в облике нормального женатого мужчины. Он ожидал, что это принесет ему желанное освобождение от страхов и упреков совести и поможет обрести душевный покой, но вместо этого оказался на грани безумия. Не будучи способным дольше выносить все это, он нашел выход в спешном отъезде в Каменку, к сестре Саше, где надеялся обрести покой. В письме своей наперснице фон Мекк от 9 августа он выразил все охватившее его отчаяние и она прислала ему денег на то, чтобы отправить молодую жену на Кавказ якобы для лечения. Он писал в этом письме: «Через несколько часов я уезжаю — еще несколько дней — и я сойду с ума».
Покинув Москву, Чайковский будто «проснулся после страшного кошмара». Он писал г-же фон Мекк, что одна мысль о том, чтобы проживать с женой под Одной крышей, приводит его в ужас. Присутствие Антонины не только было ему отвратительно само по себе, оно мешало сочинять музыку. Собственное будущее представлялось «растительным существованием», в котором не будет места для самого важного дела, составлявшего смысл бытия, — творчества. Но уже в августе, находясь в гостях у сестры, он приступил к оркестровке Четвертой симфонии и завершил партитуру оперы «Евгений Онегин». В это время Антонина в Москве обставляла их общую квартиру. Чайковский чувствовал неизбежность катастрофы. Уже на другой день после прибытия в Москву его охватила паника: «Я мечтаю о том, чтобы куда-нибудь убежать. Но как и куда?» — написал он в дневнике. Письмо г-же фон Мекк было исполнено беспредельного отчаяния: «Смерть казалась мне единственным выходом, но о самоубийстве не могло быть и речи».
Через четырнадцать дней этот кошмарный эпизод достиг кульминационного пункта — началось душевное расстройство, своеобразие которого состояло в том, что ему сопутствовал страх перед добровольным уходом из жизни, решение о котором Чайковский уже принял. В результате он предпринял гротескную попытку сознательно заболеть смертельным воспалением легких, о чем так писал своему другу Кашкину: «Каждый вечер я выходил на прогулку и часами бесцельно бродил по пустынным московским улицам. В одну из таких ночей я оказался на берегу Москвы-реки, и меня вдруг осенило, что я же могу смертельно простудиться. Под покровом ночи я, никем не замеченный, по пояс вошел в воду и оставался там до тех пор, пока мог вытерпеть холод. После этого я вылез из воды в полной уверенности, что подхватил смертельную простуду. Дома я рассказал жене, что был на рыбалке и свалился в воду. Однако мое здоровье оказалось столь крепким, что от пребывания в холодной воде мне ничего не сделалось». Не исключено, что, совершая эту не слишком искреннюю попытку самоубийства, он действительно пытался освободиться от брака с женщиной, которая была для него «просто обузой», а предпринимаемые ею попытки сближения делали ее все более ненавистной для Чайковского. Насколько серьезным было его желание уйти из жизни, можно судить по письму к г-же фон Мекк: «Право же, смерть есть высшая благодать: я молю о ней всеми силами души».
После неудачной попытки самоубийства у Чайковского уже не было сомнений в том, что он находится на грани безумия и что дальнейшая жизнь с этой женщиной быстро приведет его к катастрофе. Модест сообщает, что Петр Ильич «под предлогом якобы полученной им телеграммы, в которой его срочно вызывали в Петербург, 24 сентября спешно покинул Москву, находясь в состоянии, граничившем с безумием». Утром следующего дня на петербургском вокзале Модест увидел старика с худым бледно-желтым лицом, покрасневшими глазами и трясущимися руками. Его сразу же привезли в гостиницу, где случился нервный припадок, после которого он 48 часов пробыл без сознания. Врачи и в их числе психиатр доктор Балинский были едины в том, что полное выздоровление Чайковского возможно лишь в том случае, если его связь с Антониной будет прервана на все времена. Анатолий Ильич, специально выехавший в Москву для того, чтобы сообщить ей об этом, был поражен безучастностью и фривольностью, с которой она восприняла это известие. В 1897 году Антонина была помещена в психиатрическую больницу, где и умерла 20 лет спустя. Известно, что уже к моменту свадьбы с Чайковским она страдала психическим расстройством и имела склонность к нимфомании. В этом смысле, по-видимому, следует понимать следующие строки из письма г-же фон Мекк, посвященные Чайковским своей жене: «Она часами могла рассказывать бесчисленные истории о бесчисленных мужчинах, которые были в нее влюблены. Обычно это были генералы, племянники денежных тузов, известные художники и даже члены императорской фамилии. Столь же часто она с невероятно страстным увлечением подробно рассказывала мне о пороках, жестоких и низменных действиях…». Однако к чести Чайковского следует сказать, что ни тогда, ни позже он не пытался свалить всю вину за происшедшее на жену, что следует из замечания, сделанного им в одном из писем г-же фон Мекк: «Оглядываясь на недолгое время нашей совместной жизни, я вижу, что и моя роль в этом отнюдь не была красивой… В любом случае моя жена заслуживает сострадания». С другой стороны, это позволяет лучше понять парадоксальную ситуацию, возникшую в результате брака мужчины-гомосексуалиста и женщины с гипертрофированной сексуальностью, граничащей с нимфоманией, ибо таким образом два человека, сексуально совершенно несовместимые друг с другом, попытались вступить в брачный союз.
Чайковский ни теперь, ни в будущем не оформлял развода с женой. Он расстался с ней и еще глубже погрузился в мир иллюзий, которыми была наполнена его связь с г-жой фон Мекк. Он пишет Модесту: «Постепенно я вновь нахожу себя и возвращаюсь к жизни». Немалая заслуга в этом принадлежала женщине, которая стала его близким другом и в этом качестве внесла немалый вклад в то, что он вновь обрел душевное равновесие. Существенную роль играла и финансовая поддержка, которая теперь еще крепче привязывала его к его верной поклоннице, и Надежда прекрасно умела пользоваться этим инструментом. Когда в октябре 1877 года он в сопровождении брата Анатолия после короткого пребывания в Берлине прибыл в Кларан на Женевском озере, ему пришло известие о том, что г-жа фон Мекк назначила ему годовую ренту в размере шести тысяч рублей, которая позволяла немедленно сбросить с себя груз преподавательской работы в консерватории и в будущем заниматься исключительно композицией. В письме от 6 ноября он заверил ее в своей глубокой благодарности и пообещал, что «с этого дня каждая нота, слетевшая с его пера, будет посвящена ей». Еще незадолго до этого он писал ей: «Вам известно, дорогой друг, что слухи о моем сумасшествии не вполне безосновательны. Вспоминая обо всем том, что я сотворил, и обо всех нелепостях, которые я совершил, я невольно прихожу к выводу о том, что мой рассудок временами действительно не в порядке». Получив, наконец, финансовую независимость, он мог вновь беспрепятственно отдаться творчеству, о чем недвусмысленно выразился в уже упомянутом благодарственном письме от 6 ноября: «Вам я обязан тем, что ко мне с удвоенной силой вернулось трудолюбие. Никогда, ни на одно мгновение я не смогу забыть, что Вы помогли мне продолжать жить во имя моего творческого призвания». Отношения между Чайковским и г-жой фон Мекк изменились, о чем свидетельствует изменение характера их переписки. Раньше его письма шаблонно походили друг на друга, теперь же он был готов откровенно отвечать на ее вопросы о музыке или о любви. На вопрос о том, любил ли он когда-нибудь, он ответил так: «Вы спрашиваете меня, дорогой друг, знаю ли я иную любовь, кроме платонической. И да, и нет… если же Вы хотите знать, испытал ли я полное счастье в любви, то я отвечу: нет. Я даже думаю, что моя музыка является ответом на этот вопрос. Но если Вы спросите меня, известна ли мне власть и бурная сила этого чувства, то я отвечу Вам: да. И я скажу Вам также, что в своей музыке я много раз пытался выразить муки и сладость любви». Наилучшим примером этого является Четвертая симфония, где он воплотил в музыке мир своих чувств, что наложило на это произведение заметный субъективный отпечаток, как позднее и на Пятую и Шестую симфонии. В Четвертой симфонии отразились все разочарования и осложненные комплексом вины страхи личности, отягощенной сильной склонностью к гомосексуализму, и возбуждение, достигшее дикого накала под воздействием алкоголя, хотя противоречия между действительностью и вытесненными образами видятся несколько размыто, как бы из-под вуали. Сам он был глубоко убежден в высоких качествах этого произведения, о чем так писал г-же фон Мекк: «Я до глубины души убежден в том, что эта симфония — лучшее, что я создал до сих пор».
Из Кларана Чайковский с братом Анатолием и по его настоянию предпринял короткое путешествие в Париж с тем, чтобы ввиду еще не вполне удовлетворительного здоровья показаться известному терапевту доктору д’Аршамбо. Свое разочарование результатами этого обследования Чайковский так выразил в одном из писем: «Едва я начал рассказывать ему историю своей болезни, как он тут же бесстрастно и не без пренебрежения оборвал меня словами: да-да, я все это слышал уже не одну сотню раз, можете дальше не утруждать себя. После этого он сам, ни о чем меня не спрашивая, назвал множество симптомов моей болезни.
Наконец он написал свои назначения, встал и сказал: Милостивый государь, Ваша болезнь неизлечима, но Вы можете с ней прожить до ста лет! Затем он прочитал вслух назначения, состоящие из четырех пунктов: 1. Я должен принимать перед завтраком и обедом мел особого сорта. 2. За четверть часа до обеда выпивать стакан минеральной воды «Отрив». 3. Полечиться на водах в Бареже. 4. Избегать великого множества продуктов. Я положил гонорар на стол и ушел, нисколько не успокоенный, без всякого доверия к его рекомендациям и в сознании того, что побывал не у врача, а у продавца медицинских советов. Можно сказать, что моя поездка в Париж оказалась бесполезной… Самое странное то, что д’Аршамбо даже не спросил меня, кто я по профессии и почему я стал таким нервным. Должен же врач это знать!». Этот пример уже в который раз показывает, сколь важна подробная беседа врача с пациентом для того, чтобы завоевать доверие больного, в особенности если речь идет о психических расстройствах или психосоматических симптомах. Что же касается этого парижского врача, то в данном случае он просто не имел права исключить возможность органического заболевания, тем более, что значение невротических симптомов он был склонен преуменьшать.
Длительное пребывание в Кларане вызывало у Чайковского чувство дискомфорта, и он решил предпринять многомесячное странствие без определенной цели, в ходе которого он посещал в основном различные города Италии. Но и Италия не смогла положительно повлиять на его подавленную психику, о чем можно судить по тому, как он писал о своей болезни в письмах к г-же фон Мекк. Так, в письме, отправленном 18 ноября из Флоренции, говорится: «В Кларане, где я вел совершенно спокойную жизнь, я часто впадал в меланхолию. Будучи не в состоянии иначе объяснить эти периоды депрессии, я приписывал их действию гор. Как наивно! Я уговаривал себя, что достаточно мне пересечь итальянскую границу, и начнется жизнь, полная счастья! Чушь! Здесь я чувствую себя в сто раз более несчастным». Неделю спустя он писал из Рима: «Я все еще совершенно больной человек. Я не переношу ни малейшего шума; вчера во Флоренции, сегодня в Риме каждый проезжающий экипаж приводит меня в безумную ярость, любой звук, любой крик рвет мои нервы. Толпа людей, заполняющая узкие улицы, бесит меня до такой степени, что я вижу в каждом встречном незнакомце злейшего врага». Мизантропический страх перед окружающими, свойственный его настроению в то время, послужил основной причиной того, что он оказался не в состоянии принять почетное предложение представлять Россию на Всемирной выставке в Париже в январе 1878 года. Николай Рубинштейн не мог понять этого решения Чайковского, который так оправдывал его в письме к Рубинштейну от 4 января 1878 года: «Я не могу поехать в Париж. Это не малодушие и не леность, я действительно не могу. Последние три дня с тех пор, как я получил известие о моем назначении, я совершенно болен. Я на грани безумия. Лучше смерть, чем это! Я хотел преодолеть себя, но из этого ничего не вышло. Я теперь по собственному опыту знаю, что значит совершать над собой насилие, идти против собственной природы. Сейчас я не в состоянии видеть людей. Мне совершенно необходима полная изоляция от всякого шума и всякого волнения. Короче, если ты хочешь, чтобы я вернулся к тебе совсем здоровым, не требуй, чтобы я ехал в Париж».
Во время этого периода странствий он лучше всего чувствовал себя в Сан-Ремо, где задержался на более длительное время. После того как Анатолий в декабре 1877 года возвратился в Москву, Чайковский вызвал к себе молодого слугу Алешу, который обычно сопровождал его в последующих путешествиях. Несмотря на плохое психическое состояние, зима 1877–1878 годов оказалась в творческом отношении весьма плодотворной. По его собственным словам, ему казалось, что он «лучше всего отдыхает за работой». Едва закончив оркестровку Четвертой симфонии, он столь же быстро завершил самую известную свою оперу «Евгений Онегин». Наиболее характерно для этого произведения то, что композитор необычайно лично воспринимал сюжет оперы, и хотя ему казалось, что она адресована лишь относительно небольшому кругу зрителей, он, тем не менее, всю жизнь испытывал к ней особую любовь. Столь же быстро, за несколько недель, был создан скрипичный концерт ор. 35, увидевший свет весной 1878 года. И это произведение несет на себе следы пережитого композитором в последние месяцы, но уже ясно видно, что отчаяние и депрессивное расстройство, наконец, сменяются снова истинной радостью жизни. Чайковский находился в «приподнятом настроении» с момента приезда в Кларан молодого скрипача Котека. Туда же к тому времени Чайковский вернулся вместе с братом Модестом. Об этом он 22 марта 1878 года написал г-же фон Мекк. В этом письме он с радостью сообщает о том, что в таком «фантастическом настроении сочинение музыки приносит одно лишь удовольствие», Он очень хотел посвятить Котеку скрипичный концерт, при сочинении которого молодой скрипач, ставший к тому времени учеником Йозефа Иоахима, дал ему немало технических советов, но боялся дать этим повод для «сплетен», о чем писал своему другу и издателю Юргенсону. Премьера этого скрипичного концерта состоялась лишь в декабре 1881 года в Вене, где партию скрипки исполнил молодой виртуоз Адольф Бродский. И хотя венский критик Эдуард Ханслик назвал это произведение «вонючей музыкой», оно и в наше время продолжает принадлежать к «классике».
23 апреля 1878 года Чайковский наконец возвращается в Россию и сначала направляется в Каменку к сестре Саше. Чтобы создать ему «удобные» условия для работы, она выделила для брата и его слуги Алеши отдельный дом. Чайковский также на некоторое время воспользовался приглашением г-жи фон Мекк, предложившей ему некоторое время погостить в ее огромном имении в Браилове, где ему были предоставлены отдельные помещения и весь штат прислуги находился в полном его распоряжении. И вновь его порой одолевала грусть, самым эффективным лекарством от которой была работа. 18 июля 1878 года он писал г-же фон Мекк: «… Работа нужна мне, как воздух для дыхания. Праздность мгновенно вгоняет меня в тоску…. я недоволен собой, я даже ненавижу себя… Я весьма подвержен меланхолии и знаю, что ни в коем случае не должен по желанию бездельничать. В работе мое спасение». Все большую роль для него начинает играть алкоголь, о чем он еще прошедшей зимой написал брату Модесту: «… вечером я все время выпивал по нескольку рюмок бренди. И днем тоже выпиваю порядочно, без этого у меня ничего не получается… Даже для того, чтобы написать письмо, мне требуется глоток. Все это говорит мне о том, что я еще не вполне выкарабкался».
«Кочевое время»
Вернувшись в Москву, Чайковский в октябре 1878 года сложил с себя должность профессора консерватории (до этого он в течение года пребывал в отпуске). С этого момента началось его так называемое «кочевое время». В Москве у него уже не было собственной квартиры, и теперь он, подобно маятнику, метался между Россией и Западной Европой, посещая по пути родственников и друзей в Москве, Петербурге или Киеве. Он все еще страдал от навязчивых страхов и робости перед личными контактами. Тем приятнее было ему узнать, что г-жа фон Мекк предоставила в его распоряжение один из принадлежавших ей домов в ново-приобретенном имении Плещеево, которым он мог пользоваться как и когда ему было угодно, при единственном, но строгом условии, что ее самой в это время не должно было быть в имении. Лишь однажды их экипажи случайно встретились в лесу под Браиловом, что привело обоих в немалое смущение, и Чайковский, не произнеся никакого приветствия, лишь слегка приподнял шляпу. Даже мысль о том, что он может столкнуться с ней лицом к лицу и она, не дай Бог, догадается о его извращенных сексуальных наклонностях, приводила его в панический ужас. При этом письма г-жи фон Мекк заставляют предположить, что она уже надеялась на нечто большее со стороны своего «платонического друга». Первоначальная строгая сдержанность постепенно начинала уступать место настоящим объяснениям в любви. Она писала ему примерно так: «Вы снились мне всю прошлую ночь… Какое счастье чувствовать, что Вы со мной, что я Вами обладаю… Если бы Вы только знали, как я Вас люблю. Это уже нелюбовь, это обожание, поклонение, обожествление». Насколько она стремилась сделать их личные отношения более близкими, следует также из того, что зимой 1878–1879 годов она пригласила его во Флоренцию и сняла для него великолепную квартиру рядом со своей роскошной виллой. Но и теперь они лишь ежедневно обменивались письмами, которые передавали слуги, а личная встреча так и не состоялась. Чайковский слишком хорошо запомнил шок от неожиданной встречи их экипажей в Браилове, после которой он потерял сон и аппетит и вновь впал в глубокую депрессию, о чем так писал Модесту: «Вчера у меня снова был истерический припадок, я прорыдал весь вечер». Во Флоренции он, похоже, и сам стремился к большему, ибо спустя несколько лет после свадьбы брата Анатолия исповедался ему в том, что также испытывал потребность в любви женщины. Возможно, что он не вполне отдавал себе отчет в том, что нуждался не столько в женской, сколько в материнской любви, и его переписка с г-жой фон Мекк представляет собой в действительности почти классический пример связи между матерью и сыном. С этой точки зрения они оба должны были получить немалое удовлетворение, когда в 1884 году состоялась свадьба Сашиной дочери Анны и сына Надежды Николая и, по крайней мере хоть таким образом, между ними возникли семейные узы.
Постоянные поступления от г-жи фон Мекк и растущие доходы от продажи произведений позволяли ему вести аристократический образ жизни, останавливаться только в первоклассных отелях, устраивать приемы и раздавать чаевые. К этому времени он уже стал знаменитостью и в России, и за рубежом, что ему, с одной стороны, льстило, но, с другой стороны, создавало дополнительную психическую нагрузку. Об этих двойственных чувствах он так написал г-же фон Мекк 25 августа 1880 года: «Слава! Какие противоречивые чувства вызывает во мне это слово. С одной стороны, я желаю ее и стремлюсь к ней, с другой стороны, она мне ненавистна, ибо… вместе с моей славой растет также и интерес к моей личности, и я постоянно нахожусь под взглядами публики… Иногда меня охватывает безумное желание раз и навсегда где-нибудь спрятаться, считаться умершим». Для того, чтобы выжить вопреки этому явному внутреннему противоречию и обрести внутренний покой, он попытался создать для себя нечто вроде маски. Его контакты с окружающими отличались корректностью, серьезностью и вежливостью, его поведение в обществе стало более уверенным, и в нем появились даже элементы веселости. Этот оборонительный вал, которым он окружил свою внутреннюю жизнь, даже наложил отпечаток на его письма к г-же фон Мекк. Они не только стали реже и короче, но и содержание их свелось почти исключительно к его творческой деятельности. Лишь в письмах к Модесту он иногда давал понять, что по-прежнему страдает от депрессий и иных физических и психических недомоганий. Амбивалентная природа личности Чайковского, столь явно выразившаяся в Четвертой симфонии и опере «Евгений Онегин», по-прежнему создавала конфликтные ситуации, которые до конца его жизни проявлялись в различных формах как в творческой, так и в медицинской сфере. Расщепленная сексуальность была проклятием, обрекавшим его на уловки, двуличие и фальшь, ибо он одно время старался выглядеть безупречным джентльменом, который интересуется только своей композиторской деятельностью, много путешествует по делам и приватно, иногда выступает в роли добродушного дядюшки, а в остальном нередко бывает занят своими душевными и телесными недомоганиями. Многие страницы обширной переписки Чайковского с Надеждой фон Мекк полны незначительных деталей и жалоб, которые, по меткому выражению Ольги Бенннгсен, следовало адресовать скорее медицинскому консультанту, нежели другу. Действительно, при чтении этих писем порой трудно себе представить, что «их писал молодой человек, а не древний, впавший в детство старик, интересы которого в основном сводятся к пищеварению и прочим незначительным неполадкам в организме, источенном старостью». Чайковский, похоже, и не пытался в этих письмах скрыть детскую сентиментальность, свойственную разве что маленьким девочкам. Из них мы снова и снова узнаем о бессоннице, лихорадочной головной боли и болях в эпигастральной области, которые он называет то желчной коликой, то болью в желудке. С осени 1878 года он, не стесняясь, писал подруге своей души о том, что нередко «пытается подкрепиться вином», по поводу чего немедленно получал серьезные предостережения. Сведения об употреблении алкоголя содержатся также в письмах к братьям и в дневнике Чайковского, причем с течением времени сведения эти становятся все более подробными.
Годы с 1878 по 1885 были для Чайковского не слишком продуктивными в творческом отношении. Исключение составляет «Итальянское каприччио», по формальному построению очень близкое к «Испанскому каприччио» Глинки. Это произведение впервые было исполнено в конце 1880 года в Москве и имело колоссальный успех. По радостному характеру этого произведения, к работе над которым Чайковский приступил, судя по его собственной датировке, в начале года, невозможно догадаться, что 21 января 1880 года умер его отец. Он уже много лет почти не поддерживал контактов с отцом, и, похоже, не принял его смерть близко к сердцу. Это подтверждается хотя бы тем, что он даже не счел нужным приехать на похороны из Рима, где тогда находился.
Второй шедевр, созданный в этот период «по внутреннему побуждению» — «Серенада для струнного оркестра», которую обычно весьма сдержанный в оценках Антон Рубинштейн назвал лучшим произведением Чайковского. Значительно уступает этим произведениям завершенный в мае Второй фортепианный концерт ор. 44, темы которого не выдерживают сравнения со знаменитым Первым концертом си-минор. Те же слабости присущи небольшим фортепианным произведениям Чайковского, сочиненным в это время, а также созданной несколько позже Концертной фантазии ор. 56. Очевидно, Чайковского, как и Берлиоза, фортепиано по-настоящему не вдохновляло.
Насколько смерть отца не слишком взволновала Чайковского, настолько же глубоко потрясла его трагическая кончина Николая Рубинштейна в Париже в 1881 году. Узнав, что Рубинштейн при смерти, он немедленно помчался в Париж, но уже не застал друга в живых. Причиной смерти Рубинштейна стало прободение кишечника, при этом точно неизвестно, была ли вызвана перфорация туберкулезной язвой кишечника, как предполагал парижский врач, доктор Потен, или непроходимостью кишечника, вызванной злокачественной опухолью. Предшествовавшие сильное истощение и упадок сил заставляют скорее предположить последнее. Чайковский, боявшийся мертвецов, привидений и взломщиков, опасался увидеть своего друга изуродованным смертью. О похоронной церемонии он так писал Модесту: «К моему стыду, должен признаться, что я страдал не столько от печальной, невосполнимой потери, сколько от необходимости видеть мертвое тело несчастного Рубинштейна». В память о Рубинштейне Чайковский сочинил Фортепианное трио в двух частях, в первой части которого печальная элегия откровенно и убедительно передает настроение композитора. Во второй части, вариациях, каждая из вариаций соответствует какому-либо событию в жизни Рубинштейна, но в них ощущается недостаток внутреннего участия композитора, да и вообще, в этом камерном произведении много слабых мест. С самого начала Чайковский опасался, что соприкосновение со смертью может вызвать у него кризис, подобный тому, что вызвала незадолго до этого разлука с любимым Алешей, который был для него больше, чем слугой. Несмотря на все попытки освободить его от отбывания воинской повинности, Алеша был призван на военную службу, и теперь Чайковский не только вынужден был вновь в одиночку обустраиваться в своей бурной и хаотичной жизни, но и опасался, что Алеша после грубой солдатской жизни вернется к нему уже другим человеком. В день прощания Чайковский пережил тяжелый нервный кризис, он бился в судорогах, издавал отчаянные вопли и в конце концов впал в обморочное состояние. В письмах Чайковского к Алеше находит свое выражение вся боль разлуки: «… Ах, мой любимый маленький Леня, знай, что даже если ты сто лет пробудешь вдали от меня, я никогда тебя не забуду и буду ждать того счастливого дня, в который ты ко мне вернешься. Ежечасно я думаю об этом… Мне все ненавистно, потому что тебя, мой маленький милый друг, больше нет со мной».
Во время работы над Третьей оркестровой сюитой ор. 55, работу над которой он начал весной 1884 года в Каменке, когда Алеша снова был рядом с ним, в дневнике Чайковского появляются многочисленные упоминания о «Бобе» — его тринадцатилетнем племяннике Владимире. Чайковский испытывал теплую симпатию к этому мальчику с самого раннего его детства и, похоже, с годами эта привязанность приобрела не только платонический характер. Мы знаем, что Боб также имел гомосексуальные наклонности и в 1906 году в возрасте 35 лет покончил жизнь самоубийством. Поначалу любовь Чайковского к Бобу не порождала каких-либо проблем, и в его дневнике появлялись лишь такие записи, как, например, от 26 апреля 1884 года: «Что за сокровище Боб… Мой милый, несравненный и чарующий идол Боб!» В следующий раз он записывает: «Его невероятное очарование когда-нибудь лишит меня разума». Присутствие мальчика внесло смятение в его жизнь и лишило его покоя, чему способствовала также карточная игра: «Винт меня погубит». В напряженные моменты в нем поднималось недовольство собой: «Мне скоро сорок один. Как много я уже прожил и сколь малого достиг». Он боялся таких депрессивных состояний, так как связанная с этим бездеятельность становилась источником болезненных, неудовлетворенных сексуальных вожделений и желаний. Тайные символы «Z» и «X»-, которыми он кодировал в дневнике события гомосексуального характера, или иные события, связанные с его сильными сексуальными эмоциями, позволяют нам представить себе, под каким прессом ему порой приходилось жить. Из дневников мы узнаем также, как он страдал потом от угрызений совести и комплекса вины. Так, на протяжении трех дней подряд в мае 1884 года он пишет: «Z» не столь мучительно, зато присутствует с большим постоянством, нежели «X»… «Z» мучает меня сегодня необычайно жестоко. Боже, избавь меня от такого состояния… Я был чрезвычайно раздражителен и зол, не из-за карточной игры, а потому, что меня мучило «Z»». Подобные записи повторяются через нерегулярные промежутки времени, и порой его охватывает страх перед самом собой. Тогда он делает признания, исполненные чувства вины: «Какое я все-таки чудовище! Боже, прости мне мои греховные чувства».
Неудивительно, что Чайковского постоянно мучили различные писхосоматические проявления болезненного характера: боль в желудке сменялась чувством сдавленности в области шеи, приступами тошноты. Он упоминает в дневнике геморрой, а в записи от 9 мая 1884 года пишет о случае во время прогулки, когда он почувствовал «удушье и сильную боль в области сердца», что его сильно испугало. В июне у него случилось воспаление верхних дыхательных путей, сопровождавшееся высокой температурой, которое доставляло «адские муки» при глотании. Душевное состояние его также было далеко от равновесия: он даже не смог присутствовать на премьере оперы «Мазепа» в Петербурге. Чайковский писал г-же фон Мекк: «Я нахожусь на грани безумия от страха и возбуждения», а спустя чуть больше месяца он, человек не очень религиозный, поразил ее таким признанием: «Я ежечасно благодарю Бога, за то что он дал мне веру. Кем бы я был, если бы не верил в Него и не подчинялся Его воле, я, малодушный человек, которого малейший удар судьбы потрясает до глубины души и толкает к желанию лишить себя жизни». Судя по этим строкам, в депрессивном состоянии его постоянно посещали суицидальные идеи, и это несмотря на все творческие успехи в России и за ее пределами. Насколько значительными были эти успехи, можно судить хотя бы потому, что в июне 1883 года ему, первому из русских композиторов, была присвоена степень почетного доктора Кембриджского университета, а император Александр III лично заказал ему несколько произведений, в основном духовного содержания.
Чайковский все больше уставал от бурной активности и постоянных путешествий, он начал тосковать о внутреннем покое. 4 апреля 1884 года он написал г-же фон Мекк: «Я устал от странствий. Я не знаю, как это вышло, но теперь я думаю только о собственном доме». Сентябрь он провел в имении Плещеево, но в 1885 году это наконец свершилось: в деревне Майданово в окрестностях Клина, на родине Алеши, он снял дом, и на этом кочевой период жизни Чайковского закончился.
Он еще трижды менял квартиры, но до конца своих дней так и не покинул эти столь любимые его сердцу места. Брату Модесту он писал, что его привлекают не только красоты местности, но и то, что «она находится на пути между двумя столицами». 1885 год стал для Чайковского поворотным также и в творческом отношении. К нему постепенно возвращались силы, душевный и творческий спад, в котором он, несмотря на упорную работу, пребывал почти семь лет, закончился. Модест так описывал возрождение брата: «Ему больше не нужна опора, теперь главная его потребность состоит в независимости. Его не пугают общественные обязанности, лежащие вне сферы композиции, они даже привлекают его… Он больше не сторонится людей, он идет всем навстречу… начиная с 1885 года, постоянно расширяется его деловая переписка с издателями, антрепренерами и представителями различных русских и европейских музыкальных институтов. Количественно биографический материал значительно увеличился, но качественно он малоинтересен».
Активно участвуя в этот период в международной музыкальной жизни, Чайковский очень старался скрыть под «маской» свою робость перед межличностными контактами, но депрессии по-прежнему не оставляли его. В письмах Модесту он и в период «возрождения» продолжал рассказывать о своих физических и душевных страданиях. В биографии Петра Ильича, написанной Модестом, об этом говорится так: «После семилетнего отдыха Петр Ильич с мужеством и желанием вновь берется за все. Но затем его мужество постепенно иссякает, и для продолжения такого образа жизни ему приходится напрягать всю имеющуюся в его распоряжении силу воли. Воодушевление уходит и остается лишь, по его собственным словам, усталость от жизни, временами страшная печаль, что-то безрадостное, предсмертное». Новое повышение нервозности заставило Чайковского обратиться к известному петербургскому терапевту доктору Василию Бертензону, который сразу завоевал и на долгие годы сохранил доверие своего пациента. Чайковский сообщил доктору Бертензону, что наряду со ставшими для него уже обычными болями в желудке и кишечными расстройствами в последнее время испытывает «одышку», и это вызывает у него особую тревогу. Доктор Бертензон также не смог обнаружить какого-либо органического заболевания и признал, что это расстройство носит общеневротический характер, то есть подтвердил диагноз, поставленный ранее в Париже доктором д’Аршамбо. В связи с наличием «желудочного и нервного заболевания» доктор Бертензон посоветовал Чайковскому пройти курс курортного лечения в Виши.
В 1885 году Чайковского единогласно избирают членом правления Московского отделения Русского музыкального общества. В этом качестве ему удается провести на должность директора Московской консерватории своего бывшего ученика Сергея Танеева, который позднее много сделал для популяризации произведений своего учителя. При этом Чайковскому пришлось бороться с интригами, что явилось для него невероятно тяжелой нагрузкой. Об этом он писал г-же фон Мекк: «Результат — неописуемая усталость и тоска по отдыху и покою». Покой он обрел в своем доме в Майданове, где в апреле начал сочинять «Манфреда», крупномасштабную программную симфонию. Симфония была закончена уже в сентябре, и некоторые специалисты считают это произведение шедевром Чайковского. Однако эта работа потребовала от него невероятного напряжения, что вновь привело к нервному перевозбуждению, перемежавшемуся фазами глубочайшей депрессии.
До сих пор застенчивость мешала ему заниматься дирижированием, но в конце 1886 года, впервые после десятилетнего перерыва, у него появилось достаточно мужества и уверенности для того, чтобы вновь встать за пульт. Он писал г-же фон Мекк: «Обстоятельства сложились таким образом, что я должен попытаться преодолеть себя и в последний раз подвергнуть себя испытанию за дирижерским пультом… этому способствовало непреодолимое желание доказать самому себе, сколь необоснованны сомнения в моих дирижерских способностях. Премьера оперы «Черевички», переработанного варианта оперы «Кузнец Вакула», показала, что это ему удалось, и он решил продирижировать в Петербурге концертом, составленным исключительно из его произведений. Это событие состоялось 5 марта, и успех был столь убедительным, что Чайковский запланировал на ноябрь еще один концерт такого рода в Москве, в котором должна была состояться премьера его новой, четвертой оркестровой сюиты «Моцартиана».
Но до этого его настиг тяжелый удар судьбы. Не успел он прибыть в Боржоми для принятия курса общеукрепляющего лечения, как тут же получил известие о том, что его старый друг Николай Кондратьев тяжело заболел в Аахене. Последующие шесть недель, которые Чайковский провел у постели умирающего друга, снова привели его на грань депрессии. 12 сентября 1887 года он написал г-же фон Мекк: «Это был один из самых трудных периодов в моей жизни. За это время я очень постарел и похудел. Разочарование, подавленность и апатия охватили меня настолько, что казалось, будто и мой конец близок». На фоне этого душевного расстройства в начале ноября провалилась премьера его новой оперы «Чародейка» в Петербурге, и теперь депрессия окончательно стала клинически выраженной. В этом состоянии он нашел в. себе силы репетировать запланированный большой симфонический Концерт в Москве, что стоило ему огромных усилий. Он писал г-же фон Мекк: «Я очень устал н боюсь, что эти заботы и волнения разрушат мое здоровье», Концерт состоялся 26 ноября 1887 года, и успех был настолько триумфальным, что концерт пришлось повторить на следующий день. Это событие настолько вернуло ему силы, что в 1888 году он смог выступить с большим концертным турне по всей Европе. Во время этого турне Чайковский посетил Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Прагу, Берлин, Женеву, Париж и Лондон, где смог лично познакомиться со многими выдающимися музыкантами. Свое признание выразили ему Иоганнес Брамс, Антонин Дворжак, Эдвард Григ, и прежде всего ведущие композиторы Франции: Форе, Гуно, Массне и другие, что существенно укрепило его веру в себя. Впечатления Чайковского от этих триумфальных гастролей описаны им в «Дневнике моего путешествия 1888 года», который стал доступным общественности спустя короткое время после смерти композитора. Параллельно он вел и свой личный дневник, из которого явствует, что имидж уверенного в себе и избалованного успехом любимца публики стоил ему величайших затрат сил, а за этой маской скрывался человек, измученный постоянными сомнениями и упреками совести, о чем неоднократно писал его брат Модест. Все чаще рядом с таинственным шифром «Z» появляются записи, которые свидетельствуют об увеличивающемся потреблении алкоголя: «Пьянство; пил столько, что не помню, что было; бесконечная пьянка и речи». Из этого можно сделать вывод о том, что алкоголь превратился для Чайковского в привычное средство, помогавшее ему преодолевать неудовлетворенные желания, сомнения и угрызения совести. В большинстве случаев после изрядной порции коньяка, абсента или грога он просыпался на следующее утро с тошнотой и головной болью. Порой читатель дневника наталкивается на записи, свидетельствующие о том, что его автор употреблял и наркотики. Вот, например, запись примерно от 10 мая: «Пережил что-то вроде самовлюбленности в героин Доде», или от 2 июня, в Париже: «Был с Брандуковым у Голицына. Там был еще один плоскогрудый господин приятной наружности, элегантный джентльмен и врач. Впрыскивание морфия». Из дневника мы узнаем также о фазах «тоски по родине и рыданий от грусти». Постоянно попадаются записи о различных жалобах: на изжогу, как правило, после ночных застолий, на зубную боль, порой терзавшую его. В марте 1888 года у него образовался зубной абсцесс. Запись, сделанная между 4 и 9 марта: «Щека болит невыносимо, не давала мне уснуть всю ночь, болит и весь день, сегодня с утра всю щеку сильно раздуло; я даже не могу говорить. Боль немного утихла, но сильная лихорадка остается — меня это совершенно вымотало, но к четырем часам все прошло, как по волшебству». При внимательном чтении дневника Чайковского можно заметить, что его желудочные недомогания далеко не всегда имели чисто функциональное происхождение. Имеется немало данных для того, чтобы заподозрить, что в ряде случаев они были вызваны органическим заболеванием. 13 июля 1886 года, испытав накануне неприятное давление в области желудка, Чайковский писал: «Я поел и почувствовал себя лучше. Я уже подумал, что боль в желудке совсем прошла, но к вечеру мне снова стало хуже». И чуть позже: «Желудок болит, как никогда раньше. Выпил немного коньяку с водой — и никакой боли. Как странно!». Это классическое описание симптомов язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. В эту картину вполне вписывается и такой симптом (запись от 17 июля): «Ночью проснулся от неописуемо мучительной боли в груди — не мог ни спать, ни лежать, сидел то в одном, то в другом кресле. По совету Голицына попробовал горчичник — помогло. Я смог проспать в кресле до утра». Боль, возникающая обычно в первые часы после полуночи и сопутствующая употреблению алкоголя или жирной пищи на ужин, которая локализуется под грудиной и ослабевает, если придать туловищу вертикальное положение, является симптомом так называемого рефлюкса, при котором кислый желудочный сок поступает обратным током в нижний слюнной канал, вызывая при этом сильное жжение или сверлящую боль. Чайковский в дневниках описывал также симптомы, характерные для диагноза истинной депрессии. 31 июля он с удивлением пишет: «Странно. Уже давно я замечаю, что по утрам чувствую себя особенно плохо. Как можно это объяснить? Почему вместо прилива энергии и работоспособности я испытываю по утрам лишь разбитость, грусть и антипатию к любому виду деятельности?… Чувство бесконечного одиночества и подавленности». Естественно, подобные состояния психического расстройства бывали вызваны сложностями, связанными с гомосексуализмом. Какие муки ревности и обиды испытывал Чайковский, можно представить себе, читая между строк некоторых записей в его дневнике. Вот запись от 2 ноября 1886 года: «Я скрываю от других то, что ревную Боба к Ване», и спустя шесть дней: «Очень странно, но я испытываю чувство, что он не только не любит меня, но и ощущает ко мне антипатию. Ошибаюсь я или нет?». Снова и снова он искал спасения в алкоголе: «Я напился, как матрос. Едва мог держать перо в руке». Его мучили не только сомнения в любви Боба, но и трения с молодым капризным другом Ваней, о котором он как-то написал: «Любовь с Ваней. Сдержанность. Добродетель побеждает», в другой раз Чайковский на него разозлился. К этому добавились еще и школьники Шиллинг и Радин, доставившие ему в Майданове некоторое беспокойство. 9 апреля 1887 года он записывает в дневнике: «Мальчишки продолжали меня преследовать. Я спрятался у берега». Его неудержимо влекло к мальчишкам, что снова и снова находит отражение в дневнике, как, например, в мае 1887 года во время путешествия на пароходе по Волге: «Моя дружба с невероятно привлекательным и милым школьником Сашей приближается к своему crescendo».
Нагрузки во время концертного турне по Западной Европе, сопровождавшегося многочисленными ночными алкогольными эксцессами, не могли не оказать воздействия на физическое и психическое состояние Чайковского. Находясь в Праге, он записал в дневник такое наблюдение: «Я старею. Меня охватывает ужас, когда я гляжу в зеркало». Тоска по России, по покою в Майданове становилась тем сильнее, чем дольше он находился вдали от дома, и его подавленность незадолго до возвращения на родину достигла пика, о чем можно судить по дневниковой записи от 15 марта 1888 года: «Ужинал неподалеку от оперы (Венской — прим. автора)… Готовлюсь к долгому пути назад в Россию. Возможно, на этом я навсегда закончу вести дневник. Старость стучит в окно, возможно, что и смерть недалека». На обратном пути к желанному покою он написал г-же фон Мекк: «Разве не странно, что после утомительного трехмесячного странствия по чужбине я уже снова думаю о новых путешествиях?», а по прибытии домой он записал в дневнике: «Странная вещь, я жажду одиночества, а когда оно наступает, я страдаю». Первым делом он переехал из Майданова в новый дом в деревне Фроловское, также недалеко от Клина, где тут же занялся планами новой симфонии и увертюры-фантазии «Гамлет». В Четвертой симфонии Чайковскому не удалось «тему судьбы» сделать «ядром всей симфонии», зато в Пятой симфонии «тема провидения» пронизывает все ее части в соответствии с программой, избранной им для этого произведения: «Полная покорность судьбе, или, что то же самое, предопределенность провидением». Действительно, эта симфония создает у слушателя впечатление, что любая попытка оказать сопротивление неумолимым силам провидения обречена на неудачу. Наиболее ясно это ощущение неумолимости «судьбы» выражено в финале, для которого Тови нашел удачное сравнение с ночным кошмаром: «Хочется бежать еще быстрее, но не можешь сдвинуться с места». В наше время во всем мире существует единое мнение о том, что это произведение принадлежит к числу наиболее популярных и обладающих наибольшей силой воздействия симфоний XIX века. Но и здесь, на вершине расцвета творческих сил, его одолевали сомнения, которыми он делился с г-жой фон Мекк: «Часто меня одолевают сомнения, и я задаю себе вопрос: не пора ли кончать? Не перенапряг ли я свою фантазию? Не пересох ли уже источник?». Вероятно, за этими строками стояло впечатление от резкой критики Кюи, который назвал восторженно принятую петербургской публикой Пятую симфонию «бесхарактерной и заурядной».
В конце 1888 года Чайковский вернулся в свой дом во Фроловеком и приступил к работе над балетом «Спящая красавица», но вскоре новое концертное турне увлекло его в Кельн, Франкфурт, Дрезден, Берлин, Женеву, Ганновер и, наконец, привело в Париж. Из Марселя он отправился через Константинополь в Батум и в конце концов в мае 1889 года в полном изнеможении вернулся домой. Через несколько месяцев во Фроловском он завершил «Спящую красавицу», безусловно, одно из лучших своих произведений. Зиму 1889–1890 года он намеревался провести в Москве и продирижировать несколькими концертами в Музыкальном обществе. Каких усилий это ему стоило, видно из письма г-же фон Мекк от 4 декабря 1889 года: «Случались моменты, когда мои силы иссякали настолько, что я опасался за свою жизнь… Признаюсь Вам лишь в том, что с 1 по 19 ноября я принял крестные муки и до сих пор удивляюсь, как я все это мог выдержать». С одной стороны, он жаждал отдыха, а с другой стороны, письма неприятного и оскорбительного содержания, приходившие от его жены Антонины, буквально принуждали его к бегству в дальние края. В начале 1890 года он писал г-же фон Мекк: «У меня больше нет сил, и я решил отказаться от всех российских и зарубежных концертов и на четыре месяца съездить в Италию, чтобы отдохнуть и поработать над будущей оперой. В качестве сюжета я взял «Пиковую даму» Пушкина… Последнюю неделю я провел в чрезвычайно плохом настроении… Уехать, как можно скорее уехать! Никого не видеть, ни о чем не знать, только работать, работать, работать… Вот чего жаждет моя душа». Модест пишет о «сильном нервном переутомлении и некоторой рассеянности» Чайковского в эти месяцы. В этом смысле многое проясняет примечательное письмо, написанное Петром Ильичом крупному русскому композитору Александру Глазунову 11 февраля 1890 года: «Сейчас я нахожусь на очень загадочной стадии моего пути к могиле. Во мне происходит что-то странное и непонятное. Меня охватила какая-то пресыщенность жизнью: порой я испытываю безумную грусть, но это не та грусть, сквозь которую пробивается новый всплеск любви к жизни, но нечто безнадежное… возможно, вся моя болезнь заключается в том, что через два месяца мне исполнится пятьдесят». Эти строки типичны для человека, переживающего «кризис середины жизни» (midlife crisis) и испытывающего в связи с этим депрессивные колебания настроения. Чайковскому удалось преодолеть этот душевный спад интенсивным трудом. Во Флоренции, в лихорадочном порыве энтузиазма, ему удалось завершить оперу «Пиковая дама» в невообразимо короткий срок — всего за шесть недель. Основная причина колоссального успеха этого произведения, несомненно, заключается именно в невероятном внутреннем соучастии автора, который во время сочинения полностью погрузился в мир этой оперы. Модест утверждает, что Петр Ильич считал «Пиковую даму» вообще своим лучшим произведением. В начале мая он вернулся во Фроловское, где осуществил задуманную еще в Италии идею струнного секстета. Удовлетворенный двумя последними сочинениями, он в сентябре 1890 года поехал к брату Анатолию в Тифлис, где его потрясло совершенно неожиданное событие. Г-жа фон Мекк сообщила ему в письме, что чрезвычайные обстоятельства привели ее на грань финансового краха, и она уже не сможет высылать в будущем его годовую ренту. Письмо заканчивалось словами: «Прощайте, мой милый, несравненный друг, и не забывайте ту, чья любовь к Вам всегда будет бесконечной». За последние годы его доходы существенно возросли, и эта финансовая потеря не так уж подорвала его положение. Однако его самооценка была до основания поколеблена казавшимся ему непонятным отношением Надежды к дружбе, длившейся четырнадцать лет, которая теперь должна была закончиться одновременно с окончанием ее финансовой помощи. Теперь ему казалось, что она покупала эту дружбу, поставив его в финансовую зависимость от себя. Когда же он узнал о том, что г-жа фон Мекк потеряла далеко не все свое состояние, он окончательно вышел из себя на почве уязвленной гордости. Мысль о том, что все эти годы он был лишь игрушкой в руках состоятельной бессердечной дамы, которая теперь, наигравшись, уволила его, как ненужного лакея, была, по словам Модеста, «одной из тех обид, которые Петр Ильич унес с собой в могилу». Но прежде всего он немедленно, 4 октября 1890 года, написал ответ на ее уничтожающее письмо; он попытался объяснить ей, что весьма соболезнует постигшему ее несчастью, что его материальное положение значительно упрочилось и отсутствие годовой ренты никоим образом не представляет для него опасности. Надежда не ответила ни на это, ни на все последующие письма, что, по словам Модеста, явилось для него «самой смертельной обидой», и «ни блестящий успех «Пиковой дамы», ни глубокая скорбь по любимой сестре, умершей в апреле 1891 года, ни триумфальное турне по Америке не смогли заглушить эту боль». Сам Чайковский писал об этом так: «Никогда я не чувствовал себя столь униженным, никогда моя гордость не была так оскорблена».
Какие причины в действительности заставили г-жу фон Мекк столь внезапно и навсегда прервать отношения с Чайковским, выяснить до конца сегодня уже невозможно. Некоторые авторы считают, что причиной этого был комплекс вины по отношению к ее семье, вины за то, что она все эти годы заботилась исключительно о Чайковском, пренебрегая родными. В это время ее старший сын опустился настолько, что превратился в духовного и физического калеку, а внебрачная дочь Людмила, плод ее связи с секретарем мужа, ставшая косвенной причиной смерти г-на фон Мекка, ввязалась вместе со своим мужем, князем Ширинским, в аферу со взятками. По другой версии, Александра, вторая дочь Надежды, злой дух семьи фон Мекк, просветила мамашу относительно гомосексуальных наклонностей Чайковского, что и побудило ее принять это тяжелое решение. Однако Надежда незадолго до того, как отправила последнее письмо Чайковскому, переслала ему его ренту нарочным во Фроловское, и не чеком, как обычно, а наличными, за год вперед. Это говорит о том, что вряд ли здесь имело место внутреннее отчуждение. О том же говорит и ответное письмо Чайковскому зятя Надежды Пахульского, бывшего ученика Петра Ильича. Чайковский безуспешно пытался через Пахульского установить контакт с г-жой фон Мекк. Пахульский сообщал, что «ее внешнее безразличие (то, что она оставила письма без ответа — прим. автора) является последствием тяжелого нервного недуга, но в глубине души она продолжает так же любить Петра Ильича». Под выражением «нервный недуг» следует понимать тяжелое заболевание, которым она страдала уже в то время. Модест Чайковский писал, что «начиная с 1890 года, жизнь Надежды фон Мекк на деле была не более чем медленным умиранием вследствие ужасного нервного заболевания, которое изменило ее отношения не только с Петром Ильичом». Из имеющихся документов мы можем узнать, что г-жа фон Мекк страдала от болезни почек, которая к этому времени зашла уже очень далеко, и, кроме того, она «утратила способность пользоваться рукой», возможно, вследствие инсульта на почве почечной гипертонии. Поскольку ее сын Владимир перенес несколько инсультов, приведших в конечном итоге к его смерти, вполне возможно, что и мать, и сын страдали от одной болезни — гипертонии, для которой зачастую свойственна семейная предрасположенность. У Надежды это привело к образованию сморщенной почки со всеми вытекающими из этого клиническими последствиями, и, в конечном итоге, к смерти от почечной недостаточности или инсульта. Она пережила Чайковского лишь на несколько месяцев, успев до этого помириться с ним, о чем сообщает ее племянница Галина фон Мекк в «Воспоминаниях», опубликованных в 1973 году.
«Старик в 50 лет»
Душевное потрясение, вызванное внезапным концом легендарного почтового романа с г-жой фон Мекк, нашло свое выражение в симфонической балладе «Воевода», которую Чайковский начал сочинять 10 октября 1890 года, через неделю после получения судьбоносного письма. 19 декабря 1890 года в Петербурге с большим успехом прошла премьера «Пиковой дамы». Эти недели он провел в кружке творческой интеллигенции, финансируемом одним из крупных русских промышленников, к которому принадлежал также Римский-Корсаков. Застолья продолжались до самого утра, и, по воспоминаниям Римского-Корсакова, Чайковский был в состоянии «пить вино в больших количествах» и, в отличие от менее стойких к выпивке собутыльников, «мог полностью контролировать все свои физические и психические проявления». В это же время Чайковский начинает работать над балетом «Щелкунчик», который был заказан ему дирекцией петербургского театра.
В его письмах того времени, адресованных даже самым близким родственникам, ничего не говорится о том, что происходило в его внутреннем мире Модест также оказался не в состоянии понять необычное поведение брата, в чем откровенно признался: «Я вообще не берусь разгадывать последнюю психологическую эволюцию в душе Петра Ильича, ибо моих скромных сил недостаточно для решения этой задачи». Скорее всего, Модест прав, полагая, что решающим импульсом, вызвавшим к жизни такую перемену, послужил окончательный разрыв Петра Ильича с г-жой фон Мекк: «Эта рана так никогда и не зажила, она болела непрерывно и омрачила последние годы его жизни». Чайковский теперь был занят неустанной деятельностью, всегда подчеркнуто чем-то занят, и, по словам брата, «казалось, что он перестал принадлежать себе, что им овладело Нечто, лишившее его воли и по своему произволу бросавшее его то в одну, то в другую сторону… этим таинственным Нечто было то непостижимо мрачное, беспокойное, безнадежное настроение, для подавления которого требовалось отвлечение — все равно какого рода».
Такая возможность отвлечься представилась в виде турне по США, начавшееся в апреле 1891 года, во время которого Чайковский вел весьма подробный дневник. После исполнения Первого концерта для фортепиано с оркестром в Нью-Йорке он записал: «Поднялась такая буря оваций, которую мне не приходилось переживать никогда, даже в России». Единственным событием, омрачившим это турне, было известие о смерти любимой сестры Саши, которое он получил перед самым отплытием. Основным объектом беспокойства был любимый племянник Володя, «Боб», так как Чайковский опасался, что смерть матери может оказаться для нЬго слишком тяжелым ударом. Однако никто из посторонних не заметил этого беспокойства, внешне Чайковский выглядел очень спокойным и уравновешенным, о чем можно судить по заметке, опубликованной «Нью-Йорк Геральд» 24 апреля 1891 года: «Чайковский — высокий, уравновешенный, хорошо сложенный, интересный мужчина, которому на вид можно дать около 60 лет». Он выглядел старше своего настоящего возраста, по всей видимости, из-за совершенно седых волос. В действительности ему только-только должен был исполниться 51. Эта ошибка репортера немало потешила Чайковского.
1 июня он вернулся в Петербург, усталый, но в лучшем расположении духа, чем до поездки. Однако ошибка американской газеты в определении его возраста сразу почти на 10 лет, вначале рассмешившая Чайковского, позднее заставила его задуматься. Дневниковая запись от 8 мая посвящена эпизоду, в котором он перепутал фамилии двух пианистов: «Моя рассеянность становится порой просто невыносимой, й я усматриваю в ней признак надвигающейся старости… Все думали, что я намного старше. Неужели я так постарел за последние годы? Вполне возможно… Под влиянием разговоров о моей стариковской внешности мне всю ночь снились ужасные сны». И после возвращения домой незначительная рассеянность вновь и вновь возвращает его к этой теме. Запись от 7 июля 1891 года: «Вот еще одно доказательство того, что я старею. Я уже выгляжу не так хорошо, волосы выпадают, зубы начинают шататься, походка тяжелеет». Еще в 1872 году у Чайковского было впервые обнаружено падение остроты зрения и с тех пор, занимаясь композицией, он охотно пользовался пенсне. Об ухудшении состояния зубов он неоднократно сообщал в дневнике, жалуясь на зубную боль.
Летом Чайковский продолжал работать над балетом «Щелкунчик», но уже в декабре без видимой мотивации отправился в очередное концертное турне, сначала в Варшаву, а затем в Гамбург, где состоялось памятное событие — премьера оперы «Евгений Онегин» на немецком языке. 19 января 1892 года Чайковский писал племяннику Бобу: «Здешний капельмейстер — не какая-то посредственность, а истинный всесторонний гений… Певцы, оркестр… и капельмейстер (его фамилия Малер) совершенно влюблены в ‘Евгения Онегина’». После роскошной постановки оперы Чайковский отправился в Париж, но здесь так затосковал по родине, что, недолго думая, отменил запланированные концерты в Нидерландах и спешно выехал домой. 17 мая он въехал в новый дом на окраине Клина, свое последнее пристанище — тот самый дом, где теперь находится музей Чайковского. Он собирался начать работу над новой симфонией, но этому помешали вновь появившиеся признаки переутомления, выразившиеся в нервозности и боли в желудке. В связи с этими симптомами врачи порекомендовали Чайковскому пройти трехнедельный курс лечения в Виши, куда он и направился в сопровождении племянника Боба. Вернувшись в Клин, он откорректировал для печати некоторые ранее написанные партитуры, и его снова охватила жажда странствий. После короткого путешествия в Вену и Прагу в сентябре 1892 года, он присутствует на премьере «Щелкунчика», которая прошла без слишком громкого успеха, а спустя неделю, 18 декабря, вновь устремляется в концертное турне — Берлин, Париж, Брюссель, Базель. Во время этого путешествия он отклонился от маршрута для того, чтобы посетить проживавшую в Монбейяре Фанни Дюрбах, которой в то время уже исполнилось 70 лет. Об этой встрече он писал брату Николаю, также сохранившему живые воспоминания о своей гувернантке: «Ей уже семьдесят, но она мало изменилась. Я очень боялся, что дело дойдет до слезных сцен, но ничего подобного не произошло. Она приветствовала меня так, как если бы мы не виделись всего лишь год — радостно, непринужденно и без всяких условностей… Потом она показала мне наши школьные тетрадки… но самое интересное — это милые, чудесные мамины письма… Мне показалось, что я вновь вдохнул чудный воздух нашего боткинского дома и услышал голоса мамы и всех наших».
После концерта в Брюсселе Чайковский выступил как дирижер на пяти концертах в Одессе, где ему был оказан триумфальный прием. Но, тем не менее, его терзала меланхолия и отсутствие уверенности в себе, о чем он писал в письме к Модесту: «Мне предстоит вернуть веру в себя самого, эта вера подорвана и мне кажется, что моя роль уже сыграна». В Одессе художник Кузнецов написал портрет Чайковского, который, по словам Модеста, передает его, как живого. На портрете мы видим совершенно седого человека с одухотворенным лицом, которому на вид можно дать на десять лет больше его 53. Вот что пишет Доор, который, встретившись с Чайковским в это время, буквально ужаснулся тому, как он постарел: «Он изменился так, что я смог его узнать по глазам небесной голубизны. Глубокий старик в 50 лет! Мне стоило большого труда не дать ему догадаться об этом. Титанический труд разрушил его хрупкий организм». Вероятно, ускоренному старению способствовало не только неумеренное потребление алкоголя и чрезмерные психические нагрузки, но и, в наибольшей степени, лихорадочная композиторская и дирижерская деятельность в последние годы.
В начале 1893 года после завершения очередного успешного турне Чайковский вернулся в Клин. Уже в дороге у него вновь начались сильные боли в желудке, о которых он писал так: «В поезде мне стало так плохо, что я, к ужасу попутчиков, начал бредить и был вынужден сойти в Харькове. Приняв обычные в таких случаях меры, я выспался и на следующее утро проснулся здоровым. По моему, это была острая желудочная лихорадка». Не исключено, что и на этот раз имело место неврогенное функциональное расстройство желудка или толстого кишечника на почве перегрузок во время турне, вызвавшее «острые» болевые ощущения. В пользу такого предположения говорит также и то, что ввиду жалоб на сильные, не-прекращающиеся головные боли, врач в начале марта настоятельно порекомендовал Чайковскому избегать психических напряжений. 20 марта он написал Модесту: «Представь себе, что головная боль, которая, казалось уже, останется со мной навеки, вдруг прошла сама собой ровно на четырнадцатый день после того, как началась».
К этому времени план Шестой симфонии начал обретать реальные очертания, о чем он сообщал племяннику Бобу в письме от 23 февраля: «Во время странствий мне пришла в голову идея новой симфонии. На сей раз это будет программная симфония, но программа ее останется тайной для всех, и пусть ломают себе головы. Называться она будет «Программная симфония (№ 6)». Программа же ее интимнейше субъективна. Ты поймешь, каким счастьем переполняет меня сознание того, что мое время еще не кончено, и я еще в состоянии работать». Работа над этим произведением многократно прерывалась поездками по России и сочинением небольших «промежуточных» произведений, в которых Чайковский оттачивал идеи оркестровки Шестой симфонии. К числу этих произведений относятся 18 пьес для фортепиано ор. 72. Чайковский не склонен был высоко оценивать их, но некоторые все же весьма хороши. Прежде всего это относится к «Valse a cinque temps» («Вальс на пять тактов»). Этот вальс воплотился в одной из тем второй части Шестой симфонии. На более высоком качественном уровне находятся Шесть романсов ор. 73. Наиболее выдающимся здесь является последний романс. Преобладание песенного стиля в позднем творчестве Чайковского говорит о том, что при более благоприятном развитии событий он наверняка подарил бы нам еще одну оперу.
В мае, после гастролей в Лондоне, где Чайковский выступил в амплуа дирижера, и посещения Кембриджа, где ему были торжественно вручены знаки отличия почетного доктора, он наконец снова мог заняться оркестровкой Шестой симфонии. К этому времени физические и психические недомогания, не дававшие ему покоя в мае, кажется, начали отступать, и он писал: «Вчера мои мучения были столь невыносимы, что я потерял сон и аппетит, что случается у меня очень редко. Я страдаю не только от тоски по родине, которую вообще невозможно передать словами (в моей новой симфонии есть место, которое, как мне кажется, хорошо это передает), но и от ненависти к чужим для меня людям, от ощущения непонятного страха и еще черт знает от чего. Физически это выражается в болезненных ощущениях в нижней части живота и пронзительной боли и слабости в ногах». Возможно, что ненависть и безразличие к окружающим были, кроме всего прочего, вызваны чередой печальных событий, обрушившихся на Чайковского после возвращения в Клин. О том, что это были за события, писал Модест: «Повсюду витало дуновение смерти. Не успел он получить известие о смерти Константина Шиловского (брата Владимира Шиловского — прим. автора), как тут же его постиг новый удар — скончался его друг К., а еще через десять дней он получил письмо от графини Шиловской, в котором она сообщала о смерти мужа Владимира (к которому Чайковский однажды воспылал любовью — прим. автора). Вдобавок ко всему в Петербурге лежал при смерти Апухтин (поэт и одноклассник Чайковского по Училищу правоведения, сыгравший немалую роль в развитии его гомосексуальных наклонностей — прим. автора)…. Но несколько лет назад даже одно подобное известие оказало бы на Петра Ильича более сильное воздействие, чем теперь все они вместе взятые». Модест приписывает это приподнятому настроению, в котором пребывал Чайковский во время работы над Шестой симфонией. Действительно, Чайковский считал это произведение вершиной своего творчества и называл его самым «честным» из всего, что он создал, о чем так писал Бобу: «Я люблю ее больше, чем когда-либо любил другое мое музыкальное произведение». Похожие мысли выразил он и в письме брату Анатолию в августе 1893 года: «Я очень горжусь этой симфонией и считаю ее моим лучшим сочинением». Безучастность, с которой Чайковский воспринял упомянутые выше трагические известия, в какой-то мере сочеталась с его прогрессировавшим эгоизмом, достигшим к этому времени заметного уровня. Он сам признал это в дневнике: «Мне часто кажется, что моя досада и мое недовольство связаны с тем, что слишком независим и слишком много мню о себе, неспособен жертвовать собой ради других, даже ради тех, кто мне близок и дорог». Такие признания Чайковский доверял только дневникам, в письмах же его истинное Я почти никогда не выходило на поверхность, если не считать тех из них, которые, как писал он в дневнике, возникли «в состоянии глубокого душевного смятения».
По совету Модеста Петр Ильич назвал Шестую симфонию «Патетической». Первое исполнение ее под управлением Чайковского состоялось 28 октября 1893 года. Симфония встретила вежливый, но не восторженный прием публики и критики. По этому поводу Чайковский писал 30 октября своему издателю и другу Юргенсону: «Симфония не была отвергнута, но она произвела что-то вроде замешательства. Я же горжусь этой вещью больше, чем любым другим своим сочинением».
Действительно, этой симфонии были присущи особенности, совершенно новые для слушателей и чуждые им. И сам Чайковский признавал это, о чем писал летом племяннику Бобу, которому посвятил это произведение: «По своей форме эта симфония будет содержать много нового, и, прежде всего, то, что ее финал — это не обычное громовое Allegro, а напротив — долгое Adagio». Что он завещал этим произведением любимому «Бобику», с которым его связывали не только платонические отношения, навсегда останется для нас тайной. Эдвард Гарден, анализируя Шестую симфонию, полагает, что первой темой Чайковский желает выразить мотивы борьбы, «связанной с тягой к жизни», в то время как инвертированная гамма символизирует «лейтмотив смерти». Взрывам страстей сопутствует совершенно противоположный момент, который «раскрывается как тема прекрасной любви». Эта умиротворенность совершенно внезапно прерывается вновь возникающим «мотивом смерти», постепенно переходящим в православный хорал «Со святыми упокой». За этой чрезвычайно насыщенной частью следует уже упоминавшийся нами выше вальс на пять четвертей, несущий умиротворяющую разрядку. Развитие третьей части постепенно переходит в могучий триумфальный марш, причем у слушателя не остается сомнений в том, что здесь триумфатором является не кто иной, как смерть. Однако подлинная вершина симфонии — ее четвертая часть, которая открывается темой «Requiem eternam» заупокойной литургии, достигающей в конце совершенно невыносимого отчаяния. Именно такого эффекта хотел достичь Чайковский, о чем он в 1893 году писал великому князю Константину. Константин переписывался с Чайковским уже на протяжении нескольких лет и просил его написать реквием по недавно умершему другу юности Апухтину.
В этом письме Чайковского, в частности, говорится: «Меня несколько смущает то обстоятельство, что моя недавно завершенная последняя симфония проникнута, особенно в финале, настроением, присущим скорее реквиему… Я очень опасаюсь просто повториться, если сразу же возьмусь за подобное произведение».
Через неделю после первого исполнения Шестой симфонии Чайковского не стало, и явно автобиографический характер Шестой симфонии, само собой разумеется, широко распахнул двери для разнообразнейших романтических толкований этого произведения. Предпринимались попытки доказать, что композитор сочинял эту симфонию в предчувствии близкой смерти. Некоторые биографы склонны усматривать в Шестой симфонии даже желание умереть, ссылаясь в доказательство такой гипотезы на душераздирающие вопли в разработке второй темы первой части. Однако, по данным Модеста, не было никаких ощутимых признаков того, что Петр Ильич предчувствовал собственную смерть или, тем более, желал ее. Напротив, он говорил о планах новых сочинений и вел себя совершенно обычно: «В последние дни его настроение не было ни исключительно радостным, ни как-то особо подавленным. В кругу ближайших друзей он был весел и доволен жизнью, в обществе чужих людей он, как всегда, нервничал и возбуждался, от чего позднее уставал и становился вялым. Ничто не давало повода для мыслей о близкой смерти». Близкие к Чайковскому люди обратили внимание единственно на то, что он стал воздержаннее. Он продолжал пить вино, но теперь обязательно разводил его минеральной водой, и по вечерам не ел мяса.
Как сообщает Модест, утром 2 ноября Чайковский пожаловался на тошноту и боль в желудке, в связи с чем ему порекомендовали принять касторового масла.
Было высказано предположение, что тошнота и боль в животе вызвана тем, что он заразился, выпив воды, инфицированной холерой. Накануне, обедая с Модестом и Бобиком, он налил себе из графина водопроводной воды и сделал несколько глотков. Речь шла о некипяченой воде, а в это время в Петербурге вновь свирепствовала эпидемия холеры. Такая версия казалась вполне возможной, кроме того, Модест, описывая последующие события, постарался еще более повысить ее правдоподобие. Согласно его изложению, у Чайковского начался сильный понос, сопровождавшийся рвотой, и это ослабило его до такой степени, что через несколько часов он уже не был в состоянии говорить, а боли в животе настолько усилились, что заставляли его поминутно вскрикивать. Врач Чайковского доктор Василий Бертензон и приглашенный в качестве консультанта его брат доктор Лев Бертензон провели всю ночь у постели больного. Лишь ранним утром им на смену пришел их ассистент доктор Мамонов, которого в 3 часа дня сменил доктор Сандерс, также ассистент доктора Бертензона. Днем наступило относительное улучшение и Чайковский сказал посетившему его доктору Бертензону: «Благодарю Вас, Вы вырвали меня из лап смерти». Но уже на следующий день, 4 ноября, он почувствовал себя явно хуже и сказал Модесту: «Думаю, это смерть». В том же духе высказался он и доктору Бертензону: «Сколько доброты и терпения тратите Вы понапрасну, меня уже нельзя вылечить». Диарея усилилась, тянущая боль в мышцах становилась невыносимой. К концу этого дня 4 ноября появилась устойчивая задержка мочеиспускания, возникла угроза почечной недостаточности, в связи с чем врачи порекомендовали теплую ванну. Больной не забыл, чем закончилась эта процедура для его матери, умершей от холеры, и так прокомментировал этот совет: «Охотно, купание пойдет мне на пользу, только я наверняка умру, как моя мать, если Вы окунете меня в воду». Учитывая слабость пациента, врачи решили пока отказаться от ванны.
5 ноября состояние больного быстро ухудшалось, он впал в беспамятство, бредил, можно было разобрать, что он произносил имя Надежды Филаретовны. К полудню возникла угроза полного прекращения деятельности почек, и доктор Лев Бертензон все же решился на теплую ванну. Эта процедура вызвала обильное потоотделение и вызвала у больного еще большую слабость, но не оказала положительного влияния на работу почек. В течение нескольких часов физическое состояние больного стало катастрофическим и доктор Сандерс срочно вызвал доктора Льва Бертензона. Но и тот, как и следовало ожидать, оказался бессилен изменить неблагоприятное течение заболевания. Николай Чайковский срочно послал за священником, который, будучи уже не в состоянии исповедовать больного, отказался причастить его святым дарам. В три часа утра 6 ноября агония подошла к концу. Модест так пишет об этом: «Неожиданно Петр Ильич открыл глаза, в которых мы увидели явный отсвет ясного сознания. Он по очереди задержал взгляд на тех троих из нас, кто стоял ближе всего к нему, а затем обратил его к небу. Еще несколько мгновений что-то светилось в его глазах, но вскоре угасло вместе с его последним вздохом».
Истинный диагноз и причина смерти
Основываясь на красочном рассказе Модеста, биографы Чайковского, как и врачи, были до самого последнего времени твердо убеждены в том, что причиной смерти композитора явилась холера, эпидемия которой свирепствовала в то время в Петербурге. Споры вызывал лишь вопрос о том, случайно ли, по небрежности, заразился Чайковский этим заболеванием или это было сделано сознательно. В последнее время большинство исследователей склонялось к последней версии. Модест, автор обширной биографии Чайковского, обходит эту тему молчанием, поэтому казалось, что ответ на этот вопрос уже никогда не будет получен.
Однако в последнее время на основании новых документов и обнаруженных свидетельств очевидцев совершенно неожиданно удалось выявить факты, которые позволяют не только поставить под сомнение версию Модеста, но и решительно ее опровергнуть. Следует обратить внимание также и на то, что даже у некоторых современников возникали подозрения в том, что эта версия смерти Чайковского не соответствует действительности. Первые противоречия обнаруживаются уже в сообщениях, опубликованных в одной из петербургских газет того времени. 24 октября по ст. стилю (5 ноября по новому, далее, во избежание разночтений, мы будем указывать двойные даты) «Биржевые ведомости» писали: «Весь музыкальный мир обеспокоен известием о тяжелой болезни П. И. Чайковского. К счастью, согласно последнему бюллетеню, можно ожидать благополучного исхода болезни (предполагается, что это тиф)». На следующий день, когда уже наступила смерть, в той же газете появилась заметка следующего содержания: «Страшная эпидемия не пощадила и нашего известного композитора П. И. Чайковского. Он заболел в четверг (21 октября/2 ноября — прим. автора), и сразу же в течение дня его болезнь приняла опасный характер». За этой заметкой следовали два медицинских бюллетеня и следующее заключительное замечание: «В половине третьего утра врачи удалились, будучи в полной уверенности, что состояние больного безнадежно. В три П. И. Чайковского не стало». В этих газетных материалах присутствует вопиющее противоречие: в первой публикации говорится о заболевании тифом, в течении которого 23 октября/4 ноября даже появились признаки улучшения, в то время как во второй заметке говорится о том, что течение болезни с самого начала приняло опасный характер. Во втором материале название заболевания не упоминается, но очевидно, что за словом «эпидемия» скрывается холера. Уже в те времена такой диагноз вызвал обоснованные сомнения. «Петербургская газета» писала 26 октября/7 ноября: «Как мог Чайковский получить холеру, если гигиенические условия, в которых он проживал, были такими, лучше которых и представить себе невозможно, и приехал в Петербург лишь несколько дней назад?». Действительно, в октябре 1893 года заражение холерой в Петербурге казалось крайне маловероятным, поскольку пик эпидемии холеры в России пришелся на лето прошедшего, 1892 года, и в 1893 году она проявляла себя уже значительно слабее. Более того, эпидемия, протекавшая в 1893 году уже далеко не так свирепо, осенью, как это обычно бывает, явно пошла на спад, и к концу года наблюдались лишь единичные случаи.
Поэтому не вызывает удивления, что по городу поползли упорные слухи о том, что Чайковский умер вовсе не от холеры, а покончил жизнь самоубийством. Распространению этих слухов способствовали также противоречивые высказывания врачей. Доктор Василий Бертензон, пользовавшийся на протяжении ряда лет особым доверием Чайковского, заявил, что маэстро почувствовал себя неважно еще в четверг, 21 октября/2 ноября, но обратился за медицинской помощью только в пятницу. В субботу, 23 октября/4 ноября наступило заметное улучшение, и врачи предположили, что больной благополучно переживет холеру. Беспокойство вызывал лишь прогрессирующий упадок сил.
Одновременно в газете «Биржевые ведомости» было опубликовано интервью с доктором Николаем Мамоновым, выдающимся клиницистом, исполнявшим обязанности врача императорской семьи, который вместе с доктором Сандерсом дежурил у постели Чайковского. Доктор Мамонов заявил, что Чайковский почувствовал себя плохо уже в среду 20 октября/1 ноября, в то время как Модест твердо держался того мнения, что накануне первого дня своего рокового недуга его брат не ощущал какого-либо недомогания и был вполне здоров.
Столь противоречивые версии побудили газету «Новое время» 27 октября/7 ноября 1893 года взять интервью у доктора Льва Бертензона, возглавлявшего группу врачей, лечивших Чайковского во время его последней болезни. В версии Льва Бертензона ранее проявившиеся противоречия проступили еще более явным образом. В отличие от своего брата Василия доктор Лев Бертензон заявил, что с самого начала заболевания возникла опасность почечной недостаточности и что в субботу, 23 октября/4 ноября, никакого улучшения состояния больного не произошло — в этот день он уже был при смерти. Действительно, смерть Чайковского наступила ранним утром следующего дня.
Подобные противоречия можно объяснить лишь желанием скрыть правду и тем, что ввиду надвигавшейся катастрофы врачи потеряли голову и, по меньшей мере, не сумели договориться о единой версии происшедшего. Но, кроме того, версия доктора Льва Бертензона не выдерживает критики и с профессиональной точки зрения: так называемая «болевая» стадия холеры, в которой он якобы застал пациента, соответствует второму периоду течения этого заболевания, и совершенно невозможно, чтобы такое состояние возникло сразу после начала болезни» Ответ на эти загадки отчасти содержится в воспоминаниях доктора Василия Бертензона, опубликованных в 1980 году, где он, пытаясь оправдаться, написал: «Должен сознаться, что до этих событий я не видел ни одного реального случая холеры». Пациентами братьев Бертензонов были преимущественно представители элитарных кругов Петербурга, проживавшие в прекрасных гигиенических условиях, так что этим врачам, действительно, непросто было увидеть реальный случай холеры. Будучи вынужденными сознательно искажать факты, они воспользовались терминологией, которую еще помнили по учебникам со студенческих времен, с целью создать у общественности впечатление, что их пациент умер от холеры. Сегодня нам точно известно, что они вполне отдавали себе отчет в истинном положении вещей.
Можно предположить, что, описывая последние дни Чайковского, Модест опирался на письмо Льва Бертензона, в котором тот попытался изложить события медицински правдоподобно, воспроизведя классическую клиническую картину холеры из учебника. Это письмо было обнаружено в 1938 году в архиве Модеста и до второй мировой войны хранилось в музее Чайковского в Клину. Сегодня письмо считается утраченным. Достоянием общественности стало лишь второе письмо доктора Льва Бертензона Модесту Чайковскому, которое было написано непосредственно после кончины его брата. В этом письме врач выражает свои личные чувства, но не сообщает никаких медицинских подробностей трагического события: «Хочу обнять Вас и поведать Вам, насколько потрясло меня наше общее горе, однако я сам едва стою на ногах и не могу выйти из дому. Ужасная болезнь, унесшая Вашего любимого брата, сделала так, что я ощущаю себя единым с ним, с Вами и со всеми, кому он был дорог. Я все еще не могу прийти в себя после страшной трагедии, свидетелем которой мне довелось стать, и просто не в состоянии описать те муки, которые испытываю сейчас. Могу Вам сказать лишь одно: я чувствую то же, что и Вы. Всегда верный и преданный Вам Лев Бертензон».
Другое письмо, более предметного характера, 1/13 ноября 1893 года было предоставлено газете «Петербургские ведомости» с короткой сопроводительной запиской Модеста Чайковского. Эта записка была опубликована на одной полосе со статьей «Болезнь Чайковского» и звучала так: «Дабы положить конец разноречивым слухам, считаю необходимым передать Вам для опубликования в дополнение к короткому, но чрезвычайно точному отчету доктора Л. Б. Бертензона о последних днях моего брата П. И. Чайковского возможно более подробный отчет о тех событиях, свидетелем которых мне довелось быть». Если даже отвлечься от того факта, что в этой статье доктор Лев Бертензон датирует смерть П. И. Чайковского 24 октября/5 ноября, а Модест — 25 октября/6 ноября, то все равно их описания событий во многом противоречат версии медицинского бюллетеня, ранее опубликованного в печати.
Особого внимания заслуживает упоминание Модеста о том, что в первый день болезни пациент жаловался на сильную боль в груди, а также на неутолимую жажду — симптомы, не вписывающиеся в клиническую картину холеры и поэтому не упомянутые доктором Бертензоном. В изложении Модеста присутствуют и другие подробности, противоречащие версии о том, что Чайковский заразился холерой. Так, в частности, в квартире Модеста, где находился больной, а затем и умерший, не были выполнены элементарные санитарные меры предосторожности, строжайше предписанные правительственным постановлением для помещений, в которых были выявлены случаи холеры, а именно: «В случае смерти от холеры тело умершего должно быть как можно скорее удалено из дома, причем тело при этом должно быть помещено в герметически закрытый гроб. Рекомендуется отказаться от пышной погребальной церемонии и поминок». В случае Чайковского все эти требования были оставлены без внимания. У постели умирающего постоянно находилось не менее 15 человек, не считая священника, тело двое суток находилось в квартире: в первый день — на диване, а во второй — в открытом гробу, который был закрыт лишь вечером 26 октября/7 ноября. Еще 27 октября/8 ноября «Московская газета» писала: «Петр Ильич лежит, как живой. Лицо его выражает умиротворение, лишь ужасная бледность говорит о страданиях, которые покойный перенес в последние три дня своей жизни». В «Хронике моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова, опубликованной в 1955 году в Москве, автор воспоминаний с удивлением пишет о том, сколь халатным в данном случае было отношение к санитарным правилам, установленным для случаев смерти от холеры: «Странно было, что доступ на заупокойную службу был открыт для всех, хотя причиной смерти была холера. На моих глазах Вержбилович (крупный виолончелист — прим. автора) поцеловал лоб и щеку покойного». Наконец, 25 октября/6 ноября скульптору Целинскому было дано разрешение снять посмертную маску Чайковского, что также никак не вяжется с версией его смерти от холеры.
В истории о холере, которой Модест пытался придать достоверный вид, есть еще две несуразности. Во-первых, это относится к роли сырой воды, которую Чайковский якобы выпил вечером 20 октября/1 ноября, что должно было послужить причиной заражения холерой. Во всех медицинских изданиях, посвященных вопросам борьбы с холерой, категорически запрещается не только пить сырую воду, но и применять ее для мытья и мойки столовой посуды. Крайне трудно себе представить, чтобы во время эпидемии холеры в ресторане или в семейном кругу на стол могла попасть сырая вода. Но даже если предположить такую возможность и допустить, что Чайковский действительно выпил воду, инфицированную возбудителями холеры, то к вечеру того же дня симптомы этого заболевания еще не могли проявиться, так как холере присущ более длительный инкубационный период. Во-вторых, это касается пресловутой «теплой ванны», которую в те времена часто назначали холерным больным для стимулирования деятельности почек. По данным доктора Бертензона, эта процедура была проведена в субботу, а по данным Модеста — в воскресенье. Сегодня нам известно, что врачи вообще не рассматривали возможность назначения теплой ванны, ибо в дневнике владельца газеты «Новое время» Алексея Суворина имеется такая многозначительная запись: «Вчера похоронили Чайковского. Я страшно горюю по нем. Его лечили братья Бертензоны, и они не назначили ванну». Это также говорит о том, что врачи и не помышляли о диагнозе «холера».
Тот факт, что после смерти маэстро пресса продолжала оживленно обсуждать подробности симптомов его болезни и медицинских мероприятий, а брат покойного и лечившие его врачи посчитали необходимым давать публичные объяснения, свидетельствует о том, что слухи о возможном самоубийстве Чайковского продолжали циркулировать. Однако в двадцатые годы XX века совершенно неожиданно произошло событие, пролившее свет на спорные и таинственные события, связанные со смертью Чайковского. Доктор Василий Бертензон, не только лечивший Чайковского, но и бывший его близким другом, не пожелал дольше скрывать правду и рассказал другу своего сына, музыковеду Георгию Орлову, что Чайковский не умер от холеры, а совершил самоубийство. Почти в то же самое время Орлов получил подтверждение этого сообщения от своего друга, сына доктора Сандерса — того врача, который совместно с доктором Бертензоном находился у постели умирающего Чайковского в последние его дни и часы. Впоследствии, в сороковые годы, жена Орлова Александра работала в Ленинградском институте театра и музыки, и от профессора Александра Оссовского, директора этого института, Орлов получил новое, уже третье подтверждение этой версии.
Можно считать доказанным, что Чайковский не умер, как считалось ранее, от холеры, а покончил жизнь самоубийством, причем сознательно выбрал такой способ ухода из жизни, чтобы смерть выглядела естественной. Здесь невольно напрашивается ассоциация с попыткой самоубийства, предпринятой Чайковским вскоре после свадьбы с Антониной, когда он также попытался инсценировать смерть от воспаления легких. В 1966 году Орловой удалось найти и ответ на вопрос, почему Чайковский покончил с собой именно тогда, находясь в зените славы и творческих успехов. В этом ей помогли записки Александра Войтова, бывшего куратора нумизматического отдела Русского музея в Ленинграде. Г-н Войтов также был выпускником Училища правоведения, где в свое время учился Чайковский, и в порядке хобби собирал всевозможные материалы о бывших воспитанниках этого учебного заведения. В ходе своих изысканий Войтов наткнулся на некоего Николая Якоби, который, как позднее выяснилось, сыграл ключевую роль в событиях трагического октября 1893 года, повлекших за собой смерть Чайковского. Вот краткое изложение этих событий.
Некий князь Стенбок-Фермор направил тогда жалобу на имя императора Александра III, в которой заявил, что «композитор уделяет слишком много внимания его юному племяннику». Письмо поступило к тогдашнему прокурору Апелляционного суда и однокласснику Чайковского Николаю Якоби, который обязан был передать его дальше по инстанции. Якоби понимал, что это означает позор не только для Чайковского лично, но и для всего столь почтенного учебного заведения, каким являлось Училище правоведения. Во избежание огласки происшествия Якоби принял решение созвать «суд чести», заседание которого прошло у него на квартире 19 октября. Наряду с обвиняемым в заседании суда приняли участие еще шестеро бывших одноклассников, находившихся в то время в Петербурге. Судьи совещались почти пять часов и в результате пришли к решению о том, что избежать передачи письма царю можно будет только при том условии, что Чайковский добровольно уйдет из жизни. В состоянии сильного душевного волнения маэстро в конце концов принял эти условия. То, что Войтов передал суть событий правильно, подтвердила и Вера Кузнецова, невестка Николая Чайковского, умершая в 1955 году. Предполагают, что яд доставил Чайковскому его бывший одноклассник адвокат Август Герке, который, как писал в «Русском музыкальном журнале» Василий Бессель, должен был подписать с композитором договор об издании его оперы «Опричник» в издательстве Бесселя.
В 1981 года Галина фон Мекк, дочь племянницы Чайковского, опубликовала его «Письма к семье», снабдив их эпилогом. В этом эпилоге говорится, что через три дня после отправки письма о публикации Шестой симфонии в издательство Юргенсона Чайковский вернулся домой очень взволнованным, пробормотал несколько непонятных фраз и попросил брата налить себе стакан воды. В ответ на замечание брата о том, что воду следовало бы сначала прокипятить, Чайковский сам отправился на кухню, набрал воды из-под крана, и, бросив лишь: «Кого это уже волнует!», выпил ее. В тот же вечер (это должно было быть 21 октября — прим. автора) Чайковский почувствовал себя очень плохо. Не исключено, что этим стаканом воды он запил яд.
Итак, сегодня мы можем с большой точностью реконструировать причины самоубийства Чайковского и способ, которым он воспользовался для добровольного ухода из жизни. Нам также вполне понятны причины, заставившие его братьев Модеста и Николая, безусловно знавших правду, всеми возможными способами скрывать ее. Неудивительно, что попытки выдать смерть от яда за смерть от холеры, предпринятые в состоянии сильнейшего душевного волнения, оказались достаточно неуклюжими и вызвали обоснованные подозрения еще у современников событий, которые обратили внимание в первую очередь на вопиющее нарушение санитарных правил, установленных для случаев смерти от холеры. Современному читателю «самопожертвование» Чайковского может показаться непонятным и абсурдным, да и в то время было вовсе не обязательно требовать от человека гомосексуальной ориентации шага, которого от него потребовали Якоби и другие одноклассники Чайковского на устроенном ими «суде чести». Да, в российском Уложении о наказаниях 1868 и 1885 годов издания имелась статья 995, согласно которой лица, уличенные в мужеложстве, лишались всех прав состояния и подлежали ссылке в Сибирь. В действительности же императорский двор склонен был в основном закрывать глаза на подобные факты, ибо некоторые родственники царя и высшие вельможи сами были гомосексуалистами. Если же дело доходило до публичных скандалов, то их виновников переводили на службу в отдаленные провинции — о суде и ссылке никто и не заикался.
Надежды на то, что тайну «трибунала чести» и последовавшего вслед за ним вынужденного самоубийства Чайковский унесет в собой в могилу, не оправдались, поскольку, как выяснилось позднее, в архивах сохранились документы об этих событиях. Орлова сообщает, что в 1960 году на кафедре судебной медицины Ленинградского университета была прочитана лекция, в которой «дело Чайковского» упоминалось как «классический случай» вынужденного самоубийства. Из этого следует, что события 1893 года нашли свое отражение в документах.
В знак признания выдающихся заслуг Чайковского Александр III за счет двора устроил торжественную панихиду — такой чести «рядовой» российский подданный был удостоен впервые. В траурном шествии по Невскому проспекту приняли участие делегации многочисленных обществ, академических институтов и многие тысячи жителей Петербурга. Процессия двигалась к Александро-Невскому кладбищу, где великий музыкант нашел свое последнее упокоение рядом с Глинкой, Бородиным и Мусоргским, несколько часов, и все это время Невский был закрыт для движения транспорта.
При итоговом анализе биографического анамнеза Чайковского следует, прежде всего, обратить внимание на исключительно сложную структуру его психики и порожденные ею соматические явления.
Уже в первые годы жизни он проявил себя чрезвычайно чувствительным и восприимчивым ребенком, что дало повод его гувернантке Фанни Дюрбах назвать его «фарфоровым мальчиком». Не исключено, что столь нежный настрой души Чайковский унаследовал от деда со стороны матери, который, как известно, был чрезвычайно нервным человеком и, по не вполне проверенным данным, даже страдал эпилепсией. Фанни была очень тонко чувствующим и отзывчивым человеком, и сразу же после поступления на службу в семью Чайковских стала для Петра важнейшей после матери референтной личностью, к которой он страстно привязался. Фанни, как и мать, должна была принадлежать только ему и он ревновал ее, как и мать, к старшему брату Николаю. Подобная ревность и фиксация на определенных феноменах в раннем детстве является совершенно нормальным психическим явлением и представляет собой нормальную фазу развития половой жизни ребенка к концу пятого года его жизни. Эта фаза оказывает решающее влияние на последующее развитие личности. Ведь мать или лицо, ее заменяющее, с которым у ребенка устанавливается первая в его жизни интимная связь, является объектом его первой любви и желаний. Но мать не может всецело принадлежать одному ребенку — он должен делить ее с братьями, сестрами и, прежде всего, с отцом, и, следовательно, страстная любовь ребенка к матери никогда не может получить полного удовлетворения. В этой ситуации у Петра должна была возникнуть тайная ревность к старшему брату и, безусловно, к отцу, которых мальчик интуитивно воспринимал как соперников.
Зная это, можно себе представить, какой катастрофой явился для восьмилетнего Петра переезд семьи из Воткинска в Москву, когда его любимая Фанни была уволена. До сих пор он всегда находился под ее доброй и ласковой защитой, теперь же гиперчувствительный ребенок оказался один на один с чуждым, холодным и враждебным миром. Подобные события оказали на столь чувствительную психику Петра, можно сказать, травмирующее воздействие, и его характер сразу резко изменился. Это выразилось в рассеянности, потере интереса к окружающим и повышенной возбудимости. К тому же, в это же самое время Петр перенес корь и врачи даже склонялись к тому, чтобы объяснить изменения в его характере последствиями энцефалита или «сухотки спинного мозга», возникших как осложнение кори, что, естественно, не имело ничего общего с действительностью.
Растерянный и полностью потерявший жизненные ориентиры, мальчик все глубже замыкался в себе. Его обожаемая матушка не знала что поделать и, не желая безучастно наблюдать за неблагоприятным развитием событий, реагировала на них чрезмерной озабоченностью, в результате чего Петр стал еще больше идеализировать женское начало, к чему был склонен с самого раннего детства. Впоследствии это нашло свое отражение в образах его опер и в том, что Чайковский всегда сохранял дистанцию между собой и теми женщинами, к которым испытывал симпатию, тщательно избегая какой-либо интимности в отношениях с ними.
В последнее время высказывалось предположение о том, что гипертрофированная заботливость матери способствовала раннему развитию у Чайковского гомосексуальных наклонностей. Это соответствует самым современным научным взглядам, согласно которым излишне привязчивое, сексуально провоцирующее поведение матери, злоупотребляющей при этом запретами и табу, может сильно способствовать развитию таких наклонностей. Губерт Вайншток, однако, считает, что гомосексуализм Чайковского был обусловлен, скорее всего, наследственными причинами, поскольку такая сексуальная ориентация была свойственна также его брату Модесту и племяннику Владимиру. Следует признать, что в некоторых семьях гомосексуализм встречается довольно часто, и, согласно результатам новейших исследований близнецов, наследственная предрасположенность к гомосексуализму существует с большой вероятностью, но все же более важную роль в развитии гомосексуальной ориентации играют впечатления от окружающего мира, полученные в детстве, например традиции воспитания, во многом определяющие направление дальнейшего развития личности ребенка. Такое влияние на развитие личности Чайковского во времена его детства оказала уже упомянутая нами выше идеализация двух близких ему женщин и отождествление с матерью. Согласно теории психоанализа в основе гомосексуализма лежит инвертированная отрицательная эдипова установка, то есть отождествление с матерью, которая порой побуждает гомосексуалистов вступать в контакты (как правило, несексуальные) со старшими по возрасту женщинами — как это было у Чайковского с г-жой фон Мекк.
В любом случае основы гомосексуальной ориентации закладываются преимущественно уже в раннем детстве, в то время, когда ребенок еще не понимает различия между полами и мать в одно и то же время является для него и объектом, удовлетворяющим потребность, и объектом отождествления на самой ранней стадии. Произойдет ли в последующие годы выход за пределы нормальной сексуальной жизни взрослого человека, зависит от того, в какой мере этот человек, став взрослым, сохранил влечение к тому или иному из многочисленных и недифференцированных видов сексуальной активности детского возраста. Поскольку незрелой и недифференцированной детской сексуальности присуще практически неограниченное многообразие возможностей частичного и неполного удовлетворения, начиная от возбуждения эрогенных зон в области рта и ануса и кончая детской мастурбацией в области гениталий, спектр отклонений от нормальной сексуальной жизни, возможных у взрослого человека, столь же разнообразен.
Наиболее распространенным отклонением такого рода является, по-видимому, гомосексуализм, который в наше время считается скорее не перверсией (извращением), а инверсией, то есть нарциссическим обращением либидо на объект, подобный себе. В юношеском возрасте подобное нарциссическое обращение либидо на себя, как на объект любви, является в известной степени нормальным преходящим явлением. То же самое относится и к переходной фазе юношеской гомофилии, когда возникает страстная дружба юношей с юношами и девушек с девушками. Однако, если эта фаза, нормальная в ранней юности, принимает затяжной и акцентированный характер, то развитие в этом направлении принимает крайние формы, и такое влечение станет пределом достижимого для данного индивидуума. В подобном случае половое влечение неизбежно принимает форму эмоционально окрашенного стремления к физической близости с лицом того же пола. В случае Чайковского роль акцентирующего фактора сыграл его школьный товарищ, будущий поэт Алексей Апухтин, а позднее, когда Чайковскому было уже 15 лет, преподаватель вокала Пиччиоли, напоминавший скорее уже не гомосексуалиста, а настоящего трансвестита.
Изучение этих вопросов немаловажно с медицинской точки зрения, поскольку они тесно связаны с возникновением у Чайковского невроза. В данном случае развитие сексуальности взрослого человека остановилось на одной из ранних стадий детской сексуальности, что сделало невозможным дальнейшее эмоциональное и психосексуальное развитие за пределы этой стадии.
Обусловленные этим ограниченные возможности выхода энергии полового влечения являются двумя краеугольными камнями в общей теории неврозов, автором которой является Зигмунд Фрейд. В самом общем виде неврозом принято называть неправильную психическую установку в смысле неадекватной реакции на реальную текущую ситуацию, в основе которой опять же лежит конфликт между инстинктивными притязаниями и традиционными, прививаемыми воспитанием общественными нормами, часто принимающий форму подавления инстинктов. Корни этого конфликта следует искать чаще всего в событиях первых шести лет жизни, однако клинически невроз проявляется впервые либо в период полового созревания, либо сразу же после его завершения. Проявлениями невроза могут стать нарушения связности мышления, нарушения эмоциональной сферы и неадекватное поведение. Эти отклонения развиваются на протяжении жизни человека и в значительной степени лишают его способности вести нормальную жизнь. У Чайковского невроз клинически выразился в ряде психических особенностей, а также в функциональных невротических жалобах вплоть до отдельных органических заболеваний психосоматического происхождения.
Частыми психическими проявлениями невроза являются истерические реакции, которые, как известно, имели место у Чайковского. Первая подобная реакция имела место у него на десятом году жизни, когда при отъезде матери из Петербурга он хватался за спицы колес, пытаясь остановить экипаж, и, осознав свое бессилие, громко кричал и размахивал кулаками. В юные годы в подобное состояние его приводило прослушивание музыки, когда он дрожал всем телом, а по ночам его посещали галлюцинации. И в более позднее время у него случались истерические реакции, выражавшиеся в приступах ярости при шуме проезжающего мимо экипажа. Порой он бывал столь раздражителен, что ему мешало даже тикание часов. Особо сильный истерический припадок, закончившийся длительным обмороком, случился с ним в 1881 году, когда его любимый Алеша был призван в армию и, повинуясь приказу, распрощался с ним, что вызвало у Чайковского душераздирающие вопли.
Невроз выражался у Чайковского также в типичных реакциях страха и ужаса. Имеются сведения о том, что он до ужаса боялся гроз, взломщиков и привидений и испытывал непреодолимый страх при виде покойников. По его собственным словам, во время похорон его друга Рубинштейна в Париже этот страх был сильнее, чем чувство горя. И вообще напугать его было очень легко. Это постоянно толкало коллег по консерватории на соответствующие розыгрыши, на что он неоднократно жаловался в письмах.
Для невроза типичны также фобические симптомы, направленные против окружающих. По словам его брата Модеста, Чайковский испытывал антипатию и подозрительность по отношению почти ко всем посторонним людям, правда, эта реакция быстро исчезала: «Он готов был заранее видеть врага в каждом незнакомом ему человеке… За это он наказывал их презрением, но лишь до первого любезного слова или дружественного взгляда. Тогда он им сразу все прощал и находил их даже симпатичными». Такое поведение выдает неуверенность в себе, также типичную для невроза. Фобические симптомы проявлялись у Чайковского прежде всего по отношению к людям в массе, в этом случае они вырастали до ненависти. Робость перед большой массой людей мешала ему дирижировать. Часто ему казалось, что к нему относятся издевательски и враждебно, чем объясняется гипертрофированная чувствительность Чайковского к любой критике его произведений. Подобные почти параноидальные идеи заставляли его даже после незначительных личных неприятностей или профессиональных неудач срываться с места. Он вновь и вновь выражал желание укрыться за стеной одиночества, где мог бы жить вдали от взоров людей.
Особого упоминания заслуживают депрессивные фазы, во время которых Чайковского достаточно часто посещали мысли о самоубийстве. Впервые выражено депрессия проявилась в 1865 году. Она возникла из представления о том, что жизнь не удалась: типичная для невроза заниженная самооценка переросла в суицидальные фантазии. После завершения Первой симфонии Чайковский впал в столь жестокое депрессивное расстройство, что врач даже пригрозил направить его в лечебницу для нервнобольных. В письме сестре Саше, написанном в 1868 году, Чайковский собственноручно дает классическое описание важнейших симптомов депрессии: «Нерешительность, безотрадность, апатия (которую он называл ленью и нежеланием разговаривать), разочарованность, нарушение сна, отсутствие аппетита и «расстройство без видимой причины». Этим симптомам сопутствовала общая вялость по утрам. Подобные фазы уныния и «меланхолии», как он сам их называл, многократно повторялись в жизни Чайковского с различной интенсивностью. Естественно, о депрессии в рамках маниакально-депрессивного цикла речь здесь не идет. В этом случае депрессия возникает самопроизвольно, а причиной заболеваний являются в основном наследственные факторы. Депрессивность же Чайковского представляла собой развивающийся реактивный процесс, в котором роль пусковых механизмов играли внешние события или внутренние конфликты. Однако при обеих формах депрессии наиболее опасным симптомом является суицидальность, то есть склонность к самоубийственным действиям. Чайковский в 1877 году также предпринял попытку самоубийства, в котором он увидел единственный выход из невыносимой ситуации, создавшейся в результате его брака. В неврозе Чайковского проявили себя в наиболее тяжелой форме сексуальные компоненты, играющие ведущую роль в созданной Фрейдом конфликтной модели, положенной им в основу учения о неврозах. Согласно Фрейду, эти составляющие невроза могут в гораздо более позднее время проявиться в виде агрессивных реакций, направленных не только против окружающих, но, и в основном, против себя самого. Гомосексуализм обрекал его на жизнь в анонимности и изоляции, заставлял скрывать и камуфлировать сексуальные контакты, что порождало постоянный страх перед разоблачением или даже уголовным преследованием, а также комплекс вины, неимоверно отягощающий психику. Слухи о личной жизни, доходившие до него, усиливали его подозрительность к окружающим и служили пищей для угрызений совести за то, что друзья порой должны были его стыдиться. К этому добавлялась агрессивность по отношению к самому себе, которая опять же усиливала комплекс вины и заставляла бороться против казавшихся ему самому порочных половых извращений любыми доступными ему средствами. Как следует из его дневников, речь шла не только о проблемах с гомосексуальными партнерами, хотя ревность и обиды часто играли определенную роль, но и о проблемах, связанных с нарциссической самооценкой. К сожалению, ни одна из даже самых серьезных его попыток сдержать безудержное удовлетворение сексуальных желаний, которые он сам однажды назвал «зксцессивными», не увенчалась успехом, в связи с чем он сокрушенно писал 23 апреля 1884 года в своем дневнике: «Какое же я все-таки чудовище». Опасность, что его наклонности будут раскрыты, которая «всегда висела над ним, как дамоклов меч», и сознание того, что он не в состоянии собственными силами побороть свою природу, побудили его к отчаянному решению вступить в брак, который повлек катастрофу.
Во время всех этих кризисов на помощь ему всегда приходила музыка. Она была для него своего рода предохранительным клапаном, который позволял Чайковскому в процессе творчества направить внутренние конфликты наружу. В этом он сам признавался после завершения Первой симфонии: «Без музыки я сошел бы с ума». В искусстве решающая роль принадлежит эмоциональной составляющей жизни человека, и поэтому неудивительно, что невротические элементы в характере Чайковского неотделимо связаны с его музыкой. Наряду с композиторской деятельностью, со временем при преодолении психических затруднений в его жизни все большую роль начинают играть различные стимуляторы. В юности это был никотин, который в наибольшей степени отвечал его желанию успокоить себя. Чайковский курил всю жизнь, курил много и считал, что это ему необходимо для творческой деятельности. Однако в его жизни появился и алкоголь, к успокоительному действию которого он стал прибегать все чаще, и вскоре уже вообще не мог жить без этого стимулятора. В письме брату Анатолию он открыто признался в этом: «Я не чувствую себя спокойным, пока слегка не выпью лишку. Я уже так привык к этому тайному пьянству, что испытываю что-то вроде радости от одного взгляда на бутылку, которая у меня всегда под рукой». В последующие годы он употреблял алкоголь в куда больших количествах, и даже Мусоргский, человек более чем склонный к алкоголю, восхищался удивительной стойкостью Чайковского при возлияниях. В дневниках Чайковского имеется огромное количество описаний пьянства, состояния опьянения и его последствий. 11 июля 1886 года он записал в дневник следующие философские размышления относительно своей тяги к выпивке, которые одновременно звучат как оправдания: «Считается, что пьянство вредно, с чем я охотно готов согласиться. Но человек, измученный нервами, просто не может жить без алкогольного яда… Я, например, пьян каждый вечер и просто не могу жить иначе. В первой стадии опьянения я чувствую себя великолепно и соображаю в таком состоянии гораздо лучше, чем при воздержании от этого яда. Я не заметил также, чтобы мое здоровье особо страдало от этого. И вообще: Quod licet Jovi, non licet bovi».
Здесь Чайковский мыслит так же непосредственно и непринужденно, как люди, жившие в средние века. В те времена опьянение считалось совершенно естественным состоянием сознания, в котором человек избавляется от оков стеснения и предрассудков, и было принято стремиться к опьянению ради опьянения как такового. В XIX веке уже стало принято сдерживать инстинкты и подчинять порывы разуму, отношение к алкоголю изменилось. Пить стали для того, чтобы раскрепостить порывы, и многие представители европейской творческой интеллигенции, прежде всего писатели, обратились к алкоголю как средству, окрыляющему интеллектуальные и творческие силы и позволяющему легче преодолевать личные неурядицы. Прежде всего это относится к представителям романтического и сюрреалистического направления: Новалису в Германии, Китсу в Англии, Бодлеру во Франции и, пожалуй, Чайковскому в России. Перечисленные выше литераторы также часто принимали для успокоения препараты опиума, что у Чайковского не имело места. Лишь один единственный раз в его дневнике встречается запись, снабженная тремя вопросительными знаками, в которой он намекает на упоминаемый Альфонсом Доде героин. Что он в точности имел в виду, понять невозможно.
Наряду с описанными проявлениями общего невроза Чайковский все чаще страдал от соматических неврозов, то есть от функциональных нарушений деятельности различных органов. Эти жалобы были вызваны трансформацией психических конфликтов в органические симптомы. В подобных случаях психосоматическое недомогание поражает всегда один и тот же совершенно определенный орган, при этом чаще всего его объектом становятся сердце, желудок, толстый кишечник и бронхи. Психосоматические жалобы сопутствуют, как правило, стрессовым ситуациям, возникающим в личной жизни или профессиональной деятельности. И в дневниках Чайковского мы обнаруживаем точные совпадения его недомоганий с датами премьер и концертов. Чайковский пишет о головной боли и расстройстве сна, но при этом постоянно встречаются упоминания и о боли в желудке, тошноте, спазмах в брюшной области. В подобных случаях принято говорить о повышенной возбудимости желудка и/или толстого кишечника (Colon irritabile). Этим же была обусловлена диарея, о которой постоянно встречаются записи в дневнике. Наряду с расстройствами желудочно-кишечного тракта Чайковский постоянно упоминает в дневнике о сердцебиении, нарушениях сердечного ритма, так называемых экстрасистолах и покалывании в области сердца. Чайковский пишет, что эти «сердечные недомогания» сопровождались ощущением страха и удушья. Вероятно, речь идет о функциональном нарушении дыхания, известном под названием синдрома да Коста, при котором у пациента возникает ощущение невозможности нормального вдоха и выдоха. Все эти симптомы, имевшие место у Чайковского, соответствуют картине соматического невроза, и лечившие его врачи, естественно, не находили патологических изменений во внутренних органах.
Из дневников Чайковского следует, что его не обходили также органические заболевания. Если не считать простудных заболеваний верхних дыхательных путей и бронхов, которые случались у него довольно часто и сопровождались длительными приступами кашля, то в основном источником его недомоганий был желудок. В биографии Чайковского, написанной его братом Модестом, говорится; «Катар желудка преследовал его еще с конца шестидесятых… Когда он был на курорте Нисы…. местный врач попытался лечить его содой…. болезнь Петра Ильича от этого не прошла, его состояние даже ухудшилось, и в 1876 году ему пришлось пройти курс лечения минеральной водой, которое оказало благотворное влияние на его здоровье, но катар желудка полностью не исчез и по временам напоминал о себе более или менее сильными приступами, хотя они ни разу не были столь жестокими, как в 1876 году… К концу восьмидесятых годов состояние его желудка существенно ухудшилось: кроме изжоги все чаще случались расстройства пищеварения, что вызывало у него серьезную обеспокоенность. Однажды, во время репетиций «Пиковой дамы», когда он проживал в петербургской гостинице «Россия», он как-то утром послал за мной, и, когда я пришел, сказал, что боялся не пережить эту ночь».
Как и врачи, Модест полагал, что этот приступ был вызван «катаральным состоянием желудка» Петра Ильича, то есть избыточной кислотностью желудочного сока, результатом чего явились частые изжоги, и, как следствие, необходимость в частом употреблении соды (бикарбоната натрия). Если, однако, проанализировать записи в дневниках Чайковского, то это позволит по чти со стопроцентной вероятностью поставить ему диагноз язвенной болезни желудка пли двенадцатиперстной кишки. Этот недуг относится к числу классических психосоматических заболеваний хронического рецидивного характера и проявляет себя в форме постоянно повторяющихся приступов, которые обычно совладают по времени с сильными психическими нагрузками и стрессами. Во время такого приступа может произойти распространение существующей язвы в глубину стенки желудка, то есть, если использовать современную терминологию, образуется пенетрирующая (проникающая) язва. В этом случае у больного возникает страшная, едва переносимая боль, приступы которой происходят чаще всего по ночам. Приступ боли в желудке, случившийся у Чайковского в Петербурге во время репетиций «Пиковой дамы», мог иметь именно такую природу. В пользу диагноза язвы желудка свидетельствует не только рецидивный характер приступов боли, явно прослеживаемый по дневнику Чайковского, но и тот с удивлением отмеченный им факт, что прием пищи облегчает боль и даже временно полностью снимает ее. Этот так называемый симптом «пищевого обезболивания» (food-relief) считается патогномоничным для язвы желудка.
Повышению кислотности желудочного сока у Чайковского способствовали хроническое, постоянно возрастающее употребление алкоголя, а также рефлюктический эзофагит, то есть воспаление слизистой оболочки нижнего-отдела пищевода, обострение которого, вызвав приступ боли, однажды прервало ночной сои Чайковского. В лежачем положении при таком приступе может возникнуть очень сильная боль, иррадирующая в области шеи и сердца. Когда же пациент садится в постели или встает, то боль утихает. В своем дневнике Чайковский довольно подробно и точно описал такой приступ: после обильной еды и выпивки он лег спать, но ночью проснулся от сильной боли и был вынужден провести несколько часов без сна, сидя в кресле. Такие приступы случались у него неоднократно, и переход из лежачего положения в сидячее неизменно приносил ему облегчение. Итак, диагноз рефлюктического эзофагита, появившегося у Чайковского с середины восьмидесятых годов, можно считать доказанным. Неумеренное потребление алкоголя, многолетнее злоупотребление никотином, инстинктивная половая жизнь, интенсивная творческая деятельность в качестве композитора и дирижера, связанная с напряженными концертными турне, привели к тому, что в 50 лет Чайковский выглядел на десять лет старше своего истинного возраста. Он вполне отдавал себе отчет в том, что зеркало его не обманывает и он состарился слишком рано, но, тем не менее, его шокировала заметка в американской газете, в которой ему дали на вид 60 лет — на 10 лет больше, чем на самом деле. В это время он начал замечать, что у него ослабла способность к запоминанию информации. Сквозь маску, при помощи которой Чайковский в 80-е годы соорудил некий защитный вал вокруг своего внутреннего мира и ценой больших затрат энергии демонстрировал окружающим уверенность в себе, вновь начали проступать его сомнения и упреки совести. Этому кризису середины жизни, в котором проявилась пресыщенность жизнью, безнадежность и депрессивность, во многом способствовал неожиданный и оскорбительный для Чайковского разрыв с многолетним задушевным другом г-жой фон Мекк. Другим решающим фактором этого кризиса стали сложности в гомосексуальных связях Чайковского и порожденные ими чувства ревности и обиды. Казалось, однако, что в момент завершения автобиографической Шестой симфонии, где он в зашифрованной форме сумел выразить драму своей израненной души, ему удалось преодолеть накопленный потенциал внутреннего напряжения. У брата Модеста и ближайших друзей Чайковского сложилось впечатление, что он благополучно преодолел кризис, вновь бодр и доволен жизнью, они не заметили признаков подавленности и тем более стремления к смерти.
В настоящее время доказано, что Чайковский не умер от холеры, как считалось раньше. Мы не будем вновь вдаваться в несуразности, возникшие при попытке подогнать симптомы, имевшие место в последние дни и часы его жизни, под классическую клиническую картину холеры. Выяснилось, что высказанное сразу же после смерти Чайковского подозрение в том, что он добровольно ушел из жизни, оказалось верным. Найденные сравнительно недавно документы доказывают, однако, что его самоубийство не было следствием внутреннего порыва, а было ему предложено так называемым «судом чести» в качестве альтернативы публичному скандалу с непредсказуемыми последствиями. Точнее сказать, такое решение Чайковскому было навязано. Говорить о добровольном уходе Чайковского из жизни можно лишь в том смысле, что он действительно принял это чудовищное предложение. Это самоубийство было спланировано до мельчайших деталей, очевидно, для того, чтобы оно не стало достоянием общественности. Должно было возникнуть впечатление, что Чайковский погиб, так сказать, естественной смертью от последствий опасного заболевания. В эти дни в Петербурге еще не вполне схлынула эпидемия холеры, и, похоже, была достигнута договоренность придать самоубийству такую форму, при которой оно как можно больше походило бы на случай холеры со смертельным исходом.
Предполагается, что яд Чайковскому передал адвокат Август Герке, один из участников упомянутого выше суда чести. Предлогом для визита Герке стали переговоры, которые он от имени издательства Бесселя вел в то время с Чайковским. В биографии, написанной Модестом, этот визит не упоминается, но его совершенно однозначно подтвердил сам Василий Бессель в «Русском музыкальном журнале».
Через несколько часов после того, как Чайковский осушил стакан сырой воды (в которой, вероятно, был яд), началась неудержимая водянистая диарея, рвота, быстро нарастала слабость, начались «отвратительные» колики в животе, при которых он то и дело вскрикивал, жгучая боль в груди. Эти симптомы, а также быстро наступившие судороги икроножных мышц, задержка мочеиспускания, бред на фоне тяжелого коллапса кровообращения и, наконец, потеря сознания дают однозначную картину острого отравления мышьяком, которое спустя несколько дней повлекло за собой невероятно мучительную смерть великого композитора. В наше время подобная форма самоубийства встречается крайне редко, поэтому мы приведем ниже клиническую картину отравления мышьяком из учебника судебной медицины, изданного в Вене за два года до смерти Чайковского, ибо ясно, что в то время врачи из собственного опыта лучше знали симптомы отравления мышьяком.
«Хотя самоубийства с применением мышьяка в настоящее время происходят не так часто, как раньше, все же и в наше время они происходят отнюдь не редко. Что же касается убийств с применением мышьяка, то их распространенность объясняется, с одной стороны, доступностью этого яда, применяемого во многих производствах и для истребления вредителей, а с другой стороны тем, что он не имеет ни вкуса, ни запаха, что, несмотря на плохую его растворимость, позволяет легко подмешать его жертве. Даже при больших дозах симптомы отравления проявляются не сразу, как правило, не ранее, чем через час. Чаще встречаются случаи, в которых до появления первых симптомов интоксикации проходило от трех до десяти часов… Клиническая картина отравления мышьяком далеко не всегда одинакова. Как правило, возникает очень сильный токсический гастроэнтерит. В горле и в пищеводе появляется чувство жжения и першения, затем возникает острая боль в желудке и сильная рвота слизистыми массами, реже со следами крови, и обильный понос, при котором выделяется водянистый стул, напоминающий рисовый отвар. При этом имеют место тенезмы (судороги прямой кишки — прим. автора), неутолимая жажда, часто головная боль и, как правило, тянущая боль в крестце и спазматические боли в конечностях, прежде всего в икроножных мышцах. Кожа холодная, покрыта потом, вначале бледная, позднее на лице, кистях рук и стопах ног синюшная (иссиня-черный цвет — прим. автора). Пульс слабый и малый. Сильная слабость и смерть вследствие общего коллапса.
В других случаях рвота и другие острые симптомы прекращаются, но вместо них появляются другие: нефрит (воспаление почек — прим. автора), симптомы прогрессирующей мышечной слабости, затрудненное дыхание, ослабление сердечной деятельности, вследствие которых на третий или четвертый день отравления наступает смерть.
Встречаются также случаи, в которых и на ранней, и на поздней стадии преобладают симптомы не гастроэнтерита, а спинально-церебрального поражения (поражения спинного и головного мозга — прим. автора). Заболевание начинается с головокружения и головной боли, тянущей боли в конечностях, затем наступают обмороки и полная потеря сознания, иногда сопровождающиеся бредом, конвульсиями, после чего наступает общий паралич и смерть. Возможны, естественно, различные сочетания описанных выше вариантов клинической картины отравления».
В приведенном выше подробном изложении клинической картины острого отравления мышьяком со смертельным исходом содержатся практически все симптомы, описанные Модестом и врачами, лечившими Чайковского, и с медицинской точки зрения не подлежит сомнению, что для самоубийства Чайковский выбрал именно отравление мышьяком. Если при этом не принимать во внимание страшную боль в области слюнных каналов, желудка и кишечника, а также обильную рвоту, то окажется, что многие из прочих симптомов удивительно похожи на симптомы холеры: неудержимый водянистый понос, по консистенции напоминающий именно рисовый отвар, приводящий к сильному обезвоживанию и обессоливанию, что, в свою очередь, вызывает болезненные судороги и сокращения икроножных мышц, нарушение деятельности почек вплоть до полного прекращения мочеиспускания, состояние бреда и, наконец, кому с летальным исходом вследствие нарушения кровообращения головного мозга. В цитированном выше учебнике издания 1891 года особо подчеркивается сходство между отравлением мышьяком и холерой:
«При остром отравлении мышьяком происходит обезвоживание организма, по типу напоминающее это явление при иных тяжелых катарах кишечника, при этом наибольшее сходство существует между отравлением мышьяком и холерой. Клиническая картина отравления мышьяком как при жизни пациента, так и после его смерти очень напоминает клиническую картину холеры, на что неоднократно с полным основанием было указано».
Едва ли Чайковский знал о том, сколь мучительной бывает агония при остром отравлении мышьяком. Следует также учесть и то, в сколь возбужденном состоянии он находился после окончания «суда чести», и едва ли думал о смысле подобной жертвы. Этот художник всю свою жизнь был вынужден вести борьбу с демонами в собственной душе и с силами, давившими на него извне, эта борьба пожирала его при жизни. Судьба не была милостива к нему и в смерти. Если мы попытаемся провести параллели между тайнами его души и важнейшими характеристиками творчества, то убедимся в том, что между человеком и художником существует пропасть, которую весьма непросто заполнить. И человек, и художник делали общее дело, и художник смог передать горе и боль, жившие в самых глубоких тайниках души человека, где они, подобно узнику в темнице, были скрыты от глаз мира. Именно поэтому Чайковский редко проникал своей музыкой в глубины, а скорее достигал поверхностного воздействия, которое, тем не менее, за счет живости, пикантности ритмов и зажигательной музыкальности, в которой то и дело прорываются грубые и необузданные формы, будет и в грядущих столетиях продолжать окрылять людей. Но даже в крупных инструментальных произведениях, которые по праву считаются вершинными достижениями европейской музыки, ему так и не удалось создать собственный единый крупномасштабный стиль. В музыке Чайковского повсеместно представлены европейские влияния различного рода, которые, хотя и пронизаны славянскими элементами, но все же не могут быть отнесены к характерно русской музыке. Чайковский как музыкант стремился к тому, чтобы создавать прекрасную музыку, которая нравилась бы и которую любили бы, а не совершать революционные прорывы на музыкальную целину. Психограмма Чайковского говорит о том, что ему было чужда поза страдальца, но переживание собственных страданий доставляло определенное удовольствие. В этом содержится ответ на вопрос, почему Чайковский ни вербально, ни музыкально не умел выражать сострадание другим людям, но зато умел выражать сострадание себе, любовь к себе, так же как и чувство вины, раскаяния со столь кошмарным, душераздирающим реализмом, какой можно найти разве что в поэзии Бодлера. В музыке Чайковского нет ни изысканной интеллектуальности, ни юмора, ни горького сарказма, она не пытается что-либо скрыть или завуалировать. Об этой музыке можно сказать, что она стремится поглотить слушателя в самом прямом смысле этого слова, эта музыка почти бесстыдна в своей чувственности и сверкающей роскоши. С этой точки зрения совсем не случайно, что подобную музыку сумел создать именно этот, в высшей степени невротичный, робкий человек, которого всю жизнь преследовали беспощадные муки.
Лучше всего о нем рассказывают те немногие потрясающие документы его страстной натуры, которые он сам называл своей «музыкальной исповедью души», где он излил бушующую душу в море музыки, не прибегая ни к какой интеллектуальной цензуре разума. В этих произведениях вдохновение уводило его гений в «заоблачные высоты» и в те сферы, где на него сходило своего рода озарение. Ведь говоря собственными словами Чайковского, «волновать и потрясать может лишь та музыка, которая силой озарения зачата в глубинах взволнованной души художника».
ГУСТАВ МАЛЕР
История музыки не знает другого композитора, творчество которого оценивалось бы настолько же противоречиво, насколько это произошло с произведениями Густава Малера. Ни творчество Рихарда Вагнера, ни даже произведения «Новой венской школы» не вызывали столь бурного шквала враждебной критики и злобных измышлений, как средние по размеру, чисто инструментальные симфонии Малера. Теодор В. Адорно усматривает в таком предубеждении против новой музыки не только симптом «вопиющего музыкального невежества», но и «выражение неудовольствия проявлениями художественного творчества, в которых явно ощущается сочувствие отклонениям от общепринятых норм поведения в обществе и отрицание таких норм». Такое невежество и неудовольствие проявили многие современные Малеру комментаторы его творчества в отношении композитора, «по собственному разумению наделившего себя правом на притязания космического масштаба» и «осмелившегося насильственно загнать всю совокупность мира и нашего мировосприятия в рамки одной музыкальной формы». При этом критики признавали, что музыка Малера прекрасно инструментована, однако в ней полностью отсутствуют всякая логика и всякий вкус, утверждалось, что музыка эта ненастоящая и непонятная, что часто она своей приторностью и еврейским акцентом так и просится в оперетту, что она представляет собой эклектическую компиляцию полученного из третьих рук.
Сразу же после смерти Малера возникла доктрина, согласно которой его произведения следует воспринимать как «абсолютную музыку». Это в дальнейшем создало серьезные трудности на пути правильного толкования этих произведений. Лишь изучение литературных, религиозных и философских источников симфонизма Малера ясно показывает, что в основе всех его симфоний, в том числе и чисто инструментальных, лежат вполне определенные программы. Сам Малер утверждал, что он «в состоянии передать в звуках все свое мировоззрение, философское понимание жизни, точно так же, как любое восприятие, природное явление или пейзаж». Из этого следует, что понять симфонизм Малера можно, лишь зная намерения композитора. Анализ симфонического творчества Малера в этом аспекте приводит наблюдателя к неожиданному и совершенно однозначному выводу о том, что его музыка является программной. Но это не иллюстративная музыка Гектора Берлиоза, Ференца Листа или Рихарда Штрауса, а своего рода «эзотерическая» программная музыка. В музыке Малера воплощены не только произведения всемирной литературы, но и достаточно часто — личные переживания, исповеди, видения или философские воззрения, что позволяет трактовать симфонизм Малера как автобиографию и метафизику в звуке. До конца своей жизни он оставался верен принципам программной музыки. Тот факт, «по в, «Мюнхенском заявлении» 1900 года он объявил о намерении не предавать в будущем, гласности внемузыкальные идеи, картины и образы, определяющие исповедальный характер его музыки, вовсе не означал отхода Малера от программных принципов юности. Этим он хотел лишь предотвратить грубые ассоциации, которые могли возникнуть у слушателей на основе программ отдельных частей его симфоний. Он предпочитал «быть непонятым, чем быть понятым рационально или, более того, в духе иллюстративной программной музыки».
Как литератор Малер не проявил себя столь же масштабно, как, например, Роберт Шуман, Рихард Вагнер или Арнольд Шенберг, но, тем не менее, его по праву причисляют к самым начитанным композиторам эпохи позднего романтизма. Малер обладал универсальным, почти энциклопедическим образованием, поэтому неудивительно, что в юности он выступал как поет и композитор в одном лице и сам писал тексты для песен и сказочных опер. Его философский горизонт был невероятно широк и простирался от мыслителей античности до немецких философов XIX века. Однако, как почти поэтически выразился Бруно Вальтер, «солнцем в небе его духовного мира был Гете, которого он знал на редкость всеобъемлюще и очень любил цитировать, демонстрируя чудеса феноменальной памяти». Безоговорочная ориентация Малера на Гете выражается даже в построении его высказываний, в частности, например, когда он заверял, что не написал ни одной ноты, которая не была бы «абсолютно истинной». Впоследствии Арнольд Шенберг расширил эту формулировку до многократно цитированной фразы: «Музыка не должна украшать, она должна быть истинной». В отличие от Шенберга, Малер не писал трудов по теории искусства, но многочисленные высказывания, сделанные им в письмах, и воспоминания его друзей позволяют получить представление о его мировоззрении как художника и о его взглядах на актуальные проблемы музыкальной эстетики. Эти высказывания позволяют также понять, насколько сильное влияние на музыкально-эстетическое мышление Малера оказали литераторы, поэты, философы и, не в последнюю очередь, композиторы. Решающие интеллектуальные импульсы Малер получал не только от Гете, но и, прежде всего, от Э. Т. А. Гофмана, Айхендорфа, Шопенгауэра и Вагнера. Интересно, что о своей Третьей, и, прежде всего о Восьмой, симфонии Малер говорит на языке максим, близких к античному учению о «мировой музыке» («musica mundana»). Данное им определение симфонии как отображения вселенной во многом соответствует учению Боэция, несчастного канцлера короля Теодориха, который видел в «инструментальной музыке» («musica instrumental is») достоверное отображение неслышимой «мировой музыки» («musica mundana»). Лишь тот, кому известна идея Малера о гармонии сфер и его убеждение в том, что музыка должна быть отображением природы, кто знает, что в основе всех симфоний Малера лежит не названная явно программа, то есть некая литературно-философская идея, в состоянии понять, почему он видел в своем симфонизме выражение некоего универсального мировоззрения.
Сторонники и почитатели Малера вначале пропагандировали его творчество в локальном или, самое большее, в региональном масштабе. Их усилиям мы обязаны тем, что еще в 1920 году речь шла о «композиторе нашего времени». Однако несколько лет спустя, по мере распространения неоклассицизма и изменения эстетических и технических критериев оценки музыкальных произведений, реакция слушателей на творчество Малера начала существенно изменяться в худшую сторону. Лишь в конце двадцатых годов в США наметился перелом в понимании его произведений, а начиная с 1931 года, когда было основано «Современное Брукнеровское общество» (Modern Bruckner Society), для исполнения симфоний Малера начали приглашать самых знаменитых европейских дирижеров, его произведения стали все чаще включать в программы концертов. Однако на родине композитора в это время начали происходить другие процессы, и под влиянием ослепленных ненавистью приверженцев великогерманской идеи исполнение произведений Малера постепенно сходит на нет. Национал-социализм привел к тому, что «музыка Малера оказалась замороженной вместе со всем контекстом ее эстетической и рецептивной проблематики». Издавались лишь пасквили, типа появившегося в 1944 году и принадлежащего перу некоего К. Блессингера, который возмущался «голой, неприкрытой сексуальностью… и натурализмом Малера». Говорилось и об отвращении к «атмосфере дансинга для педиков», и о «гнусных воющих и тягучих звуках, столь характерных для еврея». Блессингер усматривал во всех произведениях Малера типично еврейские черты, а именно: агрессивность, слезливую сентиментальность, громкий пустой пафос и «глубокий душевный надлом».
Сионисты не уступали антисемитам в стремлении вывести определенные характеристики, присущие музыке Малера, из еврейского происхождения ее автора. Если одни утверждают, что в музыке Малера невозможно не услышать ее «исключительно еврейский национальный характер», то другие, подобно Герхарту Гауптману, убеждены, что «гений Малера образцово представляет великие традиции немецкой музыки». Наиболее взвешенно по этому весьма скользкому вопросу высказался Теодор В. Адорно: «Попытка отрицать еврейский элемент в музыке Малера и объявить ее немецкой в том смысле, как это слово понимали национал-социалисты, столь же абсурдна, как и стремление выдать Малера за национального еврейского композитора». Дискутируя о еврейском в музыке Малера, не следует упускать из виду тот факт, что еврей Малер был пламенным сторонником христианского вероучения. Из его юношеских писем можно узнать, и это подтверждает в своих мемуарах Альма Малер, что он буквально страдал от «комплекса Агасфера», отождествляя себя с «вечным жидом», для которого закрыт путь к богу христиан. Религиозно-философская основа этого комплекса заключалась в том, что уже в ранней юности Малер ощутил сильную тягу к католицизму и совершенно искренне обратился в католическую веру. Христианское благочестие Малера было подлинным и очень искренним, что также подтверждает Альма Малер. Она также твердо и однозначно утверждает, что созданные Малером религиозные песнопения были им глубоко прочувствованы, а не просто привнесены извне, как и Вторая или Восьмая симфонии и вообще все хоралы в его симфонических произведениях. В его «комплексе Агасфера» существовал, однако, и социально-психологический аспект, связанный с ассимиляцией евреев в XIX столетии. Этот аспект проявился уже в семье Мендельсонов. Альма подтверждает, что Малер «никогда не отрицал своего еврейского происхождения, более того, он его подчеркивал», но, тем не менее, на протяжении всей своей жизни последовательно стремился к интеграции в христианское общество. При анализе музыки Малера совершенно необходимо принимать во внимание и эту особенность его мировоззрения, поскольку оно имеет в своих истоках в равной степени и еврейство, и христианство.
Но так уж устроен мир, что мнения, в том числе и предвзятые, могут просуществовать несколько десятилетий, прежде чем будут вынуждены уступить место новым воззрениям. В свое время Мендельсону выпала участь быть объектом антисемитских критических суждений Рихарда Вагнера; для Малера эту роль сыграла «вся сумма имманентной критики его сочинений с позиций расовой теории» национал-социалистических «искусствоведов в штатском» — писания этих людей посеяли ядовитые семена, дававшие не менее ядовитые всходы на протяжении десятилетий. Так, еще в 1958 году можно было прочесть такое: «Произведения Малера некогда в полном смысле слова потрясли музыкальный мир, но теперь, почти через 50 лет после его преждевременной смерти, его симфонии, за исключением Первой и Второй, можно услышать редко». В эти годы творчество Малера, в котором лишь немногие музыканты еще при его жизни интуитивно угадывали эпохальные свершения, подвергалось замалчиванию со стороны ультраконсервативной музыкальной критики «при молчаливом содействии недоброй памяти нацистских бойцов идеологического фронта», и создавалось впечатление, что музыки Малера больше не существует. Лишь в ходе празднования столетия со дня рождения Малера в 1960 году окончательно наступил переломный момент. Впервые немецкоязычная радиостанция — Австрийское Национальное радио — передала полный малеровский цикл, появились многочисленные публикации, посвященные творческому наследию незаслуженно забытого и оболганного маэстро, среди которых особое место принадлежит «Музыкальной физиогномике» Теодора В. Адорно. С этого момента началось возрождение Малера. Уже в 1962 году с удивлением отмечалось, что «Густав Малер, которого до сих пор уж никак нельзя было назвать очень популярным, совершенно неожиданно стал настоящим бестселлером». Едва ли можно назвать еще хотя бы одного композитора, которому удалось столь же мгновенно и неожиданно возродиться из многолетнего забвения, как Малеру. Необходимость преодоления прошлого взывала к искуплению «допущенной несправедливости и общей вины» и вызвала к жизни усилия, направленные на то, чтобы произведения этого гиганта творческого духа предстали перед всем миром в полном блеске своего величия. Эта работа оказалась столь успешной, что даже раздались голоса критиков, предостерегавшие от того, что после многолетнего забвения произведения Малера могут стать объектом слишком уж агрессивного маркетинга.
Малер как-то сказал: «Мое время еще впереди». Это время уже давно наступило. Сегодня Малер считается композитором, на долю которого выпало завершить симфоническую традицию XIX века и, в то же время, сыграть важнейшую роль в выборе путей новой музыки. Влияние Малера испытали на себе Арнольд Шенберг, Альбан Берг, Антон Веберн, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и многие композиторы нашего времени.
Детство, юность, взлет
Густав Малер появился на свет 7 июля 1860 года в небольшом местечке Калишт на границе между Чехией и Моравией. Он был вторым ребенком в семье и у него было всего тринадцать братьев и сестер, из которых семеро умерли еще в раннем детстве, а брат Отто в 1895 году покончил жизнь самоубийством. Еще во второй половине XIX века показатель детской смертности составлял почти 50 %, и, хотя сегодня нам это может показаться диким, смерть маленького ребенка в семье обычно воспринималась с покорностью судьбе, как печальная неизбежность. Тем не менее вид детских гробов не мог не оставить тяжелых и неизгладимых впечатлений у братьев и сестер, остававшихся в живых. Густав как-то рассказывал о страшноватой игре, устроенной сестрой Юстиной, которая была на восемь лет моложе его: «Совсем еще ребенок, она приклеила восковые свечи к краю кровати, зажгла их и сама улеглась в кровать, изображая мертвую». Больше всего потрясла его смерть брата Эрнста, который был на год моложе его. Густав очень любил брата и сильно страдал, когда того, после долгой болезни, в 1874 году унесла смерть. Горе от этой потери нашло свое художественное воплощение в несохранившейся юношеской опере Малера «Эрнст, герцог Швабский», где он попытался воплотить образ брата в герое оперы. Об этом мы узнаем из письма Малера его другу Йозефу Штайнеру, написанного в июне 1879 года: «И в расстроенных звуках я слышу привет Эрнста Швабского, он сам выходит ко мне, раскрывает мне свои объятия, и я вижу, что это мой несчастный брат». Этот психологически весьма многозначительный фрагмент и другие известные документы показывают, что Малеру уже в детстве и юности было свойственно стремление укрыться в мире грез.
Мать, которую Малер называл «исстрадавшейся» женщиной, страдала заболеванием сердца и, подобно матери Иоганнеса Брамса, хромала. Она была дочерью мыловара, в семье которого царили очень строгие нравы и высокие требования к поведению. Отец Густава называл это «благородное» семейство «герцогами». В жизни Густава семья родителей его матери сыграла поистине судьбоносную роль, ибо на чердаке их богатого буржуазного дома он обнаружил всеми забытое фортепиано. К несказанной радости всей семьи четырехлетний малыш сумел извлечь из этого инструмента какие-то звуки. Воспоминания об изможденной домашней работой, «исстрадавшейся» матери, легли в основу не вполне обычной связи между Малером и ею, которая с психоаналитической точки зрения позволяет объяснить немало фактов его дальнейшей жизни, в том числе и особенности его духовных отношений с женой.
Отец, Бернгард Малер, происходил из бедной еврейской семьи, в которой издавна зарабатывали на жизнь, работая разъездными торговцами в восточной Чехии. Но, если бабушка Густава со стороны отца разносила товар по домам еще пешком, то у Бернгарда Малера уже была конная повозка. Тяга к знаниям побуждала его читать во время долгих перегонов самые разнообразные книги, что дало приятелям основание называть его «ученым с козел». Желая улучшить материальное положение семьи, он работал домашним учителем и, после того, как попробовал себя во многих видах деятельности, ему, в конце концов, удалось открыть небольшую собственную винокурню и приобрести скромный дом в Калиште. Современники сообщают, что Бернгард Малер был человеком властным и в семье крепко держал вожжи в своих руках. Может быть поэтому, Густав Малер до конца своей жизни «не нашел ни слова любви, говоря о своем отце» и в воспоминаниях лишь упоминал о «несчастливом и полном страданий детстве». Но, с другой стороны, отец сделал все возможное для того, чтобы Густав получил оптимальное образование и смог полностью развить свой музыкальный талант. Бернгард Малер был вольнодумцем, полностью отвергал религиозные обычаи патриархального еврейства и старательно избегал всего, что напоминало ему о традиционной еврейской изоляции от иноверческого мира, ограничивавшей его жизненное пространство. Как и многие другие представители еврейского среднего класса в ту эпоху, он стремился ассимилироваться в немецкоязычную культуру. Евреи, придерживавшиеся подобных взглядов, надеялись, что таким образом им удастся в более полной мере воспользоваться теми возможностями, которые предоставляла Октябрьская грамота I860 года, которую мы уже упоминали в главе, посвященной Бедржиху Сметане. В этом отмеченном реформами году Бернгард Малер из захолустного чешского местечка Калишт переселился в город Йиглава (Иглау), центр области компактного проживания немецкоязычного населения в Моравии, где рассчитывал на улучшение сбыта выпускаемых им изделий. Итак, есть все основания полагать, что какие-либо основы для воспитания Густава в традиционно еврейском духе полностью отсутствовали. Похоже, что еще в детские годы католическое богослужение было ему гораздо ближе, нежели еврейский ритуал, который, по словам Альмы Малер, «никогда ничего для него не значил».
Уже в раннем детстве музицирование доставляло Густаву огромное наслаждение. Позже он писал: «В четыре года я уже музицировал и сочинял музыку, еще даже не научившись играть гаммы». Вначале это была гармошка, на которой он играл чешские народные мелодии, услышанные на танцах местной молодежи, или сигналы трубы из близлежащей казармы. Честолюбивый отец очень гордился музыкальной одаренностью сына и был готов сделать все для развития его дарования. Он решил во что бы то ни стало купить фортепиано, о котором мечтал Густав. В начальной школе Густав считался «необязательным» и «рассеянным», но его успехи в обучении игре на фортепиано были поистине феноменальны. В 1870 году состоялся первый сольный концерт «вундеркинда» в Йиглавском театре. На это событие местная пресса откликнулась заметкой, в которой пророчила «девятилетнему сыну местного коммерсанта иудейского вероисповедания» будущее виртуоза.
Учеба в средней школе складывалась куда менее успешно и отец принял решение перевести его в Прагу, ожидая, очевидно, что там учителя проявят большую строгость. Для того чтобы не упускать времени для развития его музыкального таланта, Густава поселили в семью, где он мог получать уроки музыки. В этой семье было двое сыновей, один из которых, в то время 19-летний, Альфред Грюнфельд, позднее стал одним из самых известных пианистов конца XIX века. К сожалению, делами Густава мало кто интересовался, и большую часть дня погруженный в мечты мальчик был, в основном, предоставлен самому себе. Из числа неприятных воспоминаний того времени в его память на всю жизнь врезался эпизод, когда он, будучи 11-летним мальчишкой, стал свидетелем «вульгарной любовной сцены с участием горничной и одного из сыновей семейства». Не исключено, что эта сцена еще больше укрепила в его подсознании связь с матерью, и став взрослым, он всегда стремился не подвергать моральную чистоту и нежность тем опасностям, которые таятся для них в грубых страстях.
В конце учебного года табель Густава оказался худшим в классе, и отец забрал его с собой в Йиглаву, чтобы продолжить образование в местной гимназии. Но и теперь он не проявил себя внимательным и прилежным учеником. Куда охотнее он копался в отцовских книгах. По его словам, у отца была «небольшая библиотека», которая сыграла в его дальнейшем образовании более важную роль, чем гимназическая наука. Об этом он сам позднее высказался так: «Юность провел в гимназии, но ничему не научился».
Сколь мало его интересовали школьные занятия, столь же упорно он продолжал занятия игрой на фортепиано и ранние композиторские опыты. Среди многочисленных йиглавских знакомых, с удивлением и восхищением наблюдавших за успехами юного музыканта, был человек, которому предстояло сыграть особую роль в творческой судьбе Малера. Речь идет об управляющем молочной фермой Морован по имени Густав Шварц. Пианистическое дарование Малера произвело на этого любителя музыки такое впечатление, что он всерьез задумал, используя свои связи, отправить «тщедушного и неуклюжего мальчишку», обладавшего незаурядным музыкальным талантом, на учебу в Вену. Когда пришло время осуществления этого плана, юный Малер впервые доказал всем, что он не только мечтатель не от мира сего, но, при необходимости, может действовать как умный и хитрый тактик. Когда отец, в принципе согласившийся с этим, начал медлить с принятием окончательного решения, Густав 28 августа 1875 года, не долго думая, написал письмо своему покровителю Шварцу, в котором говорилось: «То отец опасается, что я заброшу или вообще прекращу занятия, то ему кажется, что плохое окружение в Вене сможет меня испортить… поэтому я прошу Вас… оказать нам честь своим посещением, ибо лишь Вы можете окончательно убедить отца». Так и вышло. Уже через две недели поклонник Густава отвез его в Вену, где тот был принят в Консерваторию Общества любителей музыки и начал учиться под руководством известного пианиста Юлиуса Эпштейна. Приехав летом 1876 года в Йиглаву, Густав не только смог предъявил отцу отличный табель, но и фортепианный квартет собственного сочинения, который принес ему первую премию на конкурсе композиций. Летом следующего года он экстерном сдал в Йиглавской гимназии экзамены на аттестат зрелости, а спустя еще год снова получил первую премию за свой фортепианный квинтет, в котором с блеском выступил на выпускном концерте в Консерватории. Вместе с ним играл выпускник по классу виолончели Эдуард Розё, брат прославившегося позднее капельмейстера Венского филармонического общества Арнольда Розё. Позднее братья Розё женились на сестрах Малера Юстине и Эмме, что еще больше сблизило их с Густавом.
Впоследствии Малер упорно называл себя законным преемником и учеником Антона Брукнера, хотя на самом деле никогда не посещал его занятий по гармонии и контрапункту. Гармонию Малер изучал в основном у Роберта Фукса, а контрапункт и композицию — у Франца Кренна. В то время дирижерского класса еще не было и Малер, подобно таким выдающимся мастерам, как Феликс Моттль, Артур Никит или Ганс Рихтер, постигал это искусство «самоучкой за пультом». Для всех них важнейшим и во многом определяющим событием того времени стало триумфальное вступление в Вену музыки Рихарда Вагнера. Малер при этом стал не столько приверженцем культа Вагнера, сколько сторонником идей и творческих принципов великого байрейтского маэстро. В этом в значительной мере заключается ответ на вопрос, почему Малер в юности редко посещал оперные спектакли и предпочитал воспринимать произведения Вагнера как «чистую музыку», что было характерно и для такого почитателя Вагнера, как Антон Брукнер. С другой стороны, на Малера, с детства мечтавшего стать «мучеником» и в юности склонного к аскетизму, большое впечатление произвела статья Вагнера «Религия и искусство», о чем он так писал одному из друзей в 1880 году: «Уже месяц я ем только вегетарианскую пищу. Такое добровольное закрепощение тела и возникшее на этой почве отсутствие потребностей оказывает колоссальное моральное воздействие. Представь себе, я действительно по-настоящему этим проникся и полагаю, что таким путем человечество может возродить себя».
Малер, которому в то время исполнилось только 19 лет, начал ощущать и другие последствия подобной установки — зарождающееся напряжение на почве противоречий между аскетизмом и сексуальностью. Художник, подобный Малеру, был вполне открыт для прелестей женского пола, и закрепощение тела, равно как и порабощение душевных порывов, стоило ему немалых усилий. Подобно тому, как у вагнеровского Тристана «высшее желание» было равнозначно физической смерти, так и в сердце Малера попеременно царили «высший накал самого радостного желания жить и всепожирающая жажда смерти». Эта отчаянная борьба между чувственностью и моралью имела под собой еще одну подоплеку, довлевшую над интимной жизнью людей, о которой столь ярко написал Стефан Цвейг в книге «Вчерашний мир» — страх заразиться венерической болезнью: «К страху заразиться прибавлялся страх перед методами лечения, которые применялись в то время… причем даже после столь жестокого лечения заболевший до конца жизни не мог быть уверен в том, что полностью излечился. Коварный враг мог в любой момент совершить вылазку из своего тайного убежища и, поразив спинной мозг, парализовать члены, или забраться под крышку черепа и размягчить головной мозг». Этим врагом была бледная спирохета — Spirochaeta pallida — возбудитель сифилиса, болезни, от которой впали в прогрессивный паралич и умерли Гуго Вольф и коллега Малера Бедржих Сметана. Все же страстная натура Малера взяла верх над мрачными мыслями. В 19 лет «этот мир» впервые «по-настоящему захватил меня своей материальной стороной… и надо мной сомкнулись волны». В последующие годы его «бросало из одной глупости в другую» и лишь к 25 годам он слегка поумнел, в чем признался в письме другу; «На этот раз я постараюсь быть осторожнее, иначе мне снова придется плохо». Борода, которую он носил несколько лет, пытаясь выглядеть взрослее, постепенно уменьшилась до одних усов, впоследствии Малер отказался и от них. В сексуальной жизни Малер так до конца и не смог полностью избавиться от связи с матерью, которая в дальнейшем переключилась на сестру Юстину, но в дальнейшем ему удавалось находить в этой сфере оптимальное соотношение между чувственностью и моралью.
В Вене он был вынужден зарабатывать на жизнь уроками. Одновременно он занимался поисками влиятельного театрального агента, способного найти для него должность театрального капельмейстера. Такого человека Малер нашел в лице Густава Леви, владельца музыкального магазина на Петерсплатц. 12 мая 1880 года Малер заключил с Леви договор сроком на пять лет. Первый ангажемент Малер получил в летнем театре города Бад-Халль в Верхней Австрии, где должен был дирижировать оркестром оперетты и одновременно исполнять многочисленные вспомогательные обязанности. Вернувшись в Вену с небольшими сбережениями, он завершает работу на музыкальной сказкой «Жалобная песня» для хора, солистов и оркестра, op. 1. В этом произведении уже просматриваются черты оригинального инструментального стиля Малера, в частности «далекий оркестр». Осенью 1881 года ему, наконец, удается получить место театрального капельмейстера в Лайбахе (Любляна), и вскоре он забывает о барщине в Бад-Халле. Однако театральный сезон закончился и вновь Малеру оставалось лишь набраться терпения в ожидании нового ангажемента. Теперь это был Ольмюц (Оломоуц), где в театре царил полный развал и молодому, неловкому, близорукому дирижеру с копной непослушных волос на голове и пенсне на длинном носу нелегко было восстановить порядок. Однако Малер действовал высокопрофессионально и решительно, подобно полководцу на поле битвы, и никто не решился противиться его решениям и приказам. Ему удалось поднять уровень скромного провинциального театра на доселе невиданную высоту. Но весной 1883 года потребность в услугах Малера отпала и он возвращается в Вену, чтобы уже 31 мая подписать новый контракт, на сей раз в Касселе.
Уже в первые недели Малеру стало ясно, что здесь он не будет пользоваться такой же независимостью, как в Лайбахе или Ольмюце, ибо в Касселе он был подчиненным первого капельмейстера, а хористы подчинялись главному режиссеру театра. Все это действовало на Малера угнетающе, и он решил при первой же возможности подыскать себе другое место. С другой стороны, годовое жалование представляло собой весьма приличную сумму в 2100 марок, которой пренебрегать также не следовало, тем более, что теперь ему приходилось помогать семье, материальное положение которой к эту времени пошатнулось. В этом, по-видимому, кроется причина тех денежных затруднений, с которыми Малер несколько неожиданно столкнулся в Касселе. Из писем Малера к его венскому другу Фрицу Леру мы узнаем о его неудачной любви к молодой певице, от которой он смог избавиться лишь с большим трудом. В это время он сочинил автобиографический цикл «Песни странствующего подмастерья», из которого мы узнаем, что его любовь все же, похоже, нашла взаимность со стороны обожаемой особы, но соединение влюбленной пары не состоялось по внешним причинам, которые остаются для нас неизвестными.
Это действительно автобиографическое произведение, что следует из письма Малера, в котором говорится: «Я написал цикл песен, целиком посвященный ей».
Еще до окончания своего ангажемента в Касселе Малер установил контакт с Прагой, и, как только директором Пражского (немецкого) земельного театра был назначен большой поклонник Вагнера Анжело Нейман, он тут же принял Малера в свой театр. Публика и критика были в восторге от нового капельмейстера, при чем это касалось не только опер Вагнера и Моцарта, проходивших под его управлением, но и его концертных выступлений. Малер был с детства знаком с чешской народной музыкой и приложил немало усилий для того, чтобы сделать музыку Сметаны доступной для более широкого круга слушателей. Малер навсегда сохранил верность этому композитору.
В Праге, столице своей чешской родины, Малер чувствовал себя дома, но переезд в Лейпциг, к месту нового ангажемента в качестве второго капельмейстера, был для него уже поездкой за границу. Первым капельмейстером здесь был Артур Никит, считавшийся одним из величайших дирижеров той эпохи, и в будущем следовало ожидать соперничества и конфликтов. Когда Никиш заболел, обязанности первого капельмейстера временно были возложены на Малера, и ему уже очень скоро удалось «значительно упрочить свое положение», что внушило ему весьма радужные надежды на будущее. Он писал об этом так: «Я думаю, что Никиш недолго продержится рядом со мной и рано или поздно ему придется убраться восвояси». В сезон 1887/1888 года он ставит не только вагнеровский цикл, но и цикл опер Карла-Марии фон Вебера — шаг, который имел весьма далеко идущие последствия. В поисках неизвестных фрагментов неоконченной оперы Вебера «Три Пинто», Малер посетил дом внука Вебера, где познакомился с его женой, в которую влюбился сразу и по уши, и, судя по всему, добился взаимности. Этот бурный роман с г-жой фон Вебер, пробудил в его душе такую бурю эмоций, что справиться с ними он смог, только излив их в музыке. Если в Касселе бурная любовь породила цикл «Песни странствующего подмастерья», то в Лейпциге из пламенной страсти к г-же фон Вебер родилась Первая симфония ре-мажор. Однако сам Малер указывал на то, что «симфония не ограничивается любовной историей, эта история лежит в ее основе и в духовной жизни автора она предшествовала созданию этого произведения. Однако это внешнее событие послужило толчком к созданию симфонии, но не составляет ее содержания». Однако информация о внешних событиях в жизни Малера в период создания Первой симфонии важна для нас потому, что, зная ее, мы можем более точно истолковать воплощение его внутренних импульсов в этом произведении. На основании недавно обнаруженных источников стало известно, что замысел этой симфонии возник у Малера за четыре года до описываемых событий, но для воплощения этого замысла потребовался импульс, которым стало «музыкальное, излучающее свет и обращенное к высшему существо» в лице г-жи фон Вебер. Этот импульс привел Малера в состояние творческого опьянения, в котором он смог окончательно воплотить свой замысел. Однако процесс «творческой трансформации» не ограничился воплощением в музыке эротических переживаний, связанных с этой женщиной, но и повлек за собой видимое изменение отношения самого автора к окружающему миру. Во время работы над симфонией он запустил свои обязанности капельмейстера в театре, стал излишне восприимчив к шуму во время работы и удивлял своих собеседников, тем, что порой во время беседы его мысли оказывались где-то далеко.
Естественно, у Малера возник конфликт с администрацией Лейпцигского театра, но продолжался он недолго. В сентябре 1888 года Малер подписал контракт, согласно которому он занял должность художественного руководителя Венгерского Королевского оперного театра в Будапеште сроком на 10 лет. Предложенное ему годовое жалование давало не только ощущение дотоле неведомой надежности, но и возможность более действенно помогать семье в Йиглаве, положение которой стало к этому времени чрезвычайно сложным. На этой должности он не только с обычным рвением занялся постановкой опер Вагнера и Моцарта, но и предпринял усилия для развития Венгерского Национального театра, которым ему довелось руководить. Попытка Малера создать национальный венгерский состав исполнителей была встречена критически, поскольку публика склонна отдавать предпочтение красивым голосам, а не национальной принадлежности. Премьера Первой симфонии Малера, состоявшаяся 20 ноября 1889 года была встречена критикой неодобрительно, некоторые из рецензентов высказали мнение, что построение этой симфонии столь же непонятно, «сколь непонятна и деятельность Малера на посту руководителя оперного театра». Когда интриги против него достигли опасного предела, Малер в январе 1891 года оставил свой пост, получив компенсацию в размере 25 000 гульденов. 1 апреля он уже приехал в Гамбург по приглашению директора Городского театра Бернгарда Поля, носившего прозвище Поллини. Подчинение столь авторитетному театральному менеджеру несколько сужало административные полномочия Малера по сравнению с его положением в Будапеште, однако, в то же время, открывало более широкое поле творческой деятельности. Уже в 1892 году Поллини порекомендовал Малера как крупнейшего дирижера для проведения сезона немецкой оперы в лондонском театре Ковент Гарден и отправил вместе с ним часть музыкантов оркестра Гамбургского театра.
В Гамбурге Малер сразу же обратил на себя внимание тем, что попытался увеличить силу и красоту голоса каждого вокалиста, устраивая бесчисленные репетиции с каждым из них в отдельности, что Поллини назвал «работой на износ». В 1892 ему пришлось в отсутствие автора руководить первой немецкой постановкой «Евгения Онегина». Прибывший в Гамбург незадолго до премьеры Чайковский писал своему племяннику Бобу: «Здешний дирижер — не какая-то посредственность, а истинный всесторонний гений, который вкладывает жизнь в дирижирование спектаклем». Успех в Лондоне, новые постановки в Гамбурге, а также концертные выступления в качестве дирижера существенно упрочили положение Малера в этом старинном ганзейском городе. Одним из его почитателей был никто иной, как сам Ганс фон Бюлов, который однажды после концерта преподнес ему лавровый венок с надписью «Пигмалиону Гамбургской оперы». Но насколько высоко фон Бюлов ставил Малера-дирижера, настолько же он не желал признавать композитора Малера и его музыку. Не удивительно поэтому, что и отношение Малера к фон Бюлову было двойственным. Тем не менее мне кажется, что автор психоаналитического исследования, опубликованного вскоре после смерти фон Бюлова в феврале 1894 года, заходит слишком далеко, утверждая, что «Малер в самой глубине души желал смерти фон Бюлова — человека, который не признал его как композитора». Нам известно, что фон Бюлов являлся для Малера отцовским примером, которому он стремился подражать. Именно этим можно объяснить пробуждение творческих сил, которое вызвали у него похороны фон Бюлова, после которых Малер завершил сочинение Второй симфонии до-минор. О том, как это событие повлияло на окончательную форму Второй симфонии, сам Малер говорил так: «К тому времени я уже давно вынашивал мысль включить хор в последнюю часть. Меня беспокоило лишь то, что это могут счесть подражанием Бетховену, и это каждый раз меня останавливало! Настроение, с которым я сидел там и думал о покойном, было вполне в духе того произведения, которое я в это время обдумывал. И тут хор под аккомпанемент органа запел хорал Клопштока «Воскресение»! Меня как молнией поразило, и перед моим душевным взором все стало ясным и отчетливым».
К этому времени в семейном кругу Малеров произошли некоторые изменения: отец, мать и сестра Леопольдина умерли в скорбном 1889 году, и теперь лишь на Густаве лежала ответственность за сестер Юстину и Эмму, а также за брата Отто, в музыкальном таланте которого он был твердо убежден и для развития которого делал все возможное. Свою любовь к матери он перенес теперь исключительно на Юстину, с которой его до конца жизни связывали особенно теплые отношения. Он поселил своих сестер и брата в Вене, ставшей для него духовной родиной, где жили те его друзья, которым он в наибольшей степени симпатизировал. В кружке его друзей доминировал Зигфрид Липинер, поэт и мыслитель, сегодня практически забытый и известный, пожалуй, лишь как переводчик произведений великого польского поэта Адама Мицкевича. Однако при жизни он был весьма известен, Ницше считал его «истинным гением», а его «Освобожденного Прометея» называл «наиболее значительным произведением немецкой поэзии после «Фауста» Гете. Этот человек, родившийся в 1856 году в еврейской семье в Галиции, излучал такое притяжение, против которого не могла устоять даже столь сильная личность, как Малер. Согласно последним исследованиям, Липинер сыграл, пожалуй, ключевую роль в духовной жизни Малера и оказал решающее влияние не только на его мировоззрение, но и на творчество, что в наибольшей степени справедливо для Третьей и Десятой, неоконченной, симфоний. Труды Липинера посвящены в основном проблеме христианства, и этот еврей принадлежал к тем немногим немецким литераторам и философам конца XIX столетия, которые исследовали основополагающие вопросы христианской метафизики. В мире музыки рядом е ним может быть поставлен только Густав Малер.
В 1882 году Малер публикует «Песни и напевы юношеских лет», которые восходят к сборнику «Чудесный рог» — собранию немецких песен, составленному в 1806–1808 годах Ахимом фон Ариимом и Клеменсом Брентано и вышедшему под названием «Чудесный рог мальчика». Сочинение музыки на тексты из этого сборника занимало Малера и в последующие годы, причем не только в песенном жанре. Эти песни выполняли роль отправных точек в развитии симфонических образов. Некоторые из этих песен вплетены в ткань Второй и Третьей симфоний. В Третьей симфонии он использовал тексты не только из «Чудесного рога мальчика», но и из «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше, с идеями которого Малер под влиянием своего друга и ментора Липинера познакомился еще до начала девяностых годов. У Малера, в отличие от Вагнера, человек в этом произведении хотя и занимает центральное положение, но не в форме идеи о сверхчеловеке, а как человеческая личность, погруженная в природу. Он настаивал на том, что эта симфония представляет собой нечто новое и по содержанию, и по форме, поскольку она «отображает весь мир» и «несет в. себе нечто космическое» в соответствии с его максимой о том, что симфония, являясь высшим и самым благородным музыкальным жанром, обязана быть отображением всего мира. Эта исповедь, принявшая форму Третьей симфонии, является также первым опытом критики Ницше со стороны Малера, а ее финал, который часто сравнивают с медленной заключительной частью «Патетической симфонии» Чайковского, представляет собой дотоле непревзойденную по смелости концовку симфонического произведения. Гигантскую партитуру этого монументального произведения Малер создавал во время летних каникул 1895 и 1896 годов в Штайнбахе на озере Аттерзее, где он вместе с сестрой Юсти жил в гостинице. По воспоминаниям Натали Бауэр-Лехнер, для него на полпути между гостиницей и озером на лугу выстроили «композиторский домик», где он мог совершенно спокойно работать вдали от шумного окружающего мира. Натали была той женщиной, которая много лет подряд прожила в непосредственной близости от своего обожаемого идола, и ей, как никому другому, Малер мог доверять самые сокровенные тайны своих мыслей и творчества, лишь ее любовь не нашла у него ответа. В одной из состоявшихся между ними бесед обсуждался процесс развития музыкального сочинения, и он провел аналогии между физическим и духовным рождением: «Как бестактно и неделикатно было бы, вопреки всякому внутреннему стыду, делать еще не родившееся, находящееся лишь в процессе становления достоянием чужих ушей! Для меня это то же самое, что показать миру ребенка во чреве матери». Если ему казалось, что кто-либо хочет увидеть, как он сочиняет, или даже просто находится поблизости, он был не в состоянии продолжать работу. Желание наглухо отгородиться в процессе работы носило, безусловно, не только внешний характер. Он также не мог совмещать композиторскую деятельность с дирижерской, и поэтому для работы над симфониями у него оставалось только время летних каникул. Он был в состоянии сочинять, только запершись даже от тех людей, которых он любил и ближе которых у него не было.
Во время работы над Третьей симфонией из этого правила не было сделано исключение и для Анны фон Мильденберг, с которой Малер к этому времени был уже помолвлен. Анна, молодая певица, вокально очень богато одаренная от природы, училась в Венской консерватории. Ее педагогом была Роза Папир, сама в прошлом великолепная исполнительница женских партий в операх Вагнера в Венском Императорском оперном театре «Хофопер». В 1895 году она дала своей ученице рекомендацию для поступления в Гамбургский театр. Уже на первой репетиции со строгим капельмейстером Густавом Малером, у которого была слава настоящего тирана, Анна ощутила «чувство спасительного доверия и защищенности, избавляющей от любых сомнений и опасений». Впоследствии она выросла в знаменитую певицу и прославилась исполнением вагнеровских партий. Основная заслуга в этом принадлежала Малеру, который со временем завоевал и ее сердце. Малер любил эту женщину и воспринимал ее также как истинного духовного партнера, так что, казалось бы, ничто не мешало их союзу. Однако во время работы Малера над Третьей симфонией Анне пришлось убедиться в том, какое самопожертвование потребуется от женщины, которая «пожелает связать с ним свою жизнь». Если раньше он писал ей практически ежедневно, то во время летней работы в домике на Аттерзее письма стали приходить не столь регулярно, что не нашло понимания у невесты, которой было тогда всего 23 года. Объяснение, данное Малером, бросает дополнительный свет на его душевное состояние в период рождения симфонии: «Разве ты не понимаешь, что это поглощает человека целиком и затягивает так глубоко, что весь остальной мир как бы перестает существовать… Ведь я это уже не раз тебе объяснял, и, если ты понимаешь меня, то должна принять это таким, как оно есть. В такие моменты я себе не принадлежу… Создатель такого произведения испытывает ужасные родовые муки, и, прежде чем в его голове все это упорядочится, выстроится и перебродит, он должен пройти через рассеянность, погруженность в себя и отчуждение от мира». Не исключено, что интенсивная работа помогла Малеру пережить горечь утраты любимого брата Отто, на которого он возлагал очень большие надежды. Отто, по мнению брата, обещал вырасти в крупного композитора, но покончил с собой выстрелом из пистолета. В короткой предсмертной записке он написал, что жизнь больше не приносит ему радости и он возвращает входной билет.
«Бог южных провинций’»
В 1895 году Малер начинает наводить справки о возможном ангажементе в Вене, который бы помог ему реализовать давнюю мечту — последовать своему призванию «бога южных провинций». К тому же нарастала напряженность в отношениях между ним и директором Гамбургского театра Поллини, что было дополнительным аргументом в пользу такого решения. Однако Малер отдавал себе отчет в тех трудностях, которые перед ним стояли. При этом наиболее труднопреодолимой представлялась ему следующая проблема: «Дело обстоит так, что из-за моего еврейства меня не примут ни в один императорский театр. И Вена, и Берлин, и Дрезден для меня закрыты. Везде дует один и тот же ветер». В связи с этим очень большое значение он придавал исполнению своей Второй симфонии в Берлине 13 декабря 1895 года. Бруно Вальтер писал об этом событии: «Впечатление от величия и оригинальности этого произведения, от силы, излучаемой личностью Малера, было столь сильным, что именно этим днем следует датировать начало его взлета как композитора». Столь же сильное впечатление произвела на Бруно Вальтера и Третья симфония Малера, когда композитор исполнил ему клавир только что завершенного произведения: «Я совершенно потрясен силой и новизной музыкального языка… Лишь сейчас и лишь благодаря этой музыке я, похоже, наконец понял, что это за человек: все его существо дышит таинственным единением с природой, до сих пор я мог лишь догадываться, сколь глубоко и стихийно это единение, но познать его можно только через язык вселенской симфонической грезы Малера».
Добившись признания как симфонист, Малер приложил все усилия и использовал все мыслимые связи для того, чтобы реализовать свое «призвание бога южных провинций». Существенную помощь в этом ему оказали Анна фон Мильденбург и ее учительница Роза Папир, мать Бернгарда Паумгартнера, который впоследствии стал известным музыковедом и интерпретатором Моцарта. К этому времени уже стало ясно, что отставка капельмейстера Венского императорского оперного театра «Хофопер» Вильгельма Яна по болезни — дело практически решенное, и 21 декабря 1896 года Малер направил на имя интенданта (директора) театра Йозефа фон Безечни прошение о принятии на эту должность. Спустя два дня он, надеясь, очевидно, устранить последнее препятствие на этом пути, направил письмо на имя директора канцелярии Влассака письмо, содержавшее следующее дополнение: «В связи с обстоятельствами, имеющими место в Вене в настоящее время, считаю необходимым довести до Вашего сведения, что я уже довольно давно перешел в католицизм, следуя намерению, которое возникло у меня задолго до этого».
Католическое крещение Малера состоялось в маленькой гамбургской церкви Св. Михаила 23 февраля 1897 года. 15 апреля 1897 года был подписан его контракт с Венским Императорским оперным театром сроком на один год. С 1 июня 1897 года он должен был приступить к выполнению своих обязанностей. Заявление Малера о том, что он «уже довольно давно» принял католическую веру, звучит в этом контексте слегка оппортунистически. Альма Малер пишет, что Малер «верил в Христа, и его крещение было обусловлено далеко не одними оппортунистическими мотивами и желанием занять должность руководителя Венского императорского театра», но, тем не менее, из писем самого Малера можно узнать, что он целенаправленно «подогнал» момент совершения обряда крещения под возможность получить желанную должность. Людвиг Карпат, биограф Малера, считает, что этот шаг вовсе не был для него легким, и ссылается при этом на такое его высказывание: «Особенно злит и обижает меня то, что, для того, чтобы получить ангажемент, я был обязан креститься, это до сих пор не дает мне покоя… Этим я совершил акт, к которому вовсе не испытываю внутренней неприязни, но совершил я его, движимый инстинктом самосохранения, и, не буду отрицать, стоило мне это немалых усилий». Это доказывает, что внутренний поворот Малера к христианству действительно произошел намного раньше. Об этом же свидетельствуют воспоминания Натали Бауэр-Лехнер, согласно которым вопросы христианского богословия привлекали его задолго до формального обряда крещения. Из других источников известно, что догматика, мистика и эсхатология христианства давно занимали весьма важное место в системе его религиозного мировоззрения. О том, сколь глубоко Малер проникся католицизмом, свидетельствует следующий фрагмент из воспоминаний Альмы Малер, относящийся к 1901 году, где она говорит об одной из бесед со своим женихом, который считал себя «верующим христианином», а на самом деле, по ее мнению, был «христианствующим евреем»: «Я была воспитана в католицизме, но затем, под влиянием Ницше и Шопенгауэра, стала придерживаться весьма вольного образа мыслей. Малер боролся с этими настроениями с такой страстью, что сложилась странная и парадоксальная ситуация: еврей с упорством обращал христианку во Христа». Все это свидетельствует о том, что Малер был истинно верующим христианином, и эту веру он обрел за много лет до крещения. Иначе едва ли ему удалось бы еще в 1894 году написать столь убеждающую музыку к «Воскресению» Клопштока. Этот хорал вошел во Вторую симфонию, которая известна также под названием «Симфония Воскресения».
После своего дебюта в качестве дирижера Венской оперы в «Лоэнгрине» И мая 1897 года Малер писал Анне фон Мильденбург в Гамбург: «Вся Вена приняла меня с энтузиазмом… Нет причин сомневаться, что в обозримом будущем я стану директором». Это пророчество сбылось уже 12 октября. Но именно с этого момента отношения между Малером и Анной начали охлаждаться по причинам, которые остаются для нас неясными. Известно лишь, что их любовь постепенно угасла, но дружеские связи между ними не нарушились. После ухода из Императорского театра в октябре 1907 года Малер заверил г-жу фон Мильденбург, ставшую в 1909 году женой Германа Бара, в том, что «и вдали от нее он останется ее другом, на которого она всегда может рассчитывать».
Сегодня никто не оспаривает мнения о том, что эра Малера была «блестящей эпохой» Венской оперы. Его высшим принципом было сохранение единства оперы как произведения искусства, созданного для оперной сцены, и этому принципу было подчинено все. Это относилось и к зрителям, от которых требовались дисциплина и безоговорочная готовность к сотворчеству. Когда Ганс Рихтер в 1898 году сложил с себя полномочия руководителя филармонических концертов, руководство оркестром возложило эти функции на Малера. Однако авторитарный стиль руководства Малера, который всегда и во всем стремился навязать музыкантам свою волю, и его фанатизм в репетиционной работе привели к тому, что он вскоре перестал пользоваться симпатией филармонистов. Кроме того, Малер вносил изменения в инструментовку известных произведений, считающихся классикой мировой музыкальной литературы, что также создавало дополнительную нагрузку для музыкантов. Во всем остальном его заслуги члены этого музыкального коллектива полностью признавали и оценивали деятельность Малера весьма позитивно.
После успешных концертов в Париже в июне 1900 года Малер удалился в живительный покой и уединенность своего убежища Майериигге в Каринтии, где тем же летом вчерне завершил Четвертую симфонию. Из всех его симфоний именно эта быстрее всего завоевала симпатии широкой публики и в наше время воспринимается как произведение, «дружественное слушателю», хотя ее премьера в Мюнхене осенью 1901 года встретила отнюдь не дружественный прием. Но уже очень скоро былые противники Малера, такие как, например, уроженец Французской Швейцарии Вильям Риттер, поняли, что музыкальные новации Малера несут в себе дух молодого XX века. Спустя несколько лет тот же Риттер писал, сравнивая музыку Малера с искусством венского сецессиона: «Эту музыку следует исполнять в помещении, выстроенным архитектором Отто Вагнером, с декорациями Климта и Коло Мозера, и пусть она символизирует современную Вену». Малер на самом деле тесно сотрудничал с художниками венского сецессиона. По их заказу он переработал фрагмент из Девятой симфонии Бетховена, который исполнялся на выставке Макса Клингера, а Альфреда Роллера, другого участника этого объединения, он назначил главным художником Императорской оперы, отметив этим начало блестящего периода своей деятельности в качестве директора этого театра.
В апреле 1901 года Малер объявил венским филар-монистам, что в связи с ухудшением состояния здоровья он «более не чувствует себя в состоянии дирижировать филармоническими концертами». Принять такое решение его заставила болезнь, доставившая ему немало неприятностей в начале 1901 года. Внутренний геморрой, «подземный недуг», по выражению Малера, уже длительное время не только причинял ему боль, но и неоднократно вызывал кровотечения. Самый неприятный случай такого рода произошел вечером 24 февраля 1901 года во время представления «Волшебной флейты». Ему стоило огромного труда скрыть от окружающих свое ужасное самочувствие, потому что в этот вечер произошло настоящее «кровоизвержение». По словам одной из очевидиц, он выглядел «как Люцифер: белое лицо, горящие глаза. Я очень сочувствовала ему и сказала моим спутникам: такого этот человек не выдержит». Автором этого высказывания является не кто иной, как Альма, которая в это время вообще не была лично знакома с Малером. Когда императору стало известно, что директор его оперы в ту ночь, можно сказать, искупался в собственной крови, он отдал распоряжение о том, чтобы знаменитым пациентом занялся фон Хохенэгг, один из самых известных хирургов того времени. Немедленно была произведена операция, всего лишь третья по счету в мире операция такого рода, после чего Малер, силы которого были очень ослаблены большой потерей крови, отправился на отдых в Аббацию. Имеются сведения о том, что на протяжении нескольких месяцев он мог передвигаться только при помощи костылей. Но гораздо больше, чем физическая боль, его потрясло сознание того, что он находился на волосок от смерти. Однако уже в начале лета к нему вернулась прежняя активность. О перенесенной операции напоминали ему теперь лишь излишне долгие посещения туалета, в чем он порой находил повод для шуток. Во время летнего отпуска в Майернигге он не только сочинил несколько песен, но и завершил работу над двумя частями Пятой симфонии.
Во время гастролей в Париже в июне 1900 года состоялось его знакомство с Бертой Цукеркандль, родственницей Жоржа Клемансо и женой известного венского анатома Эмиля Цукеркандля. Этому знакомству суждено было сыграть очень важную роль в жизни Малера. Эта блестяще образованная, в том числе и в области музыки, дама весьма симпатизировала венским сецессионистам, и ее салон посещали самые знаменитые художники Вены. В ноябре получил приглашение и Малер. В этом салоне он встретил женщину своей жизни — юную Альму Марию Шиндлер, дочь известного художника-пейзажиста Эмиля Якоба Шиндлера. От Альмы, которой в то время исполнилось 22 года, исходило, должно быть, некое особое очарование, потому что в нее влюбился не только Густав Климт, но и Макс Буркхард, недавно вышедший в отставку с должности директора Бургтеатра. Этой участи не избежал и Малер. С первого же взгляда его страстно повлекло к ней, и он также не оставил ее равнодушной: «Должна признаться, что он мне сразу ужасно понравился. Конечно, он страшно нервный, он прыгал по комнате, как дикий зверь. Не человек, а чистый кислород; если подойти к нему слишком близко, то можно сгореть», — писала она в своем дневнике. Неудивительно, что уже через несколько недель после первого знакомства, 28 декабря 1901 года, они объявили об официальной помолвке. Если Малер был полностью уверен в своих чувствах, то для Альмы, которой его музыка была внутренне глубоко чужда, все было куда менее ясно, о чем свидетельствует запись в ее дневнике: «Я не знаю, люблю я его или нет, и если люблю, то кого: директора Оперы, знаменитого дирижера или человека». К этому следует добавить, что Малер, вне всякого сомнения, был гораздо лучшим дирижером, нежели любовником, потому что об их первой близости она написала так: «Его мужская сила его подводит… Он лежит рядом со мной и всхлипывает от стыда… в отчаянии и растерянности». Вскоре произошло еще одно событие, которое очень обеспокоило ее. Вне всякого сомнения, оно было вызвано геморроем, но Альма по неопытности связала его с другими причинами: «Моему бедному Густаву приходится лечиться. Воспаление, отек, мешки со льдом, сидячие ванны и тому подобное. Может быть, виной тому мое сопротивление?». И, наконец, было еще одно обстоятельство, которое неприятно поразило ее и даже привело к серьезной ссоре между ними — Малер категорически «запретил» ей сочинять музыку. Чтобы понять, какое воздействие эта мера оказала на ее чувства, следует знать, что к тому времени Альма успела создать ряд незаурядных произведений, и, согласно одному современному исследованию, некоторые ее песни забыты незаслуженно. И если она все же со слезами уступила его желанию, то это вовсе не значит, что она окончательно отказалась от творчества. Вот запись из ее дневника: «С сегодняшнего дня мне придется всеми средствами бороться за то, чтобы сохранить место, которое принадлежит мне по праву. Я имею в виду искусство. Он считает, что мое искусство ничего не стоит, но свое ставит очень высоко. Я же считаю, что его искусство ничего не стоит, а высоко ставлю свое». Действительно, она до конца своей жизни не пожелала признать величие Малера как композитора. Из ее записок можно понять, что она находилась под влиянием теории Буркхарда, согласно которой еврей ни при каких обстоятельствах не может стать истинным продуктивным художником. 9 марта 1902 года в церкви С в. Карла в Вене состоялось торжественное бракосочетание. Медовый месяц они провес ли в Санкт-Петербурге, где Малер продирижировал несколько концертов. Здесь, во время ужина у герцога Мекленбургского, у Малера произошел один из тех ужасных приступов мигрени, которые уже случались раньше. В остальном эта поездка прошла вполне нормально, и даже беременность Альмы, «источник больших мучений», больше не сопровождалась тошнотой, которая доставила ей немало неприятностей в начальный период. Лето они провели в Майернигге на озере Вертерзее, где опять же был построен крохотный «композиторский домик», в котором Малер сразу же продолжил работу над Пятой симфонией. Ближе к вечеру он обычно купался в озере — Малер был отличным пловцом и не боялся даже ледяной воды. Большое удовольствие ему доставляли также дальние прогулки на велосипеде. Его гастрономические вкусы и привычки можно назвать спартанскими Все должно было быть хорошо проварено, он переносил только легкие, лишь едва приправленные блюда, что не вызывало особого понимания со стороны Альмы. Но больше всего она страдала от одиночества во время его многочасовой работы над симфонией, на что жаловалась в дневнике: «Я потеряла всех друзей, чтобы найти одного, который меня не понимает». Не помогло даже проникнутое любовью посвящение, предпосланное Малером Пятой симфонии: «Любимой Альмши, храброй и верной спутнице».
3 ноября появилась на свет девочка, которая при крещении получила имя Мария Анна. Роды были очень тяжелыми, потому что ребенок находился в заднем предлежании. Когда врач сообщил об этом отцу, тот прокомментировал это так: «Это действительно мой ребенок, раз он показывает миру, то чего он заслуживает: задницу!». В июне 1903 года родилась их вторая дочь, которую назвали Анна Юстина. И вновь лето проходит в Майернште, где Малер сочиняет, а Альма проводит время с детьми. Альма находилась в спокойном и радостном настроении, чему в немалой степени способствовало недавно обретенное счастье материнства, и ее очень удивило и напугало намерение Малера написать вокальный цикл «Песни о мертвых детях», от которого его не удалось отговорить никакими силами.
Может показаться удивительным, что в период с 1901 по 1905 год Малер, будучи руководителем крупнейшего оперного театра и выступая с концертами как дирижер, сумел найти достаточно времени и сил для сочинения Пятой, Шестой и Седьмой симфоний, «открывших историю симфонизма XX века». Альма Малер считала, что Шестая симфония стала «его наиболее личным и, в то же время, пророческим произведением». Можно представить себе, что чудовищное внутреннее напряжение, испытываемое композитором во время такой трудоемкой работы, какой является сочинение столь масштабных произведений, требовала компенсации в форме практической деятельности. Для Малера такой деятельностью было дирижирование и он скучал по нему. Малер не воспринимал такие нагрузки как чрезмерные, и, когда друзья говорили, что у него утомленный вид, он отвечал, что это «всего лишь ординарная физическая усталость» и ничего больше. Ромен Роллан, встречавшийся с Малером на пике его величия и власти, в счастливом 1905 году, написал в одном из своих эссе, что Малер жестоко страдал, «находясь под гипнозом власти», что побуждало его к лихорадочной активности.
В вопиющем контрасте с его могучими симфониями, грозившими взорвать все, что было сделано в этом жанре до него, находились завершенные в том же 1905 году «Песни о мертвых детях». Малер начал работать над ними еще четыре года назад и теперь опубликовал второй цикл. Тексты их были написаны Фридрихом Рюккертом после смерти двоих его детей и опубликованы лишь после смерти поэта. Выбрав для своего сочинения эти леденящие душу стихи, Малер задал непростую психологическую загадку будущим исследователям. Некоторые, в том числе и его жена, усматривали в этом вызов судьбе. Более того, Альма даже считала, что смерть старшей дочери через два года после публикации этих песен, явилась наказанием за совершенное кощунство. Однако в тот период Малер совершенно не был в состоянии себе представить, что его самого когда-либо сможет постигнуть подобное несчастье — это было характерно для его психологии и именно здесь необходимо это особо подчеркнуть. Если выбор стихов Рюккерта вообще и был чем-либо мотивирован, то этот мотив следует искать в детстве композитора — это могли быть, например, детские воспоминания Малера о мучительной смерти любимого брата Эрнста или горечь потери столь музыкально одаренного брата Отто, покончившего жизнь самоубийством. По-видимому, именно эти тяжелые воспоминания привлекли его внимание к похоронным рыданиям Рюккерта и побудили Малера написать музыку на эти лирические стихи. Малер выбрал из этого цикла пять стихотворений, которым свойственно наиболее глубоко прочувствованное настроение. Соединив их в единое целое, Малер создал совершенно новое, потрясающее произведение. Чистота и скромная проникновенность музыки Малера в буквальном смысле «облагородили слова и подняли их до высоты искупления».
Здесь представляется уместным остановиться на отношении Малера к вопросу о предопределенности и возможности предвидения судьбы. По словам Рихарда Шпехта, знавшего Малера в гамбургский период его жизни, тот твердо верил в существование «высшего существа, которое правит миром по разумному предопределению» и поэтому отвергал самоубийство и вообще не признавал за человеком права «на опрометчивое и преждевременное вмешательство, нарушающее высший план, который изначально предопределен для индивидуума». Для человека, придерживающегося подобных убеждений, самоубийство брата должно было явиться потрясением вдвойне. Малер сумел привнести свою веру и в творческий процесс. Будучи абсолютным детерминистом, он полагал, что «в минуты вдохновения творец в состоянии предвидеть грядущие события повседневности еще в процессе их возникновения». По словам Шпехта, Малер часто «облекал в звуки то, что произошло лишь потом». В своих воспоминаниях Альма дважды указывает на убежденность Малера в том, что в «Песнях о мертвых детях» и Шестой симфонии он написал «музыкальное предсказание» своей жизни. Это утверждает и Пауль Штефан в биографии Малера: «Малер многократно заявлял, что его произведения — это события, которые произойдут в будущем».
1906 год был посвящен 150-летию со дня рождения Моцарта. Для Малера это означало не больше и не меньше чем постановку новых редакций пяти произведений Моцарта на сцене Императорского оперного театра, а также, по личному распоряжению императора, постановку праздничного спектакля по «Свадьбе Фигаро» на родине юбиляра. Это представление Бернгард Паумгартнер назвал «первым значительным коллективным достижением за всю историю Зальцбургского фестиваля, а может быть, и во всей новейшей истории оперы». Этот торжественный повод заставил Малера на короткое время прервать традиционный летний «отдых» в Майернигге, что несколько нарушило его планы: он как раз должен был завершить новую, поистине гигантскую по своим масштабам, симфонию, для исполнения которой требовалось участие почти тысячи музыкантов и певцов. В августе он с огромной радостью сообщил своему голландскому другу Виллему Менгелбергу: «Сегодня закончил восьмую — самая крупная вещь из всех, что я создал до сих пор, причем столь своеобразная по форме и содержанию, что это невозможно передать словами. Представьте себе, что вселенная начала звучать и играть. Это уже не человеческие голоса, а солнца и планеты, движущиеся по своим орбитам». К чувству удовлетворенности от завершения этого гигантского произведения добавилась радость от успехов, выпавших на долю различных его симфоний, исполненных Берлине, Бреславле и Мюнхене. Малер встречал новый год с чувством полной уверенности в будущем.
1907 — год судьбы
1907 год стал переломным в судьбе Малера. Уже в первые его дни началась антималерская кампания в прессе, предметом которой стал стиль руководства директора Императорского оперного театра. Одновременно обергофмейстер князь Монтенуово заявил о снижении художественного уровня спектаклей, падении кассовых сборов театра и объяснил это длительными зарубежными гастролями главного дирижера. Естественно, Малера не могли не обеспокоить эти выпады и поползшие слухи о скорой отставке, но внешне он сохранял полное спокойствие и самообладание. Главный художник сцены Альфред Роллер 29 апреля 1907 года писал жене: «Меня потрясает спокойствие Малера, который не позволяет вывести себя из равновесия и последовательно, шаг за шагом, продолжает идти своим путем. Кажется, что все силы объединились для того, чтобы свалить его. Если бы они только знали, с каким удовольствием он ушел бы сам!». Действительно, как только разнесся слух о возможной отставке Малера, на него тут же посыпались предложения одно заманчивее другого. Наиболее привлекательным ему показалось предложение, поступившее из Нью-Йорка. После недолгих переговоров Малер подписал контракт с Генрихом Конридом менеджером театра Метрополитен Опера, согласно которому обязался начиная с ноября 1907 года ежегодно в течение четырех лет три месяца работать в этом театре. Когда он в мае наконец подал прошение об отставке, Альма не была особенно счастлива этим событием, но все же оно принесло ей облегчение. Кроме того, доходы Малера от работы за океаном должны были во много раз превысить его жалование на посту директора Императорского оперного театра.
Время, остававшееся до ноября, Малер решил провести вместе с семьей в Майернигге, чтобы отдохнуть от переутомления минувшего года. Однако именно в Майернигге суждено было случиться самой страшной трагедии в его жизни. 4 июля 1907 года, он написал своему другу физику Арнольду Берлинеру о заключении контракта с нью-йоркским театром. В письме была такая приписка: «Нам страшно не повезло! У старшенькой скарлатина — дифтерия!». Действительно, четырехлетняя Мария Анна, которую он особенно любил и ласково называл Путци, заболела дифтерией. Ни прививок, ни дифтерийного антитоксина в то время еще не было, и для многих детей такой диагноз был равнозначен смертному приговору. Девочка 14 дней боролась за жизнь, но наступило удушье, которое экстренно вызванный врач сумел предотвратить, выполнив операцию трахеотомии, но спустя сутки ребенок все же умер. Для Малера, с истеричным плачем носившегося по дому, смерть дочери стала страшной трагедией. Путци походила на отца и музыкальной одаренностью, и строптивым характером, и потому он был к ней чрезвычайно привязан. Альма вспоминала: «Это был его ребенок. Изумительно красивая, упрямая, неприступная, она обещала вырасти опасной женщиной. Черные локоны, огромные голубые глаза! Ей не суждена была долгая жизнь, но все же ей удалось хотя бы только на пару лет стать его радостью, а это уже свершение, достойное вечности».
Через два дня, когда детский гробик был уже вынесен из дома, у Альмы случился обморок. Вызванный по этому поводу домашний врач доктор Блюменталь попутно осмотрел и Малера. Доктор Блюменталь, судя по всему, не был наделен даром психолога, ибо заключение, сделанное им, было столь же неожиданным, сколь и тревожным: «Таким сердцем, как у Вас, не стоит гордиться!». Обеспокоенный столь туманным диагнозом, Малер поспешил в Вену, чтобы получить более точную информацию у доктора Ковача, диагноз которого гласил: «компенсированный порок сердечного клапана с сужением митрального клапана». Малеру было рекомендовано строго избегать любых физических нагрузок. Это открытие стало для него тяжелым ударом: ведь он так любил пешие и велосипедные походы, был прекрасным пловцом, а грести умел так, что на озере Аттерзее мало кто мог с ним тягаться. Его телосложение было спортивным, при росте всего 160 см он превосходил большинство пляжников по развитию мускулатуры. И такой человек должен был вдруг отказаться от всякой физической активности! Добавьте к этому появившийся отныне страх перед любым движением, и Вы сможете понять, что он должен был испытывать.
24 ноября состоялся внеочередной концерт в Венском обществе друзей музыки, которым Малер, продирижировав свою Вторую симфонию, попрощался с друзьями. Согласно газетным сообщениям, бурные аплодисменты, нескончаемые приветствия публики, оркестрантов и хористов до слез растрогали дирижера. Бывшим коллегам по оперному театру он направил прощальное письмо, из которого следует, что, покидая Вену, Малер не затаил зла:
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ ОПЕРНОМУ ТЕАТРУ!
Пришел час, когда наша совместная деятельность должна завершиться. Я прощаюсь с Вами и покидаю поприще, ставшее для меня очень дорогим.
Я оставляю после себя не целостное и законченное творение, как надеялся, а нечто незавершенное и фрагментарное, но таков уж, наверное, удел человека.
Не мне судить, чем стал мой труд для тех, кому я его отдавал. Но я имею полное право сказать: замыслы мои были чисты, цели были возвышенны. Не всегда мои усилия увенчивались успехом. «Сопротивление материала» — «упрямство объекта» было и останется вечным проклятием каждого действующего художника. Но я всегда целиком отдавал себя делу и подчинял свои личные симпатии долгу. Я никогда не щадил себя и поэтому имел право и от других требовать полной самоотдачи.
В пылу борьбы, под влиянием мгновений и на Вашу, и на мою долю выпадали и заблуждения, и обиды. Но когда нам удавалось вместе создать произведение, решить задачу, мы забывали о бедах и усталости и считали себя щедро вознагражденными, даже если внешний успех не венчал наших усилий. Мы все выросли за эти годы и вместе с нами вырос театр, которому мы служили.
Все, кто помогал мне в моих радостных трудах, кто работал и боролся рядом со мной — примите мою сердечную благодарность. Примите мои искренние пожелания успехов лично каждому из Вас и Императорскому оперному театру, судьба которого уже никогда не сможет оставить меня равнодушным.
Вена, 7 декабря 1907 г. Густав МалерНамного тяжелее далась ему разлука с близкими друзьями и, прежде всего, с семьей Цукеркандль, которым он нанес свой последний визит. Им он сказал те слова, которыми, наверное, сам надеялся себя утешить: «Я увожу с собой мою родину, мою Альму, моего ребенка. И лишь теперь, когда груз тяжкого труда свалился с моих плеч, я понял, сколь прекрасной отныне будет моя цель. Альма отдала мне десять лет своей молодости. Никто не знает и не может знать, с каким абсолютным самопожертвованием она подчинила свою жизнь моей жизни и моему труду. Я отправляюсь в путь с легким сердцем».
Наконец, дом в Майернигге, теперь лишь напоминавший о пережитой трагедии, был продан и больше ничто не мешало отъезду. Но предстоял еще один весьма трогательный заключительный эпизод: провожать его пришла целая толпа, примерно из 200 человек, среди которых были Альбан Берг, Арнольд Шенберг, Густав Климт и Антон фон Веберн, который, собственно, все и организовал. Когда Малер с семьей прибыл в Шербур и поднялся по трапу парохода, там его ждала телеграмма: «Дорогой. Желаю тебе удачного путешествия на прекрасном судне, на котором я сам несколько лет назад возвращался из Америки. Поскорее возвращайся в нашу любимую Европу, которой такие люди, как ты, нужны больше хлеба насущного. Твой Герхарт Гауптман». Действительно, несмотря на все оглушительные успехи, выпавшие на его долю в Америке, Австрия и ее столица всегда были и остались его настоящей родиной. Тем не менте он неоднократно говорил Альме: «Я трижды человек без родины: для австрийцев я — чех, для немцев — австриец, а для всего мира — еврей, всюду я лишь нежеланный чужак».
1 января 1908 года Малер дебютировал оперой «Тристан и Изольда» в Метрополитен Опера. Семья снимала роскошный номер в элегантном отеле «Мажестик» и вела уединенный образ жизни. Малер тщательно избегал любых физических нагрузок и вообще сильно изменился после смерти любимой дочери. Манеры его стали обходительнее, хотя он сохранил привычку барабанить по столу и «рыть ногами, как дикий кабан». Странная походка Малера обратила внимание Натали Бауэр-Лехнер: «Он поднимает ногу и топает, как конь. Он никогда не в состоянии сделать два шага подряд в одном и том же ритме». Сведения о подергивании у Малера правой ноги и сильном топоте, издаваемом им при ходьбе, имелись уже в архивах дирекции театра в Касселе. В Вене также замечали эти непроизвольные движения. Лео Слецак говорил о «синкопической» походке Малера, «дерганье ногой» упоминал и Альфред Роллер, описывая внешность Малера. Никто из авторов этих воспоминаний не заинтересовался истинной причиной подобного явления. Теперь можно лишь с большой долей уверенности утверждать, что они были не органического происхождения, поскольку Малер мог при необходимости усилием воли подавить эти сокращения мышц, но, как только он отвлекался на что-либо иное, они возобновлялись. В объяснение этого нервного феномена выдвигалась гипотеза, о том, что в его основе лежали воспоминания Малера о любимой матери, которая, как достоверно известно, хромала.
Весной Генрих Конрид оставил пост менеджера Метрополитен Опера. На его место пришел бывший директор миланской Ла Скала, который привез с собой в качестве дирижера Артуро Тосканини. Это настолько обеспокоило Малера, что он даже начал подумывать о расторжении контракта. Но еще той же весной, до возвращения в Европу, он оставил эти мысли. В апреле 1908 года он прибыл в Гамбург и вскоре уже выступил в Висбадене со своей Первой симфонией, после чего, как он обычно это делал летом, уединился в южнотирольском Тоблахе, где удалось найти достаточно просторный дом для отдыха и садовый домик для работы. В этом «кабинете» он сочинил «Песнь о земле» для двух певческих голосов и оркестра — произведение, в котором оркестр играет роль, промежуточную между симфонией и песней. Малер пришел в такой восторг от сборника древней и новой китайской лирики в переводе Ганса Ветке, что выбрал из этой книги семь лучших стихотворений и перевел их на свой язык. В последней песне, «Прощание», жалобный стон медленно умирает, так и не найдя мира в завершающем аккорде. Это дало повод Паулю Беккеру рассуждать о «старческом стиле» Малера, который в предчувствии будущего подсознательно выразил этим собственный приговор. В какой степени это произведение соответствовало состоянию души композитора, прошедшей через опыт смерти, можно судить по следующему эпизоду из автобиографии Бруно Вальтера: «Впервые он не сам сыграл мне свое новое произведение — возможно, он был столь возбужден, что не доверял себе. Я изучил его, и какое-то время мною владело кошмарнейшее ощущение от этого невероятно страстного, горького, исполненного самопожертвования и жгучего крика прощания и разлуки». Альма Малер так писала об этом времени в Тоблахе: «Это лето, исполненное горя по потерянному ребенку и беспокойства о здоровье Малера, было самым трудным и грустным из всех, что нам уже довелось и еще предстояло пережить вместе». Свой собственный взгляд на эти месяцы он изложил в письме Бруно Вальтеру: «Хочу Вам сказать, что я просто и сразу потерял всю ясность и весь покой, которых достиг за всю жизнь; я оказался у разбитого корыта и теперь, в конце жизни, вновь вынужден учиться ходить и стоять». Это в полной мере относилось и к его физическому состоянию, ибо, в соответствии с безграмотными рекомендациями врача, ему пришлось «учиться ходить с часами в руке», периодически останавливаться и измерять пульс.
Когда он вернулся в Нью-Йорк, здесь, как и следовало ожидать, возникли сложности из-за новой ситуации, в которой он был вынужден работать бок о бок с Тосканини. Здесь ему представился случай реализовать то, о чем он мечтал всю жизнь, а именно: возглавить концертный оркестр. Несколько богатых дам, восхищенных его талантом дирижера, проявившимся еще во время сезона прошлого года, добились того, что Малеру была вручена неограниченная власть над Нью-Йоркским Филармоническим оркестром. Дебют Малера в новом качестве состоялся уже 31 марта 1909 года в Карнеги Холл. Заняв должность, долгое время бывшую пределом его мечтаний, Малер вернулся в Европу, где все лето проработал над Девятой симфонией, которая, как и «Песнь о земле», стала известна лишь после его смерти. Закончил он эту симфонию во время своего третьего сезона в Нью-Йорке. Малер, незадолго до отъезда перенесший тяжелый грипп, это лето снова провел в Тоблахе, в то время как его жена, состояние которой также ухудшилось из-за второго выкидыша, вместе с дочерью уехала на курорт Левико неподалеку от Тренто. Малер радовался тому, что, наконец, вырвался из строгой дисциплины оперной индустрии, почувствовал себя «другим человеком», который более, чем когда-либо, ощущал радость «обычного бытия». Единственной ложкой дегтя были неполадки с сердцем, ощущавшиеся им как ускорение пульса и угнетенное состояние. «Во время обычной небольшой прогулки у меня так ускоряется пульс и возникает такой страх, что я забываю о цели этой прогулки, которая заключается в том, чтобы забыть ее причину», — писал он Бруно Вальтеру. А вот фрагмент из письма жене: «Мне становится больно от одной мысли обо всех моих композиторских домиках — да, я пережил там самые прекрасные часы моей жизни, но, похоже, заплатил за это своим здоровьем». Сквозящий в этих строках неопределенный страх был, по-видимому, именно тем чувством, которое испытывал Малер во время работы над Девятой симфонией. В действительности Малер опасался, что этим произведением он бросает вызов судьбе — 9 было поистине роковым числом: Бетховена, Шуберта, Брукнера и Дворжака смерть унесла именно после того, как каждый из них завершил свою девятую симфонию! В таком же духе высказался однажды Шенберг: «Похоже, что девять симфоний — это предел, кто хочет большего, должен уйти. Возможно, что десятая симфония должна нам сказать нечто такое, о чем нам не положено знать, до чего мы еще не созрели. Те, кому удалось написать девятую симфонию, стояли слишком близко к потустороннему миру».
Семейный кризис и начало болезни
В 1909 году Малер в третий раз приехал в Нью-Йорк, на сей раз ему предстояло открывать концертный сезон. Зима, судя по всему, прошла без особых происшествий, а результаты турне по США давали Малеру все основания для хорошего расположения духа. В это время он писал в Вену: «У меня цветущий вид, нормальный вес и я прекрасно справляюсь с большим объемом работы». В таком прекрасном настроении он возвратился в апреле 1910 года в Европу и после нескольких концертов в Париже, Риме, Лейпциге и Мюнхене полностью сосредоточился на законченной еще несколько лет назад «Симфонии тысячи», Восьмой симфонии, которая в этом году должна была прозвучать впервые. Перед тем как отправиться на отдых в Тоблах, Малер по совету врачей проводил жену на популярный в то время курорт Тобельбад. Это его решение оказалось роковым, ибо Альма нашла облегчение и исцеление от своих недомоганий не в термальных источниках, а в лице молодого белокурого Вальтера Гропиуса, архитектора, который впоследствии прославился как основатель «Баухауса» — одной из самых известных академий изящных искусств в Вене.
Альма проводила ночи в объятиях Гропиуса, а Малер в это время сокрушался о «мучительных страданиях», которые выпали на ее долю. Ее «короткие, грустные письма» приходили все реже, и он писал ей: «Ты что-то от меня скрываешь? Мне все время чудится что-то между строк твоих писем». После того как лечение на курорте закончилось, Альма вернулась к мужу в Тоблах, где регулярно получала от Гропиуса письма, в которых тот клялся, что не может без нее жить, и умолял бросить все и уехать к нему. А затем произошло то, чего Гропиус так никогда и не смог толком объяснить: написав страстное письмо, в котором особенно настойчиво заклинал Альму навсегда оставить Малера и уехать к нему, он отправил его… г-ну директору Густаву Малеру! Здесь, безусловно, и речи быть не могло о простой оплошности случайного рода, которая произошла «по рассеянности», это было умышленное действие, которым Гропиус надеялся самым быстрым способом решить дело в свою пользу. Малер полностью отдавал себе отчет в том, что это результат угнетения и подавления душевных порывов и чувств его жены на протяжении многих лет, результат того, что все эти годы он видел в жене какое-то бесплотное создание и тем во многом лишил ее индивидуальности. Нам известно, что это постепенно доводило Альму до отчаяния, которое она, в конце концов, выразила такими словами: «Я живу не с живым человеком, а с какой-то абстракцией». В одно мгновение Малеру стало ясно, что все эти годы он оставался слепым по отношению ко всему, что находилось вне его искусства. Поэтому, вскрыв проклятое письмо и выслушав признание Альмы, он не разозлился и не ожесточился. То, что происходило в его душе, напоминало скорее процесс распада, а мысли его сводились лишь к одному — к страху потерять молодую красивую жену. Он поступил в полном соответствии со своим чистым и прямолинейным характером, то есть, как и должен поступить в подобной ситуации настоящий мужчина — сам сделал первый шаг и попытался вызвать Гропиуса на откровенный разговор. Когда после первоначальных колебаний Альма пришла в ту комнату, где он уединился, Малер сказал подчеркнуто спокойно: «Как бы ты ни поступила, ты будешь права. Решай». Что на самом деле происходило у него в душе, мы узнаем из дневника Альмы: «На самом же деле он был потрясен до глубины души. На листах набросков партитуры Десятой симфонии он писал восклицания и слова обращенные ко мне». Эти слова, написанные на нотных листах, позволяют получить представление о душевном состоянии Малера в те дни, они, поистине, способны потрясти любого: «Боже, о Боже, зачем ты покинула меня!… Ты одна знаешь, что это значит!… Ах! Ах! Ах! Прощай, песнь моей струны!… Жить для тебя! Умереть для тебя, Альмши!».
Теперь ситуация в их браке диаметрально изменилась. Если раньше право решения было исключительно за ним, то теперь он подчинился ей вплоть до полного самоотрицания. Он даже извлек на свет божий музыкальные сочинения Альмы, и, если раньше он делал вид, что ее песен вообще не существует, то теперь его восторг перед этими песнями не знал границ: «Мои дорогие песни, исполненные очарования вестники божественного существа, вы станете моими звездами и будете светить мне, пока солнце моей любви вновь не взойдет на горизонте». Он уже не мог рассчитывать на то, чтобы видеть это солнце каждый день: «Как я мечтаю увидеть тебя и заключить в объятия, тебя, дорогую, так горячо любимую… Она меня любит! В этом слове смысл моей жизни! Когда я потеряю право сказать это, я умру!».
В этой ситуации, Малер, осознавший всю глубину любви к Альме и терзаемый страхом ее потерять, дошедший в отчаянии до полного мазохистского самоуничижения, решил обратиться за помощью к доктору Зигмунду Фрейду, который в то время отдыхал в Голландии. Дважды Малер переносил время приема — возможно, по причине плохого самочувствия из-за недавно перенесенной ангины — но, наконец, сел в поезд, отправляющийся в Лейден. Существуют три различных рассказа о встрече этих великих людей — Фрейда и Малера. Первый из них принадлежит биографу Фрейда Эрнесту Джонсу, второй — ученице Фрейда Мари Бонапарт, третий рассказ принадлежит перу самого Фрейда и содержится в его письме страстному почитателю Малера психоаналитику Теодору Райку.
Джонс пишет: «В это время у крупного композитора Густава Малера возникли сложности в отношениях с женой, и ее родственник, венский психоаналитик доктор Непаллек, посоветовал Малеру обратиться к Фрейду. Малер, находившийся в то время в Тироле, послал Фрейду телеграмму с просьбой о консультации. Вообще Фрейд крайне неохотно прерывал отдых ради выполнения профессиональных обязанностей, но такому человеку, как Малер, он не мог просто так отказать. В ответ на телеграмму Фрейда с указанием места и времени встречи последовала телеграмма Малера, в которой он отказывался прибыть на консультацию. Затем вновь пришла телеграмма от Малера, и опять все повторилось. Малер страдал комплексом сомнения на почве невроза принуждения: история с телеграммами повторилась трижды. Наконец, Фрейд сообщил Малеру, что последняя возможность для встречи представится в августе, поскольку затем он намеревается посетить Сицилию. Они встретились в лейденском отеле и провели четыре часа, гуляя по городу. При этом Фрейд проводил своеобразный психоанализ. Хотя Малер до этого дня не имел никакого отношения к психоанализу, он, по словам Фрейда, ухватил его суть быстрее, чем кто-либо другой до него. На Малера очень большое впечатление произвело такое замечание Фрейда: «Я предполагаю, что Вашу мать звали Мария. Я делаю такой вывод из различных намеков, сделанных Вами во время нашей беседы. Как же Вы могли жениться на женщине с другим именем, на Альме, если мать играла доминирующую роль в Вашей жизни?». Тогда Малер сказал, что его жену зовут Альма Мария, и он называет ее Мари! Она дочь известного художника Шиндлера, чей памятник установлен в Венском городском парке. Так что и в ее жизни имя сыграло особую роль. Эта аналитическая беседа, похоже, принесла положительный результат, так как Малер вновь обрел потенцию и его брак оставался счастливым вплоть до его смерти, последовавшей год спустя».
В ходе многочасовой беседы Фрейду действительно удалось успокоить Малера. Его очень беспокоила большая разница в возрасте, но Фрейд заверил Малера, что именно это сделало его привлекательным для молодой, образованной и красивой женщины. И вышло так, что Альма, любившая отца, могла привязаться только к такому мужчине, который представлял бы для нее замену отцу, в то время как Малер, очень привязанный к своей страдавшей и печальной матери, искал в жене ее отражение. Когда Малер рассказал жене о результатах этого психоанализа, она написала в дневнике: «Как прав Фрейд в обоих случаях! Когда он познакомился со мной лично, он сказал, что хотел бы видеть меня более «исстрадавшейся» — именно так звучали его слова!
Я же всегда искала невысокого, приземистого мужчину, мудрого, превосходящего меня по интеллекту — именно те черты, которые я любила и ценила в своем отце».
Письмо Фрейда его ученице Мари Бонапарт касалось другой стороны жизни Малера — музыки. Эта область находилась на периферии интересов психоаналитика, и, очевидно поэтому, его вывод далеко не бесспорен: «По ходу беседы Малер вдруг сказал, что теперь он понимает, почему его музыка в самых возвышенных местах, вдохновением для которых послужили самые глубокие чувства, никогда не могла достичь желанного совершенства, почему всегда примешивалась какая-то вульгарная мелодия, которая все портила. Его отец, по-видимому, человек грубый, плохо обращался со своей женой, и, когда Малер был еще маленьким мальчиком, между ними разыгралась особо отвратительная сцена. Для малыша это зрелище было невыносимо, и он убежал из дому. Но в этот самый момент послышался звук шарманки, которая играла известную песенку «Ах, мой милый Августин». Теперь Малер посчитал, что в этот момент в его душе глубокий трагизм неразрывно переплелся с поверхностной развлекательностью, и с тех пор первое настроение всегда неизбежно тянуло за собой второе».
Насколько проблематична подобная интерпретация Малера, показывает письмо Фрейда Теодору Райку, написанное несколько лет спустя. Это письмо свидетельствует также и о том, что аналитическая беседа в Лейдене оказала положительное воздействие на Малера: «В 1912 или 1913 году (на самом деле это происходило в 1910 году! — прим. автора) я полдня анализировал Малера в Лейдене и, если верить тому, что мне сообщили, очень многое у него исправил. Он посчитал необходимым обратиться ко мне, поскольку его жена в то время была недовольна тем, что его либидо отвратилось от нее. Мы совершили чрезвычайно интересные экскурсы в его жизнь, в которых выяснили обстоятельства его интимной жизни и выявили, в частности, комплекс Марии (материнскую связь); у меня был достойный повод для восхищения гениальной способностью этого человека к пониманию. Но на симптоматический фасад его невроза принуждения свет так и не пролился. У меня создалось впечатление, как будто я пытаюсь прокопать один-единственный глубокий туннель через загадочное сооружение».
Встреча с Фрейдом принесла Малеру большое облегчение и позволила ему вновь начать нормальную супружескую жизнь. Тем большим было недоумение Альмы по поводу метаморфозы, произошедшей с ее мужем, который теперь буквально осыпал ее доказательствами своей любви. Своему возлюбленному она писала об этом так: «Рядом со мной происходит нечто такое, чего я никогда не могла бы вообразить. Я убеждаюсь в том, что бывает столь безграничная любовь, что если я останусь, несмотря на все случившееся, то он будет жить, а мой уход будет означать его смерть». Ясное понимание того, что ее уход убьет Малера, было, по-видимому, той причиной, которая заставила ее окончательно отказаться от этой мысли. Она до конца осталась рядом с ним любящей, заботливой женой и лишь много лет спустя вышла замуж за Гропиуса.
К концу лета, проведенного в Тоблахе, Малер как одержимый набросился на работу. Пометки, сделанные на листах с набросками Десятой симфонии, показывают, с какими угрызениями совести и отчаянием ему приходилось бороться: «Бес путает меня! Меня охватывает безумие, проклятый! Уничтожь меня, чтобы я забыл, что существую», — такая надпись стоит над Вторым скерцо. Эти фразы создают впечатление, что он был близок к тому, чтобы потерять контроль над собой, над ним нависла опасность распада личности и скатывания в психоз. То, что он все же вернулся к действительности и не совершил последнего шага под влиянием стремления к смерти, объясняется, по-видимому, лишь быстрым ухудшением здоровья. Болезнь и беда часто приводят к ремиссии, и это позволило Малеру совершить прорыв из кризиса. 12 сентября 1910 года во время премьеры Восьмой симфонии в Мюнхене Малер вышел на сцену. Друзьям бросились в глаза его физическая слабость, болезненный желтый цвет лица, из-за чего маэстро выглядел бледным и одряхлевшим. К этому добавилось также очередное обострение тонзиллита, из-за которого осуществление этого гигантского музыкального проекта до самого последнего момента находилось под вопросом. В начале сентября он писал: «Представь себе, как только я прибыл в гостиницу (в Мюнхене — прим. автора) вчера утром, мое лихорадочное состояние усилилось (пока я тебе писал), причем настолько резко, что я в ужасе сразу же лег в постель и вызвал врача (все это из-за того, что предстоит на следующей неделе). Когда он меня осмотрел, он обнаружил справа белый (гнойный) налет и сильное покраснение всего горла. Я едва не обезумел от ужаса и немедленно потребовал, чтобы меня укутали и я как следует пропотел. (Смазывать он не захотел, но зато дал мне чудодейственное дезинфицирующее средство, по полтаблетки каждые полчаса, этот препарат применяется в Германии всего лишь год.) Мне пришлось поставить все заведение вверх ногами, и только тогда они нашли шерстяные одеяла и пр. Три часа я пролежал весь в поту, не шевелясь… Вечером снова пришел врач и констатировал некоторое улучшение. Ночь прошла спокойно, сегодня температуры нет, поел с аппетитом. Пришел врач, констатировал значительное улучшение и разрешил мне провести репетицию».
Итак, концерт все же состоялся в запланированный срок. Успех был таким, что на следующий день концерт пришлось повторить, и Альма с гордостью писала: «Малер, этот божественный демон, покорил здесь гигантские толпы». Это событие, безусловно, стало вершиной славы Малера. После концерта он поехал в Вену, где снова прошел обследование по поводу воспаления миндалин. К сожалению, миндалины ему тогда только прижгли, но не удалили оперативным путем — возможно, потому, что Малер отказался от операции из-за повышенной чувствительности к боли.
В ноябре 1910 года Малер в четвертый и последний раз прибыл в Шербур, чтобы снова отправиться в США. В Нью-Йорке его полностью поглотили дела, ожидавшие его в Метрополитен Опера и в Филармоническом оркестре. Однако теперь уже казалось, что Малер не соответствует этим огромным требованиям в той мере, как это было раньше. К тому же в декабре у него вновь случилась легкая ангина, что также отрицательно сказалось на его физических силах. 20 февраля 1911 года у него вновь поднялась температура и сильно заболело горло. Его врач, доктор Джозеф Френкель, обнаружил значительный гнойный налет на миндалинах и предупредил Малера, что в таком состоянии он не должен дирижировать. Однако Малер заявил, что неоднократно дирижировал с высокой температурой и не позволил уговорить себя отказаться от концерта в Карнеги Холл, тем более, что в программу входила премьера произведения Ферруччо Бузони «Колыбельная на могиле моей матери». На следующий день во время репетиции силы вновь оставили его, но вечером все же состоялся концерт под его управлением. Это был последний концерт, на котором Малер выступил в качестве дирижера.
Ему был назначен аспирин, через несколько дней воспаление прошло и казалось также, что и общее его состояние вскоре восстановится. Но уже через несколько дней температура вновь повысилась. Такие приступы повторялись несколько раз и у пациента, постоянно находившегося в постели, начались нарушения системы кровообращения. В последнее время между дирекцией оркестра и Малером возникли конфликты, которые, безусловно, не способствовали улучшению его психического состояния, и, когда поступили известия о его болезни, кое-кто стал поговаривать о том, что дирижер занялся симуляцией. На самом же деле болезнь принимала уже весьма угрожающие очертания: Малеру оставалось жить всего три месяца. Анализ крови, выполненный по предписанию доктора Френкеля, показал наличие стрептококкового сепсиса, который привел к эндокардиту — воспалению внутренней оболочки сердечной сумки вследствие стрептококкового поражения больного клапана. Назначенные в рамках неспецифической противовоспалительной терапии колларголовые клизмы лишь дополнительно ослабили больного и его пришлось кормить с ложечки. В следующие недели Альма металась между надеждой на скорое выздоровление, когда температура снижалась, и отчаянием при очередном приступе лихорадки. Теперь Малер вновь постоянно размышлял о проблеме жизни и смерти, как это уже случилось однажды в 1901 году во время опасного для жизни кровотечения, о чем нам известно из воспоминаний Бруно Вальтера. Эти размышления всегда оказывали тяжелое воздействие на психику Малера. В 1901 году, уже после выздоровления, опыт перенесенной тяжелой болезни так изменил у него ощущение жизни, что на него как бы «снизошло глубокое и торжественное спокойствие», о чем он высказался так: «Да, тогда я кое-чему научился, но об этих вещах говорить не положено». Диагноз порока сердечного клапана в 1907 произвел на него уже совершенно иное воздействие, о чем он писал в письме от 18 июля 1908 года о «паническом страхе», охватившем его: «О том, что происходило и происходит внутри меня, Вы не знаете; это, во всяком случае, не ипохондрический страх смерти, как Вы предположили. О том, что мне когда-нибудь придется умереть, я знал всегда. Я здесь не буду пытаться объяснить или передать нечто, для выражения чего слов вообще не существует, скажу лишь, что я просто и сразу потерял всю ясность и весь покой, которых достиг за всю жизнь». И вот он вновь самым непосредственным образом столкнулся с проблемой смерти, «смерть, к которой он столь часто обращал полет своих мыслей, зримо предстала перед ним». Пришли в действие механизмы вытеснения, и в те дни, когда он чувствовал себя получше, к нему возвращалась твердая уверенность в выздоровлении и он даже бывал склонен к юмору. Однажды в такие минуты он сказал Альме: «Если я откину копыта, ты станешь прекрасной партией — молодая, красивая; за кого же мы выйдем замуж? Но мне лучше, я останусь с тобой». Затем он вновь впадал в глубочайшее отчаяние, его мучил страх смерти, ибо внутренний голос говорил, что он не выживет. Шли дни, Малер слабел от «жуткой пожиравшей его лихорадки». Теперь он мог лишь дотащиться с кровати до дивана, а вскоре уже не был в состоянии встать. Альма, и в это время продолжавшая переписку с Гропиусом, не покидала комнаты больного и самоотверженно ухаживала за смертельно больным мужем. Малер не терпел ни медсестер, ни сиделок, и Альма позвала на помощь свою мать, которая срочно выехала из Вены. Она и дочь сутками, сменяя друг друга, дежурили у постели больного. Но ночную смену Альма не уступила никому. Консилиум, собранный по просьбе доктора Френкеля, принял решение поручить последующее лечение больного видному европейскому коллеге. При этом доктор Френкель также надеялся внушить больному несколько большую надежду на выздоровление, что ему, скорее всего, удалось Приготовления к отъезду были очень недолгими и вскоре Малер в сопровождении тещи, жены и дочери, поддерживаемый доктором Френкелем, с большим трудом добрался до каюты, где врач навсегда распрощался со своим пациентом. Несмотря на приступы лихорадки, перемежавшиеся пониженной температурой и упадком сил, Малер во время перехода через океан ежедневно просил вывести себя на прогулочную палубу. На пароходе находился молодой человек, который охотно предложил воспользоваться его помощью. Имя его было Стефан Цвейг. Смертельно больной Малер произвел на Цвейга очень трогательное впечатление: «Он лежал и был бледен, как умирающий, неподвижно; веки его были прикрыты… Впервые я увидел этого пламенного человека таким слабым. Но я никогда не смогу забыть этот силуэт на фоне серой бесконечности моря и неба, бесконечную грусть и бесконечное величие этого зрелища, которое словно бы звучало подобно изысканной возвышенной музыке».
Из Шербура они сразу же направились в Париж, где Малера осмотрел доктор Андре Шантемесс, бактериолог из Пастеровского института, который направил его в санаторий доктора Дюпре на улице Дюпон. Незамедлительно была назначена сывороточная терапия, которая, однако, не принесла положительных результатов. Приступы озноба сопровождались нарушениями кровообращения, вследствие чего пациенту приходилось делать инъекции камфары. Часы, когда у больного вновь пробуждалась надежда, становились все более редкими. Эти часы сменялись подавленностью отчаяния и депрессивными состояниями, когда он плакал и отдавал распоряжения относительно собственных похорон. Венские газеты сообщили о прибытии Малера в Париж, «Нойе Фрайе Прессе» ежедневно публиковала подробные бюллетени о состоянии его здоровья, а «Иллюстриртес Винер Экстра-блатт» в номере от 28 апреля 1911 года даже поместил на первой странице фотографию, на которой был изображен Малер в парижском санатории. К этому времени в Париж приехала сестра Малера Юсти и Бруно Вальтер также посчитал себя обязанным находиться у постели больного друга.
В мае, после незначительно улучшения, состояние больного начало быстро ухудшаться, и из Триеста был спешно вызван телеграммой профессор Франц Хвостек. Но и он не смог сообщить Альме ничего утешительного и подтвердил вывод коллег о том, что ее муж обречен. Однако профессор несколько успокоил пациента, сказав, что сможет излечить его в Вене и что переезд будет происходить под его личным наблюдением. Вновь у Малера зародилась слабая надежда. Поездка в Вену по железной дороге прошла весьма тревожно — несколько раз пульс больного становился очень слабым, и сопровождающие всерьез опасались, что он умрет здесь же в поезде. Последним земным прибежищем Малера стала специально приготовленная для него палата венского санатория Лёв. Альма писала: «Передо мною лежала обтянутая кожей голова с лихорадочными пятнами на лице и несчастное изможденное тело». Прогрессирующее ослабление сердечной деятельности во все большей степени затрудняло дыхание больного и приходилось прибегать к кислородным подушкам. Начался отек ног, бороться с которым пытались применением радиевых подушек. В печати начиная с 12 мая 1911 года, дня прибытия в Вену, ежедневно публиковались медицинские бюллетени, из которых можно узнать, что состояние Малера быстро и резко ухудшалось. Сознание его затуманилось, начался бред, в котором он выкрикивал имя Моцарта и делал руками дирижерские движения. Наконец, после инъекции морфия, началась агония. В очень ветреную ночь 18 мая 1911 года, вскоре после полуночи, страдания Малера закончились. Как он и опасался, от его Десятой симфонии остался лишь неоконченный фрагмент. Позднее Альма с чистой совестью могла написать: «Его искрения борьба за вечные ценности, его смерть, его лицо, становившееся после смерти все прекраснее — я никогда не смогу этого забыть… По крайней мере, в сердце останутся и будут вызывать чувство вины, те моменты, в которых не вполне и не всегда присутствовала любовь». Имеются свидетельства, согласно которым в первые часы и дни после смерти Малера Альма не проявляла явных признаков страдания и горя по этому поводу. Дело здесь, по-видимому в том, что три месяца отчаянной борьбы за его спасение слишком истощили ее силы врачи даже запретили ей присутствовать на траурных церемониях, и ее вахту в почетном карауле у гроба нес ее отчим, скульптор Карл Молль, который выполнил посмертную маску Малера. Согласно последней воле Малера, после смерти его сердце было проколото и на его похоронах не было музыки и речей. Он был похоронен рядом со своей обожаемой дочерью Путци на Гринцингском кладбище. На могильном камне высечено лишь его имя, ибо при жизни Малер говорил: «Тот, кто будет меня искать, знает, кем я был, а другим незачем это знать».
Медицинское заключение
Новейшие данные заставляют усомниться в том, что Малер в действительности был невротиком, которым его привыкли представлять биографы и психоаналитики нашего времени — ипохондричным, одержимым, эгоцентричным и вообще тяжелым человеком, постоянно разрываемым между юношескими мечтами, сомнениями, комплексами вины и страхами. Это начинается с его мучительного, почти неутолимого дирижерского и композиторского перфекционизма, примером чего может служить небольшой, всего на пять тактов, пассаж в четвертой части Девятой симфонии, к которому он дал 84 инструктивных указания и пометки. Это можно истолковать как проявление синдрома принуждения, но с таким же успехом эти симптомы могут быть интерпретированы как стремление достичь технических пределов музыкального мастерства. И другие признаки якобы существовавшего у Малера тяжелого невроза при критическом медицинском анализе вполне могут получить иное истолкование. Это относится, в частности, к его нескоординированной походке и «дрожи в ноге», которой он постоянно совершал характерные «роющие» движения. Это явление было замечено за ним еще с юности и сопровождало его на протяжении всей жизни. Причиной вполне могла быть малая хорея, перенесенная в детстве. До сих пор ни один исследователь не обратил внимания на то обстоятельство, что Малер в ранней юности страдал малой хореей, или, как ее еще называют «пляской Святого Витта», которая могла быть следствием суставного ревматизма, перенесенного им в детстве, о чем упоминал еще Дитер Кернер. Речь идет о позднем осложнении ревматизма, которое всегда развивается спустя значительное время после ревматического поражения суставов и проявляется в виде нарушения работы центральной нервной системы, точнее в нарушении функции ганглиев ствола головного мозга. Для пляски Святого Витта характерны внезапные, беспорядочные, ненаправленные движения, которые могут принимать форму подергиваний. Эти судорожные сокращения могут захватывать мышцы лица, туловища или конечностей. Пациенты, обычно детского и юношеского возраста, внезапно становятся беспокойными и нервными, строят гримасы, опрокидывают предметы и испытывают трудности при письме. При более тяжелых формах имеют место симптомы мышечной слабости, которая может быть выражена настолько сильно, что пациент утрачивает способность ходить и у окружающих даже возникает впечатление паралича. В пользу такого диагноза говорит свидетельство, согласно которому Густав Малер, будучи ребенком, мог несколько часов неподвижно просидеть на одном месте. Диагноз малой хореи объясняет все это гораздо правдоподобнее, чем следующее психоаналитическое толкование, согласно которому Малер, «будучи ребенком, неспособным двигаться, находился в конфликтной ситуации, в которой любое действие было запрещено и считалось порочным, разрушительным и достойным наказания; единственным выходом из такой ситуации было бегство в оцепенение смерти». Такое толкование выглядит фантастическим и притянутым за уши, и его автора вовсе не удивляет, что «оцепенение дополняется дрожью; все это свидетельствует о несвободе и отчуждении тела».
Обычно с возрастом симптомы пляски Святого Витта полностью исчезают. Однако существует редкая хроническая, так называемая переннирующая, форма малой хореи, которая может продолжаться долгие годы или даже на протяжении всей жизни пациента. Кроме того, известна еще одна форма хореи, возникающая не на почве ревматизма, перенесенного в юности, и спорадически проявляющая себя на протяжении всей жизни больного. Малер еще в детстве и ранней юности страдал от непроизвольных подергиваний конечностей, и если в более поздние годы у него имели место такие симптомы, как странный «тик в правой ноге» и притопывание в состоянии нервного возбуждения, то это объясняется, скорее всего, какой-либо разновидностью хореи, в связи с чем едва ли имеет смысл следовать и дальше за полетом фантазии психоаналитиков, утверждающих, что этот тик «был признаком отождествления с прихрамывавшей матерью».
Мы, естественно, вовсе не собираемся отрицать тот факт, что для Малера, как и для любого другого человека, отношения с родителями играли весьма значительную роль. По его собственным словам, они подходили друг другу, «как огонь и вода», ибо «мой отец был воплощением упрямства, мать же была сама мягкость». Частые ссоры между родителями, грубость отца, должны были вызвать у него детские фантазии, которые выразились, с одной стороны, в подсознательной потребности наказания, и, с другой стороны, к рано проявившейся склонности к сочинительству, в которой сразу же стало заметно стремление к «секретности». Исследователи полагают, что сочинение было у юного Малера неразрывно связано со сложными отношениями между родителями, и оно стало для него средством, с помощью которого он стремился спроецировать вовне свои внутренние конфликты и так справиться с ними. Однако его отношение к родителям не следует понимать так, как будто бы он любил мать с такой же силой, с какой отвергал отца. Скорее всего, его отношение к обоим родителям было в высшей степени неоднозначным.
Вне всякого сомнения, необузданный и склонный к насилию отец должен был в какой-то мере вызывать у него ненависть. Однако после завершения эдиповой фазы развития личности, ненависть к отцу и враждебное соперничество с ним постепенно уступали место стремлению идентифицироваться с ним, как с образцом мужчины. И действительно, инициативность, целеустремленность и необычайный динамизм отца сделали его в глазах сына примером, которому он стремился подражать.
И отношение его к матери отличалось исключительной амбивалентностью. С одной стороны, мать, страдавшая от капризов отца, вызывала у сына настолько безграничную любовь, что он даже пытался отождествить себя со страстно любимым существом. С другой стороны, мать вызывала у него чувство глубокого разочарования, ибо он был свидетелем того, что она оказалась неспособной справиться со своими трудностями и все больше впадала в депрессивное состояние. От матери не исходило чувство уверенности, и это свойство передало неуверенность сыну, вызвав у него закрепление образа «исстрадавшейся» матери, что, наряду со страхом перед разочарованием, оказало решающее негативное воздействие на отношения Малера с женщинами. Когда в 1910 году Малер обратился к Зигмунду Фрейду по поводу семейного кризиса, это обстоятельство позволило последнему даже говорить о «комплексе Марии». По ходу этой консультации Фрейд сказал: «В воспоминаниях детства Ваша мать навсегда осталась печальной, и поэтому, повинуясь повторяющейся тенденции Вашего невроза, Вы подсознательно стремились сделать печальными всех женщин, которые позднее играли какую-либо роль в Вашей жизни, ибо с детства для Вас любовь и депрессия любимой женщины неотделимо связаны друг с другом». Действительно, отношения Малера с женой представляли собой причудливое сочетание обожания и притязаний на господство (кстати, с обеих сторон), и из писем и воспоминаний Альмы нам известно, как часто чувствовала она себя несчастной из-за деспотичного нрава мужа.
Раннее отождествление Малера с «исстрадавшейся матерью» не могло не усилить комплекс вины за детскую агрессию против родителей. Наличие у Малера в юные годы типичных в подобных случаях стремлений к самонаказанию подтверждает ставший известным его ответ на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет — «Мучеником!» — ответил Густав на этот вопрос. Эту роль он с полным убеждением исполнял, будучи дирижером: в полной покорности перед величием музыкальных шедевров, он принимал на себя все усилия и недовольство сопротивляющегося оркестра, добиваясь оптимального исполнения. Человек, возомнивший себя мучеником, попадает в так называемый «садомазохистский цикл», и Малер также далеко не всегда выступал в роли страстотерпца — бывало, что он превращался в тирана. Методы Малера по отношению к оркестрантам граничили с садизмом, а с годами приобрели и вовсе параноидальные черты, что часто ставило под угрозу успех совместной работы. Лишь безоговорочная самоотдача в работе и вынужденная умеренность в удовлетворении нарциссичес-ких желаний, продиктованная жизнью на публике, спасли Малера от развития тех затаившихся зачатков психоза, о которых весьма обоснованно писала Альма: «Все упомянутые здесь эпизоды типа бредовых идей смерти у его сестры, идиотского честолюбия брата Алоиза, который возжелал, прикрывшись романтической маской, покорить Вену и двор; непонятного самоубийства Отто с его комплексом Агасфера — все эти черты вполне можно назвать малеровскими. Это зарницы перед ударом молнии, нечто бесформенное, грозящее принять форму».
Проблема смерти с детства господствовала над мышлением Малера. На самом деле смерть сопутствовала его жизни е самого начала. К четырнадцати годам он успел стать свидетелем смерти не менее чем шести младших братьев и сестер. В наибольшей степени потрясла его смерть любимого брата Эрнста, который был всего на год моложе. Памяти брата он посвятил ныне утраченную раннюю оперу «Эрнст, герцог Швабский», но еще намного раньше, когда ему было всего семь лет, смерть вдохновила его на сочинение «Польки в сопровождении траурного марша». Первая композиция, которую он внес в перечень своих произведений, называлась «Жалобная песня», в которой появляется тема братоубийцы. Совершенно особым образом грустные прощальные воспоминания его детства всплывают в «Песнях о мертвых детях», о которых он позднее говорил: «Мне жаль мир, который услышит эти песни, столь печально их содержание». Постоянное присутствие смерти пронизывает также программы его симфоний, последняя из которых поистине пытается представить смерть средствами музыки и, скорее всего, является прощанием с жизнью. И в письменных высказываниях Малера постоянно звучит жажда смерти, например: «Горячо любимая земля, когда же, когда ты примешь покинутого в свое лоно… О, вечная мать, прими одинокого, лишившегося покоя». Эта тоска по вечному покою наиболее настойчиво проявлялась у Малера в те периоды, когда он находился в состоянии наибольшего внутреннего беспокойства. В 1907 году Малера настигли сразу три страшных удара судьбы: отставка с поста директора Императорского оперного театра якобы «по собственному желанию», а на самом деле в результате интриг и антисемитских выпадов, смерть любимой дочери и совершенно неожиданное сообщение врача о тяжелом пороке сердечного клапана. Эти события вызвали у него патологическую «тягу к смерти». Возникшее в результате столь тяжелых переживаний невероятное душевное напряжение Малер попытался снять «бегством в работу», не задумываясь над тем, что такой, поистине патологический образ жизни, ориентированный на достижение высших результатов любой ценой, означает, в конечном счете, саморазрушение. Этот процесс достиг своего абсолютного пика в 1910 году, когда в результате «оплошности» архитектора Гропиуса на Малера как гром среди ясного неба свалилось известие о том, что он может навсегда потерять любимую жену, и притом, не в последнюю очередь, по собственной вине. Он попытался искупить непростительное пренебрежение женой и тираническую опеку над ней, оказывая ей знаки чрезмерной симпатии и демонстрацией чуть ли не мазохистской покорности ее власти Но даже такая гиперкомпенсация допущенной ранее несправедливости не смогла избавить его от слишком глубоко укоренившейся неуверенности в себе и мучительного комплекса вины. Даже сеанс психоанализа, проведенный самим Зигмундом Фрейдом, несмотря на несомненные положительные результаты, за что Малер был чрезвычайно благодарен Фрейду, не принес решающего успеха — слишком ярким свидетельством тому являются признания вины и крики о помощи в набросках Десятой симфонии, сделанные даже не на полях рукописи, а как бы вросшие прямо в нотную ткань и прерывающие дальнейшее развитие симфонической идеи. И в более ранних произведениях Малер предпочитал обращаться к темам вечности и воскресения — достаточно упомянуть здесь Вторую симфонию или траурные марши в Первой и Пятой симфониях.
Эти темы были напрямую связаны с постоянными мыслями Малера о смерти и потустороннем мире. Создается впечатление, что он стремился к непосредственной конфронтации со смертью для того, чтобы вытеснить мысли о ней из своего сознания. В Девятой и Десятой симфониях, а также в «Песни о земле», чувствуется уже реальная близость смерти — и музыкальная окраска, и стиль этих произведений иные.
В литературном наследии известного психоаналитика Теодора Райка есть рукопись под названием «Малер перед концом», которую сын Райка перевел на английский язык. Николас Кристи сделал ее достоянием общественности в докладе, который он прочитал в 1970 году перед нью-йоркскими врачами. Вот как описывает Райк Малера в конце его жизни: «Поздний Малер был самым истинным, он был самим собой… Никаких заигрываний с немецкими народными песнями, никаких театрализованных оперных зрелищ, ноль внимания произведенному воздействию и впечатлению у публики. Ни одного взгляда на галерку или в оркестр. Он смотрит только вперед, он хочет видеть, что его ждет, что приближается, что уже почти произошло: конец, ужас конца, о котором он так много думал и которого все же совершенно не может себе представить, смерть… Мысли о смерти часто занимали его, иногда очень серьезно, а иногда он подшучивал над ними… Теперь это уже давно не idée fixe со всеми ее сомнениями и самокопанием, теперь существует полная ясность, теперь, когда смерть уже стоит у ворот… Смерть уже не загадка, какой всегда была раньше… Теперь уже не помогут ни философия, ни медитация, ни метафизика… Теперь это уже не предмет «последних вопросов», теперь это уничтожение его самого. Теперь неважно, осознаешь ли ты любовь к людям вообще, теперь нужно понять собственное существование как человека, свое изначальное участие в человеческом бытии, до того как сам перестанешь быть человеческим существом и превратишься в безжизненную материю… Его письма и высказывания, но прежде всего его музыка позволяют точно проследить, как менялось его отношение к приближавшемуся концу, как он менялся сам, как он отбрасывал все, что казалось ему чуждым. Едва он увидел перед собой конец во всей его неприкрытости, не осталось ни сентиментальности, ни фальшивых чувств, ни фальшивых звуков… Перед нами человек, покоряющий высочайшую из вершин в тот момент, когда он погибает и осознает… как он мал. Теперь, когда он уже раздавлен судьбой, он становится господином над самим собой. Благословляя землю и думая о том, следует ли ему проклясть свою профессию художника, он достигает наивысшего величия именно как художник. Там, где другие погибают, он находит путь к самому себе, там, где другие идут ко дну, он устремляется ввысь к недосягаемым вершинам».
Физически Малер на протяжении всей жизни страдал от двух заболеваний — геморроя, потребовавшего как минимум трех операций и вызвавшего в 1901 году опасное кровотечение, а также мигреноидной головной боли, которая нередко доставляла ему серьезное беспокойство. В медицинских учебниках приводятся классические черты характера, присущие пациентам, страдающим мигренью, и эти черты были свойственны Малеру: боязливость, любовь к порядку, самодисциплина, строгость, необычайная целеустремленность, перфекционизм. Если добавить к этому невероятные перегрузки, связанные с профессиональной деятельностью, и необычайно продуктивное композиторское творчество, то количество факторов, способствующих мигрени, окажется более чем достаточным. Если не считать этих двух недугов, то можно смело сказать, что до сорока шести лет Малер был на редкость здоровым человеком, с удовольствием занимался спортом, будь то пеший туризм., альпинизм, плавание или езда на велосипеде, и поэтому не может быть речи о «слабом телосложении», которое ему снова и снова приписывают биографы.
Тем более поразило его заявление, прозвучавшее в 1907 году из уст доктора Блюменталя, совершенно не обладавшего необходимыми для его профессии качествами психолога, о том, что Малер страдают «хроническим двусторонним пороком сердечного клапана». Малер немедленно отправился в Вену, где более тщательное исследование сердца подтвердило этот диагноз, но при этом заключения двух различных врачей весьма отличались друг от друга. 30 сентября 1907 года Малер написал жене, что доктор Хамперль «обнаружил незначительный, полностью компенсированный порок сердечного клапана. Он не видит в этом ничего серьезного и сказал мне, что я могу выполнять свою работу так же, как и раньше, и вообще вести нормальный образ жизни, следует лишь избегать перегрузок». Результат исследования у доктора Фридриха Ковача был совершенно иным, о чем пишет Альма в биографии Малера: «Он подтвердил диагноз… и запретил ему преодолевать подъемы, ездить на велосипеде и плавать. Он был настолько безграмотен, что дал даже точное указание о том, как упражняться в ходьбе: сначала пять минут, потом десять и так далее, пока не будет достигнут нужный уровень тренированности — и это было адресовано человеку, привыкшему к большим физическим нагрузкам! И Малер сделал все, что ему приказали. Ему пришлось учиться ходить с часами в руке». Далее там же: «Малер был так потрясен врачебным приговором, вынесенным его сердцу, что этой зимой большую часть дня проводил в постели, вставая лишь для тога, чтобы отправиться в театр на репетицию или на представление оперы, которой должен был дирижировать». По-видимому, несчастная рекомендация доктора Ковача послужила причиной того, что интересы Малера в это время целиком сконцентрировались на больном сердце. «С тех пор, как мы узнали, что у него порок сердечного клапана, мы начали опасаться всего на свете. На прогулке он каждую минуту останавливался и щупал пульс. Часто он просил меня… послушать его сердце н убедиться в том, что сердце работает нормально, ускоренно или замедленно… Он носил в кармане шагомер, считал шаги и удары пульса, его жизнь превратилась в пытку». Эта драматическая картина, нарисованная Альмой Малер, не вполне согласуется с напряженной дирижерской и композиторской работой, выполненной им в период 1908–1911 годов. Он не только завершил Девятую симфонию и «Песнь о земле», наброски пяти частей Десятой симфонии, переработал Четвертую и Пятую симфонии, но и продирижировал только в Америке не менее чем 94 концертами. Конечно же, такой объем работы создавал для него предельные нагрузки, и по Нью-Йорку ходили слухи о том, что после некоторых репетиций и представлений его приходилось доставлять в отель, «как инвалида». Черты его лица также несли на себе следы перегрузок, о чем свидетельствуют фотографии последних лет, из-за чего он даже получил прозвище «Страшилище Малер».
Мы не располагаем прямыми медицинскими указаниями на то, какого рода порок сердечного клапана был у Малера. Диагноз говорит лишь о «двустороннем врожденном, хотя и компенсированном, пороке клапана», издающего «шипящий звук, обнаруженный коллегами ‘при втором ударе’». По этим неопределенным данным можно предположить, что, вероятно, речь шла о так называемом комбинированном пороке клапанов, который касался как митрального, так и аортального клапанов. Такой порок может чрезвычайно долго протекать бессимптомно. Известно, что Малер, занимаясь спортом, проявлял значительную выносливость, что позволяет выдвинуть клиническую гипотезу о том, что имел место в основном порок аортального клапана, то есть в месте перехода от левого желудочка к аорте. Если такой порок существует в течение длительного времени, то вследствие перегрузки левого желудочка последний расширяется, что ведет также к поражению митрального клапана, то есть обоих клапанов, расположенных между левым предсердием и левым желудочком сердца, в результате чего возникает комбинированный порок сердечных клапанов. Такой порок может возникнуть также в результате одновременного заболевания аортального и митрального клапанов.
Из истории болезни Малера следует, что он еще ребенком часто страдал от инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, а в юности перенес ревматическое воспаление суставов и малую хорею, или пляску Святого Витта. Все эти болезни — следствие ревматизма, воспалительного заболевания, которое является поздним осложнением инфекций верхних дыхательных путей, вызванных стрептококками группы «А». Ревматизм проявляется поражением суставов в форме так называемого полиартрита или центральной нервной системы, например в форме пляски Святого Витта, но возможно также характерное для этого заболевания поражение сердца с весьма опасными последствиями для пациентов, которыми в основном являются дети и юноши в возрасте от пяти до пятнадцати лет. При этом могут быть поражены все области сердца, но наиболее тяжелые и, главное, необратимые последствия имеет эндокардит — воспаление внутренних оболочек сердечной сумки в области систем клапанов. Воспалительные изменения могут повлечь за собой сужение и даже не-смыкание клапанов. При этом поражаются преимущественно митральный и аортальный клапаны. Поражение аортального клапана может десятилетиями протекать клинически бессимптомно, и все данные говорят о том, что у Малера имело место именно такое постэндокардитное заболевание аортального клапана, которое, возможно, захватило и митральный клапан.
Болезнь, ставшая причиной смерти Малера, началась в феврале 1911 года повышением температуры, которое врач отнес на счет тонзиллита. Когда же лихорадочное состояние, сопровождавшееся ночным потоотделением, приобрело форму нерегулярно повторяющихся приступов и общее состояние пациента угрожающе ухудшилось, нью-йоркский врач, доктор Френкель, предположил инфекционный эндокардит и, зная о наличии у Малера порока сердечных клапанов, препоручил своего пациента заботам доктора Эмануэля Либмана, ученика известного профессора сэра Уильяма Ослера из больницы Джона Гопкинса. В то время доктор Либман считался наилучшим специалистом в данной области. С самого начала Либман клинически подтвердил диагноз ревматического порока сердечного клапана, а с учетом таких симптомов, как увеличенная на ощупь селезенка, характерные мелкие красные повреждения конъюнктивы глаз и кожи, подтвердил также и диагноз своего коллеги доктора Френкеля. Оставалось лишь произвести бактериологическое исследование крови. Для этого хирург, доктор Джордж Бэр, не без некоторых трудностей взял у пациента необходимое количество крови. В 1911 году доктор Бэр работал ассистентом в лаборатории Либмана в Институте патологии и бактериологии больницы Маунт Синай в Нью-Йорке. Он написал подробный отчет об этом случае из своей практики, который мы приводим ниже.
«В феврале 1911 года доктор Эмануэль Либман был приглашен личным врачом Малера, доктором Френкелем, для обследования его знаменитого пациента. Судя по всему, доктор Френкель полагал, что устойчивое лихорадочное состояние, в котором пребывал Малер, и упадок физических сил вызваны подострым бактериальным эндокардитом, в связи с чем он и пригласил Либмана для консультации. В то время Либман считался бесспорным авторитетом по этому заболеванию. На момент консультации Малер занимал апартаменты в отеле «Плаза» на углу Пятой авеню и 59-й улицы с видом на Сентрал Парк. Либман клинически подтвердил диагноз, признав сильный систоло-пресистолический шум над областью сердца характерным для хронического ревматического заболевания митрального клапана, и обнаружил анамнез, характеризующийся устойчивой субфебрильной температурой, а также выявил увеличение селезенки, типичные петехии конъюнктивы и кожи и слабо выраженные барабанные пальцы. С целью бактериологического подтверждения диагноза доктор Либман по телефону вызвал меня в отель, попросив захватить приборы и материалы, необходимые для бактериологического исследования крови… Прибыв в отель, я с помощью шприца и иглы произвел забор из руки пациента двадцати кубических сантиметров крови, часть которой ввел в сосуды с различными бульонами, а оставшуюся часть смешал с жидким агар-агаром и полученную смесь затем разлил в стерильные чашки Петри. По истечении инкубационного периода продолжительностью 4–5 дней в чашках Петри были обнаружены многочисленные колонии бактерий, а во всех сосудах с бульонами — чистая культура микроорганизма, который в дальнейшем был классифицирован как Streptococcus viridans. Поскольку эти события происходили задолго до начала эры антибиотиков, подобное бактериологическое заключение было равнозначно смертному приговору Малеру. Он потребовал сообщить ему всю правду и выразил настоятельное желание умереть в Вене. В соответствии с этим Малер и его жена вскоре выехали в Париж, где диагноз и прогноз подтвердились повторно, после чего они продолжили свой путь в Вену».
В Париже известный бактериолог, сотрудник Пастеровского института Андре Шантемесс по результатам повторного исследования крови подтвердил по всем пунктам диагноз, поставленный доктором Либманом. Однако он известил Альму Малер о результатах исследования столь бестактно и бессердечно, что этот случай можно считать примером того, как не должен поступать медик — этот французский бактериолог, возможно, был неплохим научным работником, но его никак невозможно считать врачом: «Ну вот, госпожа Малер, Вы сами можете убедиться — даже я никогда не видел, чтобы стрептококки так сказочно расплодились! Посмотрите на эти нити, это же морские канаты!». От этой демонстрации достижений науки Альма потеряла дар речи.
Диагноз Endocarditis lenta, то есть подострый инфекционный эндокардит, и сегодня, в эпоху антибиотиков, представляет собой чрезвычайно опасное заболевание, но все же более 70 процентов таких пациентов удается спасти. Однако во времена Малера, когда возможны были только симптоматические мероприятия для облегчения страданий и в арсенале врачей были лишь средства для укрепления сердечной деятельности, переливание крови и, в лучшем случае, попытки противострептококковой вакцинации, эта болезнь давала стопроцентную летальность. Зеленящие стрептококки, дающие такую клиническую картину, локализуются преимущественно в ранее пораженных сердечных клапанах, где их колонии и выделения воспаленной ткани образуют отложения, так называемые вегетации, которые могут повлечь за собой разрушение сердечных клапанов. Если этот разрушительный процесс прогрессирует, то функция пораженных сердечных клапанов в значительной мере нарушается. Результатом может явиться острый застой в легких и отек легких, приводящий к смерти пациента. Вегетации могут быть оторваны током крови, что ведет к эмболии некоторых сосудов. Чаще всего происходит эмболия сосудов кожи, артерий пальцев рук и ног, почек и головного мозга. Последствиями являются барабанные пальцы или отмирание периферийных частей конечностей, почечная недостаточность или инсульт с параличом.
Смертельная болезнь Малера продолжалась почти четыре месяца. Последние дни своей жизни он, истощенный до состояния скелета, в бреду, провел в венском санатории Лёв под наблюдением профессора Хвостека. 18 мая, после многочасовой комы, его не стало. В своих воспоминаниях Альма так описывает его последние часы: «Он лежал и стонал. Вокруг колен, а потом и на ногах образовался сильный отек. Применили радий, и отек сразу исчез. Вечером его вымыли и привели в порядок постель. Два служителя подняли его нагое изможденное тело. Это было похоже на снятие с креста. Эта мысль пришла в голову всем нам. Он сильно задыхался, и ему дали кислород. Потом уремия — и конец. Вызвали Хвостека. Малер лежал с отсутствующим взглядом; одним пальцем он дирижировал на одеяле. Губы его улыбались, и он дважды сказал: «Моцарт»! Глаза его казались очень большими. Я попросила Хвостека дать ему большую дозу морфия, чтобы он ничего уже больше не чувствовал. Хвостек ответил мне громким голосом. Я схватила его за руки: «Говорите тише, он же мог Вас слышать». «Он уже ничего не слышит». Как ужасна безучастность врачей в такие минуты. И откуда Хвостек знал, что он ничего не слышит? Может быть, он просто не мог двигаться? Началась агония. Меня отправили в соседнюю комнату. Предсмертный хрип слышался еще несколько часов.
Вдруг около полуночи 18 мая, во время ужасного урагана, эти жуткие звуки прекратились. Вместе с последним вздохом отлетела его любимая и прекрасная душа, и в этой тишине было больше смерти, чем во всем остальном. Пока он дышал, он еще был здесь. Но теперь все было кончено».
На основании этих строк можно предположить, что собственно причиной смерти стал отек легких, сопровождавшийся воспалением легких и почечной недостаточностью, а смерть наступила в состоянии комы. Предсмертный отек коленного сустава был вызван, по-видимому, артритом, поскольку в ином случае применение радия не привело бы к быстрому исчезновению отека. Причиной слабости в последние недели жизни была, по всей видимости, значительная анемия. В свидетельстве о смерти в качестве ее причины указан эндокардит. Вскрытие не проводилось.
В течение всей своей жизни Малер думал о смерти. Его мысли постоянно вращались вокруг тем смерти и потустороннего мира, и поэтому он прошел в своих мыслях и сочинениях все ступени этой проблематики — от предчувствия смерти через страх перед смертью и вплоть до уверенности в смерти. Для Малера смерть ни в коем случае не означала конца человека, ибо при всей своей христианской вере он полностью проникся учением о вечном возвращении. По этой причине в последние годы он заботился о будущей жизни не только в потустороннем, но и в нашем мире. Малер разделял взгляды Гете на жизнь и бессмертие, и учение о возвращении занимало ведущее место в мире его верований. Он говорил: «Мы все вернемся, весь смысл жизни — в этой определенности, и совершенно безразлично, будем ли мы помнить на следующей стадии возвращения о предыдущей его стадии, ибо дело не в индивидууме и не в воспоминаниях и чувстве удовольствия этого индивидуума, но в великом движении к совершенству — к очищению, которое с каждым новым воплощением все более приближается к идеалу. Поэтому я должен жить по этическим законам, для того, чтобы сегодня хоть ненамного сократить тот путь, который придется пройти моему «я», когда оно вернется, чтобы сделать его жизнь легче. В этом мой моральный долг». Такая уверенность в посмертном земном будущем и убежденность в том, что его музыка уже в этой его жизни есть «предвидение будущего», позволяет понять, почему Малер порой столь индифферентно реагировал на безграмотную или разгромную критику и объяснял это такими словами: «Мое время еще впереди — у меня масса времени, я могу подождать, живой или мертвый, это все равно».
В Девятой и неоконченной Десятой симфониях, а также в «Песни о земле» Малер попытался отобразить свое прошлое, в котором было немало разочарований и ударов судьбы. Этим он совершил своего рода траурный обряд, и тем самым ему, может быть, удалось постепенно отрешиться от былого, превратив это невозвратное былое в часть своего «Я». В этом прощальном траурном обряде он сумел вновь явить миру неповторимую красоту — в заключительной части «Песни о земле» он с болью оглядывается на свою жизнь, и в момент прощания под столь же скромную, сколь и трогательную музыку, звучат такие слова:
«О, друг мой, в этом мире мне счастье не было дано».ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕЧАЩИХ ВРАЧАХ
К главе «Фредерик Шопен»
Доктор Жан Гастон Мари Бляш (1799–1871)
Работал ассистентом в детском отделении парижской больницы Кошен, в 1822 году получил премию медицинского факультета Лионского университета за работу о коклюше. В 1824 году опубликовал «Исследование некоторых выделений слизистой оболочки рта». Через несколько лет совместно с Герсаном издал «Руководство по детским болезням».
Доктор Франсуа Жозеф Виктор Бруссе (1722–1838)
Основоположник «физиологической медицины» был сыном врача, погибшего в бурном море французской революции. Вначале он был солдатом, затем стал врачом на военном корабле. Бруссе обладал блестящим интеллектом и даром оратора. Работал в Париже главным врачом военного госпиталя, в 1831 году стал профессором общей патологии Парижского университета.
Учение Бруссе связано, с одной стороны, с броунианизмом, с другой стороны основано на теориях Корвизара и Леннека. Во времена Бруссе в центре дискуссий было понятие «исходной лихорадки». В Париже весьма частыми были случаи тифозной лихорадки, при которых патологоанатомические исследования выявляли, как правило, наличие воспалительных и язвенных процессов. На этом основании Бруссе сделал вывод о том, что «гастроэнтерит» является источником возникновения не только заболеваний кишечного тракта, но и всех прочих заболеваний. Исходя из этой теории, он во всех случаях пытался лечить вездесущий «гастроэнтерит» при помощи диеты, теплых припарок и, прежде всего, невероятных количеств пиявок. Это учение, известное также под названием «бруссеизма», завоевало немалую популярность среди врачей, не в последнюю очередь благодаря красноречию и литературным способностям ее автора. С другой стороны, у нее было также немало противников, которые, кстати, с цифрами в руках доказывали, что в отделении больницы Валь де Грас, возглавляемом Бруссе, смертность была выше, чем в других ее отделениях.
В последние годы жизни Бруссе увлекся френологией. Он написал немало медицинских трудов, одним из важнейших среди которых является вышедшее в 1821 году «Исследование медицинских учений и систем диагностики».
Доктор А. Л. Ф. К. Ковьер (1780–1870)
Родился в Марселе, учился в Париже, где в 1803 году получил степень доктора медицины. В дальнейшем работал в Марселе, где был профессором и директором Медицинского училища. Имел репутацию хорошего клинициста, был популярным врачом в своем городе. Написал ряд научных трудов, из которых заслуживает упоминания «Отчет о работе медицинской комиссии, направленной в Париж», опубликованный в 1832 году.
Доктор сэр Джеймс К. Кларк (1788–1870)
Учился в Абердине и Эдинбурге, где в 1809 году стал членом Коллегии хирургов. С 1815 года служил врачом британского военно-морского флота. После службы продолжил учебу в Эдинбурге, где в 1817 году получил степень доктора медицины. Начиная с 1818 года основной областью его профессиональных интересов была чахотка и благотворное влияние мягкого климата на ее течение. Кларк обосновался в Риме и в 1820 году обобщил свой опыт в труде, озаглавленном «Медицинские заметки о климате, болезнях, больницах и медицинских учебных заведениях Франции, Италии и Швейцарии». В Риме доктор Кларк познакомился с принцем Леопольдом Кобургским, впоследствии королем Бельгии, который назначил его своим лейб-медиком. В 1826 году доктор Кларк перебрался в Лондон, где в 1829 году опубликовал свой самый известный труд «Влияние климата на профилактику и лечение хронических заболеваний, в частности заболеваний органов грудной клетки и органов пищеварения». Этот труд, а также опубликованное в 1835 году исследование туберкулеза и скрофулеза способствовали значительному росту его авторитета в английском обществе, что выразилось в его назначении первым лейб-медиком королевы Виктории и присвоении ему в 1837 году титула баронета. Свое немалое влияние при дворе он использовал, в частности, для того, чтобы открыть медицинское отделение при Лондонском университете. Королева предоставила в его пожизненное владение очаровательное имение Бэгшот-Парк, где он и завершил свою жизнь, окруженный всяческими почестями.
Доктор Жан К. Крювейе (1791–1874)
Родился в Лиможе. Отец его был врачом французской республиканской армии, в основном находился в походах, и воспитанием мальчика занималась преимущественно мать, чем, по-видимому, объясняется его глубокая религиозность. Мальчик мечтал стать священником, и лишь энергичный приказ отца заставил его вступить на медицинскую стезю. Но после первых вскрытий на медицинском факультете Парижского университета его охватило такое отвращение, что он все же последовал своей юношеской мечте и поступил в Семинарию св. Сульпиция. Однако вновь вмешался отец, и Жан все же получил в 1816 году звание доктора медицины. Следуя своему учителю Дюпюитрену, Крювейе в своей диссертационной работе взял за основу классификации не органы, а патологические изменения. Работая практическим врачом, он в 1823 году подал работу в жюри конкурса на занятие должности экстраординарного профессора, получил первую премию и должность профессора хирургической клиники в Монпелье. Еще через два года прочитал свою первую лекцию в должности профессора описательной анатомии Парижского университета. Когда в 1836 году при Парижском университете была создана самостоятельная кафедра патологической анатомии, он был назначен ее заведующим. В этой должности Крювейе проработал 30 лет.
С 1830 года Крювейе работал главным врачом и директором больницы Оспис де ля матерните («Приют материнства»), позднее главным врачом больниц Сальпетриер и Шарите. Он был весьма модным доктором и, в частности, исполнял обязанности семейного врача Талейрана. Основными его литературными трудами являются «Патологическая анатомия человеческого тела» — богатейшее по содержанию, графически блестяще оформленное руководство, изданное в период с 1830 по 1842 год и ставшее классикой патологической анатомии, «Руководство по общей патологической анатомии» в пяти томах, изданное в период 1849 по 1864 год. Крювейе сопровождал свои патологоанатомические заключения, в том числе и приведенные в этих руководствах, историями болезни, в связи с чем его справедливо сравнивали с Морганьи, чей трехтомный труд «О местах и причинах возникновения болезней», изданный в 1770 году, заложил основы патологической анатомии.
Доктор Рене Теофиль Ясент Леннек (1781–1826)
Родился в Бретани, учился в Нанте под руководством дяди, в 1800 году поступил в Парижское медицинское училище, где в 1804 году получил звание доктора медицины, защитив диссертацию на тему «Предложение о медицинском учении Гиппократа в свете практической медицины», в которой уже видится всесторонняя образованность и особый взгляд на всеобщие свойства, присущие всем заболеваниям. В 1812 году Леннек получил место врача в больнице Божон. Начиная с этого времени, он опубликовал ряд очень важных научных трудов по различным разделам патологической анатомии. Поработав врачом в больнице Неккера и Сальпетриер, он в 1823 году получил должность профессора Медицинской клиники Шарите и был избран действительным членом Королевской медицинской академии. В 1820 году у Леннека проявились первые признаки туберкулеза, в связи с чем он был вынужден неоднократно прерывать свою преподавательскую деятельность. В 1826 году, в возрасте всего лишь 45 лет он умер от этой коварной болезни.
Своей славой он обязан в первую очередь изобретению стетоскопа, что позволило ему провести у пациентов, страдающих заболеваниями сердца и легких, ряд наблюдений, обобщенных в бессмертном труде «О косвенной аускультации, или трактат о диагностике заболеваний легких и сердца, основанной на новом методе исследования». Этот двухтомный революционный труд был издан в Париже в 1819 году, через пять лет после того, как Леннек впервые продемонстрировал опыты со стетоскопом на заседании Медицинского общества. Вместе с австрийским врачом Ауэнбруггером, открывшим метод перкуссии, Леннек заложил основу физических методов диагностики заболеваний. В 1868 г. в Кемпере (Бретань), родном городе доктора Леннека, был открыт памятник, которым земляки почтили заслуги этого великого врача.
Доктор Пьер Шарль Александр Луи (1787–1872)
Этот известный французский клиницист родился в Шампани, звание доктора медицины получил в Париже. Работая врачом в больнице Шарите, сделал большое количество весьма точных клинических и патологоанатомических наблюдений, в том числе по результатам более чем пяти тысяч вскрытий, которые легли в основу его блестящих научных работ. В 1825 году в Париже была опубликована его книга «Анатомические, патологические терапевтические исследования чахотки». Этот труд, а также опубликованные спустя четыре года сравнительные исследования клиники наиболее распространенных острых заболеваний не только вызвали интерес широких медицинских кругов, но и нанесли смертельный удар «физиологической медицине» Бруссе.
В 1826 году доктор Луи стал членом Медицинской академии. Одновременно он работал практическим врачом в парижских больницах де ля Питье и Отель Дье. Его публичные выступления собирали массы слушателей. Ему не составило большого труда сделать группу молодых людей сторонниками своего «численного метода», то есть медицинской статистики, данные которой позволили ему успешно противостоять разнообразным околомедицинским спекуляциям. Будучи сторонником проведения клинических исследований на основе статистических данных, он выступил также и в роли реформатора практической медицины и стал основоположником школы, давшей Франции целый ряд выдающихся клиницистов. Смерть сына в 1854 года сломила его. Он сложил с себя все обязанности, но до конца своих дней всегда по первому зову приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.
Доктор Гюстав Папе
Сельский практикующий врач, состоявший в дружеских отношениях с семьей Жорж Санд.
Доктор Ярослав Глава (1835–1924)
Родился в Чехии, в городе Нижни Краловец, учился в Праге, где в 1879 году получил звание доктора медицины. Завершив образование во Франции и Германии, в 1883 году получил должность приват-доцента Пражского патологоанатомического института. В 1887 году доктор Глава стал заведующим кафедры этого института.
Предметом научных интересов профессора Главы была преимущественно этиология инфекционных заболеваний, а также смежные бактериологические и эпидемиологические проблемы. Особый его интерес вызывала проблема рака. Достиг значительных успехов как педагог и стал основателем научной школы.
Доктор Адам Политцер (1835–1920)
Родился в Альберти, Венгрия. Учился в Венском университете, был учеником Скоды, Рокитанского и Оппольцера, звание доктора медицины получил в 1859 году. Продолжил образование в различных зарубежных клиниках под руководством Клода Бернара, Карла Людвига, Тойнби и Трельча и в 1861 году стал первым в Вене доцентом, а затем, в 1870 году экстраординарным профессором по специальности отология. В 1873 году принимает на себя руководство Венской общей больницей, с 1895 года — ординарный профессор.
Предметом научной деятельности профессора Политцера была в основном анатомия и физиология уха и терапия слухового прохода. Он разработал специальные методы лечения нагноений среднего уха и ввел в практику метод вдувания воздуха в барабанную полость. Особую известность получил написанный им «Учебник терапии заболеваний уха». Профессор Политцер положил начало коллекции анатомических препаратов органов слуха, равной которой нет ни в одной клинике мира. Его учениками были Генрих Нейман и Густав Александер.
Доктор Фридрих фон Трельч (1829–1890)
Родился в Швабахе под Нюрнбергом, в 1847 году начал изучать право в Эрлангенском университете, в 1848 перевелся на естественный факультет Мюнхенского университета, с 1849 по 1853 год изучал медицину в Вюрцбургском университете, где защитил диссертацию на тему «К исследованию причин сложных переломов костей», после чего изучал офтальмологию в Берлине и Праге. После пребывания в Дублине, Лондоне и Париже возвратился в Вюрцбург, где открыл общую практику и интенсивно занялся исследованиями органов слуха. В 1860 году он становится доцентом, а в 1864 году — экстраординарным профессором отоларингологии.
Наиболее известной его работой является руководство «Лечение болезней уха», которая первоначально вышла в Вюрцбурге под названием «Болезни уха, их распознавание и лечение», а затем была переведена на английский, французский, голландский и итальянский языки. В 1864 году доктор фон Трельч основал Архив лечения болезней уха, который он возглавлял до 1890 года. Основной его заслугой является разработка различных методов исследования, в основе которых лежали прежде всего усовершенствования освещения барабанной перепонки и наружного уха искусственным и естественным светом.
Доктор Эмануэль Цауфаль (1837–1910)
Родился в Пушвице, в части Чехии, населенной в то время преимущественно немцами, учился в венском Иозефинуме, в 1869 году занял должность доцента, а в 1873 —профессора Пражского университета по специальности болезней уха. Одновременно ему была поручена организация государственной отологической клиники. Основной темой его научных публикаций были болезни уха и носа. Его бактериологические исследования помогли выявить важнейших возбудителей острых воспалений среднего уха. Доктор Цауфаль создал собственный метод радикальной оперативной расчистки камер среднего уха, позволивший предотвращать летальный исход при септическом тромбозе синуса. И, наконец, в его клинике проводились крупные оперативные вмешательства по поводу абсцессов мозга.
К главе «Петр Ильич Чайковский»
Доктор Теофиль д’Аршамбо (1806–1863)
Родился в Туре, звание доктора медицины получил в 1829 году в Париже. С 1840 года работал врачом в отделении для душевнобольных больницы Бисетр. В 1842 году назначен руководителем приюта для душевнобольных в Марвей под Нанси и за несколько лет превратил это заведение в образцовое. В 1850 году отозван в Париж, где стал главным врачом мужского отделения больницы для душевнобольных Шарантон под Парижем.
Огромная заслуга доктора д’Аршамбо состоит в том, что он много сделал для реального облегчения страшной участи душевнобольных, например путем решительной ликвидации «Кварталов для нечистых».
Доктор Балинский
Модный петербургский психиатр.
Доктор Лев Бернардович Бертензон (1850–1929)
Известный петербургский врач, среди пациентов которого преобладала местная аристократия. Благодаря своей безупречной репутации был назначен лейб-медиком императора.
Доктор Василий Бернардович Бертензон (1853–1933)
На протяжении многих лет был доверенным врачом и другом Чайковского. Его пациенты также относились в основном к высшему обществу Санкт-Петербурга. С первого дня смертельной болезни Чайковского возглавил его лечение и дежурил у постели больного попеременно с доктором Николаем Мамоновым и доктором Александром Сандерсом. Доктор Василий Бертензон также организовал консилиум с участием своего брата.
К главе «Густав Малер»
Доктор Георг Бэр
Заведующий терапевтическим отделением больницы Маунт Синай в Нью-Йорке. Начиная с 1911 года ассистент в лаборатории патологии и бактериологии доктора Эмануэля Либмана.
Доктор Андре Шантемесс
Бактериолог, работал в Пастеровском институте в Париже. Лечил Малера во время его короткого пребывания в Париже и провел бактериологическое исследование, которое выявило в крови пациента зеленящий стрептококк, что подтвердило диагноз доктора Либмана.
Доктор Франц Хвостек мл. (1864–1944)
Родился в Вене, звание доктора медицины получил в 1888 году, в 1895 году получил звание доцента по специальности «Терапия». В 1897 году назначен экстраординарным профессором, с 1912 года в должности ординарного профессора возглавил IV медицинскую клинику. Темой его научных интересов были в основном органы внутренней секреции, и прежде всего щитовидная железа, которой посвящена его монография «Базедова болезнь и гипертиреозы». При этом первые его научные работы были посвящены нейропсихиатрии, и лишь под влиянием своих учителей Калера и прежде всего Нойсера он окончательно переключился на терапию. У Хвостека была репутация прекрасного педагога и выдающегося диагноста, который, не прибегая к техническим средствам, а используя лишь блестящее искусство анамнеза и терапевтического обследования, достигал потрясающих и убедительных результатов. Большое значение имели его работы, посвященные патогенезу цирроза печени.
Доктор Зигмунд Фрейд (1856–1939)
Родился во Фрайберге в Моравии, учился в Вене с 1873 по 1881 год, уделяя при этом больше внимания исследовательской работе, нежели учебе. С 1882 по 1885 год работал младшим врачом Общей больницы в Вене, где занимался в основном вопросами нейропатологии. Позднее занимался философскими и зоологическими исследованиями и, наконец, попал в физиологическую лабораторию профессора Брюкке, своего «глубоко почитаемого учителя». О шести годах, проведенных в лаборатории профессора Брюкке, Фрейд говорил так: «Именно физиология Брюкке, твердо основанная на физических представлениях, и ее идеал измеримости всех процессов послужила исходной точкой теории психоанализа».
В 1881 году он получил звание доктора медицины, а через год началась его практическая карьера. В это время возникли его труды по анатомии мозга и неврологии. Тогда же произошел известный «кокаиновый эпизод», в результате которого было открыто обезболивающее действие кокаина. В 1885 году, после защиты диссертации, Фрейд получил стипендию в клинике Сальпетриер Парижского университета, где познакомился с Шарко, что и определило судьбу его научной карьеры. Вскоре после возвращения в Вену в 1886 году произошел его поворот от неврологии к психологии и психопатологии. В 1895 году Фрейд совместно с Йозефом Бройером издает «Исследование истерии».
До того времени официальная медицина обходила клиническую картину истерии, но благодаря исследованиям Шарко это заболевание вошло в медицинские учебники. Шар ко также добился феноменальных результатов, используя для лечения истерии гипноз. По его примеру Фрейд также начал применять вместо электротерапии гипноз, которым Бройер интенсивно занимался еще с 1880 года. Неприятие гипноза академическими учеными (Майнерт даже называл гипноз «любимым занятием шарлатанов, недостойных называться врачами») вынудило Фрейда оставить академическую карьеру. Вскоре дороги Фрейда и Бройера также разошлись — Бройер не мог принять тезиса Фрейда о сексуальной обусловленности любых неврозов.
В период 1895–1898 годов Фрейд усовершенствовал технику катарсиса, доведя ее до уровня методов психоанализа, с помощью которого он смог проникнуть в глубинные слои подсознания. В это время были написаны некоторые работы Фрейда о неврозах, в частности «Сексуальность в этиологии неврозов», которые сыграли важную роль в развитии психопатологии Фрейда. Наиболее оригинальной работой Фрейда является все же, по-видимому, «Толкование сновидений», опубликованное в 1900 году. Концепции Фрейда являются предметом дискуссий, не утихающих и в наши дни, а литература о Фрейде и его теориях не поддается никакому учету.
Доктор Юлиус фон Хохенэгг (1859–1940)
Родился в Вене. Из-за заболевания туберкулезом вынужден был заканчивать гимназию в Больцано. Сын венского адвоката, он также должен был изучать юриспруденцию, но уже в скором времени его привлекла медицина. Под влиянием Альберта и Бильрота он увлекся хирургией. Уже через несколько месяцев после окончания университета, в 1884 году, он поступил в Первую хирургическую клинику Венского университета, которой руководил профессор Альберт, где проработал до 1891 года. В этом году он был назначен заведующим хирургическим отделением Венской поликлиники. Еще раньше, в 1889 году, он защитил диссертацию по этой специальности. В 1894 году Хохенэгг был назначен на должность экстраординарного профессора хирургии, а в 1904 году, после выхода на пенсию Гуссенбауэра, возглавил кафедру во Второй хирургической клинике Венского университета.
Совместно с заведующим Первой хирургической клиникой, профессором Айзельсбергом, Хохенэгг создал собственную станцию помощи при несчастных случаях, откуда вышел его ученик Лоренц Бёлер, будущий основатель Венской специализированной больницы скорой помощи при несчастных случаях.
Он передавал своим ученикам не только великолепную технику хирурга, но и свои этические принципы: всегда, при всех обстоятельствах относиться к больному с заботой, участием и осторожностью. Среди его достижений следует прежде всего упомянуть полное удаление гортани с одновременной пластикой пищевода и первую удачную резекцию печени по поводу рака желчного пузыря. Основной областью его работы было, однако, хирургическое лечение рака прямой кишки с применением оперативной техники, при которой осуществлялось отделение части крестцовой кости. Этот метод, введенный им в практику, позволил добиться значительных результатов. К его известным ученикам принадлежат, наряду с прочими, Ганс Лоренц, «отец ортопедии», нейрохирург Фриц Каспар, Феликс Мандль и Ганс Финстерер, всемирно известный специалист по операциям на желудке и кишечнике.
Доктор Фридрих Ковач (1861–1931)
Родился в Вене, звание доктора медицины получил в 1885 году, продолжал образование в терапевтических клиниках Венского университета под руководством Нотнагеля, Калера и Бамбергера. В 1893 году был назначен главным врачом терапевтического отделения Госпиталя императора Франца-Иосифа в Вене. В том же году защитил диссертацию по терапии. В 1900 году принял руководство IV медицинским отделением Общей больницы в Вене, в 1908 году получил звание экстраординарного профессора. Многочисленные научные работы Ковача посвящены преимущественно заболеваниям сердца и системы кровообращения. Он пользовался в Вене репутацией прекрасного педагога и диагноста.
Доктор Эмануэль Либман (1872–1946)
Родился в Нью-Йорке, учился в терапевтическом колледже Колумбийского университета, где в 1894 году получил звание доктора медицины, продолжал образование в университетах Берлина и Вены, а также в университете Джона Гопкинса.
Работал в больнице Маунт Синай ординатором, патологом и терапевтом-консультантом. С 1909 года преподавал клиническую медицину в Колумбийском университете. Его научные работы посвящены терапии сердечно-сосудистых заболеваний, а также сердечным инфекциям.
ЛИТЕРАТУРА
Литература к главе «Фредерик Шопен»
Audley А.: Frédéric Chopin, sa vie et ses Euvres. Paris, 1880. Barry K.: Chopin und seine 14 Àrzte. In: Chopin Almanach. Potsdam, 1949.
Blume F.: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 2, Kassel, 1952.
Bôhme H.: Medizinische Portraits berühmter Komponisten. New York — Stuttgart, 1979.
Bord B.: La complexion amoureuse de George Sand et de Chopin exposée par George Sand. Aesculape 25 u. 26, 1935/36.
Bordes M.: La maladie et l’œvre de Chopin. Lyon, 1932. Boumiquel C.: Frédéric Chopin. Hamburg, 1977.
Braun A.: Krankheit und Tod im Schicksal bedeutender Menschen. Stuttgart, 1934.
Brâutigam W.: Beitrag zur Psychosomatik der Lungentuber-kulosen. Fortschr. Tuberk. Forsch. 7, 184, 1956. Burger E.: Frédéric Chopin: Eine Lebenschronik in Bildem und Dokumenten. München, 1990.
Bury R.: La vie de Frédéric Chopin. Genf, 1951.
Cabanès A.: La maladie de Chopin. La Chronique Médicale, 673, 1899.
Carrère C.: George Sand, Liebende und Geliebte. Bergisch-Gladbach 1979.
Cherbuliez A. E.: Frédéric Chopin, Leben und Werk. Zürich, 1948.
Chominski J. M.: Fryderyk Chopin. Leipzig, 1980.
Cortot A.: Chopin. Wesen und Gestalt Zürich, 1960.
Dahms W.: Chopin. München, 1924.
Delacroix E.: Lettres 1815–1863. Paris, 1978.
Egert P.: Friedrich Chopin. Potsdam, 1936.
Eichhorst H.: Lehrbuch der praktischen Medicin. Wien, 1899. Eigeldinger J. J.: Chopin vu par ses élèves. Neuchâtel, 1970. Enault L.: Chopin. Paris, 1856.
Ernest G.: Friedrich Chopin. Genie und Krankheit. Med. Welt 4, 723, 1930.
Franken F. H.: Krankheit und Tod groGer Komponisten.
Baden-Baden — Kôln — New York, 1979.
Gal H.: In Dur und Moll. Briefe groGer Komponisten. Frankfurt a. M., 1966.
Ganche E.: Souffrance de Frédéric Chopin. Paris, 1935. Gavoty B.: Chopin. Aus dem franzôsischen von Susi Piroué. Tübingen, 1977.
Gide A.: Notizen über Chopin. Frankfurt/Main, 1962.
Guttry A.: Chopins gesammelte Briefe. München, 1928. Hadden J. C.: Chopin. London, 1903.
HedleyA.: Chopin. London, 1947.
Heine H.: Sâmtliche Werke. Hrsg. Vortriede W. und Schweikert U. München, 1972.
Hoesick E.: Chopin. His Life and Works. Warschau, 1927. HübschmannH.: Psyche und Tuberkulose. Stuttgart, 1952. Huneker J.: Chopin. Der Mensch, der Künstler. München, 1917. Iwaszkiewicz J.: Chopin. Leipzig, 1964.
Jaspers K.: Allgemeine Psychopathologie. Berlin, 1973.
Junker E.: Die Entwicklung der Tuberkulose in Mitteleuropa.
Münch. Med. Wschr. 112, 985, 1970.
Karasowski M.: Friedrich Chopin. Sein Leben und seine Briefe. Berlin, 1914.
Karenberg A.: Frédéric Chopin als Mensch, Patient und Künstler. Bergisch — Gladbach — Kôln (Reihe: Medizinische Forschung, Band 2), 1986.
Kaupert W.: Chopin als Lehrer. Musik im Unterricht, 42,1951.
Kemer D.: Kraxikheiten groCer Musiker. 4. Aufl. Stuttgart— New York, 1968.
Kobylanska K.: Chopin in der Heimat. Urkunden und Andenken. Krakau, 1955.
Koszalski R.: Frédéric Chopin: Beobachtungen, Skizzen, Analysen. Kôln, 1936.
Kümmel W. F.: Musik und Medizin. Freiburg, 1977.
Ladaique G.: Die vàterlichen Vorfahren von Frédéric François Chopin. Z. Int. nat. Chopin-Ges. In Wien, 1, 1989.
Lami G.: Patografia di Chopin. Rif. Med. 52, 163, 1953.
Lange-Eichbaum W., Kurth W.: Genie, Irrsinn und Ruhm. München, 1967.
Leichtenritt H.: Friedrich Chopin. In: Berühmte Musiker, 2. Aufl. Bd. 16. Berlin, 1920.
Leitner H.: Krankheit und Schicksal: Frédéric Chopin. Der niedergelassene Arzt 8, 52,1981.
Liszt F.: Chopins Persônlichkeit, 1852. In: Neue Musikzeitschrift 3, 257, 1949.
Long E. R.: The case of Frédéric Chopin. Univ. of Kansas Press, 1956.
Martinez Duran C.: La tuberculosis de Federico Chopin. Médico (Mex.) 58, 1958.
Meneses Hoyos J.: Federico Chopin fue un Ftisico о un Cardiasco? Médico (Mex.) 14/3, 37, 1964.
Metzger H. K. und Riehm R.: Musik-Konzepte 45: Fryderyk Chopin. München, 1985.
Mullan F.: The sickness of Frederic Chopin. A study of disease and society. Rocky Mtn. med. J. 70, 29, 1973.
Niecks F.: Friedrich Chopin als Mensch und Musiker. Leipzig, 1890.
O’Shea J.: Music and Medicine. London, 1990.
Onuf O.: Frederick Chopins mental makeup. Dementia praecox studies (Chicago) 3, 199, 1920/21.
Petzold R.: Fryderyk Chopin. Sein Leben in Bildem. Leipzig, 1960.
Pourtales G. de: Der blaue Klang. Chopins Leben. Freiburg, 1935. Redenbacher E.: Chopin. Leipzig, 1923.
Rehbeig W. und P.: Chopin, Sein Leben und seine Werke Zürich, 1949.
Reich W.: Frédéric Chopin. Briefe und Dokumente. Zürich, 1959. Rocchietta S.: Omaggio a Chopin nel 150 anniversario della nascita. Minerva med. 51, 1584, 1960.
Rocchietta S.: Contribute) della psicanalisti alla musicologia: Chopin. Minerva med. 42, 706, 1951.
Sand G.: Histoire de ma vie. Paris, 1865.
Sand G.: Un hiver à Majorque. Paris, 1843.
Sand G.: Lucrezia Floriani. Leipzig, 1863.
ScharlittB.: Chopin. Leipzig, 1919.
SchwesheimerW.: Derkranke Chopin. Ârztl. Praxis. 12,694,1960. Severi L.: Frederico Chopin e il suo male. ref. Zbl. ges. Neurol. 107, 460, 1949.
Stegmann M.: Immanenz und Transzendenz: Chopin und die pianistische Omamentik. In: Musikkonzepte 45, Hrsg. Metzger und Riehn. München, 1985.
Sterpellone L.: Pazienti illustrissimi. Roma, 1985.
Sydow B. E.: Correspondance de Frédéric Chopin. Bd. I–III. Paris, 1953–1960.
Szpilczynski S.: War Frédéric Chopin Allergiker? Ciba Symp. 9/6,283, 1961.
Tarasti E.: Zu einer Narratologie Chopins. Int. Review of the Aesthetics and Sociology of Music IRASM. Zagreb 1, 53, 1984.
Tenand S.: Portraits de Chopin. Paris, 1950.
Tutenberg F.: Chopin und die Frauen. Neue Musikzeitschrift 3, 262, 1949.
VenzmerG.:MachtundOhnmachtderGrofien. München, 1970. Vuillermoz E.: La vie amoureuse de Chopin. Paris, 1927. Weinstock H.: Chopin. Mensch und Werk. München, 1950. Weissmann A.: Chopin. Berlin, 1912.
Wierzynski C.: The Life and Death of Chopin. New York, 1949.
Wilbns i.: Chopin und die Àrzte. Med. Welt 8,1140,1175,1934. Zagiba F.: Chopin und Wien. Wien, 1951.
Zuber B.: Synsrom des Salons uns Autonomie. In.: Musik-Konzepte 45, Hrsg. Metzger und Riehn, München, 1985.
Литература к главе «Бедржих Сметана»
Bankl H.: Viele Wege fuhrten in die Ewigkeit. Wien, 1990.
Balthasar V.: Bedfich Smetana. Prag, 1924.
Barto§ F.: Smetana in Briefen und Erinnerungen. Prag, 1954.
Bistron J.: Friedrich Smetana. Wien, 1924.
Bohme G.: Medizinische Portraits berühmter Komponisten. Stuttgart — New York, 1987.
Bôchner F.: Spezielle Pathologie. München — Berlin, 1965.
Eichhorst H.: Lehrbuch der praktischen Medicin innerer Krankheiten. Berlin — Wien, 1899.
Feldmann H.: Die Krankheit Friedrich Smetanas in otologischer Sicht auf Grund neuer Quellenstudien. Monatsschrift f. Ohrenheilkunde 98, 209, 1964.
Goerke H.: Arzt und Heilkunde. München, 1984.
Haskovec L.: Die Krankheit Smetanas. Referiert in: Zentralblatt der gesamten Neurologie 42, 593, 1926.
Helfert V.: Die schôpferische Entwicklung Smetanas. Leipzig, 1956.
Heveroch A.: Über die Krankheit Smetanas. Referiert in: Zentralblatt der gesamten Neurologie 41, 332, 1925.
Honolka K.: Bedïich Smetana in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbekbei Hamburg, 1978.
Honolka K.: Dalibor — eine monothematische Open In: Musica. Kassel, 1970.
Kemer D.: Krankheiten grolter Musiker. Stuttgart — New York, 1986.
Krejci F. V.: Friedrich Smetana. Berlin, 1906.
Lange-Eichbaum W. und Kurt W.: Genie, Irrsinn und Ruhm. Basel, 1985.
Lhotsky J.: Psychiatrisches zur Krankheit und Todesursache Friedrich Smetanas. In.: Münchner Medizinische Wochenschrift 101, 91, 1959.
Lhotsky J.: Friedrich Smetana, der Streit über seine Krankheit. In.: Münchner Medizinische Wochenschrift 102, 654, 1960.
RychnovskyE.: Smetana. Stuttgart — Berlin, 1924.
Sequardtova H.: Bedfich Smetana. Leipzig, 1985.
Soumia, Poult und Martiny: Illustrierte Geschichte der Medizin. Paris, 1978.
Springer B.: Diegenialen Syphilitiker. Berlin, 1926.
Vnejedly Z.: Dvorak und Smetana. Prag, 1934.
Weller B.: Friedrich Smetana. Prag, 1895.
Wessely E. A.: Klinik der Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen. Berlin — Wien, 1942.
Zweig H.: Die Krankheit Friedrich Smetanas. In. Deutsche Medizinische Wocherschrift 60, 722, 1934
Литература к главе «Петр Ильич Чайковский»
Abraham G. Tschaikowsky. London, 1944.
Abraham G.: Tschaikowsky. A Symposium. London, 1945. Berberova N.: Tschaikowsky. Düsseldorf, 1989.
BôhmeG.: Medizinische Portraits berühmterKonponisten. Bd. 1 Stuttgart, 1981.
Bowen C. D. und von Meck B.: Geliebte Freundin. Tschaikowskys Leben und seine Briefwechsel mit Nadeshda von Meck Leipzig, 1938.
Brown D. Tschaikowsky. A biographical and critical study London, 1978.
Cherbuliez A.: Tschaikowsky und die russische Musik. Zürich, 1948.
Garden E.: Tschaikowsky. Leben und Werk. Stuttgart, 1986. HelmE.: Tschaikowsky. Reinbek/Hamburg, 1979.
Hofmann E.: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Wien, 1891. Kemer D.: Krankheiten groBer Musiker. 4. Aufl. Stuttgart— New York, 1986.
KnorrI.: Peter Tschaikowsky. Berlin, 1900.
LakondW.: Die Tagebücher von Tschaikowsky. New York, 1945. Orlova A.: Tschaikowsky. A self-portrait. Oxford — New York, 1990.
Orlova J. M.: Tschaikowsky. Leipzig, 1978.
Pahlen K.: Tschaikowsky7. Ein Lebensbild. Stuttgart, 1959.
Pals N. v. d.: Peter Tschaikowsky. Potsdam, 1940.
PetzoldR.: Peter Tschaikowsky. Leipzig, 1953.
Pribegina G. A.: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Berlin, 1988. Rachmanowa A.: Tschaikowsky. Schicksal und Schaffen. Wien, 1972.
Rimsky-Korsakow N.: Chronik meines musikalischen Lebens. Leipzig, 1968.
Stafford-Clark D.: Was Freud wirklich sagte. Wien, 1967.
Stein R.: Tschaikowsky. Stuttgart, 1927.
Tovey D.: Essays in Musical Analysis. London, 1935—39. Tschaikowsky M.: Leben des Peter Iljitsch Tschaikowsky. Dt.
Ausg. Leipzig — Moskau, 1900—02.
Tschaikowsky P.: Letters to his family. Übersetzt von Galina von Meek. London, 1981.
Tschaikowsky P.: Erinnerungne und Musikkritiken. Leipzig, 1961. Vigh J.: Wenn Tschaikowsky ein Tagebuch geführt hâtte. Budapest, 1957.
Weinstock H.; Tschaikowsky. München, 1948.
Wolfiirt К. von: Peter I. Tschaikowsky. Bildnis des Menschen und Musikers. Zürich, 1952.
Zagiba F.: Tschaikowsky. Wien, 1953.
Литература к главе «Густав Малер»
Adler G.: Gustav Mahler. Wien, 1916.
Adorno Th. W. Mahler. Frankfurt am Main, 1960. Bahr-Mildenbuig A.: Erinnerungen. Wien-Berlin, 1921. Bauer-LechnerN.: Erinnerungen an Gustav Mahler. Leipzig, 1923. Bekker P.: Gustav Mahlers Sinfonien. Berlin, 1921.
Berl H.: Das Judentum in der Musik. Berlin, 1926.
Bernstein L.: Gustav Mahler — Seine Zeit ist gekommen. Neue Zeitschrift fur Musik, 1967,450.
Blaukopf K.: Gustav Mahler, Oder der Zeitgenosse der Zukunft. Kassel, 1989.
Blessinger K.: Judentum und Musik. Ein Beitrag zur Kultur-und Rassenpolitik. Berlin, 1944.
Braungart R.: Gustav Mahler und die Programmmusik. In: Musikalische Rundschau, München, 1905.
Brod M.: Gustav Mahler. Beispiel einer deutsch-jüdischen Symbiose. Frankfurt am Main, 1961.
CardusN.: Gustav Mahler. His Mind and his Music. London, 1965. Chrisy N. P. and Chrisy B.: Gustav Mahler and his Illness. Transactions of the Amer. Clin, and Climatolog. Association, 1970,200–217.
De la Grange H. L.: Mahler I. New York, 1973.
Engel G.: Mahler: Song-Symphonist. New York, 1970.
Fechner G. Th.: Das Büchlein vom Leben nach dem Tode. Hamburg und Leipzig, 1903.
Floros C.: Gustav Mahler. Die geistige Welt Gustav Mahlers in systematischer Darstellung. Wiesbaden, 1987.
Giroud F.: Alma Mahler oder die Kuns geliebt zu sein. Wien— Darmstadt, 1990.
Hauptmann G.: Gustav Mahler. Ein Bild seiner Personlichkeit in Widmungen. München, 1910.
Jones E.: Das Leben und Werk von Sigmund Freud. Band II. JahrederReife 1901–1919. Bern, 1962.
Karpath L.: Begegnung mit dem Genius. Wien, 1934.
Kemer D.: Krankheiten groBer Musiker. Stuttgart — New York, 1986.
Klempner O.: Meine Erinnerungen an Gustav Mahler und andere autobiographische Skizzen. Freiburg i. Br.-Zürich, 1960.
LoeserN.: Gustav Mahler. Haarlem-Antwerpen, 1950.
Mahler A. M.: Gustav Mahler Briefe. Berlin-Wien-Leipzig, 1924.
Mahler-Werfel A.: Mein Leben. Frankfurt am Main, 1923.
Mahler-Werfel A.: Erinnerungen und Briefe. Amsterdam, 1949.
Mahler-Werfel A.: Gustav Mahler. Erinnerungen an Gustav Mahler/Briefe an Alma Mahler. Wien, 1971.
Mengelberg R.: Gustav Mahler. Leipzig, 1923.
Metzger H. K. und Riehn R.: Gustav Mahler: Musik-Konzepte, Sonderband. München, 1989.
Meisels L.: In meinem Salon ist Ôsterreich. Berta Zuckerhandl und ihre Zeit. Wien, 1971.
Monson K.: Alma Mahler-Werfel. Die unbezâhmbare Muse. München, 1985.
NeiBer A.: Gustav Mahler. Leipzig, 1918.
O’Shea J.: Music and Medicine. London, 1990.
Redlich H. F.: Bruckner und Mahler. London, 1963.
Reich W.: Gustav Mahler. Im eigenen Wort — im Wort der Freunde. Zürich, 1958.
Reik Th.: DreiBig Jahre mit Sigmund Freud. München, 1976.
Ringel E.: Die ôsterreichische Seele. Wien — Kôln — Graz, 1986.
Roller A.: Die Bildnisse von Gustav Mahler. Leipzig — Wien— Zürich, 1922.
Schiedermair L.: Gustav Mahler. Eine biographisch-kritische Würdigung. Leipzig, 1900.
Scholem G.: Die jüdische Musik in ihren Hauptstromungen. Frankfurt am Main, 1967.
Schreiber W.: Gustav Mahler. Reinbek/Hamburg, 1971.
Schumann K.: Das kleine Gustav Mahler-Buch. Salzburg, 1972.
SpechtR.: Gustav Mahler. Berlin — Leipzig, 1922.
Stefan P.: Gustav Mahler. München, 1912.
Stephan R.: Mahler-Interpretation. Mainz, 1985.
Wagner R.: Das Judentum in der Musik. In: Die Kunst und die Revolution. Hrsg. T. Kneif München, 1975.
Walter B.: Gustav Mahler. Frankfurt am Main, 1957.
Wessling B. W. Gustav Mahler. Ein prophetisches Leben. Hamburg, 1974.
Worbs Ch.: Gustav Mahler. Berlin, 1960.

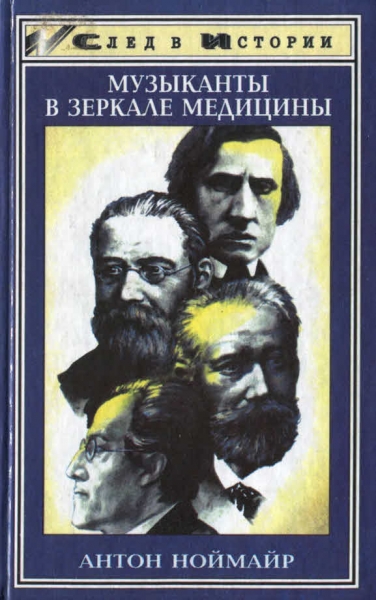

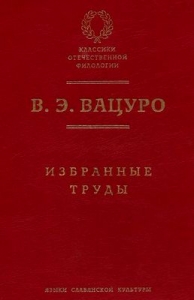
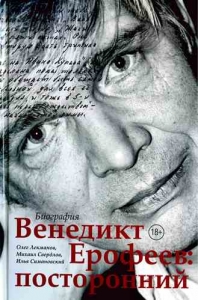


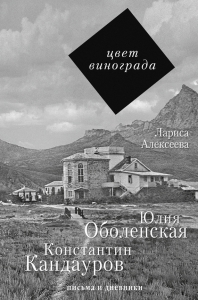


Комментарии к книге «Музыканты в зеркале медицины», Антон Ноймайр
Всего 0 комментариев